Алексей Зверев
Набоков
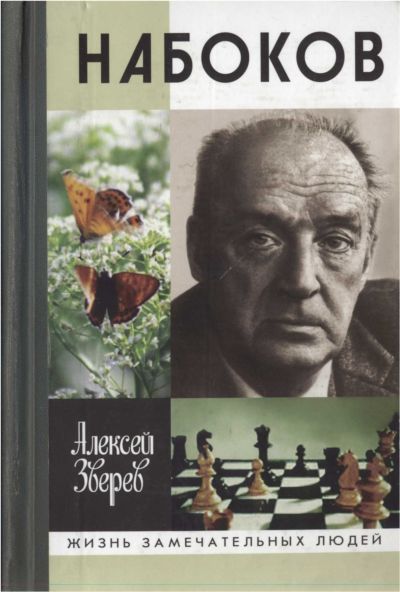
Наиболее для меня заманчивое предположение, — что времени нет, что все есть некое настоящее…
До каменистой бухточки Финского залива, где плещется белесая, чуть солоноватая вода, отсюда ехать и ехать, но улица называлась Морская. Верней, Большая Морская, потому что существовала и Малая — в 1902-м ее переименовали, почтив Гоголя. Неподалеку проходила Галерная, а все эти кварталы между Невой и Мойкой относились к Первой Адмиралтейской части. Была тут когда-то петровская судоверфь, указом императора селиться вокруг нее разрешалось только морякам. Флот почти сразу перевели в Кронштадт, остались названия: напоминанием о близкой во времени петербургской старине.
В «Других берегах», русском варианте своей автобиографии, Набоков пишет: «…у нас был дом на Морской (№ 47), трехэтажный, розового гранита особняк с цветистой полоской мозаики над верхними окнами… Я там родился в последней (если считать по направлению к площади, против нумерного течения) комнате, на втором этаже…»
Это произошло 10-го, по старому календарю, а по европейскому — 22 апреля 1899 года.
Год был дивный для русской литературы. Месяцем раньше в Одессе появился на свет Юрий Олеша, сын бедного чиновника, у которого когда-то было свое поместье, проигранное за карточным столом. В сентябре семья воронежского слесаря-железнодорожника Климентьева пополнилась сыном Андреем. Его литературное имя Андрей Платонов.
Между этими тремя писателями мало общего, внешне — почти ничего. Но тождество начальной даты знаменательно. Дата означала конец относительно спокойной эпохи. И начало новой — катастрофической.
Это чувствовали, каждый по-своему, все трое. «В смысле… раннего набирания мира, — пишет, начиная автобиографию, Набоков, — русские дети моего поколения и круга одарены были восприимчивостью поистине гениальной, точно судьба в предвидении катастрофы, которой предстояло убрать сразу и навсегда прелестную декорацию, честно пыталась возместить будущую потерю, наделяя их души и тем, что по годам им еще не причиталось». Круг, к которому принадлежал Олеша, был совсем другой, декорация, открывшаяся ему в ранние годы, мало кому показалась бы прелестной. Но восприимчивость, предвидение потрясений не те же ли самые?
Откроем посмертно опубликованную «Книгу прощания», записи, которые Олеша вел для одного себя. «Когда оно началось, мое время? Если я родился в 1899 году, то, значит, в мире происходила Англо-бурская война, в России уже был основан Художественный театр, в расцвете славы был Чехов, на престоле сидел недавно короновавшийся Николай II… Мое время началось примерно в дни, когда появилась мина и появился пулемет. Гибель броненосцев в морском бою, черные их накренившиеся силуэты, посылающие в пространство ночи прожекторные лучи, — вот что наклеено в углу чуть не первой страницы моей жизни. Цусима, Чемульпо — вот слова, которые я слышу в детстве… Вот начало истории моего времени. Для меня оно пока что называется Мукден, Ляоян — называется „а папу не возьмут на войну?“».
Теперь страничка из «Других берегов». Аббация на Адриатике, летний сезон. Автору пять лет. В кафе у фиумской пристани отец замечает двух японских офицеров, «и мы тотчас ушли; однако я успел схватить целую бомбочку лимонного мороженого, которую так и унес в набухающем небной болью рту». Лондонский журнал злорадно воспроизводит из японских газет рисунки карикатуристов, на которых уходят под воду русские паровозы, идущие по рельсам, проложенным по байкальскому льду. Зимой того года заводные паровозики, пущенные ребенком, насмотревшимся этих картинок, по замерзшим лужам в саду, проваливаются сквозь слюду ледка. Вскоре погибнет армия генерала Куропаткина, частого гостя дома на Морской, — с отцом Набокова у него были короткие отношения. Еще десяток лет, и «провалилось все».
Картины в углу первой страницы жизни двух мальчиков, у которых, подразумевая происхождение, так мало общего, схожи, но дело не во внешней перекличке. Тексты, заполнившие и эту, и последующие страницы, были разными, однако повторялись тематические узоры, которые можно проследить на всем протяжении жизни тех, кто был ровесником XX века. Параллельно шли тропы, проложенные, как сказано Набоковым, «по личной обочине общей истории». И оттого что история была общей, а дата на самом верху стояла одна и та же, текст, даже образы или, по-набоковски говоря, водяные знаки — пусть не такие конкретные, как плюющая огнем митральеза или броненосец, взорванный миной, — при всей индивидуальной неповторимости заключали в себе нечто родственное. Ведь текст, пользуясь метафорой Платонова, — это «вещество существования», а оно у людей этой генерации было в общем-то одинаковым, какими бы разными ни были их пути.
Путь Набокова начинается на Морской. На первой странице его жизни — а она, в каком-то главенствующем смысле, так и осталась не перевернутой — проступает волшебный узор улицы, которая выглядит арабеской посреди геометрических прямых петербургского центра («Твой остов прям, твой облик жесток», — писала Зинаида Гиппиус). Протянувшись от вытянутой струны Невского к строгому квадрату Мариинской площади, она прочертила между ними кривую, невозможную по канонам Северной Венеции.
Это была особенная улица, витрина модерна, в Петербурге пережившего свой расцвет как раз на стыке веков. Пробравшись в будуар матери, где был навесной выступ, можно было, в ожидании вечно опаздывающего учителя-шотландца, часами наблюдать сквозь холод стекла изогнутую панораму под лунными глобусами газа, не согревающего лиловую темноту раннего январского вечера. Потом, первой в городе, Морская обзавелась электрическими фонарями, которыми, вспоминает петербуржец, затем парижский эмигрант Александр Трубников, ходили любоваться, говоря: «Пойду посмотрю на иллюминацию».
Тут не было ни магазинов, ни театров, ни увеселительных заведений, ни суеты. Строгий, подчеркнуто респектабельный квартал: особняки, посольства — итальянское на Морской, 43, немецкое на Морской, 41, ближе к площади. В неярких желтых лучах полуотчетливо выступали монументальные барельефы в египетском стиле на здании Азово-Донского банка, мозаика на фронтоне Общества поощрения художеств (ее выполнила та же мастерская Фролова, которая получила заказ и на оформление особняка Набоковых), очертания домов, построенных Леонтием Бенуа с установкой на солидность, однако сохранивших оттенок щегольства: в одном размещалось страховое общество «Россия», в другом — Первое Российское страховое общество. Чуть дальше здание фирмы «Фаберже» с огромными цельными окнами по фасаду, — выставленные в этих окнах тройки и страусовые яйца, разукрашенные минералами, Набоков в английской версии своей автобиографии назовет ранним образчиком китча.
Петербургское прошлое будет вспоминаться Набокову «снежно-синим, синеоконным (еще не спустили штор)».
Стекла, вызывающие мысль об аквариуме, были достопримечательностью Морской, сразу обращавшей на себя внимание провинциалов. Сдержанная, ненавязчивая роскошь этой улицы запоминалась, наверное, не так ярко, как ансамбли набережных и площадей. Но все же именно Морская с двумя-тремя прилегающими улицами, которые Осип Мандельштам назовет «барскими», была самой выразительной эмблемой Петербурга начинавшегося века. Ужасного века.
И пусть у него упомянуты дворцовый сад и Нева, которая «как Лета льется», почти наверняка о Морской думал Набоков, сочиняя, уже на четвертом году изгнания, стихи, ответственно названные «Санкт-Петербург»:
В петровом бледном небе — штиль,
флотилия туманов вольных,
и на торцах восьмиугольных
все та же золотая пыль.
Собеседницу, которой дано условное имя Лейла (вроде Лилы или Делии из пушкинских лицейских стихотворений), он заклинает: «полно, перестань, не плачь» — ведь эта золотая пыль неистребима. Она в самом деле проступает, когда всматриваешься в петербургские акватинты, которыми то здесь, то там украшен набоковский текст. Например, вот в эту, едва ли не самую прославленную, которой открывается «Истинная жизнь Себастьяна Найта», первый роман, написанный Набоковым по-английски, — за два зимних месяца 1939 года.
Этот Себастьян Найт — один из набоковских персонажей, которым автор отдал кое-что из своей биографии, втайне (или откровенно) иронизируя над любителями повсюду отыскивать свидетельства и признания, говорящие о самом писателе. Вот и Найт: тоже родился в 1899-м, да еще 31 декабря, на самом рубеже, и родился «в бывшей столице моего отечества». Не бывавшие там пусть попытаются все это вообразить: холодный день, «роскошную чистоту безоблачного неба, предназначенную здесь не для согревания плоти, но для услаждения взора; глянец санных следов на утоптанном снегу просторных проспектов, подкрашенном посередине щедрой примесью навоза; разноцветную гроздь воздушных шаров над головой уличного торговца в фартуке; золото вкрадчиво изгибающегося купола, затуманенное буйным цветением изморози; на березах в общественном саду каждая тончайшая веточка обведена белым; скрипы и колокольцы зимней улицы…».
Читателю Набокова следует с самого начала отказаться от вопросов относительно границ памяти и воображения в его рассказе. Древние почитали богиню памяти Мнемозину и как мать девяти муз, рожденных ею от Зевса. Набоковская Мнемозина — воплощенный артистизм. У Набокова все становится литературой, все устремлено к литературе, каким бы сокровенным и трепетным личным смыслом ни обладали для него воссоздаваемые «тайные темы в явной судьбе». В автобиографии постоянно звучит одна и та же нота: «Я не раз замечал, что стоит мне подарить вымышленному герою живую мелочь из своего детства, и она уже начинает тускнеть и стираться в моей памяти». Набокову даже казалось, что «благополучно перенесенные в рассказ целые дома рассыпаются в душе совершенно беззвучно, как при взрыве в немом кинематографе», — то есть существуют уже не как реальность, а только как достояние искусства.
Предисловие к «Другим берегам» предписывает Мнемозине «не только волю, но и закон», тот, что находится в органичном согласии со всеми остальными, по которым построена эта проза. Умиление былым, прочувствованные воспоминания ей противопоказаны до такой степени, что даже тень подобной опасности вызывает чуть ли не панику, умеряемую только иронией, обращенной автором на самого себя. Цитируемый пассаж из «Себастьяна Найта» завершает напрасное, но не понапрасну выраженное опасение, что картина «уже зарделась румянцем мнемонической пошлости». Что им вспыхнули и «неправдоподобная голубизна» над «безбрежным, словно сон, проспектом», и «дрожки, замершие под причудливыми углами».
Может быть, фактографически точных подробностей, припомнившихся из детских лет, в этой картине и правда нет, или же — из страха перед нежеланным румянцем — они сознательно убраны. Правда, еще через пятнадцать лет, принявшись за «Другие берега», Набоков во второй главе опишет дорогу к Невскому по Морской, нарядную петербургскую даму — собственную мать — в открытых санях с низкой спинкой, к обоим углам которой прицеплены края медвежьей полости, и храп гнедого рысака, и стук комьев смешанной со снегом земли о передок. И тут не будет никакой желчности по поводу раскрашенного снимка или выцветшей открытки, которую рассказчик в «Себастьяне Найте» поставил у себя на столе, «чтобы потешилось немножко дитя памяти».
Но «Другие берега» — автобиография, опыт самопознания без персонажей-масок и нарочитого смешения бывшего с небывшим. Лишь очень доверчивый читатель сочтет этот рассказ Набокова о самом себе абсолютно достоверным, не допускающим никакой литературной ретуши и сопоставимым с исповедью. На самом деле ретушь сказывается постоянно, а достоверность относительна. Но все равно, о каких-то очень существенных для автора вещах «Другие берега» говорят с прямотой, немыслимой в остальных набоковских текстах. Включая и обе англоязычные версии автобиографического повествования: одна появилась за несколько лет до русской, вторая десяток с лишним лет спустя, и с «Другими берегами» они не совпадают, причем не только в частностях. «Предлагаемая русская книга, — пояснено автором, — относится к английскому тексту, как прописные буквы к курсиву, или как относится к стилизованному профилю в упор глядящее лицо».
И вот на страницах этой русской, «в упор глядящей» книги выясняется, что «дитя памяти» на самом деле было любимое дитя автора, мало того, что с самых юных лет у Набокова обнаружилась «страстная энергия памяти». Даже такая, что заставляла задуматься о некой «патологической подоплеке», сказывавшейся чрезмерной, невозможной яркостью образов, сохраненных из самого дальнего прошлого, которое он умел «держать при себе» не стершимся, хотя с этим прошлым не сопрягались эмоциональные напряжения и события, формирующие судьбу. Сопрягалось с ним что-то, по первому ощущению, вполне будничное, неприметное, обыкновенное — как звук гонга, зовущего к завтраку, или вид из эркера на окутанную сумерками улицу, над которой проплывают крупные снежинки, — однако для Набокова обладающее значением в полном смысле слова уникальным, потому что эта будничность ассоциируется с «экологической нишей». Той, по которой он тосковал, выговорив себе право «в горах Америки моей вздыхать по северной России».
У северной России был конкретный адрес. Если нужна пунктуальная точность — несколько адресов, однако все они относились к одному пространству, пусть даже употребляя это понятие только в географическом значении. Пространство называлось Санкт-Петербург и Петербургская губерния, а по-русски — Ижорская земля. Шведы, владевшие этой землей, пока ее не вернул России Петр, именовали реку Ижору Ингрой и говорили: Ингерманландия. В русско-шведском варианте получилось — Ингрия.
Дом на Морской, 47 располагался, по Набокову, в самом центре этой страны. В «Других берегах» он описан таким как запомнился шести-семилетнему обитателю верхнего («детского») этажа: не вполне верно с фактологической стороны и к тому же без предыстории, которая была достаточно протяженной. Здание перестраивали — последний раз уже после того, как родился Набоков, в 1901–1902 годах; тогда и появились третий этаж, отведенный под детские, а также новый флигель во дворе, ворота, украшенные стеклами с гравированным цветочным орнаментом, цинковые водосточные трубы, перевитые металлическим каштаном, окна-витражи, гидравлический подъемник рядом с внутренней лестницей и еще многое, что в ту пору воспринимали как верх комфорта. Набоковы поселились на Морской сразу после свадьбы, отпразднованной 2 (14) ноября 1897 года (дом был незадолго до этого куплен дочерью действительного статского советника Еленой Рукавишниковой, подарившей его мужу, Владимиру Набокову-старшему, семь лет спустя).
До них дом принадлежал многим владельцам, среди которых есть люди с громкими и славными именами. Поначалу это был одноэтажный особнячок с треугольным фронтоном, построенный в середине XVIII века. Первый его обитатель, чиновник Соляного ведомства Маслов, окончил свои дни монахом, постригшимся в Киево-Печорской лавре. От Масловых владение перешло к Рознатовским, просветителям екатерининской поры. Один из них, Ефим, известен как переводчик сочинений Гольбаха и Вольтера, не допущенных в Россию. Литературные начинания грозили скверно для него кончиться, когда о них узнала Тайная канцелярия, созданная для искоренения вольнодумства.
Жили в этом доме родственники Энгельгардта, того, что стал в 1816 году директором Лицея. Жил граф Михаил Балицкий, гастроном и хлебосол, карточный игрок, промотавший свое несметное состояние. Говорили, что он сумел приобрести то брильянтовое колье Марии Антуанетты, с которым связана запутанная история, подсказавшая Александру Дюма сюжет романа «Ожерелье королевы».
Сохранилось изображение здания, каким оно было в начале XIX столетия: два этажа, четырехугольный портик, законченный образец строгого классицизма. Принадлежало оно камергеру, действительному тайному советнику Алексею Хитрово, дальнему родственнику Елизаветы Хитрово, оставившей след в биографии Пушкина. Тайным советником был и Алексей Лобанов-Ростовский, купивший дом в 1835-м, а следующий владелец, князь Суворов-Рымникский, внук полководца, от командира полка дослужился до должности военного генерал-губернатора Петербурга.
Кажется, он правда послал к Чернышевскому предупредить о предстоящем аресте и помочь со спешным отъездом из России. Чернышевский отказался и вскоре как арестант Петропавловской крепости поступил под начало отвергнутого им благодетеля, который распорядился доставлять несчастному книги и письменные принадлежности: что бы и не приняться за «Что делать?», сидя в камере? Бог весть, слышал ли что-нибудь об этом Набоков в свои юные годы, скорей всего — нет. Но это им сказано о неодолимой притягательности «сцепления времен»: какой-то трудно объяснимый трепет пробуждали у него воспоминания матери о том, как совсем еще маленькой она с дедом ездила к Айвазовскому, и тот рассказывал, что юношей собственными глазами видел Пушкина и его высокую жену. Вот почему трудно отделаться от мысли, что таинственными нитями с историей дома на Морской соединена скандальная, травмирующая история четвертой главы «Дара», жизнеописание Чернышевского, которое — самим выбором темы — ошеломило почитателей писателя Набокова и разъярило его прогрессистски настроенных оппонентов из интеллигентской среды.
Одним из последних владельцев дома, перед тем как он перешел к Набоковым, был граф Платон Зубов. Фавориту Екатерины князю Зубову, получившему от Матушки в подарок мятлевский особняк на Исаакиевской (а от Александра, вслед событию 11 марта 1801 года — распоряжение покинуть столицу), этот Зубов приходился внучатым племянником. Ничем не отличившись на поприще дворцовых интриг, Платон Зубов был главным образом озабочен приумножением состояния, и без того колоссального. Дом на Морской был им куплен для третьего сына, Валентина. Тот, однако, предпочитал жить в особняке на Исаакиевской, собрал исключительно ценную коллекцию живописи, богатейшую библиотеку и учредил Институт истории искусств по типу флорентийской Академии, приводившей его в восторг. После революции, в ранние, более или менее вегетарианские времена, ему разрешили, отдав все собрание государству, остаться чем-то вроде распорядительного директора этого учреждения. А Институт в 20-е годы прославился как прибежище бунтарей против академической рутины и поборников формального метода в литературоведении. С едва ли не самым среди них ярким и в ту пору самым яростным, с Виктором Шкловским, незримо пересекутся пути Набокова в Берлине вскоре после эмиграции.
Набоковы, либералы и англоманы, постарались обустроить свой дом по-европейски. В ту пору необыкновенно отчетливо осознавалось, что цивилизация стремительно несется вперед, изменяя мир «до возможности определить его как новую планету». Размышляя о переменах, Юрий Олеша не перестает удивляться тому, что «сроки очень сжаты. Подумать только, я родился через семьдесят девять лет после Наполеона!» Всего через семьдесят девять. Но жизнь уже совсем иная.
С какой внезапностью все это вошло в быт, укоренилось: желто-красные, со стеклянным тамбуром трамваи на главных улицах (пять копеек за проезд), клаксоны тряских, ненадежных автомобилей, суетливые фигурки на подсвеченной простыне в переполненном, душноватом зальчике синема. Электролампа в квартире все еще кажется чудом, хоть все более обыкновенным, — этот белый диск, который можно поднять и опустить при помощи блока и круто сплетенного шнура. Телефонный аппарат пока что выглядит диковинкой из фантастических романов Герберта Уэллса, которого пятнадцатилетний Набоков, в те годы усердный его читатель, видел у себя в доме на Морской. Книги Уэллса стояли на полках отцовской библиотеки, такой большой, что был составлен и напечатан ее каталог. После революции библиотека пропала, но как-то в середине 20-х годов в Берлине Набоков обнаружил у букиниста томик с фамильным экслибрисом. Это был Уэллс, «Война миров».
Телефон появился на Морской вместе с Набоковыми. И с ними же установился подчеркнуто современный стиль жизни.
Для Петербурга он был, во всяком случае, не вполне привычен. Александр Трубников, поэт тогдашнего Петербурга, пронесший любовь к нему через годы изгнания, вспоминает, оглядываясь на «ночи и снега былого», утонувшие в сугробах Острова, куда почитал долгом совершить прогулку на тройке каждый иностранец, свидания «в туманных парках у спящей воды в светлый полуночный час, все превращающий в призрак», и одиноких полуночников, слоняющихся по пустынным набережным мимо дворцов с закатными золотыми окнами, и безликую массу на улицах в праздничный день — солдаты, разносчики, татары-тряпичники, мужики, торгующие квасом, старухи с мочеными яблоками и янтарного цвета морошкой, — и звон колоколов, приветствующих дормез, в котором везут к больным чудотворную икону. Набоковский дом явно — и осознанно — не вписывался в эту гамму.
Елена Сикорская, сестра писателя, у которой еще брали интервью в год его столетия, вспоминает до мелочей продуманное устройство этого дома с его многочисленными ванными, телефонной и залом для заседаний на первом этаже, где были также столовая и «зеленая» (по цвету обоев) гостиная, с просторным кабинетом отца на втором, прямо против лестницы. С комнатой, украшенной шкурой тигра, подарком эмира Бухарского, с будуаром — тем, где был выступ, позволявший оглядывать всю Морскую, — и родительской спальней. Горничные и няни жили тоже во втором этаже, гувернантка, та француженка, которой в «Других берегах» посвящена целая глава (первоначально она была новеллой, написанной по-французски), — на третьем, где располагались и комнаты детей: у Сергея на стенах висели портреты Сары Бернар и Наполеона, у Владимира кафельная печь была покрыта рисунками бабочек.
В доме теперь музей, все постарались восстановить, как было при Набоковых (после революции здание конфисковал Комиссариат городского хозяйства «за невзнос владельцами их городских сборов» и передал датскому телеграфному агентству; потом тут находились разные советские учреждения). За семьдесят с лишним лет перепланировками многое искажено (в частности, нет ни кафельной печи с нарисованными бабочками, ни самой комнаты, где она стояла). Осталась, однако, статья инженера Гейслера, перестраивавшего дом для Набоковых; она была напечатана в специальном журнале вскоре по завершении работ. Из нее можно достаточно ясно представить, каковы были исчезнувшие анфилады и интерьеры, в которых прошло детство писателя.
Мы читаем в этой статье о библиотеке из светлого резного дуба в стиле Генриха II, с большим открытым камином, о богатой лепке в стиле Людовика XV, покрывавшей потолки, об имитации стиля итальянского Ренессанса, выбранного для угловой комнаты с парным окном. Читаем о резных панелях, каминах, стенах, затянутых светло-сиреневым шелком, мраморных ваннах, карнизах из полированного красного дерева. Внутри была лестница, облицованная искусственным мрамором, и на площадке второго этажа, где — это уже «Другие берега» — «безрукая Венера высилась над малахитовой чашей», стояло большое зеркало в раме с рокайльным орнаментом. Лестницу ограждала ажурная решетка из спиралей и розеток. Пол наборного дерева, расписанный бледно-зелеными облаками потолок гостиной, изысканно оформленные двери с живописными медальонами, печи с изразцами — в автобиографии обо всем этом почти не упоминается, а когда упоминается, то с намеренной небрежностью или иронией. Но «экологическая ниша» — это и дом на Морской. Может быть, именно он в первую очередь.
В «Даре», особенно плотно насыщенном автобиографическими мотивами, Федор Годунов-Чердынцев размышляет: «Когда дойду до тех мест, где я вырос, и увижу то-то и то-то — или же, вследствие пожара, перестройки, вырубки, нерадивости природы, не увижу ни того, ни этого…» — нота, по-разному, но настойчиво отзывающаяся у Набокова вплоть до последнего его, за три года до смерти законченного романа «Смотри на арлекинов!». Федор знает, что лучше не предпринимать столь рискованных психологических опытов, знает об этом и герой последнего романа Вадим Вадимыч. Но неодолимо искушение. Есть стихи 1947 года о гостиной с видом на Неву, где, замирая «от перебоев в подложном паспорте» и не сводя глаз с приставленного к нему толмача-осведомителя, уж третий день живет переодетый американским священником бывший петербуржец, вернувшийся домой «по истечении почти тридцатилетнего затменья». А в «Других берегах» о том же сюжете размышляет уже сам Набоков: «вот съезжу туда с подложным паспортом, под фамильей Никербокер. Это можно было бы сделать».
Сделано это не будет. Все опять закончится литературой — той книгой, где тональность задают невидимые арлекины: деревья-арлекины, слова-арлекины, призывающие: «Играй! Выдумывай мир! Твори реальность!» Но побуждение соединить литературу с реальным действием было, и была горечь из-за того, что оно не осуществилось. «Слишком долго, слишком праздно, слишком расточительно я об этом мечтал. Я промотал мечту».
Как это понятно — годами лелеемая мечта, пришедшая за нею горечь. Надо просто всмотреться в узор судьбы Набокова, прочесть его книги, особенно русские. И тогда откроется, что упомянутое в «Других берегах» (правда, по другому поводу) «странное чувство бездомности» — один из его наиболее устойчивых лейтмотивов. «Тема бездомности» — начавшаяся еще в Петербурге, в самые последние месяцы жизни на Морской, когда жизнью было набросано «предисловие к позднейшим, значительно более суровым блужданиям» — поистине его тема.
Ребенок, которого ожидали к осени 1898 года, родился мертвым. Первенцем Набоковых суждено было стать Владимиру.
Если довериться автобиографиям, его самое раннее воспоминание — летний день, подковки солнца на обсаженной дубками аллее, что-то бело-розовое и мягкое, «владеющее моей левой рукой», что-то бело-золотое и твердое, держащее за правую. Имение в Ингрии, июль 1902 года. Пора представить главных действующих лиц.
Монограмма «ЕН» на картушах фамильного особняка соединила имена, принадлежавшие разным общественным сферам — разным социальным стратам, как стали говорить в наш просвещенный век. Елена, в девичестве Рукавишникова, происходила из семьи, получившей дворянство только в 1883 году, после того как ее отцу был пожалован орден Святого Владимира 4-й степени, дававший такое право. Фамилия, которую она стала носить, выйдя за Владимира Дмитриевича Набокова, была аристократической, звучной, широко известной.
Прадед, «сибирский золотопромышленник и миллионщик», лишь мимоходом упомянут в «Других берегах», где о Рукавишниковых, «диковинных, а иногда и страшных», вообще даются крайне скупые сведения (повод для упреков в «сословном снобизме», прозвучавших из уст Зинаиды Шаховской, много лет знавшей писателя Набокова). Чуть более пристального внимания прадед, которому Рукавишниковы были обязаны своим огромным богатством, удостоился в английском варианте автобиографии. Но, когда писалась книга «Память, говори», Мнемозина начинала плутать: алапаевские заводы этого креза, приносившие основной доход, расположились под Нижнетагильском.
Незадолго до революции юный Набоков как будто собирался наведаться в те края (привлекаемый, впрочем, не минералогией, а энтомологией, своей пожизненной манией). История распорядилась так, что ехать пришлось не на Урал, а в Крым. Кстати, там, в Крыму, у старика Рукавишникова было имение — то самое, где Айвазовский описывал свою встречу с Пушкиным. У Айвазовского, жившего поблизости, бывал летом 1888 года впервые приехавший в Крым Чехов и как-то за обедом познакомился с Прасковьей Терновской, приходившейся Елене Рукавишниковой родной теткой. Терновская была врач, жена известного профессора Медико-хирургической академии, женщина во многих отношениях замечательная, но со слишком уж непривлекательной внешностью: в письме Чехов называет ее ожиревшим комком мяса и говорит, что получится болотная лягушка, если эту даму раздеть и выкрасить в зеленую краску. Эпизод приведен в английской автобиографии; легкие шалости Мнемозины продолжаются: адресатом указана сестра, хотя письмо обращено ко всем Чеховым, и неверно дана дата — не 3 августа, как у Набокова, а 22–23 июля.
Видимо, особого интереса к Рукавишниковым у Набокова не было, не говоря о чувстве близости (его отец, напротив, питал к этим родственникам уважение и даже составил жизнеописание одного из них, Николая, кузена своей жены: он возглавлял приют для малолетних, построенный его отцом). Не так сложно объяснить, отчего Набокову они были в общем чужие. Снобизм — слово слишком сильное, однако сам Набоков не делал тайны из своего почитания аристократизма. А Рукавишниковы были почтенный купеческий род, находившийся в свойстве с Мамонтовыми, Якунчиковыми, Третьяковыми и еще несколькими столь же прославленными представителями торгового и промышленного сословия. Глядя на них, никто бы, разумеется, не стал вспоминать про темное царство, по поводу которого сокрушался Добролюбов. О нет, они были людьми новой формации, теми, о ком популярный в те годы писатель Боборыкин, отменный знаток этой среды, писал, что стараниями денежных патрициев учреждаются стипендии, заводятся библиотеки, «входят в жизнь разные попытки, уже прямо связывающие мошну, амбар и фабрику с миром идей, с мозговой работой». Но все-таки они по своему существу были миллионщиками.
Этот мир русских капиталистов, которым, по логике вещей, должно было принадлежать будущее, Набокова не притягивал вовсе не по той причине, что вызывал настроения социального недовольства и протеста, — что-нибудь более ему далекое, чем подобные настроения, трудно вообразить. Не притягивал он прежде всего по причинам психологическим и эстетическим. Рукавишниковы сделались дворянами, один, отец Елены Ивановны, дослужился до тайного советника, другой, ее дядя, был кандидатом университета, и все равно для Набокова они остались чем-то наподобие Лопахина из «Вишневого сада»: купцами, пусть «с тонкими, нежными пальцами, как у артиста». И хотя Набоковы нисколько не походили на Гаевых, хотя их Выре и Батову никогда не грозила опасность уйти с аукциона (как ушло находившееся в той же Ингрии имение графа Строганова, которое купил купец по происхождению, редактор «Осколков» Лейкин, охотно печатавший молодого Чехова), — тем не менее ощущение незримого барьера сохранялось.
А усиливалось оно тем, что Рукавишниковы по преимуществу были не петербуржцами. Они были нижегородцами и москвичами (дядя матери — кандидат, даже состоял московским головой). То есть, по восприятию Набокова, принадлежали к провинциальному миру, всю жизнь вызывавшему у него едва завуалированное презрение, ничего больше. Жизнь сложилась так, что Набоков никогда не был в Москве. И не написал о ней ни строки, словно она и не стоила его внимания. Из всех крупных русских писателей он единственный, для кого Москва ни биографически, ни творчески не значила ровным счетом ничего.
Но создание, которое твердо завладело левой рукой двухлетнего сына, с годами отделялось от Рукавишниковых дальше и дальше. Ко времени «Других берегов» (Елены Ивановны давно уже не было на свете) образ молодой женщины в бело-розовом и мягком приобрел поэтичность, нечастую в произведениях Набокова. Даже ее «проникновенная и невинная вера» теперь вызывала у него, неизменно скептичного в вопросах религии, что-то схожее с умилением. А непроизвольно, как у Пруста, вспомнившееся «нежное сетчатое ощущение ее холодной щеки» — или вуали и котиковой шубки, или грациозного движения, которым посылался теннисный мяч, и досадливо топающей ножки, когда он попадал в сетку, — все вдруг «оказалось прекрасным зеркалом от предназначенных потерь». Все стало переворачивающим душу напоминанием о детстве, о счастье, об Ингрии и том крутом подъеме у поворота на большак, где, остановив велосипед, когда-то сделал предложение соседке по имению отец, уже в ту пору известный общественный деятель, литератор, юрист, в предреволюционной России по праву считавшийся одной из самых ярких личностей.
Под старость, отвечая на вопросы о своем происхождении, Набоков называл отца «старомодным либералом», обязательно добавляя, что сам он такой же. Биография Владимира Дмитриевича появилась в девятой главе книги «Память, говори», составив особый раздел, которого нет в русской версии. Вот основные факты: учился в гимназии на Гагаринской, потом на юридическом отделении университета и в Германии. Был произведен в камер-юнкеры, читал лекции в Императорском училище правоведения. Возмущенный кишиневским погромом, опубликовал в 1903-м резкую статью, которая означала конец его официальной карьеры. В «Других берегах» рассказано, что было дальше: «На каком-то банкете он отказался поднять бокал за здоровье монарха — и преспокойно поместил в газетах объявление о продаже придворного мундира». С собственным отцом-министром, с братом Константином, занимавшим крупные дипломатические должности, Владимир Дмитриевич мог принципиально расходиться, и не только по частностям. Однако чувство достоинства и честь были безусловной этической доминантой для всех Набоковых.
После статьи о погроме Набокову было указано, что темы будущих выступлений необходимо согласовывать с чиновниками Министерства двора: плохо его знали, допуская, что он согласится на такое ущемление своей независимости. Частная жизнь оберегалась теми же правилами чести, неукоснительно выдерживаемыми. З. Шаховская приводит упорно державшийся слух, что был вызов, посланный Набоковым клеветнику, утверждавшему, будто он заключил брак по расчету. Даже если бы не было документальных подтверждений, можно не сомневаться, что порочащая сплетня ни за что не сошла бы с рук тому, кто ее распространял. Однако есть две страницы в «Других берегах» (номер бульварного издания с порочащим отца фельетоном, жестокое избиение одноклассника, который его принес) да и документы имеются: окончательно деградировавшая суворинская газета «Новое время» от 16 октября 1911 года. Там некто Снесарев, обиженный тем, что издаваемая В. Д. Набоковым «Речь» уличила его как взяточника, тиснул статейку с утверждением, будто редактор «Речи» женился на деньгах. Опровержений или сатисфакции Владимир Дмитриевич потребовал не от ничтожества Снесарева, а от сына Суворина, стоявшего во главе его газеты. Михаил Суворин от поединка отказался, предпочтя вытерпеть порку, которой он со своим изданием был подвергнут в «Речи» на следующий день (между прочим, редактор «Речи» двумя годами ранее напечатал статью, где дуэль была названа диким пережитком, — своевременную статью, если вспомнить хотя бы «Три сестры» или классическую повесть Куприна).
Отголоски этого сюжета есть не только в автобиографии Набокова. Себастьян Найт описывает дуэль, на которой — метель, замерзший ручей, явные пушкинские обертоны — погиб его отец. А в рассказе «Лебеда» стреляются Шишков и граф Туманский: сын Шишкова Петя не может сдержать слез, узнав, что отец остался жив. Псевдонимом «Василий Шишков» подписаны два стихотворения, которые Набоков напечатал в 1939 году, преследуя, помимо прочего, особую цель — высмеять своего упорного недоброжелателя, поэта Георгия Адамовича. Последний его по-русски написанный рассказ (в котором, кстати, автор разбирает одно из этих стихотворений, «Поэты») так и озаглавлен — «Василий Шишков». А в «Лебеде» соседа Пети Шишкова по парте зовут Дима Корф.
Шишковы, Корфы — фамилии, фигурирующие в набоковской родословной: прабабка по отцовской линии была Шишкова, бабушка по отцу — фон Корф. Родословное древо писателя, имея в виду только Набоковых, восстановлено примерно до начала XVIII столетия. Корни намного глубже.
Помянутый в автобиографиях татарский князек, тот, что обрусел лет шестьсот назад, чтобы из Набока сделаться Набоковым, — похоже, фигура вполне легендарная. Однако фамилия действительно была стародворянская, почтенная. Особенно Набоковы выдвинулись в XIX веке. Был среди них генерал от инфантерии, отличившийся на поле Бородина, под Лейпцигом и при Кульме, Иван Набоков. Карьеру он закончил комендантом крепости, куда был доставлен после ареста петрашевец Достоевский, уже успевший издать петербургскую поэму «Двойник», единственное произведение, достоинств которого внучатый племянник генерала не отрицал. Двадцатью годами ранее будущий генерал был включен в Следственную комиссию по делу декабристов и вполне оправдал доверие молодого императора, что не помешало ему принять деятельное участие в судьбе бунтовщика Ивана Пущина, на сестре которого он был женат. Петрашевцы — и сам Буташевич, и Майков, и Венедиктов — отзывались о своем цербере как о славнейшем из людей, а сидевший при нем в Петропавловке Бакунин почитал знакомство с «добрым тюремщиком» удачей. И, узнав о смерти генерала, которого предали земле там же, в крепости, просил поцеловать за него руку покойного.
Дед писателя Дмитрий Набоков приходился генералу племянником, а по матери мог бы носить еще одну известную декабристскую фамилию — Назимов. Притягивавшее Набокова «сцепление времен» в этом случае могло приобрести для него особенно пленительный оттенок, потому что с Назимовыми в годы михайловской ссылки дружески общался Пушкин. Деду посвящено несколько страниц и в русской автобиографии, и в английской: о его портрете не скажешь, что он выполнен влюбленным пером. Благородные побуждения Дмитрия Николаевича бесспорны, он их проявил и в Симбирске, в скромной должности губернского стряпчего по казенным делам, а затем товарища председателя палаты гражданского суда, и на посту директора Комиссариатского департамента Морского министерства, и став сенатором, а затем министром юстиции. В этом качестве Д. Н. Набоков пребывал семь с половиной лет, проводил прогрессивные преобразования (как пишет внук, «на время прекратил натиск на суд присяжных со стороны реакционеров») и, отправленный в отставку Александром III, отказался от графского титула, мудро предпочтя денежное вознаграждение. Двоюродный брат писателя С. С. Набоков, посвятивший истории семьи цикл очерков «Профили», говорит о предшествовавших отставке интригах Победоносцева вкупе с доносительскими статьями, инспирированными Катковым, и приводит выразительную подробность: в присутствии царя Дмитрий Николаевич — смелость нешуточная — заявил, что государь может применить право помилования, но не должен отменять решения, вынесенного судом.
Но об этом «весьма комильфотном сенаторе», как о нем пишет в своем известном «Дневнике» А. В. Никитенко, имеются и свидетельства совершенно иного характера: тоже родственные, принадлежащие другому двоюродному брату писателя, композитору Н. Д. Набокову, автору ценной мемуарной книги «Багаж». Он передает свои разговоры в Берлине, в первые годы эмиграции с бабушкой Набоковой, урожденной баронессой фон Корф, которую выдали замуж за Дмитрия Николаевича, когда ей было всего пятнадцать лет.
Теперь бабушка была уже в очень преклонном возрасте, память ее могла помутиться, но не настолько же, чтобы старческой фантазией, и не больше, оказались ее воспоминания о своем браке. Этот союз, от которого в первые шесть лет родилось четверо детей, стал, главным образом, следствием ханжества и припудренного разврата, столь обычного в великосветской среде: у будущего супруга была связь с матерью его невесты, и сочли, что официальные родственные узы придадут эротическим забавам больше благопристойности. Ситуация — если, конечно, от Набокова не скрыли эти страницы былого — навязчиво заставляет думать о другой, которая годы спустя описана в «Лолите» (где, правда, иначе расставлены акценты, и брачный союз с мамашей заключен героем ради близости к дочери). Но такие параллели уводят в ненадежную область догадок, уж не говоря о том, что книга, которую из написанного им Набоков любил больше всего, никак не исчерпывается описанием преступной всеподавляющей страсти.
От догадок лучше воздержаться, но все-таки есть определенные поводы предположить, что стойкая ненависть Набокова к фрейдизму каким-то образом связана с этой историей, за которую двумя руками ухватился бы любой психоаналитик. О бабушке Набоковой в автобиографии только и сказано, что ей доставляло удовольствие думать, будто остров Корфу назван в память ее предка-крестоносца. Юному Набокову она казалась «стилизованной фигурой в небольшом историческом музее»: кружевные митенки, пудра, шелковый пеньюар. Больше она нигде у него не упоминается, а все-таки, возможно, и о ней он вспоминал, проезжаясь по части «шарлатана» Фрейда со всей «венской делегацией». И, похоже, ядовитой, а бывало, озлобленной насмешкой старался оградить семейные воспоминания от неизбежных (если бы только что-то пронюхали) вторжений тех, кто пресерьезно полагает, что можно утолить все печали «прикладыванием греческих мифов к родительским гениталиям».
Пусть подобной терапией увлекаются доверчивые простофили, «мне все равно» — заканчивается этот пассаж в интервью 1966 года.
На самом деле все равно ему не было. Семейные воспоминания никогда не оставляли его безразличным. О тягостном он не говорил ни в автобиографиях, ни в интервью: об истории бабушки, о драме младшей сестры деда, чей муж (тоже Корф, только из другой ветви) через три месяца после свадьбы был убит на дуэли родным ее и Дмитрия Николаевича братом, кавалерийским офицером, который счел, что зять третирует и унижает жену. О светлом, впрямую ли от себя или отдавая эти эпизоды героям, душевно близким автору, вспоминал часто, охотно. Особенно об отце.
Как много значили для него отношения с отцом, должно быть, всего выразительнее свидетельствует «Дар», который Набоков считал (и справедливо) своим лучшим русским романом. Автобиографии содержат контуром намеченный портрет русского интеллигента и убежденного западника, какими в ту эпоху были все люди твердых либеральных мнений. Читал Владимир Дмитриевич исключительно много, превосходно разбирался в литературе, особенно французской и английской, благоговел перед русской поэзией и был уверен, что написать что-то художественное могут только люди, наделенные невероятным, чудесным даром. При этом сам владел пером очень неплохо, и не только как публицист, постоянно выступавший в своей газете «Речь» по вопросам политики и права. Ему принадлежат живые и яркие воспоминания «Временное правительство», которыми в 1921 году открылась по сей день важная для историков серия «Архив русской революции». Начав в эмиграции журнал «Новая Россия», который издавал вместе с П. Н. Милюковым, а затем газету «Руль», он успел напечатать несколько статей, положивших начало серьезному обсуждению причин и следствий русской катастрофы.
Эти статьи замечательны и тем, что автор, в отличие от огромного большинства других, писавших о трагедии по горячему следу, не делает вида, будто его собственные взгляды и действия никоим образом не способствовали случившемуся со страной. Как человек достаточно четко проявленной левой ориентации, в юности участник студенческих беспорядков, а в зрелые годы один из лидеров Конституционно-демократической партии, пришедшей к власти после Февраля 1917-го, Набоков должен был вместе с остальными кадетами разделить ответственность за свержение монархии и за то, что республика, безоговорочным приверженцем которой он был, рухнула, едва зародившись. И от этой ответственности он не отказывался.
Субъективной его вины в том, что развязкой стал октябрьский переворот, не было. Как управляющий делами Временного правительства, как член Юридического совещания, разработавшего положение о выборах в Учредительное собрание, в которое он был избран, как заместитель председателя Временного совета республики, В. Д. Набоков сделал все возможное, чтобы русская демократия заработала и диктатура не прошла. С самого начала своей политической деятельности он стремился приживить демократические институты и установления, но уж слишком неподатливой была российская почва. Как тут было добиться, чтобы власть исполнительная подчинялась власти законодательной — а на этой формуле и строилась стратегия кадетов.
Формула украсила одну из речей Набокова, произнесенных в 1-й Государственной Думе. Когда Думу распустили царским рескриптом, Набоков оказался среди радикальных депутатов, которые, собравшись в Выборге, подписали воззвание с призывом саботировать действия власти и правительства. Эта дерзость не осталась без последствий. Приговор Особого присутствия определил наказание: три месяца в «Крестах».
Запомнился день его возвращения, о котором в семье знали заранее, поскольку из камеры, где отец делал гимнастику и изучал итальянский язык, при помощи подкупленного надзирателя приходили записки. Набоковы находились в деревне, в Выре. Дорогу от станции было решено украсить арками из зелени. И перевить эти арки «откровенно красными лентами».
Красным Владимир Дмитриевич, само собой, никогда не был. Его линию жизни определяло желание блага и прогресса вкупе с социальной справедливостью, удивительно острое для вельможного сына, воспитывавшегося в апартаментах напротив Зимнего дворца. Этот идеалист мог обозвать крепостником собственного шурина, который, страдая заиканием, велел лакею именоваться не Петром, а Львом, с чувством слушать надрывные оперы Верди и возмущаться, узнав, что родственник передергивал за карточным столом, когда понадобилось выручить проигравшегося в пух приятеля. Мог, после Февраля 1917-го, с неисчерпаемым энтузиазмом, со страстной верой в конечный успех служить революции, точно не замечая всего того, что так ясно увидел даже столь неискушенный в политике человек, как Куприн: стремительного развала державы, озверения толпы, оргии бесчинств и рас-прав над офицерами прямо на улицах. В первые дни февральского восстания ошалевшая солдатня громила «Асторию», расположенную рядом с его домом, и в особняке на Морской прятались родственники, оставшиеся без крыши над головой. И все-таки, явившись на службу в Главный штаб, Владимир Дмитриевич, еще вчера рисковавший поплатиться головой за свои погоны, произнес прочувствованную речь, смысл которой, как сам он вспоминает, заключался «в том, что деспотизм и бесправие свергнуты, что победила свобода, что теперь долг всей страны ее укрепить, что для этого необходима неустанная работа и огромная дисциплина».
Но потом, когда банкротство надежд на русскую демократию выявилось с непреложностью, В. Д. Набоков — может быть, лишь он один это и мог — сказал жестко и ясно: «Из всех так называемых завоеваний революции для меня несомненно только одно: все высокие слова окончательно потеряли доверие».
Куприн нашел, вероятно, самые точные формулы, подводя итог жизни этого поборника непоказного рыцарства. Для В. Д. Набокова, писал он, «честь, подвиг, любовь к родине, уважение к своей и чужой личности… были естественны, как зрение и слух».
Криминалист с европейским именем, он, конечно, мог бы остаться ученым, держась подальше от политики, но ум его был слишком деятельным, а натура, вопреки обманчивой внешности (плотная фигура, что-то полнокровное, прямолинейное — эпитеты, вовсе не обидные, когда ими пользуется автор «Других берегов»), — слишком пылкой. Как общественного деятеля его травили и слева, и справа: ленинские упоминания о кадетах дышат ядом, а черносотенцы не забыли статью «Кровавая кишиневская баня» и не простили выступлений в защиту Бейлиса, облыжно обвиненного в ритуальном убийстве (репортажами Набокова с проходившего в Киеве процесса было раздражено и правительство, оштрафовавшее репортера на сто рублей). «Другие берега» упоминают о карикатуре, на которой благодарное мировое еврейство принимает из рук Владимира Дмитриевича и «котоусого Милюкова» проданную ими матушку Русь. Известно, что весной 1922-го Карловицкий синод, состоявший сплошь из мракобесов, запретил служить панихиды «по жиду Набокову».
Очень много лет спустя в руки писателя попала редкая книга, вышедший в Петербурге сборник статей его отца по уголовному праву, и в ней оказалась работа «Плотские преступления», трактующая, среди прочего, о сластолюбцах, особенно внимательных к девочкам от восьми до двенадцати лет. После «Лолиты» эта статья, написанная полувеком раньше, показалась мэтру отчасти пророческой. Вряд ли можно сомневаться, что самого Владимира Дмитриевича, по меньшей мере, смутило бы такое подтверждение его профетических дарований. Он был человеком старой культуры. Возможно, несколько старомодной в глазах его прославившегося потомка.
Впрочем, подобные расхождения выяснились, когда старшего Набокова уже давно не было в живых. И отношение младшего к старшему они никак не переменили. Отношение, пишет младший, таило в себе «много разных оттенков — безоговорочная, как бы беспредметная, гордость, и нежная снисходительность, и тонкий учет мельчайших личных его особенностей, и обтекающее душу чувство, что… мы с ним всегда в заговоре».
Этот заговор, «тайный шифр счастливых семей», — один из неиссякающих ключей набоковского творчества. Бывали минуты сомнений и неутолимой тоски — в такую минуту, парижской осенью 1938 года родилось стихотворение «Мы с тобою так верили…», относящееся к числу лучших у него, — но, в сущности, никогда не ослабевало чувство, что она есть, живая «связь бытия». И преследовавший Набокова скепсис отступал перед верой «в непрерывность пути от ложбины сырой до нагорного вереска».
«Я был английским ребенком», — сказано им в позднем интервью. Автобиография поясняет, что английским языком Набоков владел с колыбельного возраста. Да и все вокруг него было по преимуществу английское: резиновые ванны и сухое дегтярное мыло, лондонские бисквиты в железной коробке, покупаемые в магазине на Невском, автомобиль «роллс-ройс» в городском гараже, велосипеды «Энфилд» и «Свифт» в деревне. Английские молитвы на сон грядущий. У курантов в комнате на первом этаже, так называемой комитетской (там собирались единомышленники отца, кадеты), — вестминстерский звон. И даже дрался юный Набоков по-английски, костяшками сжатых в кулак пальцев.
Французским языком он владел практически так же свободно, начиная с пяти лет. Но, за исключением единственной попытки, предпринятой в середине 30-х годов (новелла «Мадмуазель О.», этюд о Пушкине, приуроченный к 100-летию его гибели), никогда всерьез не намеревался сделать его основным языком творчества. Дело, по-видимому, не в том, что писать на французском Набокову было бы труднее. Во всяком случае, он всегда проверял французские переводы своих книг, восстанавливая места, с которыми не справились перелагатели.
Переход на французский в принципе был возможен, Набоков отказался от этой мысли не из-за трудностей освоения новой языковой стихии. Причины объяснил он сам в одном из последних интервью — корреспонденту французского телевидения Бернару Пиво (1975): «Французский язык, или, скорее, мой французский (это нечто совершенно особое) не так легко сгибается под пытками моего воображения. Его синтаксис запрещает мне некоторые вольности, которые я с легкостью могу себе позволить по отношению к двум другим языкам».
В том же интервью сказано (как не раз говорилось и раньше), что, трепетно любя русский, Набоков отдает предпочтение английскому языку «в качестве рабочего инструмента». Первые его английские книги — перевод «Отчаяния», затем «Истинная жизнь Себастьяна Найта» — были закончены еще до переезда в Америку («Себастьян Найт», кстати, писался в Париже, в маленькой квартире на рю Сайгон, где ванная одновременно служила кабинетом).
Как он впоследствии не раз объяснял интервьюерам, искушение стать французским автором Набоков отверг, потому что мысли его смолоду были устремлены к Америке. Но вряд ли дело только в этом. Существенно, что полученное им воспитание ориентировалось на английский язык, культуру и даже бытовые привычки. В отрочестве основной круг чтения составляли английские авторы, освоенные, разумеется, в оригинале: и Конан Дойл, и Честертон, и Уэллс, которым Набоков восхищался даже под старость. Первые слова, выведенные на бумаге детской рукой, были английские слова, описывающие бабочек. Коллекция начинающего энтомолога росла непрерывно. Терминология бралась из специального английского журнала, стоявшего в отцовской библиотеке.
В этом журнале кембриджским студентом Набоков в 1920 году осуществил первую публикацию, подписанную его настоящей фамилией, — напечатал статью о бабочках Крыма. Первое стихотворение, написанное по-английски, появилось тогда же, в 1920-м.
Никто, конечно, не предполагал в пору его детства, что цветная спираль, с которой Набоков сравнил свою жизнь, таит в себе дугу эмиграции с продолжающим ее американским периодом в двадцать лет. Английское воспитание было выбрано главным образом по соображениям педагогического толка. Эту систему воспитания в семье считали самой здоровой и надежной.
Череда англичанок-воспитательниц проходит через самые ранние воспоминания мальчика Набокова. А на смену гувернанткам спешат приходящие учителя. Один занимался грамматикой, другой давал уроки рисования (впоследствии его сменил на этом поприще сам Мстислав Добужинский). Капризница Мнемозина сохранила обе фигуры нестершимися — вплоть до жилетных часов мистера Бэрнеса (который, как потом выяснилось, у себя в Шотландии ценился как переводчик русских поэтов) и угловатого плеча мистера Куммингса. Они пребывают «в красном углу памяти»: там, где картины далекой действительности сверкают особенно ярко.
А ярче всего они становятся при перемещении действия из города в усадьбы, в настоящую Ингрию: ею для Набокова были Батово, Выра, Рождествено, три поблизости одно от другого расположенных поместья в Царскосельском уезде, в семидесяти с чем-то верстах от Петербурга, куда надо было добираться, сев в поезд на станции Сиверская.
Здесь, в этих парках, на поросших липами холмах, среди некошеных полей и выстроившихся колоннадой берез, на поворотах сельской дороги, на крутых спусках к реке Оредежь, «искрящейся промеж парчовой тины», расположился «рай осязательных и зрительных откровений», которые отзывались в прозе Набокова все то время, пока он оставался русским писателем. И затухающим эхом напомнили о себе даже в написанной под старость «Аде» с ее дистиллированной стилистикой.
«Все запомни», — говорила ему в детстве мать, указывая жаворонка в весеннем небе, краски кленовых листьев на террасе, зарницу над далекой рощей. Подразумевая этот кусочек из «Других берегов», Андрей Битов, сложивший в честь Набокова гимн, задыхающийся от восторга, пишет: и на самом деле он «запомнил ВСЕ и ничего не забыл». Он обрел бессмертие, ибо «восстановил в правах такое количество и качество подробности жизни, что она и впрямь ожила под его пером, пропущенная было все более невнимательной и сытой мировой литературой».
Это комплимент не по адресу, его надо бы отнести к Бунину, чья «парчовая проза» с ходом лет стала вызывать сплошь язвительные набоковские отзывы (и не оттого лишь, что под старость Набоков не любил и не ценил никого из своих литературных современников, по крайней мере, русских). «Качество подробности» у Набокова как раз весьма относительно, поскольку он им не так уж и дорожил. Еще в годы своей писательской юности он твердо для себя усвоил, что «нет одной вещи, — хотя математически вещь одна, — а четыре, пять, шесть, миллион вещей в зависимости от того, сколько людей смотрит на нее». В его повествовании все решает вовсе не «подробность», не количество ее и даже не качество. Решает характер восприятия, взгляд, потому что «нет предмета без определенного отношенья к нему со стороны человека», — так сформулировал он свой принцип в докладе «Человек и вещи», сделанном в Берлинском литературном кружке зимой 1928 года (текст опубликован только семьдесят один год спустя).
Но в том же докладе подчеркнуто, что «вещи, о которых я буду говорить, не пройдут без именных ярлыков, в туманах общего места». И вот эта приверженность Набокова эмпирике, его пожизненно сохранившаяся неприязнь к «демону обобщений» (развенчанному в другом берлинском докладе двумя годами ранее), переросшая в отказ серьезно считаться с литературой «больших идей», будь то даже Достоевский, уж не поминая Томаса Манна или Альбера Камю, — она-то и обманывает, заставляя искать достоверность описания и свидетельства там, где на самом деле сложная смесь случившегося и домышленного, действительности и воображения, правды и поэзии.
Преобладает, вне всякого сомнения, поэзия.
Но это поэзия особого рода, без фантомов, туманов и мистики, к которой приучил символизм — самое крупное художественное движение времен набоковской юности. Это поэзия с обязательной вещественностью, «танец вещей, являющихся в самых причудливых сочетаниях», как написал о Мандельштаме чтимый Набоковым Владислав Ходасевич.
Не так ли и у самого Набокова? Вещи, очень много вещей, выписанных осязаемо, фактурно, в особенности если это вещи, сохраненные памятью из детства, ибо уничтоженье таких вещей нестерпимо («Меня занимал в детстве вопрос: куда денутся мои игрушки, когда я подрасту? Я воображал огромный музей, куда собирают постепенно игрушки подрастающих детей. И часто теперь, входя в какой-нибудь музей древностей… мне кажется, что я попал как раз в тот музей моей мечты». 1928 год). Но все же главное для него не сами по себе вещи, хоть они и подобие человеческое, главное — причудливость сочетания.
Вот отчего не следует воспринимать его картины Ингрии так, словно он вправду оживил пером давным-давно, на заре ушедшего века свершавшуюся там жизнь. Точнее будет все-таки сказать, что он эту жизнь не то чтобы придумал, но опоэтизировал. А еще верней, стилизовал, создавая пленяющее «ощущение предельной беззаботности, благоденствия, густого летнего тепла», — миг, в который «все так, как должно быть, ничто никогда не изменится, никто никогда не умрет».
Весной 1969 года он получил присланный неведомым другом из России в Швейцарию пакет со снимками своей Ингрии, сделанными через полвека с лишним после того, как Набоков последний раз видел эти места. И должно быть, сразу вспомнились вырский парк, цветные стекла беседки над оврагом в зарослях папоротника, первое стихотворение, которое было в этой беседке сочинено летним днем, когда листья провисали под тяжестью дождевых капель и от выглянувшего солнца ложились по полу ромбовидные отсветы, — первое явление музы пятнадцатилетнему версификатору. Потом он (в точности как Годунов-Чердынцев в «Даре», без малого четверть века спустя) будет смотреться в зеркало, «не совсем узнавая себя», потому что свершилось чудо: стихи написаны, он тот же, что был, но уже и другой — приобщенный.
В английском варианте автобиографии этому потрясающему событию посвящена целая глава, где о самом стихотворении говорится пренебрежительно, даже зло: потуги с претензиями. В какой-то степени их может извинить разве что старание подражать тем, кому в юности подражать не стыдно, — Тютчеву, Фету. Но, если стихи в самом деле были первые, которые написаны Набоковым, они приобретают совсем особый смысл, именно оттого, что написаны в Выре и навеяны вырским пейзажем. Тем, что будет о себе то явно, то намеками напоминать, когда все это — ненастный летний день, цветные ромбы, радуга над деревьями — давным-давно канет в вечность. Стихи были напечатаны в крохотном сборничке 1918 года:
Дождь пролетел и сгорел на лету.
Иду по румяной дорожке.
Иволги свищут, рябины в цвету,
Белеют на ивах сережки.
Воздух живителен, влажен, душист,
Как жимолость благоухает!
Кончиком вниз наклоняется лист
И с кончика жемчуг роняет.
Через год после бандероли из России — не как косвенный ли ее результат? — это стихотворение появилось в последней прижизненной поэтической книге Набокова «Poems and Problems», в авторском переводе (впрочем, журнальная публикация их английского варианта состоялась гораздо раньше, в 1949-м, и по ним англоязычный читатель получил первое представление о поэзии Набокова). Вниманием неизвестного русского корреспондента (теперь имя названо — петербургский историк-краевед Н. К. Телетова) Набоков был глубоко тронут, отослал шесть снимков в издательство, готовившее к выпуску его биографию, упомянул в письме о «необычном соприкосновении детства и старости», но кое-что просто не узнал — и можно без большого риска предположить, что не Мнемозина со своими проделками в том повинна. Просто реальность такова, что «ничто никогда не изменится» только в написанном и напечатанном тексте. За пределами текста изменения происходят непрерывно, и сам текст с ходом лет все больше начинает восприниматься скорее как метафора, а истинность описания — не самое главное.
Установить, за какой чертой поиски этой истинности вообще теряют смысл, теперь очень затруднительно, поскольку осложнена, и сильно, проверка написанного Набоковым достоверными фактами. Батовская усадьба сгорела в 1923 году, дом в Выре — в 1944-м. Рождественский дом, уцелевший в революцию и войну, не уберегли уже в наши дни, когда там был музей. Он запылал весенней ночью 1995 года.
Правда, остался парк с фрагментами начальной планировки. Но погиб в огне деревянный усадебный дом в стиле классицизма — тот, что так ясно выступал перед Набоковым «сквозь тщательно протертые стекла времени», когда писалась автобиография, а за четверть века до этого предстал, густо окутанный поэтическими воспоминаниями, читателям «Машеньки», первого набоковского романа. От дома в Вы-ре уцелел только крошащийся фундамент, на котором теперь купы кустов и дикая трава. Батово, когда-то восхитившее будущего декабриста Александра Бестужева («Местоположение там чудесное, тихая речка вьется между крутыми лесистыми берегами, инде расширяется плесом, инде подмывает скалы, с которых сбегают ручьи»), было продано бабушкой Набоковой еще в 1913 году акционерному обществу «Строитель»: чеховский сюжет, «Вишневый сад».
Теперь не отыскать ни липовых и березовых аллей, незаметно переходящих в лесные заросли, ни старых троп, одна из которых именовалась «тропой висельника»: ведь Батово в свое время принадлежало Рылеевым, и Кондратий Федорович, по преданию, именно эту тропу избрал любимым местом прогулок. Набоков был уверен, что тут же, в разросшемся батовском парке происходила дуэль Рылеева с Пушкиным, и в своем комментарии к «Евгению Онегину» даже точно ее датировал: между 6 и 9 мая 1820 года. Причиной вызова, по его мнению, был повторенный Рылеевым слух, будто Пушкина высекли в Тайной канцелярии. Документальных подтверждений этой версии нет, сомнительно даже, что дуэль вообще была: в указанные Набоковым сроки Пушкин уже ехал в Екатеринослав, направляясь в ссылку, и должен был находиться под Лугой, если не дальше. Все, что достоверно известно о размолвке с Рылеевым, — две строчки пушкинского письма Бестужеву, написанного пять лет спустя: назвав Рылеева, Пушкин сожалеет, «что его не застрелил, когда имел тому случай», — но речь идет исключительно о рылеевских поэтических грехах и тон, конечно, шутливый.
Комментарий к «Онегину» составлялся Набоковым на склоне лет, когда он стал болезненно относиться к любым, даже мелким несогласиям со своими идеями — художественными и всеми остальными. Переубедить его не смогла бы и армия пушкинистов, тем более что каждая, даже иллюзорная пушкинская ассоциация, идущая из детских лет, наполнялась для Набокова сокровенным значением (отвечая одному интервьюеру на вопрос, кого бы он желал встретить в Элизиуме, Набоков ответил: Пушкина — и разумеется, с целью окончательно удостовериться, что дуэль была, причем именно в Батове). Рай детства должен был быть осенен пушкинским присутствием. За поворотом батовской аллеи должен был хоть на неуловимый миг мелькнуть арапский профиль.
Ведь этот уголок Ингрии, «Вырская мыза», и вправду был овеян историческими реминисценциями. С Суйды, расположенной недалеко, была взята в няни к Оленьке Пушкиной Арина Родионовна, да и Ганнибалы жили в этих же местах. Считалось, что рождественская усадьба построена на развалинах дворца, в котором Петр, «знавший толк в отвратительном тиранстве», некогда заточил царевича Алексея. Рылеевых, к которым Батово перешло в 1800 году, навещал Кюхельбекер, а возможно, и другие герои Сенатской площади. Деревня Выра останется в литературе благодаря «Станционному смотрителю».
Мнемозина, не привередничая, распахнула перед писавшим автобиографию Набоковым занавес, за которым открылся двусветный зал зеленого вырского дома, полого поднимающаяся на второй этаж чугунная лестница, книжные полки по стенам внутренней галереи, стеклянный свод наверху. В этом доме проводили несколько летних месяцев, а однажды и зимовали, правда, без Владимира Дмитриевича, которого политика заставила остаться в городе, где — шла первая русская революция — было неспокойнее день ото дня. Запомнился приезд гувернантки из Лозанны, той самой Mademoiselle О., которой посвящена французская новелла Набокова. Холод, безлюдье, луна на снежной голубой колее дороги — «полвека жизни рассыпаются морозной пылью у меня промеж пальцев».
В Рождествено, к дому с колоннами по фасаду и по антифронтону, высившемуся на крутом холме за Оредежью, вела дорога, которая затем — это уже «Защита Лужина», второй после «Машеньки» роман, плотно загруженный детскими воспоминаниями автора, — «гулко и гладко пройдя сквозь еловый бор, пересекала петербургское шоссе и текла дальше, через рельсы, под шлагбаум, в неизвестность». Сочиняя свой полный фантазий роман о Петре, Мережковский упомянул, что в Рождествене царевич Алексей находил утешение в ласках чухонской девицы и отсюда бежал за границу, но вскоре был изловлен непреклонным отцом. Это легенда — очень может быть, что дворец Алексея находился вообще не в Рождествене, а поблизости, в Куровицах, — да у Набокова никак и не отозвалась предыстория «очаровательного, необыкновенного дома», напоминающая сюжеты оставлявших его равнодушным английских готических романов, где роковые страсти кипят под сумрачными сводами обветшавших замков. Дом в Рождествене — «шашечница мраморного пола в прохладной и звучной зале, небесный сверху свет, белые галерейки, саркофаг в одном углу гостиной, орган в другом, яркий запах тепличных цветов повсюду», — спустя десятилетия виделся Набокову так остро не из-за того, что настраивал воображать старину, распаляя романтические фантазии: они с юности казались ему смешными. Дом был памятен, потому что с ним сопрягались воспоминания о первой любви. И кроме того — память о Василии Рукавишникове, его необыкновенном владельце.
Исключительно яркий портрет единственного близкого родственника со стороны матери дает в «Других берегах» сам Набоков, не скрывающий изъянов, причуд и странностей этого светского дилетанта, баловавшегося сочинением французских стихов, к которым он придумывал незамысловатую мелодию, чтобы распевать свои меланхоличные романсы под аккомпанемент на рояле. Много натерпевшись в детстве от своего деспотичного отца, Рука — так, затрудняясь выговорить трудную русскую фамилию, обращались к нему многочисленные приятели-иностранцы, в чьем обществе, главным образом, и протекала его жизнь, — нечасто наведывался в Россию. Рука предпочитал жить в купленном им замке на границе Франции и Испании, или отправлялся охотиться на лис в Англию, или устраивал автопробег из Петербурга через пол-Европы. Сказочно прекрасный рождественский дом по большей части стоял пустой; когда появлялся хозяин, начиналось благоустройство парка «с его мхами и урнами, и осенней лазурью, и русой тенью шуршащих аллей, и садом, полным мясистых, розовых и багряных георгин, и беседками, и скамьями», а также дома: было, например, решено положить экзотичный по тому времени линолеум, который Набокову запомнился в виде клеток мрамора.
Все давно расхищено: миниатюры и акварели, фарфор и бронза, коллекция минералов, библиотека на нескольких языках. Осталась только опись, сделанная при реквизиции в 1923 году, после которой особняк передали под общежитие ветеринарному техникуму, находившемуся по соседству, в Выре. Потом там была школа и наконец — правление совхоза. Хорошо, что Набоков об этом не знал и даже не знал, что по иронии судьбы совхоз назывался «Ленинец».
Когда началась Первая мировая, Рука поклялся, что спалит усадьбу, если сюда дойдут немцы (они дошли во Вторую и устроили в его бывшем доме штаб, а отступая, пробовали все взорвать). Через два года он неожиданно умер в лечебнице под Парижем: оказалось, что у него грудная жаба, а было ему всего сорок пять. По завещанию Рождествено и состояние в миллион с лишним отошли любимому племяннику — Владимиру. Тот сразу стал думать, что теперь можно устроить большую экспедицию за бабочками в Среднюю Азию. Но кончался 1916-й. Стало не до энтомологии.
Главка о дяде Руке заканчивается в автобиографии кратким разъяснением, которое уместно привести, чтобы исключить возможные обывательские толкования мотивов, побудивших Набокова занять и до конца жизни сохранить непримиримую позицию по отношению к октябрьскому перевороту: «Мое давнишнее расхождение с советской диктатурой никак не связано с имущественными вопросами. Презираю россиянина-зубра, ненавидящего коммунистов потому, что они, мол, украли у него деньжата и десятины. Моя тоска по родине лишь своеобразная гипертрофия тоски по утраченному детству».
«Вы любите бабочек, господин Набоков», — в каждом втором интервью эта тема возникала неотвратимо, как рок. Такими же предсказуемыми были пояснения интервьюируемого: классификация мелких голубянок на основе устройства органов размножения доставляет ему ничуть не меньшее наслаждение, чем безупречно выстроенная фраза или никем прежде не использованный эпитет. Предположения, что это только игра или чудачество знаменитого писателя, мало-помалу иссякли сами собой, поскольку в разговорах о своих энтомологических штудиях Набоков всегда бывал крайне серьезен. И постепенно перестало удивлять, что в «Твердых мнениях», сборнике его интервью и эссе, фрагмент о природе вдохновения соседствует со статьей о Lycaeides sublivens, перепечатанной из специального бюллетеня, и с заметками, кое-что уточняющими в каталоге североамериканских бабочек профессора Клотса.
Знакомясь с этими набоковскими сочинениями, а в особенности зная, какую важность им придавал автор, трудно не испытать примерно те же чувства, которые у Чехова в «Черном монахе» испытал Коврин, когда Таня Песоцкая заставила его перелистать статьи своего отца-садовода — «О промежуточной культуре», «Еще об окулировке спящим глазком» и прочее. Коврин, принявшись за чтение, ничего не понял и бросил, подумав только, что «должно быть, на всех поприщах идейные люди нервны и отличаются повышенной чувствительностью». В энтомологических писаниях Набокова не встретить любезных сердцу Егора Семеновича выпадов против «ученых невежеств… наблюдающих природу с высоты своих кафедр» и прочее — такие выпады Набоков поберег для литературной полемики с обличениями «патентованных ничтожеств» вроде Элиота, Сартра или Пастернака как автора «Доктора Живаго». Но повышенной чувствительности в этих писаниях сколько угодно.
Стоит Набокову заговорить о бабочках, а особенно о состоянии охотника с рампеткой, которому улыбнулась удача, как из-под его пера нескончаемым потоком льются слова об упоении, волшебных ощущениях, «безумной, угрюмой страсти» или «ужасной муке», когда упущена какая-нибудь необыкновенная аглая или тэкла. Читая такие описания, в которых эмоциональность, случается, выходит из берегов, профанам остается, подобно Коврину, заключить: «Вероятно, это так нужно».
Лишь упоминавшееся интервью французскому телевидению (оно было дано за два года до смерти Набокова) содержит иную ноту: «Охота на бабочек — это совсем не весело. Это очень печально».
В детстве и годы спустя — в эмиграции, в Америке — Набокову так не казалось. Охотничий пыл пробудился в нем рано (это было наследственным, судя по автобиографии, где описано, как отец, при всех обстоятельствах невозмутимый, врывается с искаженным лицом, чтобы, схватив сачок, метнуться в сад) и сохранился навсегда. В угодьях недостатка не ощущалось: были огромный вырский парк и окрестные леса, куда, встав спозаранку, юный ловец уезжал на велосипеде и, оставив машину где-нибудь под знакомой березой, дальше, преследуемый оводами, изводимый комарами, пробирался через чащобы и болота пешком. Изловленные желтянки и белории потом занимали подобающее место в коллекции, подобранной в строгом соответствии с учеными описаниями, вычитанными из пухлых томов. Это увлечение грозило принять маниакальный характер, и даже в автобиографии, писавшейся десятки лет спустя, когда Набоков имел все основания смотреть на себя как на энтомолога-профессионала (безумно гордясь тем, что есть открытые и описанные им бабочки, которые в каталогах фигурируют с пометой nabokovi), распознаваемы отзвуки его детской одержимости. Иначе перо не вывело бы строку про «трепетную грудку… сверкающего маленького мертвеца», вызывающего любование собирателя, который, пустив в ход пальцы, пропахшие бабочками, высвобождает труп из складок сетки.
Серьезно заниматься бабочками он начал в Кембридже, слушая курс зоологии (вскоре, правда, им оставленный), а профессией эти занятия стали в Америке, осенью 1940 года, вскоре после прибытия в Нью-Йорк. Сначала Набоков стал сотрудником Американского музея естественной истории, крупнейшего в мире, затем, год спустя, начал безвозмездно сотрудничать с Музеем сравнительной зоологии Гарварда: в обоих музеях теперь имеются собранные им коллекции. Они собирались год за годом по всей Америке; каждый экземпляр укладывался в специальный конвертик с пометками типа «По пути к Терри-Пик от 85-й автострады, близ Леда, на высоте 6500–7000 футов, в Блэк-Хиллс, Южная Дакота, 20 июля 1958». В этих конвертиках, заполнивших жестянки из-под лейкопластыря, бабочки сохраняются много лет. После поимки их предстояло размягчить и расправить, поместив в коллекцию: на соответствующее место в соответствующий разряд.
Эта деятельность продолжалась и в Швейцарии, до последних лет жизни Набокова. В сезон охоты он ежедневно покрывал пешком расстояние в десять, а случалось, и в пятнадцать миль, никогда не принося ловлю бабочек в жертву писательству. Каким образом одно дело сочеталось у него с другим, вроде бы ничего общего не имеющим с энтомологическими дерзаниями, не раз пробовал объяснить он сам, всего удачнее — в «Других берегах».
Там говорится, что истинный любитель и собиратель бабочек никогда не примет на веру «естественный подбор» и «борьбу за существование», как они описаны утилитарно мыслившим Дарвином. На самом деле защитные уловки, разнообразие форм, окраски и поведения доведены до такого совершенства, что оценить этой изощренности не в состоянии мозг гипотетического врага. Подобная изощренность сродни искусству. Природа, какой она открывается ловцу бабочек, — восхитительный, совершенно «бесполезный» обман. Искусство — тоже.
О его «бесполезности», подразумевая свободу от обязательств служить передовым начинаниям, которые сами по себе могут быть в высшей степени достойными, первым заговорил, отвергая любые компромиссы, Оскар Уайльд. И та же мысль с разными оттенками варьировалась в культуре рубежа столетий, включая русскую, которая, говоря словами Блока, покинула пустоши филантропии и прогрессивности, кое-что там попалив, хотя пламя «перекинулось за недозволенную черту». Тут был явный вызов традиции, преобладавшей в оптимистически настроенном XIX веке, который воспринимал искусство прежде всего — если не исключительно — под знаком его общественного значения и морального долга. Вот какую трактовку искусства старались оспорить, восторгаясь самоценной сложностью и красотой природы, создавшей — ну хоть драгоценных бражников, похожих на розово-оливковых колибри с длинным хоботком. Или, как Блок, рассуждая о русских денди и о самом явлении дендизма, бросившего вызов духу «гуманностей» и «полезностей», которым пропиталась атмосфера XIX века.
Но, отвергая его заветы, отворачиваясь от его литературы — западной литературы, в которой господствовали «невыносимые посредственности» — Бальзак, Стендаль, Золя, а исключение составил один Флобер (да очень выборочно прочитанный Диккенс), Набоков в каком-то смысле оказывался и вполне законным наследником этой литературы, как раз если подразумевать его понимание общности, существующей между собиранием бабочек и занятиями искусством. Мандельштаму, который пристрастно оценивал литературу этого века, и уже не только западную, как свидетельство безнадежного упадка, а его небо называл «удивительно беззвездным», принадлежит, однако, очень ценное наблюдение, выделившее как коренную ее особенность «большую и серьезную новизну формы». Новизна создается откровенным тяготением скорее к документу, чем к вымыслу: живописности противопоставлен прозаизм, красноречие изгнано, оно ничто перед «золотой валютой фактов». Литература становится серийным разворачиванием признаков, в ней постоянно происходят приливы и отливы достоверности, она нечто вроде гигантской картотеки. От писателя, точно от биолога, требуется особое зрение: как у хищной птицы — «то он превращается в дальнобойный бинокль, то в чечевичную лупу ювелира».
Замечательно, что эти мысли, рассыпанные по разным текстам Мандельштама, сведены воедино в статье, посвященной Дарвину. Тому Дарвину, которому Набоков, мимоходом упомянув о его учении, приписал «грубый смысл», а Мандельштам, напротив, «революционность содержания, новизну мысли» и новую оптику восприятия: она, по логике поэта, сделала дарвиново «Происхождение видов» событием в литературе, соразмерным гётевскому «Вертеру». Причем эта революционность и новизна для Мандельштама прежде всего в том, что было покончено с «телеологическим пафосом», то есть с поисками целесообразности и непременных практических приложений, без которых картина мира прежде считалась неполной или даже ошибочной. С иронией отзываясь о «борьбе за существование», Набоков, однако же, практически повторяет мандельштамовские идеи, которые, впрочем, он едва ли мог знать, поскольку газета «За коммунистическое просвещение» от 19 апреля 1932 года со статьей «Вокруг натуралистов» скорее всего отсутствовала в библиотеке Корнеллского университета, где он работал, когда писалась автобиография (а дополняющие эту статью заметки «Литературный стиль Дарвина» появились в печати лишь в 1968 году). Речь, однако, не о приоритетах, а о схожести основных принципов: «бесполезность», восхитительная самоценная сложность природы, по-настоящему понимаемая лишь человеком, вступившим с природой, по слову Мандельштама, «в отношение военного корреспондента… которому удалось подсмотреть событие у самого истока». Лишь по наивности, по самонадеянности литератор мог бы позволить себе отмахиваться от наблюдений такого корреспондента, раз этот «отчаянный репортер» не писатель, а натуралист. Мандельштам был убежден, что «элементы искусства неутомимо работают и здесь и там». Набокову, всю жизнь соединявшему в себе энтомолога с художником, это утверждение должно было бы показаться аксиоматичным.
С Мандельштамом его многое связывало: оба петербуржцы, и как поэты — приверженцы родственных принципов («танец вещей, являющихся в самых причудливых сочетаниях»). Оба тенишевцы. Правда, Мандельштам был в Тенишевском училище гораздо раньше, чем Набоков, и знакомы они не были. Вообразив невозможную их встречу в рекреационном зале учебного корпуса или на заседании какого-нибудь из многочисленных кружков, которыми славилось это учебное заведение (Набоков их никогда не посещал, презирая происходившие там чтения «исторических рефератов» с либеральным душком), нельзя не пожалеть, что встреча не состоялась: верность тенишевскому братству Набоков хранил всю жизнь, с одним из его последних представителей, жившим в Израиле Самуилом Розовым, переписывался еще и в 70-е годы. Но к тому времени, как домашний шофер впервые привез его по Невскому и Караванной на Моховую, Мандельштам, который был восемью годами старше, успел съездить в Париж и провести два семестра в Гейдельберге, напечатался в «Аполлоне», о чем мечтали все молодые поэты, и был представлен столичному интеллектуальному сообществу на легендарной башне Вячеслава Иванова.
До Тенишевского были жившие в доме русские учителя, колоритная публика, которой в автобиографии посвящена целая глава. Имена, как и некоторые детали, разумеется, изменены или опущены. Ленским стал Филипп Зеленский, тот, кто выдумал читать «Мцыри», сопровождая стихи картинками в волшебном фонаре, и, наверное, первым заставил будущего поэта, присутствовавшего на этом представлении, почувствовать, что поэзия не имеет ничего общего с плоскими иллюстрациями и вообще ничего не «отражает». Волгиным стал Николай Сахаров, последний в этой череде.
О нем в «Других берегах» с отвращением написано: женившись на одной дальней родственнице Набоковых, «этот бархатный Волгин при Советах был комиссаром — и вскоре устроился так, чтобы сбыть жену в Соловки». Сведения не вполне точные — Набоков приводит их с чьих-то чужих слов, — хотя по существу все верно. Женой Сахарова стала Екатерина Дмитриевна Данзас, — ее считают прототипом «петербургской тетки» в «Защите Лужина». Внимательный читатель романа уловит намек, что у этой тетки были более чем родственные отношения с Лужиным-отцом: интригующий сюжет, который отдельным биографам подсказал мысль, что нежные чувства связывали тетю Катю, как ее называет в письмах сестре Набоков, с Владимиром Дмитриевичем.
Данзасы находились в неблизком родстве с Набоковыми через Корфов. Фамилию знал каждый русский — Константин Данзас был секундантом Пушкина на последней дуэли. Это обстоятельство едва не сыграло роковую роль в жизни тети Кати. Маловероятна вина конкретно Сахарова в том, что она, преподавательница языков ленинградской Лесотехнической академии, была после убийства Кирова выслана в Казахстан, в Чимкент, — высылали всех «социально чуждых». Но вот прелестный документ, который обнаружился совсем недавно: газета «Правда Южного Казахстана» от 30 марта 1949 года, разгар кампании против «космополитов». Гневная статья с требованием очистить от этого отродья южно-казахстанские вузы, а в статейке за подписями неких Н. Мельникова и С. Селиверстова — донос: в Технологическом институте работает «бывшая дворянка Сахарова, внучка Дантеса, того самого великосветского мерзавца, который убил Пушкина». Уайльд был прав: жизнь действительно подражает искусству. И при некоторых обстоятельствах превосходит любой театр абсурда.
Уже после Сахарова-Волгина в доме Набоковых репетитором по математике ненадолго появился Л. В. Розенталь, тоже тенишевец, выпускник 1912 года. Был он в ту пору студентом историко-филологического факультета Петербургского университета, впоследствии занимался историей искусства, но математикой владел превосходно и очень быстро подтянул своего ученика В. Набокова, у которого возникли временные сложности с этим предметом. В старости, когда ему было за восемьдесят, сел за мемуары, назвав их «Непримечательные достоверности». Довести до конца эту книгу он не успел, но, по счастью, главы о репетиторстве у Набоковых и о Тенишевском училище были завершены.
Училище было основано (в год рождения Набокова) общественным деятелем, по образованию инженером князем Тенишевым, который задумал создать школу нового типа, вызывающе непохожую на классическую гимназию, однако никак ей не уступающую по насыщенности программ и качеству образования. В Тенишевском были превосходно поставлены гуманитарные дисциплины, но не меньше внимания уделялось естественно-научным. Преподавали ученые с именем и авторитетом в своих областях: физиолог И. Р. Тарханов, историк-медиевист И. М. Рево. Во главе училища почти с самого начала оказался А. Я. Острогорский, редактор журнала «Образование», располагавшегося тут же, во флигеле, — страстный приверженец современных педагогических методов. Суть их, как считал Острогорский, в том, чтобы развивать индивидуальность воспитанников и, не захламляя головы заведомо ненужными знаниями, дать основательное представление о самых разнообразных науках, чтобы последующий выбор профессии не оказался случайным. В тенишевской программе были такие редкостные предметы, как, например, политэкономия, геология, космография, астрономия (оборудовали и небольшую обсерваторию — идущим по Моховой издалека бросался в глаза купол над крышей училища, привлекавшего внимание и своими окнами во всю стену).
Много было необычного в начинаниях Острогорского, которые князь поддержал, вложив свои средства и использовав связи (на открытие школы приезжал сам С. Ю. Витте, взявший училище под опеку возглавляемого им Министерства финансов). Были лаборатории, где ученики резали лягушек, и мастерские, где их обучали основам столярного дела (о «мучении лягушек», о стружках и опилках, среди которых, «отяжелев от уроков», задыхались его однокашники, и об уроках Тарханова, «восточного барина с ассирийской бородой», заставлявшего учеников слушать свое сердце через толстый жилет, вспоминает в автобиографическом «Шуме времени» Мандельштам). Не было отметок — ни за успеваемость, ни за поведение, а самым строгим наказанием считался запрет посещать училище несколько дней за какую-то провинность или настоятельный совет родителям перевести своего ребенка в другую школу. Этого по-настоящему страшились: тенишевцам уроки были не в тягость, а в радость.
Плату за обучение установили достаточно высокую, зато не допускалось абсолютно никаких сословных барьеров: сын неудачливого еврейского коммерсанта и внук царского министра как тенишевские ученики были во всем равноправны. Экзамены устраивались только по завершении всей программы той или другой дисциплины, как правило, в последние два года обучения. Тогда проставлялись и баллы. Пока не приходило время «экзаменационных испытаний», дело ограничивалось краткой беседой в конце каждой четверти: преподаватель сообщал, доволен ли он успехами ученика и чего от него ожидает в будущем. Два раза в год родителям посылали отзыв об ученике, давая краткую характеристику его сильных и слабых сторон. Что собой представляли эти «Общие замечания», может судить читатель «Защиты Лужина», где они воспроизведены с образцовой тщательностью.
Набоковых с их английскими пристрастиями училище могло привлечь еще и тем, что здесь очень заботились о гигиене и физическом развитии воспитанников. Врачебные обследования проводили регулярно и педантично. Прогулка посреди учебного дня была обязательной, невзирая на погоду. На заднем дворе устроили футбольную площадку. Для желающих ввели занятия фехтованием и боксом. Руководил ими признанный корифей этих искусств француз Лустало. Набоков его хорошо знал, он бывал у них в доме и обучал секретам своего ремесла Владимира Дмитриевича, когда тот готовился к поединку с Сувориным.
В «Других берегах» сказано, что в Тенишевском училище Набоков начал заниматься с третьего семестра, но документы показывают, что с первого: он был зачислен 7 января 1910 года. Вскоре, правда, его с братом отправили в Берлин к знаменитости-ортодонту, но какое-то время он учился и есть отзывы об успеваемости за осень/зиму того года. Из этих отзывов, кстати, явствует, что с первого же семестра он изучал немецкий язык, преподавание которого было прекращено с началом мировой войны. Стоит запомнить этот мелкий факт: впоследствии Набоков будет утверждать, что немецким не владеет совершенно (хоть и прожил в Берлине полтора десятка лет), но, похоже, тут просто мистификация.
Правда, отзывы педагогов показывают, что в немецком ученик Набоков не блещет — в отличие от французского, который знал и до училища. Он не слишком преуспел и в остальных дисциплинах, исключая рисование. С математикой дело одно время обстояло так неважно, что на Морской появился Л. В. Розенталь. Его воспоминания содержат намеченный пунктиром портрет Набокова в юности: «Восприимчив, начитан, наблюдателен, сообразителен. Как говорится — не без способностей. Но импульсивен, избалован, себялюбец. Аристократически-породисто долговяз, худущ. На мой взгляд — чрезмерно. Наружность запоминающаяся. Но без особой обаятельности. В бассейн с водой теперь уж не полезет».
Имеется в виду рассказ другого тенишевца о том, как Набоков на пари влез, не снимая костюмчика, в бассейн с растениями, украшавший школьную оранжерею. Из рассказа самого Набокова в «Других берегах» чувствуется, что училище он никогда не воспринимал как свой второй дом. Запомнились ему стычки, переходившие в кулачные бои, недоброжелательные шепотки по поводу дожидавшегося его автомобиля и шофера в ливрее (другие тенишевцы обходились демократичным трамваем), отвратительное скользкое мыло и мокрое полотенце в туалетной комнате. Из педагогов больше других запомнился Владимир Васильевич Гиппиус, преподаватель русской словесности, поставивший своему строптивому питомцу двойку за сочинение о Гоголе.
Вот как вспоминал этот эпизод будущий автор по-английски написанной книжки «Николай Гоголь» в берлинском докладе, подготовленном им, очевидно, к 75-летию со дня смерти русского классика, отмечавшемуся в феврале 1927-го. Гиппиус задал разбор «Мертвых душ», и «требовалось от нас, чтобы звучала в нас, так сказать, общественно-морально-бухгалтерская нотка. Бухгалтерия состояла в том, что гоголевская поэма делилась на удобнейшие рубрики: Плюшкин был скуп, Манилов — мечтателен, Собакевич — мешковат и т. д. Выходило в конце концов так, будто Гоголь был безжалостным обличителем скупости, мечтательности, мешковатости русских помещиков… Безвестный гений, изобретатель классных тем, иногда задавал нам еще глубокомысленный вопрос, что хотел показать автор, изображая, скажем, генерала Бетрищева, — и когда я ответил на это, что автор хотел нам показать малиновый халат генерала Бетрищева, то и получил двойку».
Говорится, что эту страницу своего школьного прошлого автор вспомнил «не без удовольствия». Бог весть, действительно ли это так и насколько точно она ему вспомнилась. Репутация В. В. Гиппиуса, последнего директора Тенишевского училища, перед тем как оно превратилось в обыкновенную трудовую школу номер такой-то (а сам он — в скромного сотрудника Наркомпроса), была заслуженно высокой. Конфликт с ним едва ли мог доставить удовольствие кому-то из тенишевцев, хотя был, конечно, неслучайным: Набокову уже тогда претил взгляд на литературу как на правдивую картину жизни, способ обличения пороков и т. п. Свой категорический отказ всерьез считаться с подобными представлениями о сущности искусства Набоков афористически выразил как раз в книге о Гоголе, написав почти через тридцать лет после той злополучной школьной работы: «Внешние впечатления не создают хороших писателей; хорошие писатели сами выдумывают их в молодости, а потом используют так, будто они и в самом деле существовали».
Сомнительно, впрочем, чтобы В. В. Гиппиус вправду требовал представить Гоголя безжалостным обличителем и придирался к описаниям Бетрищева, лишенным идеологической подкладки. С воззрениями, изложенными Набоковым в его очерке о Гоголе (между прочим, одна из лучших книг, посвященных Гоголю, принадлежит перу еще одного Гиппиуса, Василия), Владимир Васильевич, конечно, не согласился бы, так как глубоко впитал в себя представления о литературе как о чрезвычайно серьезном, ответственном занятии, имеющем целью объяснение жизни и совершенствование человека. Однако не следует думать о нем как о вульгаризаторе, начитавшемся Писарева и прочих шестидесятников, иной раз и впрямь готовых предпочесть Пушкину сапоги ввиду их очевидной практической нужности. Гиппиус мог возмущаться тем, что Набоков снобистски равнодушен к кружкам, где обсуждают радикальные идеи, мог, в дни февральских событий 1917-го, дать ему как тему сочинения параллели между этим переворотом и восстанием декабристов, а не найдя желаемых перекличек, гневно заявить: «Ты не тенишевец!» Но его никто не назовет утилитарно мыслящим общественником, который лишь из-за вечных российских вывертов оказался преподавателем литературы.
У Набокова написано, что это был «довольно необыкновенный рыжеволосый человек с острым плечом (тайный автор замечательных стихов)». Стихи, которые Набоков был готов поставить выше, чем поэтические опыты прославленной Зинаиды Гиппиус, его кузины, этому Гиппиусу приходилось печатать под псевдонимом, потому что таковы были правила, установленные для посвятивших себя педагогической деятельности (с Иннокентием Анненским и Федором Сологубом было в точности так же). Гиппиус подписывался то «Вл. Бестужев», то «Вл. Нелединский», беря имена из пушкинской эпохи, однако ориентировался скорее не на традиции, принадлежащие Золотому веку русской поэзии, а на установки, которые провозгласил Серебряный.
Самого себя он не без иронии называл «кающимся декадентом», быть может, и насаждая в училище дух «общественности» так настойчиво из-за того, что в юности, как все декаденты, был ему чужд и теперь ощущал некоторую вину.
У Мандельштама описаны происходившие в тенишевском зале вечера Литературного фонда с обязательными гражданскими выступлениями вслед чествованию поэтических страдальцев и плакальщиков от Некрасова до Надсона. Без участия Гиппиуса эти мероприятия вряд ли обходились — разумеется, если принять на веру портрет, нарисованный Набоковым.
Портрет, принадлежащий Мандельштаму, существенно иной. Гиппиус запомнился преподающим «вместо литературы гораздо более интересную науку — литературную злость». Казалось, во всем относящемся к литературе верх у него брало «злобное удивление», сохранившееся со времен раннего символизма, который бравировал и дерзил, наслаждаясь спровоцированным возмущением староверов. И он во времена Мандельштама — лет за восемь до появления в его классе Набокова — все по-прежнему топорщился, все жил «литературным протестом, как бы продолжением программы старых „Весов“ и „Скорпиона“».
Эта программа была Мандельштаму глубоко чужда (как позднее и Набокову, хотя первые его стихи перекликаются блоковскими, брюсовскими, бальмонтовскими отголосками). Тем не менее, заканчивая в 1925 году «Шум времени», Мандельштам пишет: «Власть оценок В. В. длится надо мной и посейчас. Большое, с ним совершенное путешествие по патриархату русской литературы… так и осталось единственным». Набоков предпринял еще одно — в Кембридже. Но, похоже, самые главные свои познания в этой области он тоже приобрел на занятиях Гиппиуса.
Была некая магия в этом человеке, который, пишет Мандельштам, «находился постоянно в состоянии воинственной и пламенной агонии». Шнурочек вместо галстука, некрахмальный воротничок, пропитанная «звериной жадностью… бешеной, но благородной завистью» речь о литературных именах и книгах, в которой предпочтение отдавалось «согласным звукам боли и нападения, обиды и самозащиты», — читая у Мандельштама эти несколько страниц о личности В. В. Гиппиуса, нельзя не подумать, как предусмотрительна судьба. Старших и младших она сводит так, что при всей их кажущейся друг с другом несовместимости намывается и воспроизводится неистончаемый культурный слой.
Набокову, не оценившему благих намерений, с которыми Гиппиус задумывал рефераты и кружки, учитель словесности казался чуть ли не изувером, особенно когда колол ему глаза общественной деятельностью Владимира Дмитриевича. Но стихи, которые писал этот «рыжебородый огненный господин в странно узком двубортном жилете под всегда расстегнутым пиджаком», он, по собственным словам, считал гениальными. Может быть, подразумевалась лучшая книга «Вл. Бестужева», вышедшая в 1912 году, «Возвращение». А может быть, вот эти строки, написанные как раз в ту пору, когда Гиппиус вел занятия в набоковском классе:
Печаль одиноких морей, я узнал тебя рано!
Как вольно и плавно я волны твои рассекал,
Как сладко и долго я ждал на заре золотого тумана,
Какой озаренной воды от бесчувственных скал я ни ждал!
Для шестнадцатилетнего школяра, тайком исписывающего тетрадку за тетрадкой рифмованными строфами, в которых то и дело выдают себя ученическая робость и выдуманные, литературные чувства, сам факт, что почти каждый день он видит перед собой настоящего поэта, был важнее и действовал эмоционально сильнее, чем все недовольство благородным гражданственным пафосом, который, он чувствовал, кипит в этом «большом хищнике», исполняющем должность директора самой прогрессивной российской школы. Пригодился и рано приобретенный, в молчаливой борьбе с директором, иммунитет против посягательств «общественности» на свершения музы. Отзываясь на одну статью, приуроченную к его 70-летию, Набоков поблагодарил автора, старавшегося загодя парировать упреки прогрессивно мыслящих читателей, которые в будущей книге мастера опять не обнаружат социальных коллизий и проблем. И добавил: беспокоиться не о чем — где им «тягаться с моим пламенным рыжеволосым учителем русской литературы».
Репетитору Розенталю показалось, что его ученик влюбчив. Репетитора удивило, что ученик, сам пишущий стихи, весьма поверхностно судит о Гумилеве, Ахматовой, даже о Блоке, хотя, конечно, со всеми ними неплохо знаком. Розенталь принес на Морскую только что вышедшую книгу Маяковского «Простое как мычание». Ученик «снобистски снисходительно одобрил» (факт любопытный, с учетом всего последующего), но, видимо, перелистал сборник невнимательно, наспех — мысли его были далеко.
Розенталь не ошибся: в ту зиму шестнадцатого года Набоков и правда думал не о поэзии. Он жил любовью. Лирическая одиннадцатая глава «Других берегов» называет имя — Тамара. В действительности героиню звали Валентина.
Валентина Шульгина. Набоков называл ее Люсей. В первом его романе она станет Машенькой.
Ее семья жила на даче в Рождествено, в деревне, и все началось с футбола: Вадиму, старшему ее брату, требовался голкипер в команду, которой предстояло играть с любителями из Сиверской. Голкиперу недавно исполнилось шестнадцать, девочке, которая разглядывала его, сидя на яблоне, было годом меньше. На фотографии, которая сделана как раз в тот год, она выглядит старше — полноватая, с чувственными губами и копной черных волос. Образ, созданный в автобиографии Набокова — особый разрез веселых, черных глаз, очаровательная шея, гибкий стан — и реальный прототип, кажется, не совпадают. Но так случается всегда.
Отец, управляющий имением в Полтавской губернии, жил далеко от семьи, мать не отличалась чрезмерной чопорностью и строгостью, а в то поэтичное лето дом Руки стоял пустой, заколоченный, и его терраса за образующими портик колоннами с задней стороны стала идеальным местом встреч, после того как в августе состоялся наконец первый разговор (а вскоре — и первое объяснение). В Петербурге все стало намного сложнее. Не могло быть и речи о свиданиях на Морской или у Шульгиных, под посторонним наблюдением (хватало того, что летом будущий комиссар Сахаров-Волгин шпионил за юной парой, выставив из кустов подзорную трубу, и его выследил рождественский управляющий Евсей). Меблированные комнаты и отдельные номера тоже исключались — не то воспитание. И вся зима прошла в синематографах на Невском — «Паризиане», «Пиккадилли» — да в укромных, никем не посещаемых музейных залах, где безумную неосторожность влюбленных прерывало шарканье очнувшегося от дремоты сторожа-инвалида.
Набоков серьезно думал о женитьбе сразу по окончании гимназии — жизнь без этой «мещаночки», как она себя иронично именовала, казалась невозможной, ее влажные веки, нос с горбинкой и дешевые сладкие духи сводили с ума. Однако все сошло на нет как-то само собой уже в следующую зиму, сделавшую всего лишь томительным и нежным воспоминанием недавние «встречи в лирических аллеях, в деревенской глуши, под шорох листьев и шуршанье дождя». Даже та первая, беспризорная зима казалась невозвратным раем во вторую, ставшую «изгнанием», первым серьезным опытом изгнания, которому отныне предстоит длиться и длиться. Последняя встреча была случайной, мимолетной: в пригородном поезде летом 17-го, — остались в памяти запах горящего торфа и дотлевающий закат. Было еще несколько писем от нее, адресованных на Морскую в Петербург из полтавского поместья, куда она уехала к отцу, и непостижимым образом полученных в Ялте, а также адресованных в Ялту, но уже не полученных.
Потом была «Машенька».
И почти через тридцать лет — «Другие берега».
Пытаясь объяснить самому себе, каким образом обмелела, иссякла казавшаяся вулканической страсть, Набоков в набросках к раннему варианту автобиографии вспоминает о муках ревности, причиняемых рассказами «Тамары», описывавшей любовные приключения своих подруг так, что поневоле зарождалось подозрение, не с нею ли самой все это было. (И в одном рассказе, навеянном воспоминаниями об этой любви, будет то же самое — про «ее лживость, самонадеянность, пустоту… злобное, тупое выражение ее глаз, смотревших на меня исподлобья, когда я в сотый раз допрашивал ее — с кем она провела вчерашний вечер».) Но Набоков тут же останавливается: «Я успокаивал себя тем, что других мальчиков у нее нет». И пишет — это осталось в русском тексте автобиографии — о правоте «Тамары», говорившей, «что наша любовь как-то не справилась с той трудной петербургской зимой и дала длинную тонкую трещину».
Однако трещина не помешала счастливому лету 16-го, начавшемуся с того, что Набоков преподнес Люсе тоненькую книжку своих стихов, в которой каждая строка была навеяна ею. И, перелистав сборничек, она заметила: сплошные разлуки, утраты — не предвестие ли развязки, уготованной их роману. В автобиографии говорится, что «мещаночка» в ту пору «на самом деле была и тоньше, и лучше, и умнее меня»: в каком-то отношении это, видимо, верно. По крайней мере, она ясно почувствовала литературность всего сюжета, который разыгрывался на аллеях в Рождествено и на морозных петербургских улицах, под «вертикально падающим крупным снегом».
«Другие берега» уточняют, что то был снег Мира искусства, изысканной художественной школы, к которой принадлежал и учивший Набокова рисованию Добужинский. Абзац о последней встрече в поезде у Сиверской заканчивается отсылкой к дневникам Блока, где, хотелось думать, упомянуты этот же дым, эти закатные краски. «Машенька», увековечившая чувство, испытанное школьником выпускного класса к барышне, еще до окончания гимназии отправленной служить в какую-то контору, густо пропитана литературными реминисценциями, в которых утопает живая история любви, а финал предопределен как раз неотвратимостью перехода от литературы к будничной прозе.
В книжке 1916 года (много лет, пока сохранялся категорический запрет на Набокова, она была единственной его книгой, которую усердный советский читатель мог откопать в каталогах крупных столичных библиотек) та же вязкая стилизованность, подражательность переживаний требует одного словесного клише за другим. И если верно, что подобным клише был подчинен сам описываемый этими стихотворениями роман, легко понять, отчего он оборвался так, на первый взгляд, нелогично, так необъяснимо. Каждый сюжет нуждается в завершении. Избранный жанр диктует свои правила и движению действия, и его завершению.
О своей давней книжке, которую он решительно запретил перепечатывать не то что целиком, но хотя бы выбранными местами (с чем, само собой, не посчитались в нынешний век отечественного набоковского бума), в интервью через полвека по ее появлении автор отозвался так: «С версификацией все в порядке, оригинальности никакой». Гиппиус устроил в классе сопровождаемый язвительными комментариями и почти всеобщим смехом разбор, камня на камне не оставив от свершений юного стихотворца. Окончательно добила Набокова история с неким журналистом, из чувства благодарности Владимиру Дмитриевичу решившим превознести до небес пробы пера, которыми занялся его сын. Отзыв был перехвачен до публикации, отправлен в корзину, и это происшествие навеки излечило начинающего автора «от всякого интереса к единовременной литературной славе».
Нельзя сказать, чтобы мэтр Набоков судил о своей единственной прижизненно изданной в России книге чересчур сурово. Она не дает поводов говорить о большом даровании. Состоит она в основном из альбомных стихов и стилизаций. Образцы, помимо тех, что к моменту выхода книги воспринимались как канон почитателями символизма, указаны самим Набоковым, когда о художественных вкусах «Тамары» сказано: она знала много стихов сентиментальной Юлии Жадовской, корифея романсовой лирики великого князя К. Р., меланхоличного Виктора Гофмана, претенциозного Мережковского с его непреодолимым привкусом банальности.
Понятно, отчего с неудовольствием вспоминал он о книжке, где поэтические пристрастия той, кому она посвящена, оставили такой четкий след. Впоследствии мэтр никогда не позволил бы себе написать «закат отдается реке» или «экстаз огненных ночей», как не позволил бы бесконечно рифмовать даль с печалью, ручки с тучками, вновь и кровь с любовью, а вежды с надеждами. И нескольких лет не прошло после сборника юношеской лирики, как канули в вечность эти задумчиво смеющиеся осенние лучи, и таинственно сверкающие темные очи, и дрожащие на устах лобзания, и прочее в том же роде.
Пятнадцатилетним новичком, пережидающим дождь в застекленной цветными ромбами беседке вырского парка, он писал лучше, естественнее, какие бы скептические оценки ни вызывал у Набокова сорок лет спустя его самый первый поэтический опыт. «Дождь пролетел…» — стихи, где, пусть не без усилия, распознается та точка времени, которую, как считал Набоков, обязан почувствовать и запечатлеть поэт: он и отличается от ученого тем, что соединяет в мгновении, словно бы выхваченном наудачу, множество событий с виду мелких, никак одно с другим не связанных, но для него выстраивающихся в единый, эмоционально заполненный, длящийся ряд. Тот, которого нет в книжке 1916 года, где едва ли не сплошь — напрокат взятые чувства и чужие слова.
Я знаю: пройден путь разлуки и ненастья,
И тонут небеса в сирени голубой,
И тонет день в лучах, и тонет сердце в счастье…
Я знаю, я влюблен и рад бродить с тобой.
Влюблен он был горячо, страстно, можно бы сказать — без памяти, если бы память об этой любви не оказалась долгой, не проступала с такой настойчивостью в том, что он писал. Безжизненные скорби и блаженства, перекочевавшие из чужих книг встречи «среди лиловой тени и холода осенних вечеров», — все отзовется, и уже без подделок, годы спустя, вплоть до посвященной «Тамаре» главы «Других берегов». Отзовется в «Адмиралтейской игле», рассказе 1933 года, написанном в форме послания литератора, искушенного в беллетристических уловках, коллеге Сергею Солнцеву, накатавшему роман с «историей моей первой любви», предметом которой как раз и была дама, укрывшаяся за мужским псевдонимом. Отзовется во фрагменте еще до «Машеньки» начатого романа «Счастье»: он как самостоятельный рассказ печатается под названием «Письмо в Россию». Посланное из Берлина с его черным салом смазанным асфальтом в лужах и проститутками на углу рядом с пансионом, где всегда есть свободная комната, письмо томит воспоминаниями о морозном петербургском утре, пыльных музейных залах, сторожах в лазоревых ливреях. О том, «как славно целовались мы за спиной воскового гренадера!»
Оторвавшись друг от друга, наблюдали затем на обледеневшей улице у Таврического сада, как по команде бросается со штыком наперевес солдат и как лезет солома из проткнутого живота чучела, установленного прямо на мостовой. Третий год шла война. Надвинулись страшные события. Розенталь свидетельствует, что его ученик «был в курсе всяких политических новостей. От него первого я узнал об убийстве Распутина», причем рассказ был очень подробный и совершенно достоверный. Сам Набоков пишет иначе: «Мы… были слишком поглощены друг другом, чтобы засматриваться на революцию». Это фраза из рассказа «Адмиралтейская игла», автобиографического, но все же рассказа. Хотя и автобиография (все три версии) настраивает думать, что выпускник-тенишевец вправду почти не обращал внимания на происходящее вокруг.
Да и другие относились к происходящему с легкомыслием, которое кажется неправдоподобным. Николай Набоков, двоюродный брат писателя, вспоминает в своей книге «Багаж», что, кроме пустых пятен на газетной полосе — статья вымарана цензурой, — «во всем остальном жизнь, казалось, шла как обычно, словно война была где-то в Африке, а не у ворот Риги, Киева, Минска». Лишь вместо увертюр в Мариинском театре теперь играли перед спектаклем гимны держав-союзников, включая бельгийский и сербский, а с 17-го года — и бравурную мелодию «Янки дудл». Это очень веселило публику.
Меж тем события впрямую касались всех и каждого, не исключая Набоковых.
Владимир Дмитриевич был призван как офицер ополчения в первые же дни мобилизации и, надев погоны прапорщика, оказался в Старой Руссе, потом в Выборге и, наконец, в местечке Айнажи под Ригой. В 1916-м его с делегацией русской прессы (куда входил и Корней Чуковский) послали к союзникам, он выпустил книжку очерков «Из воюющей Англии». Однако то был только эпизод, а в основном приходилось выполнять обязанности полкового адъютанта, наблюдая, что происходит в тылу и как — поначалу медленно, но неуклонно — страна скользит в пропасть.
Пока «при последних вспышках еще свободной, еще приемлемой России» развертывались заключительные эпизоды романтической истории сына, Владимир Дмитриевич, переведенный в Азиатскую часть Главного штаба, все больше и больше втягивался в события, принимавшие грозный оборот. По воскресеньям несколько давних товарищей по кадетской партии собирались на квартире И. В. Гессена обсудить положение, ставшее критическим после убийства Распутина, — оно произошло рядом с Морской, в доме Юсупова на Мойке. 26 февраля было воскресенье. Невский уже оцепили войска, курсировали тревожные слухи. Домой пришлось возвращаться в обход, через огромную пустынную Дворцовую площадь, по вымершему Адмиралтейскому проспекту. На следующий день к вечеру Невский запрудил взбудораженный народ, а по Морской стали носиться броневики и пробегали, постреливая, матросы. Пыль от штукатурки принимали за ответные выстрелы, огонь становился шквальным. Потом выяснилось, что от рикошетов погибло больше народа, чем от прямых попаданий.
Метались по городу облепленные солдатами грузовики под наспех сшитыми красными флагами. Офицеров не было видно. Палили на Мариинской площади и у Поцелуева моста, палили из здания Министерства земледелия, а может быть, и из «Астории», которую толпа взяла приступом, обратив в бегство постояльцев. Громом прозвучала весть об отречении императора, в нарушение юридических норм отрекшегося и за наследника. Образовалось Временное правительство. Год с небольшим спустя, вспоминая эти дни в свою крымскую — недолгую — одиссею, Владимир Дмитриевич признавался, что тогда «пережил не повторившийся больше подъем душевный. Мне казалось, что в самом деле произошло нечто великое и священное, что народ сбросил цепи, что рухнул деспотизм…».
В действительности произошел бунт, чреватый, как вскоре стало ясно, анархией и гибелью. Впереди были разочарования, ужасы, унижения, «позор этого кошмарного года революции», который увенчался большевистским переворотом и гражданской войной. Принявшись в Крыму, под ненадежной немецкой опекой за подведение первых итогов, Владимир Дмитриевич то и дело останавливал перо, спрашивая самого себя: а могло ли сложиться иначе? И — честность перевешивала все остальное — каждый раз отвечал: нет, не могло.
Мариинский дворец, где прежде помещались Государственный совет и Кабинет министров, теперь заполнили рабочие и солдатские депутаты, члены каких-то бесчисленных комитетов и контактных комиссий, старательно возводивших плотину из щепок, когда вплотную приблизился ураган. Толпились прибывшие с фронта, клянясь довести до победы битву за отечество, освободившееся от царского гнета. Выслушивали речи Керенского, день ото дня становившиеся все более истерическими, и отбывали на передовую с сознанием, что пора все это кончать — войну, безвластие, неопределенность. У величественных лакеев отобрали белые чулки, а вместо ливрей выдали серые тужурки, чтобы они не так разительно отличались от слонявшейся по коридорам толпы в косоворотках, гимнастерках и вытертых пиджаках. Заседания продолжались до самого дня, когда большевистский штаб, который расположился в хулиганским образом захваченном дворце Кшесинской, не вынес решение вывести своих вооруженных сторонников на улицы. И даже после того, как это произошло, после того, как начались первые аресты и население бросилось обзаводиться керосиновыми лампами, все-таки по-прежнему пел в Мариинке Шаляпин, а балетоманы партера все так же наслаждались бравурным па-де-де из «Конька-Горбунка» в декорациях Льва Бакста, художника из «Мира искусства», особенно ценимого и любимого Владимиром Дмитриевичем: сделанный им портрет Елены Ивановны украшал его кабинет.
До Мариинского дворца, куда Владимиру Дмитриевичу нужно было являться на службу, от Морской пять минут ходу (автомобилями почти не пользовались из-за сложностей с бензином; один из них после октябрьского переворота попросил Керенский, который думал о том, как бы скрыться, и незаметно). Работа отнимала время, но никакого удовлетворения не приносила: Владимир Дмитриевич продолжал добросовестно исполнять свои обязанности, считая справедливым пушкинское утверждение, что «правительство есть единственный европейский элемент России», но большой веры в то, что этот элемент окажет свое решающее воздействие, у него не было. «Припоминается основное настроение, — писал год спустя в Крыму управляющий делами кабинета, уже бывший, — все переживаемое представлялось нереальным. Не верилось, чтобы нам удалось выполнить две основные задачи: продолжение войны и благополучное доведение страны до Учредительного Собрания…»
Выборы, первые настоящие выборы за всю историю России, были назначены на середину ноября, и, вопреки всему, состоялись, однако большевики опередили события. Подготовке положения о выборах В. Д. Набоков посвятил себя безраздельно, зная, что с этим надо торопиться, — хотя бы для того, чтобы не предоставить большевикам повода для их (как выяснилось — имевших сугубо тактическое значение и вполне циничных) нападок на Временное правительство, будто бы противящееся демократическому решению вопроса о власти в стране после того, как пала монархия. Летом возникла перспектива назначения послом в Англию, где после смерти графа А. X. Бенкендорфа обязанности посланника выполнял брат Владимира Дмитриевича Константин. Однако назначение не состоялось: скорее всего из-за того, что нельзя было покидать Петроград в момент, когда решаются судьбы России.
Переворот, «самый темный, идиотический и грязный, какой только будет в истории» (запись в дневнике Зинаиды Гиппиус, в Синей тетради, от 24 октября/ 7 ноября 1917 года), разумеется, не мог оказаться для Владимира Дмитриевича неожиданностью. И для легкомысленно настроенного старшего сына, видимо, он не был неожиданным, а что он собой знаменует, знали оба — есть стихи под заглавием «Революция», вписанные восемнадцатилетним автором в «Чукоккалу», когда составитель этого прославленного альбома был в гостях у Набоковых летом, самое позднее — осенью 1917 года:
Я слово длинное с нерусским окончаньем
нашел нечаянно в рассказе для детей,
и отвернулся я со странным содроганьем.
В том слове был извив неведомых страстей:
рычанье, вопли, свист, нелепые виденья,
стеклянные глаза убитых лошадей…
Записки, которые Владимир Дмитриевич подготовил в Крыму, заканчиваются размышлением о причинах катастрофы, постигшей Временное правительство: оно «не чувствовало реальной силы». Насколько не чувствовало — ясно по свидетельствам очевидцев, не расположенных ни к правительству, ни к большевикам. Наблюдательная, злая Гиппиус записывает в день переворота, что никакой власти нет, а есть «тягучая, преступная болтовня» с резолюциями, которые, всем известно, никто и не подумает выполнять. А пятью днями раньше в ее дневнике сказано: «Главное впечатление — точно располагаются на кипящем вулкане строить дачу. Дым глаза ест, земля трясется, камни вверх летят, гул — а они меряют вышину окон, да сколько бы ступенек хорошо на крыльце сделать».
Все последующее достаточно известно: есть рассекреченные — по прошествии семидесяти лет — документы, есть воспоминания и очерки тех, кто пережил в Петрограде кошмарные годы между переворотом и первыми предвестиями передышки, наступившей вслед за «военным коммунизмом». Есть, например, книжка Александра Амфитеатрова, поборника «суровой спокойной правды», писателя с именем, побывавшего и в царской ссылке, и, после 1905 года, в эмиграции, которая продолжалась долгих одиннадцать лет (с его сыном-литератором Владимиром Амфитеатровым-Кадашевым юный поэт В. Набоков-Сирин познакомится в Берлине, где оба входили в недолго просуществовавший кружок с пышным названием «Братство Круглого Стола»).
Книжка называется «Горестные заметы», она вышла в 1922 году в Берлине, куда автор добрался, годом ранее совершив побег из «вымирающего Петрограда». Так названа первая часть его очерков, которые представляют собой хронику повседневности четырех послеоктябрьских лет. За это время Амфитеатров прошел через два ареста, запрет на публичные выступления, обыски, слежку, так что ему слишком известны «общий ужас, общее безобразие нашей невозможной жизни: все это позорное мелочное рабство закабаленных масс». Известно ему и другое — население северной столицы за эти годы сократилось до семисот тысяч человек (а было — два с половиной миллиона). Что касается благоустройства, комиссаров заботило лишь строительство крематория — нужда заставила. Тиф, дизентерия, холера; голод, «рабское низведение потребностей к нулю, принижающее примирение с вынужденным свинством (физическим и моральным, свинством тела и свинством духа)», да плюс ко всему ведающий распределением карточек чиновник-шпион в каждом доме — вот чем оказалась коммуна. Она заставила Амфитеатрова, в прошлом народника по взглядам и чуть ли не социалиста, твердо заявить: «Самая пакостная свобода лучше коммунистического рабства… Лучше в каком угодно „здесь“, лишь бы не „там“».
Владимир Дмитриевич, у которого относительно большевиков не было никаких иллюзий (в отличие от других членов Временного правительства, не сразу разобравшихся, что за пассажиры прибыли в Петроград, проехав Германию в запломбированном вагоне), тем не менее считал, что он не вправе бежать, все бросив. Учредительное собрание необходимо было избрать во что бы то ни стало, сам он был кандидатом на кресло в будущем российском парламенте. И хотя победившая новая власть первым делом принялась вытаптывать взлелеянные им ростки русской демократии, он решил остаться. Но семью отправил на относительно спокойный юг. Они уехали с Николаевского вокзала 2 (15) ноября.
Тенишевцу пришлось сдать последние экзамены в ускоренном темпе. Ехали, побросав все, только запрятали кое-какие материнские драгоценности в коробки с тальком. После Москвы в поезд набились дезертиры, и лишь актерские дарования брата Сергея, который изобразил тифозного, помогли мальчикам Набоковым отстоять свое купе. Легко представить, что читалось в глазах обовшивевших солдат, когда они видели прогуливающегося вдоль спального вагона юнца в белых гетрах и котелке, со старинной тростью в руках. На какой-то станции трость выпала из рук и скатилась под колеса: владелец хладнокровно пропустил состав, подобрал свое сокровище и был втащен мозолистой рукой на последнюю вагонную площадку. Это приключение, описанное в «Других берегах», случилось неподалеку от хутора, куда — Набоков об этом, понятно, не знал — перебралась из столицы его Люся. Впрочем, «пыл молодого самолюбия», которое потребовало, невзирая на риск, до конца доиграть роль денди, едва ли в тех обстоятельствах был бы вознагражден воссоединением с возлюбленной после испытаний и разлук — как в мелодрамах, еще недавно ими виденных, когда, поблуждав по промерзшему городу, они отогревались в синематографах на Невском.
До Крыма добрались благополучно, осев в Гаспре, где было имение графини Паниной со знаменитой террасой, на которой запечатлен Чехов, приехавший навестить болеющего Толстого. Отчим хозяйки — сама она, принадлежавшая к самым деятельным кадетам, находилась в столице, — И. И. Петрункевич, единомышленник и друг Владимира Дмитриевича, был счастлив предоставить кров его семье. В Ялте жила с детьми бывшая жена Дмитрия Набокова, старшего брата Владимира Дмитриевича, Лидия, она же Луиза, урожденная Фальц-Фейн.
Это была очень известная фамилия. Фридрих, старший брат Луизы, страстный натуралист, создал в своем имении Аскания-Нова необыкновенный зоопарк, заселив херсонские степи зебрами, пони, зубрами, джейранами и прочими экзотическими животными. Его усилиями был создан естественный питомник редких и вымирающих видов. Зоологи всего мира тянулись туда, как в Мекку, а среди гостей значатся прославленные имена, от императора до Достоевских и Набоковых, с которыми Фальц-Фейны были в родстве. Волна насилий захлестнула и этот уголок. Вот как описывает его участь Куприн: «Все милое зверье было перебито красою и гордостью революции красными матросами. „Товарищи! — говорил матрос. — Видите этого, пегого, долгошеего? Так я вам объясняю, что это жирафа. У писателя Жуля Верного я читал, что путешественники по пампасам приготовляют из него очень вкусные котлеты. А ну-ка, товарищ, тебе с руки, стрельни ему под левую лопатку“… Это делали остолопы, мгновенно переведенные из инертной неподвижности рабства в действенную инерцию безбрежной власти».
Так звучала «музыка революции», закружившая голову Блоку. Поэма «Двенадцать» скоро была получена в Ялте и вызвала такую же бурю, как в Петрограде, где Гиппиус, встретив Блока в трамвае, сказала ему: «Вы знаете, что мосты между нами взорваны». Через год по выходе блоковской поэмы в альбоме Набокова появляются «Двое» — большое, в четыреста с лишним строк произведение с эпиграфом из «Двенадцати», однако нескрываемо полемичное по отношению к Блоку. Там, в этой «современной поэме», как определил жанр ее автор, зоолог Андрей Карсавин и его юная жена Ирина у себя в поместье вкушают безоблачное счастье, но вдруг все кончено: врываются двенадцать вооруженных мужиков, Ирина в опасности и надо бежать под хлопки выстрелов в зимнюю вьюжную ночь, где к умирающим героям, уж конечно, не явится Спаситель «в белом венчике из роз».
Этот венчик и на старости лет казался Набокову невыносимой пошлостью. Есть важное интервью, которое в 1967 году он дал своему бывшему ученику А. Аппелю: о «Двенадцати» там говорится, что «простонародная», частушечная интонация, которая преобладает в поэме, буквально режет слух. А Христос в ней — «картонный, раскрашенный розовым Христос», которого автор неумело приклеил в самом конце.
Суждение прямолинейное и такое же бездоказательное, как попытки казенных биографов Блока убедить в том, что «Двенадцать» — сплошной восторг перед революцией, и сделать вид, будто не было драмы, разыгравшейся в последние три года жизни поэта, когда он погибал из-за «отсутствия воздуха». К старости Набоков вообще стал в своих отзывах сверх всякой меры нетерпим и категоричен. Юношей он, разумеется, никогда бы не позволил себе резкостей по отношению к Блоку, кумиру его поколения. На смерть Блока в августе 1921 года он отозвался двучастным стихотворением, почти целиком состоящим из отголосков блоковской поэзии от «Стихов о Прекрасной Даме» до «Розы и Креста», — с первых строк ясно, как бесконечно много эта поэзия значила для Набокова в его ранние годы:
За туманами плыли туманы,
За луной расцветала луна…
Воспевал он лазурные страны,
Где поет неземная весна.
В юности он вообще не научился еще (может быть, и к счастью) так отчетливо формулировать свои литературные мнения. Поэму «Двое», чувствуя ее наивность, он оставил в альбоме, имевшем заглавие «Цветные камушки». Интересна она тем, что доказывает еще раз: по существу его отношение к перевороту определилось сразу. Возможно, помогли этому какие-то рассказы Владимира Дмитриевича, воссоединившегося с семьей через месяц после ее отъезда. Для него это был бурный и страшный месяц. Он пытался противодействовать день ото дня наглеющим большевикам: являясь председателем Всероссийской комиссии по выборам, написал прокламацию с призывом, давая отпор демагогам, обязательно проголосовать за Учредительное собрание; три четверти проголосовало против коммунистов. Главный пассажир запломбированного вагона, выйдя из себя, подписал ордер на арест всей комиссии, которая прямо с заседания переместилась в узкую камеру в Смольном. Через пять дней комиссию выпустили, зато арестовали видных кадетов — графиню Панину, А. И. Шингарева, Ф. Ф. Кокошкина. Двух последних пьяные от крови «братишки» полтора месяца спустя убили, ворвавшись в тюремный лазарет.
По городу расклеивали декрет с изобличением «Партии врагов народа», как на большевистском жаргоне именовались кадеты, Партия народной свободы. Арест становился неминуемым. Сдавшись на уговоры друзей, Владимир Дмитриевич решил уехать. Домой он не зашел — лакей принес ему чемодан в условленное место.
До Крыма он добрался благополучно, но и здесь спокойствия, стабильности не было. Пока Мариинскому дворцу было не до окраин, татары, воспользовавшись смутой, образовали что-то вроде собственной ассамблеи и правительства. В Севастополе флот все больше поддавался большевистской агитации: с Балтики специально прислали умелых крикунов, и вскоре миноносец под красным флагом появился на рейде Ялты, принявшись для устрашения обстреливать город. Потом высадился десант, начались мародерство и казни. Офицеров, привязав к ногам что-нибудь тяжелое, расстреливали на пирсе и затем сталкивали в воду, где тела — это обнаружили через два-три месяца водолазы — стояли навытяжку (в местной кадетской газете Набоков напечатал навеянные этими картинами стихи «Ялтинский мол»), Владимиру Дмитриевичу пришлось скрыться, выдав себя за доктора. Вместе с сыновьями он дежурил в саду, предотвращая грабежи.
Пробравшийся в Крым из Петрограда набоковский шофер привез среди остального письмо от Люси-«Тамары», и потом целое лето шла переписка, в которой, перекрывая другие ноты, щемяще звучало: «Боже, где оно — все это далекое, светлое, милое!» Эта фраза из одного ее письма запомнилась Набокову дословно. «И никогда впоследствии не удалось мне лучше нее выразить тоску по прошлому».
Тоска по родине окрасилась воспоминаниями и мечтами о Люсе. Тоска становилась все более острой, неутолимой, пусть Набокову в то его единственное крымское лето еще не дано было знать, что оно для него будет последним в России. Ситуация как будто стала выправляться с появлением немцев, занявших полуостров к весне 1918 года. В Крыму тогда очутилось множество петербуржцев, вдруг закипела артистическая жизнь. Тихая Ялта с чеховским домиком на горе и набережной, по которой лет за двадцать до того гуляла молодая дама с белым шпицем, обратившая на себя внимание банковского служащего Гурова, переживала лихорадочный недолгий расцвет, обратившись едва ли не в российскую столицу. И только море шумело так же равнодушно и глухо, как при Чехове, при бедной Анне Сергеевне фон Дидериц, а потом при крымском правительстве во главе с кадетом Максимом Винавером (Владимир Дмитриевич был в нем министром юстиции — минимальной юстиции, с горькой иронией уточнял впоследствии его сын), и при большевиках, в апреле 1919-го оккупировавших полуостров, и при Врангеле, который их выгнал в донецкие степи, и снова при большевиках, вернувшихся поздней осенью 20-го — теперь надолго.
Обязанности министра заставляли Владимира Дмитриевича жить в Симферополе, а как-то раз он предпринял рискованную поездку в Киев, где его едва не арестовала Чека. С красными правительство Крыма старалось избегать каких бы то ни было контактов, но и его отношения с белыми, с Деникиным, чья штаб-квартира находилась в Екатеринодаре, были напряженными. Деникин этому правительству не доверял: во-первых, кадеты, то есть розовые, во-вторых, евреи и караимы, да еще заигрывают с татарами, которым вовсе не нужна единая, неделимая Россия. Без деникинских сабель продержаться, однако, не было возможности, приходилось лавировать. Ничем путным это кончиться не могло. Население, поначалу в массе своей далекое от большевиков, даже приветствовало приход немцев, потому что с ними появлялся хоть какой-то порядок. Но из-за погромов и угроз установить военную диктатуру, на которые не скупились сменившие немцев деникинские офицеры, оно качнулось влево. Разбив под Перекопом части Добровольческой армии, большевики не встретили сопротивления, когда двигались к Севастополю.
Однако около года Крым был островком свободной России, насколько свобода была возможна во времена бушующей усобицы. К осени 1918-го ялтинский бум достиг своего апогея: нарядная толпа у моря и на аллеях парка, у павильона (в нем когда-то играл перед автором Художественный театр, приехавший показать Чехову его «Дядю Ваню»), переполненные кафе, политические дебаты, приемы, литературные вечера. В Петрограде отпечатана крохотная поэтическая книжка двух тенишевцев, Набокова и Андрея Балашова, «Два пути» (Набоков, скорее всего, ее не увидел). Балашов где-то в армии, Добровольческой. Набоков тоже собирается в нее вступить — как только закончится сезон охоты на бабочек. На склонах Ай-Петри попадаются очень любопытные экземпляры.
Из «Двух путей» впоследствии перепечатывалось только одно стихотворение, то, что, видимо, было самым первым из им написанных, — «Дождь пролетел…». Другие, вероятно, и впрямь сохранили ценность только как свидетельство тогдашних настроений Набокова и его поэтических вкусов. Настроения, вопреки национальному бедствию (и даже наперекор разлуке с «Тамарой»), оставались по-юношески праздничными, ликующими:
В душе поет восторг безбрежной воли…
Весь мир в лучах! Вся жизнь передо мной!
А вкусы были в общем консервативными: похоже, русская поэтическая традиция заканчивалась для Набокова на молодом Блоке. Сообщение Розенталя, что он давал читать своему ученику «Простое как мычание», представляет интерес тем, что решительно никаких отзвуков ни футуризма, ни других новейших течений в поэзии раннего Набокова не обнаруживается. В его стихах памяти Блока описано, как Пушкин, Лермонтов, Тютчев и Фет «возликуют, брата принимая». Строки самого Набокова выдают «отзвук тайный их напева», именно их пятерых, ничей больше.
Может быть, и об архаичности его поэтического языка шел у них разговор с Максимилианом Волошиным в ялтинскую встречу, устроенную Владимиром Дмитриевичем. Волошин переживал свой звездный час: зимой 1917/18 года написаны многие стихотворения, вошедшие в одну из его лучших книг «Демоны глухонемые», — она была издана год спустя в Харькове, изъята при советской власти и остается захватывающим, пронзительным литературным документом, который доносит ужас гражданской войны. Отдельные стихи из нее печатал листовками крымский Осваг — отдел агитации деникинского штаба. В «Ялтинском голосе», где кое-что помешал и Набоков, появилась, с эпиграфом из пророка Исайи, ставшая знаменитой волошинская «Родина»:
И каждый прочь побрел, вздыхая,
К твоим призывам глух и нем,
И ты лежишь в крови, нагая,
Изранена, изнемогая,
И не защищена никем.
Сложно сказать, коснулся или не коснулся Волошин, которому перевалило за сорок, этих тем, беседуя с девятнадцатилетним поэтом. Но о поэзии, о поэтических формах и ритмах они говорили вне всякого сомнения — отголоски этого разговора слышны у Набокова сорок лет спустя, в размышлениях о просодии, которыми прослоены его комментарии к «Евгению Онегину» (там есть и специальная глава о стихе). И, видимо, Волошин первым указал Набокову на книгу Андрея Белого «Символизм», где были главы «Опыт характеристики русского 4-стопного ямба» и «Сравнительная морфология ритма русских лириков» (в 1929 году, в книге «Ритм как диалектика», написанной на материале «Медного всадника», Белый в пух и прах раскритиковал собственные идеи, изложенные девятнадцатью годами ранее в «Символизме», однако нет свидетельств, что Набоков эту вторую книгу знал).
После встречи с Волошиным появляется тетрадь, на обложке которой выведено «Стихи и схемы» (свой американский сборник 1971 года Набоков озаглавит «Poems and Problems»; под «problems» подразумеваются шахматные задачи, которые он считал сродни поэтическому творчеству, но кажется несомненным, что это тоже в своем роде «стихи и схемы»). Тетрадь отправится с ним в эмиграцию и доберется в его багаже до Америки. Сестре он в 1950-м пишет, что диаграммы, перерисованные из труда Андрея Белого, пригодились, когда надо было объяснять американским студентам особенности русского стихосложения.
Что до стихов, их в этой и других, не уцелевших тетрадях много. Даже после отбора и отсева осталось больше двухсот, которые Набоков намеревался напечатать книжкой, придумав и заглавие: «Открытые окна». Что-то из написанного в Крыму потом вошло в изданные им уже за границей поэтические книги: цикл «Ангелы», девять тематически взаимосвязанных стихотворений, занимает видное место в сборнике «Горний путь». Там же, в этой книге 1923 года, было стихотворение «Крым» (из всего написанного Набоковым оно первым обратило на себя внимание критики); в нем стилизованные «тиховейные долины», «чертог увядший», «ключ печали» и еще многое в той же интонации Жуковского, которого Набоков тогда тщательно изучал, вычерчивая метрический рисунок, но — впервые с такой откровенностью — также и Пушкин, впрямую или имплицитно:
Любил я странствовать по Крыму…
Бахчисарая тополя
Встают навстречу пилигриму,
Слегка верхами шевеля.
До Бахчисарая и Чуфут-Кале он, преследуя бабочек, на самом деле добрался, взглянул на ржавую трубу, из которой капала на пожелтевший мрамор вода невыразительного фонтана. И ощутил себя в присутствии Пушкина — чувство, которое будет ослабевать или обостряться, но не пропадет никогда.
Таврида, с которой начиналось — и так романтически начиналось — для Пушкина изгнание из Петербурга, Крым лета и осени 1918 года, когда вкус изгнания из единственной в мире столицы впервые узнал другой, совсем еще юный поэт, — как тут было удержаться от искуса уподоблений? Пусть дикий, экзотичный Юрзуф на полуденном берегу, в «стороне важной и запущенной», вовсе не был схож с застроенным аляповатыми дачами Гурзуфом начала XX века. А жившие на одной из этих нелепых вилл в Олеизе барышни Токмаковы, за которыми пробовали волочиться Владимир и Сергей Набоковы, совершенно не походили на сестер Раевских, которые, писал Пушкин брату, «все… прелесть, старшая — женщина необыкновенная».
В Лидочке Токмаковой ничего необыкновенного не было, и флирт с нею нисколько не мешал томиться и вздыхать о Люсе. От Люси приходили, и посылались ей в ответ, прочувствованные письма (те, что писала она, адресат сохранил и — неизбежный цинизм сочинительства — потом использовал в «Машеньке», своей первой большой книге).
Тем не менее под крымскими небесами завязалось что-то наподобие дачного романа, превесело протекавшего на фоне слегка декадентских артистических затей, неуклюжих имитаций пушкинского таврического сюжета («свободная, беспечная жизнь в кругу милого семейства») и нескончаемых пикников с участием офицеров Белой армии, для которых — для многих, включая Юрика Рауша фон Траубенберга, — это было последнее лето. Юрик, двоюродный брат Набокова и незаменимый товарищ его детских игр, когда, следуя примеру героев обожаемого обоими Майн Рида, они устраивали дуэли на духовых ружьях или у лесопилки переправлялись через реку, прыгая по скользким бревнам, с детства коллекционировал оловянных солдатиков и знал все про мундиры: кавалергарды, кирасиры, гусары, казаки… преображенцы, семеновцы, гренадеры…
Его отец был поручиком лейб-гвардии Конного полка, и военная карьера для мальчика всегда мыслилась как единственно достойная. Родители Юрика разошлись, но в планах относительно их сына Георгия это ничего не переменило — только армия. Отец его стал генерал-лейтенантом, мать вторым браком была за героем Цусимы, адмиралом Коломейцевым, а у самого этого набоковского кузена с детских лет выявилась страсть ко всякому оружию. Пальба из женского, отделанного перламутром пистолета по коробке из-под ботинок в дальней аллее вырского парка осталась для него лучшим воспоминанием ранней поры.
Героем Юрика был князь Андрей из «Войны и мира», тот князь Андрей, что грезит о своем Тулоне и всегда готов встретить смерть на поле чести. К началу Первой мировой он еще не достиг семнадцати, однако в начале гражданской уже был кавалерийским офицером, хотя, как полагает Набоков, до своего последнего дня «не успел выйти из воинственно-романтической майнридовской грезы». Последний его день был осенен героикой беспримесной и яркой, как бы ни судили о том, что она напрасна. Опередив свой отряд, он в одиночку поскакал на пулеметное гнездо красных и был расстрелян в упор — «весь перед черепа был сдвинут назад силой пяти пуль, убивших его наповал». Это случилось в конце февраля 1919-го. Юрику недавно исполнился двадцать один год.
Хоронили его в Ялте, кузен Владимир нес гроб. Месяцем раньше он написал стихи, посвященные Ю. Р.:
Как ты, — я с отроческих дней
Влюблен в веселую опасность…
Друг милый, родственную ясность
Я узнаю в душе твоей.
Но как-то так вышло, что его намерение по окончании сезона бабочек присоединиться к Добровольческой армии не осуществилось. Майнридовская греза о том, как деникинским кавалеристом он прогарцует по деревенской улице к домику освобожденной им «Тамары», осталась только грезой. Опять то же, что и с замыслом под чужим именем пробраться в большевистскую Россию, взглянуть еще хотя бы раз на свою Ингрию, — «слишком долго, слишком праздно, слишком расточительно я об этом мечтал».
Но в третьей, окончательной версии автобиографии Юрик, тот, кто подростком уже стрелял из настоящего, хотя женского, револьвера, а в пятнадцать лет стал в Варшаве любовником замужней дамы, назван воплощением чувства чести, достигающего, без сомнения, абсолютной степени, так что ему, этому чувству, подчинены все без исключения поступки. А вынашиваемая в мечтах идея путешествия с подложным паспортом будет осуществлена не Набоковым, но его героем по имени Мартын Эдельвейс — в романе, который насыщен автобиографическими подробностями в почти беспрецедентной степени. Сравниться с ним в этом отношении может лишь роман о молодом поэте, которого выверты и кошмары российской истории забросили в эмиграцию, в Берлин, разбудив ностальгию эмоционально почти непереносимую, но поразительно обостряющую творческий импульс, — роман о Федоре Годунове-Чердынцеве. Этот роман носит заглавие «Дар», роман о Мартыне Эдельвейсе — «Подвиг». Два эти понятия — поэтический дар и подвиг как действие, по меркам здравомыслия нелепое, однако необходимое в силу личностного императива, — соединятся в сознании Набокова надолго, если не навсегда. Это будет не самый гармоничный союз. Даже внутренне конфликтный — но прочный.
Вскоре после гибели Юрика началось наступление красных. Деникинские части бросили фронт, через Керчь переправляясь на Кубань. Крымское правительство было смещено, предстояла спешная эвакуация. В Севастополе на Графской пристани тысячи людей, еще недавно кутивших в ялтинских ресторанах и строивших планы скорого возвращения в столицы, с тревогой всматривались в стоящие на рейде французские военные и греческие торговые корабли; места на них брались с боем. Как министру Владимиру Дмитриевичу с семьей были предоставлены номера в отеле и каюты на шедшем в Стамбул «Трапезунде», однако французы задержали судно на выходе из бухты, требуя передать им правительственные деньги. В итоге выбираться пришлось на «Надежде», грязноватом пароходике, возившем сушеные фрукты. «Надежда» шла в Пирей.
Был вечер 2 апреля по русскому календарю, 15-го по западному. С высот над Севастополем гремели залпы большевистских батарей, в самом городе трещали винтовки, и пули летали над бухтой, пока «Надежда», покряхтывая, выбиралась в открытое море. Последним звуком России стал беспорядочный лай пулеметов. У себя в каюте Владимир Дмитриевич играл с сыном в шахматы. Покерная фишка заменяла недостающую ладью.
…и в дальних городах мы, странники, учились отчизну чистую любить и понимать.
Герой «Подвига» Мартын Эдельвейс, отплыв из Севастополя под косым дождем весной 19-го года на канадском грузовом пароходе, где матросы пьют, а капитан, наводя порядок, пускает в ход кулаки, добирается до Афин, и там, в фалерской гостинице, в прескверном номере, который приходится делить с мрачным и нечистоплотным мужем поэтессы-декадентки, начинает осознавать, что прежняя жизнь кончилась: теперь будут скитания, неуют и продавленная кушетка, куда сосед свалил свои галстуки и рубашки. Маршрут Набоковых был примерно тот же самый; декаденток, правда, не встретилось. «Надежда», не причаливая в Стамбуле, переполненном беженцами, доставила их в Пирей и, простояв два дня в карантине, высадила на берег. В тот день Владимиру Набокову исполнилось двадцать лет.
Несколько недель прожили в замызганном отеле, где Владимир Дмитриевич объяснялся с прислугой, припоминая гимназические уроки древнегреческого. Потом были Марсель и мимолетный Париж. Пока ждали поезда в Гавр, Елена Ивановна попросила сына пойти к ювелиру с каким-то ее кольцом: драгоценности в коробках с тальком были всем их достоянием. Ювелиру показался подозрительным явно изголодавшийся юнец, и была вызвана полиция. Инцидент не без труда удалось замять.
Целью Набоковых была Англия. Сюда уже добрались некоторые крупные деятели формировавшейся русской эмиграции. «Котоусый» Милюков начинал в Лондоне по-английски издавать журнал «Новая Россия». Комитет освобождения России настойчиво агитировал за немедленную интервенцию. Обязанности русского поверенного в делах выполнял Константин Дмитриевич Набоков, который помог семье брата подыскать дом в Южном Кенсингтоне, в прекрасном районе, неподалеку от Музея естественной истории. Позднее, как многие русские со средствами, обосновались в Челси, на Элм Парк Гарденс, 6.
Владимира и Сергея надо было устраивать в университеты, девочек и младшего брата Кирилла (впоследствии поэта, неплохо начинавшего, но не раскрывшегося) — в школу. Материнские брильянты пока что оставляли возможность жить сравнительно безбедно (делавшиеся ему предложения заблаговременно перевести солидную сумму в швейцарский банк Владимир Дмитриевич отверг — непатриотично, когда идет война). Кроме того, эмигрантские организации в уважение заслуг отца готовы были платить братьям Набоковым небольшую стипендию. Высокая репутация Тенишевского училища освобождала от вступительных экзаменов.
Отправились советоваться к Глебу Струве в Оксфорд. Братья знали его еще по Петербургу, с Владимиром они были одногодки и сохраняли дружеские отношения всю жизнь: Глеб Струве одним из первых по-настоящему оценил набоковский талант и как критик, пользовавшийся влиянием, кое в чем ему помог. Расположившись на лужайке оксфордского пансиона, обсуждали достоинства различных колледжей. В конце концов было решено, что Сергей пойдет в Оксфорд на кафедру французской литературы (окончит он в итоге все же Кембридж, в Берлине станет переводчиком и как «британский агент» с началом войны будет отправлен в лагерь, где и погибнет). Владимира, учитывая его страсть к бабочкам, решено было послать в Кембридж, в Тринити-колледж, где было сильное отделение зоологии.
Потом, в Америке, Набоков начинал работать как энтомолог и считал эту дисциплину своей специальностью, однако на самом деле программу профессионального образования по избранной кафедре он не завершил. Программа предусматривала лабораторные занятия, надо было, помимо прочего, резать живую рыбу, и этого Набоков не выдержал, хотя годы спустя не упускал случая поиздеваться над чистыми гуманитариями с их чрезмерной чувствительностью (его, кажется, не обидело бы сравнение с чеховским зоологом фон Кореном из «Дуэли»: «Гуманитарные науки… тогда только будут удовлетворять человеческую мысль, когда в движении своем они встретятся с точными науками и пойдут с ними рядом. Встретятся ли они под микроскопом, или в монологах нового Гамлета, или в новой религии, я не знаю, но думаю, что земля покроется ледяной коркой раньше, чем это случится»). Однако в Кембридже все-таки были выбраны именно гуманитарные науки: курс, который с третьего семестра стал основным для Набокова, носил название «Современные и средневековые языки» — с упором на русский и французский.
Верней, на литературу, поскольку изучать эти языки ему не требовалось. Занятия энтомологией продолжались, просто теперь больше времени надо было уделять словесности. Английская система образования позволяет подобные комбинации.
В Кембридже Набоков проучился три года. Требования были жесткие, зато распорядок более чем либеральный: сам студент решал, посещать ему или пропускать лекции, менял курсы, самостоятельно готовился к экзаменам, которые сдавались долго, в несколько этапов. Чрезмерно старательных тут не любили, но угроза подвергнуться остракизму из-за неподобающего усердия перед ним не возникла: с чуть наигранным молодечеством Набоков писал, что за все свои кембриджские годы так и не выяснил, где расположена главная университетская библиотека.
Отчитываться надлежало только перед тьютором, как назывался приставленный к каждому студенту опекун, решавший все: от выбора специализации до бытовых проблем. Тьютор Набокова определил, что лучше всего поместить его вместе с другим русским эмигрантом в спартанском пансионе на Тринити-лейн, где мещанские подушки на пылью пропахшем диване и ветхая пианола в гостиной, пишет он в «Других берегах», «поражали меня своим убожеством по сравнению с обстановкой моего русского детства». В компаньоны ему был дан Михаил Калашников, «черносотенец и дурак», как о нем вспоминал писатель много лет спустя. Он тут же принялся убеждать Набокова, что ему необходимо прочесть «Протоколы сионских мудрецов», антисемитскую фальшивку, лет за пятнадцать до этого изготовленную публицистом С. Нилусом, — она не могла вызывать ничего, кроме брезгливости, у людей набоковского круга. Сам Калашников тоже вызывал скорее неприязнь, чем расположение. Видимо, и его подразумевал Набоков, годы спустя описывая в «Даре» отчима героини, одного из «бравурных российских пошляков, которые при случае смакуют слово „жид“ как толстую винную ягоду».
С Калашниковым предстояло прожить бок о бок почти два года. Третьим в их компании был Никита Романов, о котором в письме родным Набоков отзывается с явной симпатией — «очень веселый, наблюдательный и прямой». Когда в «Подвиге» Мартын стал кембриджским студентом, у него появился приятель Вадим, не блещущий образованием, зато отличный сквернослов, «падкий на смешное и способный живо чувствовать». Письма матери, которые Набоков писал из Кембриджа, когда не было возможности съездить к семье в Лондон на выходные, говорят, что этому Вадиму приданы черты его тогдашнего короткого приятеля. Под руководством Вадима в романе, проказничая, стаскивают вывеску с табачной лавки и отбирают шлем у полисмена. А матери в июне 1920-го сообщается, что «в одну буйную ночь мы сломали два хозяйских стула и облепили противоположную стену кремом ядовитых пирожных. За это приходится платить, но не дорого».
Случались и драки — по политическим причинам. Как-то на улице затеяли ссору трое подвыпивших молодых англичан: их возмутило, что в Кембридже говорят по-русски. Отношения затем выясняли в пансионе, куда британские патриоты влезли по наружной стене. Хорошо, что до начальства не дошло.
К таким сценкам Набоков, проживший в Кембридже уже два года, должно быть, успел привыкнуть. Поначалу же его оскорбляло и выводило из себя нежелание английских сверстников не то что проникнуться симпатией к бедствующей России, но хотя бы узнать о ней крупицу правды. В «Других берегах» описан некто Бомстон, пользовавшийся у студентов влиянием «великан с зачаточной лысиной и лошадиной челюстью», — никакого портретного сходства с героем «Новой Элоизы» лордом Бомстоном, которого Руссо наделил, вкупе с чувствительным сердцем, образцовой твердостью нравственных принципов. Этот Бомстон, а в действительности Батлер, будущий глава Тринити-колледжа и реальный кандидат в премьер-министры, был в своих суждениях о России непреклонен: революция — благо, а все беды из-за блокады, которой страну подвергли бывшие союзники. Террор, пытки и расстрелы — нежелательные косвенные следствия, тогда как провозглашенные большевиками цели справедливы и достойны. Недовольство эмигрантов объясняется исключительно тем, что революция отобрала у них социальные привилегии и богатства.
С этой тупой логикой, черпавшей для себя аргументы еще и в ссылках на неготовность России к демократии, поскольку она никогда не знала свободомыслия и плюрализма мнений, Набоков спорил отчаянно, с первого же своего семестра, с прошедшей в ноябре 1919-го дискуссии под лозунгом «Мы одобряем политику союзников в России». Ему-то, как и отцу, казалось, что политика должна стать более жесткой: не просто блокада, а вооруженное вмешательство. Но большинство стояло за то, чтобы «дать большевикам свой шанс». Причем большинство было представлено «культурными, тонкими, человеколюбивыми, либеральными людьми» (включая и писателей, носивших звучные имена, — Бернарда Шоу, например, или Ромена Роллана, чей «Кола Брюньон» вскоре окажется на рабочем столе Набокова). И переубедить их было невозможно, какие бы глупости они ни говорили.
Окончательно Набоков в этом уверился, когда Кембридж осенью 20-го года посетил сын Уэллса Джордж. Незадолго до этого он с отцом был в Петрограде и Москве. Отчеты о поездке печатала «Санди экспресс», из которой читатели узнавали, что беды России — результат войны, разрухи и блокады, тогда как новая власть делает все, чтобы вытащить страну из «мглы», и необходимо эту власть поддерживать, а не бойкотировать. Джордж, который, хоть с большим трудом, мог объясняться по-русски, высказывался точно так же, и кембриджские радикалы, понятия не имевшие о русской жизни, одобрительно кивали: ведь именно это они, кокетничающие модным словцом «социализм», и хотели услышать. Ленин, о котором в свободомыслящем европейском обществе того времени надлежало говорить с пиететом, был назван в очерках Уэллса «кремлевским мечтателем», чуточку наивным, но трогательным в своей пламенной преданности идеям социальной революции. О голоде, о чрезвычайке, вколачиваемом в души страхе, идеологической нетерпимости, не имеющей прецедентов, в очерках говорилось глухо или не говорилось совсем. Не было упомянуто и о конфузе, случившемся в Петрограде на торжественном обеде, который в честь высокого гостя устроил Горький, пригласив всю оставшуюся литературную братию. Поднялся Амфитеатров и сказал, что этот неслыханно обильный стол и звучащие за ним либеральные речи — потемкинская деревня, а в действительности интеллигенция вымирает и вольное слово преследуется беспощадно. Конфуз с трудом замяли.
Книжка Уэллса «Россия во мгле» вызвала негодующие отклики в русской эмигрантской среде. О ней с возмущением писал недавно вырвавшийся из гибнущего Петрограда Мережковский. Куприн с убийственной иронией упомянул о новом фантастическом романе, ставшем результатом путешествия знаменитого писателя с его «благосклонным, приятным и рассеянным вниманием». А в «Новой России» Владимир Дмитриевич опроверг проповедь Уэллса пункт за пунктом. Но в Кембридже к этому оставались безразличными, слушая рассказы Уэллса-младшего так, словно они снимали всякие сомнения относительно «русского вопроса». Набоков выходил из себя — в особенности когда начинались дифирамбы Ленину как «чувствительнейшему, проницательнейшему знатоку и поборнику новейших течений в литературе». Упомянув об этих восторгах на страницах автобиографии, он не забыл добавить, что Ленин «был совершенный мешанин в своем отношении к искусству», — Пушкина знал по операм Чайковского, интересуясь исключительно его «полезностью» (в точности как Чернышевский, один из духовных отцов Ильича: не в Кембридже ли, не в этих спорах о том, что собою представляет «убогий Ленин», и зародилась первая мысль как-нибудь заняться типом прогрессивно мыслящего утилитариста при литературе, — изумившая ценителей Набокова, когда в «Даре» он ее осуществил).
Дискуссии со своими большевистски настроенными сокурсниками Набоков вскоре прекратил за полной бессмысленностью. Они видели то, что хотели видеть, оставляя без внимания все остальное. Что-то понимать они стали, лишь когда Сталин, перестреляв «ленинскую гвардию», заключил с Гитлером договор о разделе Европы. У Набокова осталось чувство гордости тем, что уже в юности он разглядел родовые признаки, соединяющие в семейный круг «жовиальных строителей империи на своих просеках среди джунглей; немецких мистиков и палачей; матерых погромщиков из славян; жилистого американца-линчера… одинаковых, мордастых, довольно бледных и пухлых автоматов с широкими квадратными плечами», которых производит победивший большевизм.
К счастью, политика была для него в Кембридже — да и потом, до самого конца жизни — совсем не главным делом. «Настоящая история моего пребывания в английском университете есть история моих потуг удержать Россию», — свидетельствуют «Другие берега». И «Университетская поэма», написанная через пять лет по выпуске из колледжа, свидетельствует в общем-то о том же самом: хотя бы тем, что она нескрываемо подражает пушкинскому «Графу Нулину».
Набоков ее не любил и после журнальной публикации 1927 года никогда не перепечатывал, хотя получил письмо с комплиментами от самого Бунина, перед которым он тогда благоговел. Поэма и вправду довольно пустенькая, сюжет невзыскателен: милые мелочи студенческого обихода, знакомство за чаем у викария с перезрелой девицей, ухаживания за нею, благо тетушка-опекунша «социализмом занята» и все читает лекции в рабочих клубах. Неприятности из-за того, что ментор встретил юного волокиту в спортивном костюме вместо положенной мантии. Наконец, выпускной бал и отъезд.
Изумительный поэт и яростный набоковский недоброжелатель Георгий Иванов не упустил случая поиздеваться над «вялыми ямбами», какими, «на потеху одноклассников, описываются в гимназиях экзамены и учителя». Пусть даже так, но тем, кто хотел бы ясно себе представить, каким был Набоков в свои кембриджские годы, поэма дает очень много.
Он был повесой и гулякой, старался смолоду быть молод и без раздумий захлопывал наспех просмотренные тома, едва наставал час лодочной прогулки с жеманящейся Вайолет/Виолеттой. Как все, он, «по утрам, вскочив с постели, летел на лекцию; свистели концы плаща»; как все, часами просиживал в лабораториях, ел переперченные супы из вялых овощей и, сам того не осознавая, все больше привязывался к своему колледжу, где за два с половиной столетия до него учился Ньютон, к этому старому городку, по которому столетием раньше, прихрамывая, бродил лорд Байрон и вел за собой ручного медведя:
Дома — один другого краше, —
чью старость розовую наши
велосипеды веселят;
ворота колледжей, где в нише
епископ каменный, а выше —
как солнце, черный циферблат;
фонтаны, гулкие прохлады,
и переулки, и ограды
в чугунных розах и шипах,
через которые впотьмах
перелезать совсем не просто;
кабак — и тут же антиквар,
и рядом с плитами погоста
живой на площади базар.
Но все-таки он был не вполне обыкновенный кембриджец. Для него счастье, когда вдруг «шел снег, как в русском городке». Именно в такой день он нашел на лотке букиниста Пушкина и Даля, ставших его основным чтением. «Из моего английского камина, — написано в „Других берегах“, — заполыхали на меня те червленые щиты и синие молнии, которыми началась русская словесность. Пушкин и Толстой, Тютчев и Гоголь встали по четырем углам моего мира». Мартыну Эдельвейсу, тоже кембриджскому студенту, автор отдал события и переживания, заполнившие его собственную жизнь, однако Мартын не писатель, и оттого даже его ностальгия кажется какой-то анемичной. У Набокова литературен и анемичен описываемый сплин — «тоска, унынье, скука», как об этом сказано у Даля, но вот ностальгия пронзительна:
… над черной тучей глубину
закат, бывало, разрумянит,
и так в Россию вдруг потянет,
обдаст всю душу тошный жар, —
особенно когда комар
над ухом пропоет, в безмолвный
вечерний час, — и ноет грудь
от запаха черемух. Полно,
я возвращусь когда-нибудь.
В действительности вера, что он вернется, уже поколебалась, и, удерживая в себе Россию, Набоков все внимательнее всматривался в окружавший его английский мир, все увереннее в нем обживался. Хотя это оказалось не таким простым делом. Даже его безупречный английский язык звучал чуточку искусственно и явно старомодно. Приходило чувство, знакомое и Мартыну, и Себастьяну Найту, хоть он наполовину англичанин: в Англии они иностранцы уже ввиду того, что по рождению принадлежат Петербургу.
«Истинная жизнь Себастьяна Найта» написана через двадцать лет после Кембриджа: память откристаллизовалась, все, что было в ту пору главным, выступило с определенностью. Выплывают из прошлого уличная слякоть и чистые звоны башенных часов, и «благотворный запах сырого дерна», и «древняя звучность каменных плит под каблуком». Но особенно настойчиво, отодвигая остальное, вспоминается ощущение, что в этом мире он, Себастьян, посторонний. Что «как бы мудро и славно ни подыгрывало его новое окружение давним мечтам, сам он, вернее — наиболее драгоценное в нем, обречен оставаться, как и прежде, в безнадежном одиночестве. Одиночество было лейтмотивом жизни Себастьяна». И постепенно он выучился не так уж страдать «из-за своей неуклюжей чужеродности». Понял, что «приговорен к благодати одиночного заключения внутри собственного „я“», и принял это как судьбу.
С Набоковым, похоже, происходило то же самое, хотя его запомнили «молодым светским человеком, жизнерадостным и неотразимым, романтическим красавцем и немного снобом». Так о нем писала некто Люси Леон Ноэль, его кембриджская знакомая (уж не Виолетта ли из «Университетской поэмы»?), встречавшаяся с ним и позднее. Но писала она это по прошествии полувека, для специального выпуска американского журнала, приуроченного к семидесятилетию мэтра и оттого неизбежно тронутого глянцем — по крайней мере, в мемуарном разделе. Ни «Себастьян Найт», ни «Подвиг», герой которого тоже постоянно чувствует, что неспособен вписаться в свое кембриджское окружение (да и вообще ни в какое), ни стихи, за подписью «Cantab», то есть «Cantabrigian», кембриджец, печатаемые студентом Набоковым в газете «Руль», для Владимира Дмитриевича ставшей главным делом последних полутора лет его жизни, — ничто не говорит ни о жизнерадостности, ни о снобизме.
Из Лондона, потом из Берлина «Пупс» получал от родных открытки со словами нежности. И тревоги: не за него, а за Россию, в которой Белое движение терпело катастрофу — у Владимира Дмитриевича не осталось сомнений, что непоправимую. Эта тревога, эта тоска немедленно отзывалась в ответных письмах, к которым нередко были приложены стихи, — о разлуке, о руинах, о грустных снах, когда оживают картины детства и счастья.
Английские стихотворения, относящиеся к этому же времени (два из них, «Воспоминания» и «Дом», были напечатаны еще до того, как стал выходить «Руль»), навеяны теми же мыслями об утратах и невстречах, но выраженными без той эмоциональной насыщенности, которой отчасти искупались промахи еще не очень уверенного русского пера. Себастьян Найт припоминает свои «киплинговские настроения, бруковские настроения, хаусменовские настроения» — их мог бы, оглядываясь на кембриджские годы, припомнить и автор. Киплинга он, разумеется, знал с детства — «Книга джунглей» входила в обязательный набор английского чтения. Что касается Альфреда Хаусмена, в то время исключительно популярного лирика, чьи стихи о скромной красоте сельской Англии были как успокоительный бальзам для повидавших на фронте столько озверения и такую грязь, он с 1911 года преподавал латынь в Тринити-колледже: в «Других берегах» сказано, что его (правда, не только его) поэзией «был заражен самый воздух моего тогдашнего быта». Однако самой притягательной фигурой из этих трех для Набокова был тогда Руперт Брук.
Ему Набоков посвятил очерк, напечатанный в 1922 году в альманахе «Грани». Там говорится о «редкой пленительной черте» творчества этого питомца Кембриджа, ушедшего на войну и от заражения крови погибшего на Дарданеллах в 1915-м, когда ему было только двадцать восемь лет. Черта эта определена как «сияющая влажность»: «прозрачные, излучистые стихи» — вот что такое Руперт Брук. Подразумевается главным образом сборник «1914 и другие стихотворения», вышедший посмертно. В нем и правда чувствуется «бледно-зеленая вечность», которую Брук, попросившийся во флот, наблюдал каждый день. Книга была воспринята как манифест целой школы, которую назовут «окопной поэзией» — поэзией участников и свидетелей недавнего кошмара.
Очевидно, Брук предчувствовал, что ему не вернуться: незадолго до гибели он напечатал несколько сонетов, где трагический мотив доминирует. Один из них, самый известный, Набоков перевел для своей статьи:
Лишь это вспомните, узнав, что я убит:
стал некий уголок, средь поля на чужбине,
навеки Англией. Подумайте: отныне
та нежная земля нежнейший прах таит.
Нежнейший прах, юность, добровольно принятый мученический венец, преданность родине — ассоциации с Юриком возникали неотвратимо и настойчиво. Сверстники запомнили Брука романтиком и мечтателем, Набокова он поразил «мучительной и творческой зоркостью», с какой «вглядывался в сумрак потусторонности», — тема, позднее ставшая одной из главенствующих в его собственных книгах. Поразил тем, что у него так много цветных стекол, «сквозь которые Брук, перебегая от одного к другому, глядит вдаль, стараясь различить черты приближающейся смерти». И думает не о том, что найдет там, но о покинутом, навсегда покинутом здесь. Ибо «что ему эта бутафорская вечность, эти врубелевские ангелы, этот властелин с ватной бородой?»
Только в двадцать лет можно с подобной уверенностью судить о том, что чувствовал другой поэт в свои последние минуты на греческом острове «в лиловом Эгейском море». Однако о Набокове этюд, посвященный Бруку, говорит выразительно: о его поклоненьи «чистой красоте», «краскам земли», «ликующим воспоминаниям» и о пробудившихся, уже настойчивых мыслях про «потусторонность». Без ватнобородого властелина.
Впрочем, пока еще не нужны какие-то усилия, чтобы от этих мыслей избавиться, прогнать пробуждающие их воспоминания — и всем существом ощутить радость жизни: пышные каштаны, и цветущую сирень над рекой, по которой, под томные звуки гавайских мелодий, плывет лодка, подталкиваемая с помощью шеста (весла не разрешены), а Виолетта, откинувшись на подушки, вращает парасоль. И тянущуюся ввысь готическую красоту кембриджских колледжей. И футбол.
В автобиографии Набоков описывает свои (отданные потом Мартыну, герою «Подвига») блистательные, бодрые — и другие, «эзотерические, под тяжелыми зимними небесами» — дни на футбольном поле, в воротах, к которым, обойдя беков, мчится и ведет облепленный грязью мяч знаменитый форвард соперников. Футбол — английское изобретение, но его быстро оценили везде в мире, не исключая России, и вратарские перчатки Набоков надел еще тенишевцем. Был этот футбол неизобретательным и наивным, зато самозабвенным без притворства. Англичане, пожалуй, относились к игре сверх меры серьезно: заботились о командных действиях, о солидно поставленной тактике. В университетском клубе Набоков порой ощущал себя неуютно. Футбол его детства был другим.
Этот футбол (правда, не петербургский, а одесский, но Одесса тогда блистала) ярко описывает в «Книге прощания» Олеша. Поле скверно оборудовано, а то и вовсе не приведено в порядок — горбатое, с полевыми цветами среди травы. Трибун нет, просто две-три деревянные плоские скамьи, а остальные зрители сидят на земле, часто облюбовав себе место сразу за воротами.
Среди зрителей больше всего мальчишек, взрослые не очень ясно представляют себе, что это такое — футбол («Играют в мяч… Ногами? Как это — ногами?»). На зелени газона, быстро перемещаясь по всей площадке, удивительно белеют бутсы. Футбол пахнет горьким запахом травы. Белые трусы, белые майки, черные, с зеленым бубликом вокруг икры, гетры. Когда мяч, укрощенный ловким движением, влетает в ворота, публика выскакивает на поле и удачливый форвард взмывает в воздух, купаясь в ее неистовом восторге. На тогдашнем языке это называется — загнать гол.
Олеша играл правым крайним (вскоре врач обнаружил у него неурядицы с сердцем и запретил эти развлечения). Набоков был, по терминологии тех лет, голкипер. Запомнилась черная жижа вытоптанного перед воротами пятачка, нырки в ноги форвардов, наносящих удар, крики галок на голых ветках деревьев, туман, неясные силуэты на противоположной половине поля. Вот, наверное, самый яркий портрет Набокова в Кембридже, тридцать лет спустя написанный им самим в «Других берегах»: «Сложив руки на груди и прислонившись к левой штанге ворот, я позволял себе роскошь закрыть глаза, и в таком положении слушал плотный стук сердца, и ощущал слепую морось на лице, и слышал звуки все еще далекой игры, и думал о себе как об экзотическом существе, переодетом английским футболистом и сочиняющем стихи на никому не известном наречии, о заморской стране».
Стихи, набросанные в Кембридже, автор переписал на каникулах в альбом, а альбом стал небольшой поэтической книжкой «Гроздь», которая была издана берлинским издательством «Гамаюн» уже по возвращении автора из Alma mater, в декабре 1922-го. Готовилась книжка при деятельном участии Владимира Дмитриевича и А. М. Гликберга, более известного под именем Саша Черный. Через девять лет, когда пришлось писать его некролог, Набоков упомянул об отличном вкусе этого сочинителя забавных, с виду непритязательных стихотворений, о том, что им было придумано заглавие сборника, определены состав и композиция. Даже выправлена корректура.
Лирической героиней книги была Светлана Зиверт, кузина того самого Калашникова, соседа Набокова по пансиону два кембриджских года. Калашников и привез его в берлинский дом Зивертов, солидного семейства — отец был горным инженером, занимавшим прекрасную должность, — которое с самого начала настороженно отнеслось к роману их шестнадцатилетней дочери с молодым человеком без ясно определенных видов на будущее. Набокова пленили ее грациозность, живость и особенно глаза — они воспеты в его стихах, украсивших альбом этой «смеющейся царевны»:
… сладостный разрез твоих продолговатых
атласно-темных глаз, их ласка и отлив
чуть сизый на белке, и блеск на нижнем веке,
и складки нежные над верхним, — верь, навеки
останутся в моих сияющих стихах,
и людям будет мил твой длинный взор счастливый,
пока есть на земле цикады и оливы,
и влажный гиацинт в алмазных светляках.
Стихи венчают второй раздел книжки, который озаглавлен — «Ты». Пахнущий типографией экземпляр сборника автор преподнес той, кого считал своей невестой, на Рождество 1922-го. Через две недели инженер Зиверт объявил, что семья не считает возможным доверить будущее дочери человеку, у которого, собственно, нет ни профессии, ни средств. Барышня Зиверт в итоге сделалась мадам Андро де Ланжерон.
Осталась книжка — не как памятник неудачной любви (разрыв был пережит Набоковым, кажется, довольно легко), но как свидетельство несомненной одаренности автора. Конечно, еще не так часто ему удается, избавившись от чужой музыки, создать что-то действительно свое. «И вот, восходит стих, мой стих нагой и стройный», — возвещает он в самом начале книги, однако чаще всего это стих инкрустированный, расцвеченный полуосознанными, порой невольными заимствованиями — мотивов, метафор, интонаций. Заимствованиями у Бальмонта, который у всех на слуху:
Мы только шорох в старых парках,
мы только птицы; мы живем
в очарованье пятен ярких,
в чередованье звуковом.
Заимствованиями у Бунина, чей
… стих роскошный и скупой, холодный
и жгучий стих, один горит, один,
над маревом губительных годин, —
и весь в цветах твой жертвенник свободный.
Заимствованиями у Блока:
Я звал тебя. Я ждал. Шли годы, я бродил
по склонам жизни каменистым
и в горькие часы твой образ находил
в стихе восторженном и чистом.
Но все равно, у Набокова теперь было право сказать о себе, в тех же стихах с посвящением Бунину, что в этом кощунственном мире «светит все ясней мой строгий путь». И путь этот не станет путем подражателя, смиренного бунинского ученика («ни помыслом, ни словом не согрешу пред музою твоей»). Путь мыслится как жребий хранителя русской традиции: поэтической, художественной, духовной — во времена ее поругания и осквернения, о чем литературный наставник и тогдашний его кумир Бунин с возмущением говорил еще в 1913 году, в знаменитой речи на юбилее «Русских ведомостей» («Исчезли драгоценнейшие черты русской литературы: глубина, серьезность, простота, непосредственность — и морем разлилась вульгарность, надуманность, лукавство, хвастовство, фатовство, дурной тон, напыщенный и неизменно фальшивый»). Напрасно репетитор Розенталь приносил на Морскую книжку начинающего Маяковского, от которого сходили с ума современно мыслящие люди, особенно из тех, кто помоложе. Исходно не расположенный к новаторству такого толка — с эпатажем, провокационностью и насмешкой над простаками, восторженно аплодирующими, хотя над ними издеваются, ничуть этого не скрывая, — Набоков стал по отношению к нему особенно враждебен, когда новаторы оказались в союзе с теми, кто погубил его Россию. Своей консервативности, своей приверженности традициям, уводящим к Тютчеву и Пушкину, он придавал значение более важное, чем только выбор литературной позиции, когда писал, обращаясь к Светлане:
И в этот век огня и гнева
мы будем жить в веках иных, —
в прохладах моего напева,
в долинах ландышей твоих.
Реально жизнь «в долинах ландышей» не получалась. Все время давал себя ощутить «век огня и гнева». Он напоминал о себе грозно, жестоко — пока готовилась «Гроздь», ее автор успел это почувствовать с травмирующей прямотой. Третий раздел книги открывает стихотворение «Пасха». Оно посвящено памяти Владимира Дмитриевича, убитого в Берлине 28 марта 1922 года.
В Берлин, на Эгерштрассе, он с семьей переехал в августе 1920-го, сыновья приезжали из Кембриджа на каникулы. Выяснилось, что на песке построены расчеты, связывающие освобождение России с активным вооруженным вмешательством Антанты. Лондонская глава начинающейся истории эмиграции была дописана, едва начавшись. Берлин, несмотря на послевоенную разруху, становился притягателен для русских изгнанников. Здесь было намного проще и с документами, и с жизнеустройством. Здесь русская диаспора росла буквально по часам, а значит, чувство, что пронесшимся ураганом человека вышвырнуло из обжитого дома, от которого остались одни обломки, хоть чуточку ослабевало.
Владимира Дмитриевича обветшавшая немецкая столица манила тем, что в ней образовался один из главных центров политической жизни зарубежной России. Появилась возможность издавать большую ежедневную газету с четко обозначенной демократической позицией. 17 ноября 1920 года вышел первый номер «Руля».
В титрах указывалось, что газета издается под редакцией И. В. Гессена, А. И. Каминки и В. Д. Набокова, трех влиятельных и широко известных членов кадетской партии, которые и после катастрофы 17-го года сохранили верность основным партийным принципам и тактическим установкам. Чуть раньше в Париже стала выходить газета Милюкова «Последние новости». Сразу же обнаружилось, что революция и гражданская война развели недавних единомышленников достаточно далеко. Два кадетских издания вели друг с другом откровенную или скрытую полемику. Порой она принимала острый характер.
Суть расхождений заключалась в выборе пути, ведущего к цели, которую и Милюков, и редакция «Руля» считали достижимой, к свержению диктатуры. Из России приходили вести о восстаниях мужиков, озлобленных большевистскими реквизициями. Милюков все больше склонялся к союзу с эсерами, утверждавшими, что они отстаивают интересы крестьянства, и к корректировке кадетской программы, с тем чтобы такой союз стал возможным. Ему казалось, что падение большевиков дело нескольких ближайших месяцев и что в будущем правительстве вернувшимся из эмиграции кадетам предстоит объединиться с эсерами, а для этого уже сейчас следует преодолевать разногласия.
«Руль» находил такую линию размышлений глубоко неверной. Рассчитывать на скорый уход большевиков не приходится, писали в передовицах этой газеты, с ними предстоит долгая и тяжелая борьба, которая требует объединения всех сил эмиграции, признающих приоритет демократии и верных либеральным заветам. Со страниц «Руля» напоминали, что движение кадетов возникло под лозунгом отмены сословных привилегий, требования равных гражданских прав для всего российского населения. Согласиться с эсеровскими призывами, по тактическим соображениям признав, что крестьянские запросы нужно удовлетворить в первую очередь, и даже в ущерб другим социальным слоям, означало ревизию идеи, ради которой сплотились приверженцы конституционной демократии.
В номере от 27 ноября 1920 года появилась носившая программный характер статья Владимира Дмитриевича «Мы и они», в которой разъяснялась позиция, твердо отстаиваемая последние полтора года, что были отпущены ему судьбой. Он размышлял о русской эмиграции, которая «не имеет прецедентов в мировой истории». Напомнил, что после февраля никакого бегства из страны не было, и даже первые послеоктябрьские месяцы еще не привели к массовому исходу, хотя репрессии становились повседневностью. Исход начался позднее, и не только из-за неприятия большевизма, но прежде всего по причине «чудовищных, невозможных и невыносимых политических, моральных, правовых, культурных условий, превращающих жизнь в Совдепии в подлинный ад». Не возникло ни общей платформы, ни, строго говоря, коренного идеологического несогласия с оставшимися, за вычетом большевистских ортодоксов.
«Получились две огромные категории русских людей, по существу совершенно однородных, отделенных друг от друга просто географической чертой, — писал Владимир Дмитриевич. — По одной стороне этой черты… все, что выработано ходом цивилизации. По другой — свирепое торжествующее хамство… Если не будет найден путь к объединению „нас“ с „ними“, и порвутся наши духовные связи… будет второе изгнание, горше первого». Помня, что «нет и не может быть ужаса худшего, позорнейшего, чем режим большевиков», надо помнить и о том, что «когда-нибудь… мы туда вернемся, к ним, исстрадавшимся», — но не с озлобленностью и не с пустыми руками, а с сохраненными в изгнании ценностями русской культуры. Вот в чем миссия изгнанников: сберечь, приумножить эти ценности на благо будущей свободной России.
Он и после всех перенесенных им испытаний и потрясений благородным идеалистом для которого души прекрасные порывы были не одной лишь фигурой поэтической речи. Сыну в Кембридж он писал, что в Берлине, по сравнению с лондонской, «вся окружающая обстановка настолько более чужда и как-то мало привлекательна», но утешался тем, что хозяйка квартиры, снятой ими в Грюневальде, предоставила в распоряжение семьи большую русскую библиотеку, а по понедельникам, если не бастовал трамвай, можно было, воспользовавшись зарезервированными за «Рулем» местами в ложе для критики, послушать камерную музыку в зале Филармонии. В том самом зале, где вскоре разыгралась трагедия.
Очень быстро берлинское жилище Набоковых превратилось в своего рода русский культурный центр. Тут бывали многие известные писатели, которые в ту пору обосновались в Берлине, пережидая, пока развиднеется, а там можно будет решить, вернуться домой или остаться в Европе. Бывали Станиславский, Книппер-Чехова и другие актеры Художественного театра, который гастролировал по Европе, тоже не определив, воссоединяться ему с той частью труппы, что давала спектакли в Москве, или подыскивать новый постоянный адрес.
Сам Владимир Дмитриевич продолжал жадно следить за всеми художественными и литературными событиями (из воспоминаний его старшего сына, относящихся к 1956 году: «Вечереющий день в эмигрантском Берлине, мне лет двадцать, зажигается на лестнице свет, входит отец, неся с выражением какого-то нежного аппетита драгоценную новинку: „Святая Елена, Маленький остров“» — повесть Марка Алданова. В «Руле» он снова и снова повторял, что, лишь перечитывая отечественную классику, можно по-настоящему понять причины русской трагедии. Говорил об этом и в статье, приуроченной к десятилетию со дня смерти Толстого, одной из самых важных, что им написана. Выраженная в ней основная мысль со временем станет неприемлемой для младшего Набокова, который даже «Войну и мир» будет оценивать невысоко, потому что там слишком виден автор со своей устарелой философией и моралистическими назиданиями. А Владимир Дмитриевич доказывал, что нет никакого противоречия между идеями Толстого и его творческим гением — художник и мыслитель дополняют друг друга, и всего лишь тенденциозный домысел — рассуждения авторитетнейшего Михайловского про «десницу», которая у Толстого не в ладу с «шуйцой». Толстой всегда Толстой, выходит ли из-под его пера гениальная картина скачек в «Анне Карениной» или проповедь «Власти тьмы»: он всегда ищет «смысла жизни и оправдания смерти», всегда думает о «ничтожестве человеческой особи перед могуществом Рока, Провидения, Божества». Слова, написанные с заглавных букв, даны через запятую — типичный взгляд либерально мыслящего человека XIX столетия, который знает, что между этими тремя понятиями надо выбирать, однако выбрать не может, как долгое время не мог этого сделать и сам Толстой.
А дальше в статье говорится о том, что Толстой всю жизнь размышлял над «проблемой человеческого общежития, с его случайными, бессмысленными несправедливостями». И эти слова кажутся непредумышленно пророческими: случившееся в зале берлинской Филармонии мартовским вечером 1922 года станет подтверждением их истинности.
Зал был снят под выступление Милюкова, недавно вернувшегося из заокеанской поездки, тема его доклада звучала так: «Америка и реставрация в России». «Руль» в тот день вышел со статьей Набокова, где выражалась надежда, что раздоры в стане кадетов позади. Споря с Милюковым подчас непримиримо — одна его приверженность доктрине «самого крупного приза войны», каким для России должен был стать Константинополь с проливами, могла развести их по разным полюсам, — Набоков неизменно отдавал должное Павлу Николаевичу как крупнейшей фигуре русского демократического движения. Особенно он ценил Милюкова на трибуне. «Его свойства как оратора, — сказано в книге „Временное правительство“, — тесно связаны с основными чертами его духовной личности. Удачнее всего он бывает тогда, когда приходится вести полемический анализ того или другого положения. Он хорошо владеет иронией и сарказмом. Своими великолепными схемами, подкупающими логичностью и ясностью, он может раздавить противника. На митингах ораторам враждебных партий никогда не удавалось смутить его, заставить растеряться».
Две мрачного вида личности, которые замешались в толпе, заполнившей зал, — как потом выяснилось, их имена были П. Шабельский-Борк и С. Таборицкий, — видимо, хорошо знали об ораторских дарованиях Милюкова и сорвали его выступление, пустив в ход самый безотказный аргумент. Едва он закончил предисловие к теме, они выскочили на эстраду с криками о предателе и палаче России; загремели выстрелы. Кто-то из находившихся на сцене бросился к Милюкову, закрыв его своим телом, пока Владимир Дмитриевич и соредактор «Руля» Каминка попытались справиться с убийцами. Школа Лустало, когда-то приходившего на Морскую давать уроки фехтования и бокса, пригодилась: ударом кулака один из нападавших был повержен, но в эту минуту второй выстрелил сзади, в упор. Пуля прошла через левое легкое и задела сердце. Владимир Дмитриевич скончался несколько минут спустя.
На следствии оба обвиняемых заявили, что никогда раньше не слышали имени Набокова, но, узнав, что во Временном правительстве он занимал важный пост, выразили удовлетворение. Не зря старались.
Немецкая полиция предпочитала не вмешиваться в тех случаях, когда эмигранты выясняли отношения друг с другом. Следствие все же провели; оказалось, что оба арестованных принадлежат к некой черносотенной монархической группке и специально прибыли из Мюнхена в Берлин, чтобы расправиться с Милюковым. Приговор был возмутительно мягкий. Через десять лет Таборицкий красовался в нацистской форме, сделавшись помощником управляющего по делам эмигрантов всего Третьего рейха.
В автобиографии, конечно, упомянуто о той ночи в 1922 году и о «двух темных негодяях». Однако «тени от этого будущего» не падают на страницы «Других берегов», посвященные отцу и детству, не омрачают картин рая, где «все так, как должно быть, ничто никогда не изменится, никто никогда не умрет». Тени прозрачны, но все же распознаваемы на страницах «Дара», который в 1952-м, в книжном издании, вышел с посвящением «Памяти моей матери» и весь пронизан памятью об отце. Тени предельно густы на сохранившихся страничках дневника, с мельчайшими подробностями описывающих этот день. Набоков находился тогда в Берлине, но на выступление Милюкова не пошел — остался дома, читал Блока, «Итальянские стихи». Позвонил Гессен, сказал, что Владимиру Дмитриевичу плохо, надо немедленно выезжать. Встревоженную Елену Ивановну сын пробовал успокоить тем, что, должно быть, случилась автомобильная авария, ничего серьезного, хотя сам он — так ему казалось — все понял сразу.
Когда пришла машина, таиться стало невозможно, уехали вместе с матерью. Мелькали какие-то улицы, подсвеченные тротуары, редкие прохожие — все как бы мимо сознания. Вспомнился вечер накануне, оживленный, смеющийся Владимир Дмитриевич, шутливый раунд бокса, разговор об опере «Борис Годунов». Утром отец ушел в газету, когда все еще спали.
Ни у Каминки, ни у Гессена не достало сил сказать все как есть, но слов и не требовалось. Мимо разгромленного зала с перевернутыми стульями прошли к комнате, где лежало тело, однако на дороге встал полицейский. Кто-то, неловко утешая, показывал на свою забинтованную руку: он тоже пострадал.
Хоронили через три дня на крохотном русском кладбище в Тегеле. Были некрологи — Бунин, Куприн, Мережковский. «Великая потеря» — назвал свою статью в газете «Общее дело» Бунин, который сокрушался: «Боже, да когда же конец несчастиям России?… Год за годом, день за днем совершенно непрерывная цепь несчастий, потерь. И каких! Если даже какая-нибудь нелепая, дикая случайность, то и она падает только на Набоковых!» Знакомая нота: бессмысленные, но отчего-то целенаправленные удары судьбы, несправедливости человеческого общежития. Рок, Провидение, Божество?
И стихи памяти отца, появившиеся в «Руле» через две недели после его гибели, заполнены этими же раздумьями:
Так как же нет тебя? Ты умер, а сегодня
синеет влажный мир, грядет весна Господня,
растет, зовет… Тебя же нет.
Стихи названы «Пасха»: в них чудо, о котором запели ручьи, золото капели, расцветающая весна — «ты в этом блеске, ты живешь!» Но пасхальны они лишь по совпадению сроков. А праздник природы, возобновляющийся и при самых трагических обстоятельствах, — слабое утешение над свежей могилой. Что поделать, другого у Набокова не было. И не будет.
Он вернулся в Кембридж, оставив мать на попечении брата Сергея. В самом конце мая начались выпускные экзамены: французская литература и история, русская литература (требовалось, помимо прочего, описать сад Плюшкина), опять французская история и культура, Средние века.
Через месяц со всем этим было покончено, он уехал в Берлин. Матери в своем последнем кембриджском письме сообщал, что чувствует, как оживает Муза, онемевшая после несчастья.
… шатер углового каштана, легкое головокруженье, бедность, влюбленность, мандариновый оттенок преждевременной световой рекламы и животная тоска по еще свежей России…
Стихи 1925 года, оставшиеся в набоковском архиве и впервые напечатанные к столетию писателя:
Это я, Владимир Сирин,
В шляпе, в шелковом кашне.
Жизнь прекрасна, мир обширен,
Отчего ж так грустно мне?
Помета под текстом: Берлин. Указан и год, который на самом деле не должен был, не мог настраивать только на грустный лад. В апреле 1925-го Набоков женился на Вере Слоним, — брак, который он всегда считал идеальным. А осенью была в два месяца закончена «Машенька». С нее начинается набоковское писательство «всерьез».
Но все равно меланхоличного вида молодой человек в белом шарфе, запечатленный на тогдашней фотографии с Пририсованной бабочкой в углу, кажется, чем-то глубоко расстроен, может быть, даже травмирован. «Жизнь прекрасна» — это явно не про него.
После гибели отца его преследовала депрессия, с которой не всегда удавалось справиться. Разрыв со Светланой Зиверт, подчинившейся родительской воле, еще усилил мрачные настроения, порой становившиеся непереносимыми. Лето 23-го года Набоков, спасаясь от тоски, провел на юге Франции, работал (как впоследствии Мартын из его романа «Подвиг») на виноградниках, а вечерами сочинял пьесы в стихах, если усталость не сваливала с ног. В Берлине, где все напоминало о недавней трагедии, было совсем скверно.
Предчувствуя объяснение с отцом невесты, он попробовал отыскать себе солидное занятие, которое должно было бы обеспечить достаток, и получил место в немецком банке.
Но не проработал там даже одного дня. Перспектива каждый день по восемь часов сидеть в офисе, делая записи в конторских книгах, казалась ему издевательством над собой. Пока инфляция галопировала все более головокружительными темпами и жить в Германии можно было практически на копейки, безденежье не страшило.
Зиверты пригласили провести с ними несколько летних недель на курорте: чинные прогулки по лесу, симфонические концерты под открытым небом. Осенью должно было что-нибудь подвернуться.
Ничего не подвернулось, однако Набоков отнесся к этому совершенно спокойно. По-настоящему его уже интересовали лишь литература и свое в ней положение. Подпись «Владимир Сирин» первый раз появилась под тремя стихотворениями и рассказом «Нежить» в рождественском номере «Руля» — 7 января 1921-го. Зимой 1922/23 года одна за другой вышли четыре книжки под тем же псевдонимом, который Набоков сохранит до переезда в Америку: две поэтические — «Гроздь» и «Горний путь», две переводные — «Кола Брюньон» Роллана, в набоковской версии ставший «Ни-колкой Персиком», и «Алиса в стране чудес». Кэрролловскую Алису Сирин переименовал в Аню.
Печататься в «Руле» следовало, конечно, не под своим именем: читатели газеты знали, что В. Набоков — это Владимир Дмитриевич. Других причин, объясняющих появление В. Сирина, вероятно, и не было, однако вовсе не случаен выбор именно этого псевдонима. Он напоминал о райской птице-деве, чарующей людей своим пением, и о несчастной душе, воплощением которой эта птица стала в европейских средневековых легендах. Идеальная комбинация, ибо она точно передает психологическое состояние поэта, утратившего свой рай, каким было детство в Ингрии, затем трагически потерявшего отца и стремящегося воплотить этот опыт в стихах, способных околдовывать магией слова.
Кроме того, Сирин — имя, вписанное в историю русского символизма (как и Алконост, еще одна птица, чье пение заставляло позабыть обо всем на свете). «Сирин» называлось издательство символистов, основанное меценатом М. Терещенко в Петербурге накануне войны. В нем выходили сборники «Сирин»: там Белый напечатал свой лучший роман «Петербург», Блок — драму «Роза и Крест», Ремизов — цикл сказов «Цепь златая». «Сирин ученого варварства» — называлась наделавшая шума статья Белого, которая была посвящена еще одному символисту, Вячеславу Иванову.
Теперь многие приверженцы символистского направления оказались в Берлине (или, как Гиппиус и Мережковский, в Париже). Неподалеку от Тиргартена жил, духовно не покидая апокрифической, лесковской России, Ремизов; с ним, наружностью напоминавшим «шахматную ладью после несвоевременной рокировки», Набоков познакомится позднее, в Париже. Белый обосновался в берлинском пригороде Цоссен — его неуютное жилье замечательно описала в мемуарном очерке Марина Цветаева — и в городе бывал наездами. Однажды Набоков видел его за соседним столиком в ресторане. Начал выходить журнал Белого «Эпопея», где издатель поместил свои яркие воспоминания о Блоке. В Россию, писал он осенью 22-го, для него «путь отрезан». Но год спустя нежданно для многих сорвался с места, ринувшись домой, в Москву.
Вячеслав Иванов пока был в Баку, однако вскоре под предлогом научной командировки он отправится в Рим — навсегда. А из Рима в Берлин перебралась под конец 21-го года Нина Петровская, которую в Москве, где она входила в символистский кружок «аргонавтов», знали под именем русской Кармен (поэт Владислав Ходасевич, описывая в мемуарной книге «Некрополь» роман Петровской с Брюсовым — не то арлекинаду, не то трагедию, как было заведено в Серебряный век, — называет ее Ренатой, по имени героини брюсовского «Огненного ангела»). Петровская когда-то была женой поэта Сергея Соколова-Кречетова, тоже очутившегося в Берлине и вдруг сменившего символистские озарения на русофильский патриотизм. Его книжке «Железный перстень» посвящена заметка Набокова, тоже появившаяся в «Руле».
Газета, которой теперь практически в одиночку руководил И. В. Гессен, печатала Сирина охотно, и не оттого лишь, что он был сын Владимира Дмитриевича (в «Других берегах» о Гессене написано: «Он с отеческим попустительством мне давал питать „Руль“ незрелыми стихами»). На склоне дней Гессен, которого, с активным участием Набокова, удалось переправить в США, спасая от нацистских чисток и облав, — он тихо скончался в марте 1943-го, — сел за мемуары («Годы изгнания. Жизненный отчет»). Они содержат ценные сведения о русском Берлине, о «Руле» и о молодом стихотворце Сирине. Его произведения, пишет Гессен, «мне особенно дороги, вероятно потому, что они светились нежной любовью к покинутой родине». Большого творческого дара он, правда, в стихах поначалу не обнаруживал и был изумлен, когда Сирин стал писать прозу, «укрепляя все прочнее слагавшееся о нем суждение, как о явлении гения».
Гессен вспоминает приезжавшего на каникулы из Кембриджа юношу: «Высокий, на диво стройный, с неотразимо привлекательным тонким, умным лицом, страстный любитель и знаток физического спорта и шахмат (он выдавался умением составлять весьма остроумные шахматные задачи)». И, неожиданно для тех, кто в стихах той поры не увидел бы ничего, кроме лирической исповеди Набокова, пишет, что в поэте «больше всего пленяла ненасытимая беспечная жизнерадостность, часто и охотно прорывавшаяся таким бурным смехом, таким беспримесно чистым и звонким, таким детски непосредственным, добродушно благостным». После 28 марта 1922 года смех, скорее всего, звучал реже, но, видимо, не без причины Гессен согласился с одним английским критиком, назвавшим основой набоковского творчества «бурную жизнерадостность — „а все-таки она вертится!“»
Она действительно вертелась — как бы наперекор всему. Помолвка со Светланой Зиверт, именем которой он хотел назвать свою вторую поэтическую книгу (в итоге названную «Горний путь»), расстроилась, отзывы критиков на обе книжки стихов были кислыми. Душевная рана не затягивалась, особенно часто о себе напоминая после того, как семья в декабре 23-го уехала в Прагу. Елене Ивановне стал невыносим Берлин. А кроме того, чешское правительство платило, хоть небольшую, пенсию, которую могли получать только эмигранты, жившие в Чехословакии. Камешки в коробках из-под талька давно ушли в скупку.
Начинающий поэт Владимир Сирин жил теперь в Берлине один, «усердно давал уроки английского и французского, а также и тенниса» (о боксе в «Других берегах» не упоминается, но иногда он подрабатывал и на ринге, участием в спаррингах). Гонораров из «Руля» и недолговечных альманахов не хватало, приходилось заниматься чем ни попадя: то устраиваться в массовку, когда набирали статистов для съемок, то придумывать кроссворды или, как он предпочитал говорить, «крестословицы». За них платили лучше, чем за рецензии.
Шахматные композиции тоже поддерживали, и тут, кроме заработка, было увлечение. Первый роман, который показал истинные возможности набоковского таланта, «Защита Лужина», повествует о гениальном шахматисте, — без досконального знания тонкостей игры написать его было невозможно. Шахматы для Набокова обладают «точками соприкосновения с сочинительством, и в особенности с писанием тех невероятно сложных по замыслу рассказов, где автор в состоянии ясного ледяного безумия ставит себе единственные в своем роде правила и преграды, преодоление которых и дает чудотворный толчок к оживлению всего создания, к переходу его от граней кристалла к живым клеткам». Это цитата из автобиографии: от первых шахматных этюдов Набокова отделяет тридцать лет. Структура кристаллов его прозы очень изменилась, усложняясь (а живые клетки стало труднее опознавать), однако сам принцип игры, экстравагантной сложности, которая иногда выглядит самоценной, и через три десятилетия остался прежним.
Подобно собиранию бабочек, составление задач с эффектной матовой концовкой было у Набокова сродни творческому импульсу. В интервью французскому телевидению, одном из последних (1975), он счел нужным это подчеркнуть: «Я не сомневаюсь, что существует тесная связь между некоторыми миражами моей прозы и блестящей и в то же время темной материей шахматных задач, волшебных загадок, каждая из которых — плод тысячи и одной ночи без сна».
Его сверстник Олеша смотрел на шахматы совсем иначе: «Называют их искусством. Неправда, искусство родилось из корней жизни. А шахматы, возможно, в те прошлые времена были какой-то условной вещью, какими-то намеками на борьбу партий при дворе, на заговоры, на убийства властителей. Это сейчас вещь безусловно несерьезная, даже какая-то жалкая. Единственное, что есть интересное в них, это кривой ход коня и свист проносящегося по диагонали ферзя».
Впрямь ли «безусловна» несерьезность шахмат, по меньшей мере, не самоочевидно — уже оттого что как элемент искусства видится ход коня. Так — «Ход коня» — названа маленькая книжка Виктора Шкловского, вышедшая в Берлине, в 1923-м. Автор, с которым Олеша впоследствии был коротко знаком (а Набоков, возможно, каким-то образом с ним соприкасался в Берлине или, во всяком случае, кое-что из него в ту пору читал), на первой же странице приводит шахматную диаграмму, сопровождаемую таким текстом: «Много причин странности хода коня, и главная из них — условность искусства… Я пишу об условности искусства».
Набоков писал о том же: по крайней мере, если довериться Ходасевичу, лучшему из его критиков. Согласно Ходасевичу, тема Сирина «жизнь художника и жизнь приема», — по крайней мере, начиная с первого по-настоящему блистательного явления музы набоковского повествования, с «Защиты Лужина». С «шахматного» романа. (Кстати, отрывком из него, напечатанным в «64», журнале шахматистов, началось осенью 1986 года возвращение писателя в Россию.)
Шкловский в феврале 17-го вывел броневой дивизион на улицы Петрограда, а потом эмиссаром Временного правительства уехал на Румынский фронт. Он был близок к эсерам. Зимой 1922 года объявили о предстоящем процессе над ними, дело, вопреки протестам Анатоля Франса, Горького, а также видных европейских социалистов, шло к смертному приговору: большевистская диктатура отныне становилась безраздельной. Обманув чекистов, устроивших засаду, Шкловский по льду бежал в Финляндию, откуда добрался до Берлина. Никто бы не назвал его аполитичным. Но в книжке «Ход коня» с определенностью заявлено: «Искусство всегда было вольно от жизни, и на цвете его никогда не отражался цвет флага над крепостью города». Как он впоследствии сожалел об этой афористической фразе, как от нее отказывался и сокрушался из-за своего «неправильного отношения к революции»! И все же афоризм вошел в историю литературы. Он выражал взгляд, близкий молодому писательскому поколению, которое пришло после русской трагедии: и тем, кто, как участники группы «Серапионовы братья» Зощенко, Всеволод Иванов, Каверин, остался в России, и оказавшимся в Зарубежье — в Париже, Праге, Варшаве, Харбине. В Берлине, который Ходасевич назвал «мачехой российских городов», а другие, случалось, именовали иначе: третьей русской столицей.
Как бы от имени всего этого поколения — авторитет критика, с которым считаются, даже не принимая его суждений и оценок, давал ему такое право, — Шкловский заявил, что недопустимо «уравнение между социальной революцией и революцией форм искусства», поскольку сама форма рождает новое содержание, а не наоборот. И пояснил свою мысль простой метафорой: рис, прежде чем употребить его в пишу, очищают от шелухи, но между тем мозгу нужна как раз эта шелуха. Вот так же пренебрежение искусством, словно шелухой риса, приводит к омертвению организма.
Думающие, что насыщает лишь лущеный рис, совершали ошибку. Когда с такими представлениями они судили о литературе, получалось, что «новые формы быта создают новое искусство»; для Шкловского все было вовсе не так. На самом деле современное искусство хотело именно освобождения от быта, «который играет в творчестве лишь роль при заполнении форм и может быть изгнан совсем». Революция, писал Шкловский, тут ни при чем: поэты, отозвавшиеся на революцию, например футуристы, у которых быт заменен «вольными пятнами заумного звучания», всего лишь «осознали работу веков», — то есть стали раскрепощаться от быта откровенно, тогда как прежде то же самое делалось втайне.
Конечно, Шкловский кое-что выразил с излишней прямотой, которая объясняется полемическим запалом его статей. Революция, нечего и говорить, сыграла в описанной им перемене роль самую значительную, и не оттого что с нею утвердился новый «быт», а по той причине, что старые, устоявшиеся художественные формы, для которых этот «быт», насколько возможно полное воссоздание реальности значил исключительно много, теперь утрачивали свою творческую действенность. Несколько лет спустя Зощенко скажет об этом выразительнее других: считается, что новой эпохе нужен «красный Толстой», однако ожидать его появления наивно. Теперь другой воздух и другая литература — лучше ли, хуже, рассудит время, но другая.
Для нее условность искусства, которому ход коня всегда важнее и интереснее, чем прямолинейное движение ладьи, становится темой и сюжетом, по-разному воплощаемыми, но, по существу, однородными, даже если к этому сюжету обращаются столь несхожие писатели, как Зощенко и Набоков, он же Сирин.
Ходасевич в статье «О Сирине», написанной в 1937 году, когда определяющие свойства этого прозаика выступили достаточно ясно, отмечал, как многие, что «формальная сторона его писаний отличается исключительным разнообразием, сложностью, блеском и новизной». Однако не ставил на этом точку, а предлагал объяснение. И оно напоминало те мысли о природе, о сущности искусства, которые Шкловский высказал четырнадцатью годами ранее, развив их потом в целую теорию (первую послеберлинскую книгу статей о литературе, вышедшую в 1925-м, он так и озаглавил — «О теории прозы»). Шкловский писал о «слове в искусстве», отличающемся от «слова в жизни», где оно всего лишь «играет роль костяшки на счетах». О том, что искусство есть прием и представляет собой «особый мир специально построенных вещей», которые сотворены поэтом из слов-понятий. А Ходасевич, касаясь «Защиты Лужина», «Соглядатая», «Приглашения на казнь», говорил об «игре самочинных приемов» как коренном свойстве сиринского повествования, об остра-нении (этот термин, означающий, по Ходасевичу, «показывание предмета в необычайной обстановке… открывающей в нем новые стороны», исходно принадлежит Шкловскому, который ввел его в 1914 году). И о необычности книг Сирина, состоящей в том, что здесь прием вовсе не скрыт. Напротив, он выставлен наружу и подчеркнут.
У этого прозаика, писал Ходасевич, проза населена, помимо действующих лиц, «бесчисленным множеством приемов, которые, точно эльфы или гномы, снуя между персонажами, производят огромную работу: пилят, режут, приколачивают, малюют, на глазах у зрителя ставя и разбирая те декорации, в которых разыгрывается пьеса». Правда, он слишком увлекся своей мыслью, утверждая, что в книгах Сирина иногда вообще «нет реальной жизни… только игра декораторов-эльфов, игра приемов и образов», которыми заполнено сознание персонажей. Так не бывает. Шкловский, озаглавивший — с вызовом — одну свою раннюю статью «Искусство как прием», понял это прежде своих сознательных и стихийных последователей.
Но, объявив, что «при тщательном рассмотрении Сирин оказывается по преимуществу художником формы», Ходасевич тут же уточняет: чисто «формальный анализ» его прозы невозможен. Ведь тут «жизнь приема» становится темой, сливаясь с «жизнью художника». «Жизнь приема в сознании художника» и составляет главный мотив всего им написанного, ведя счет с «Защиты Лужина».
Шкловский объяснил — по крайней мере, частично объяснил, — отчего эта тема стала такой обычной в русской литературе после катастрофы, отчего она так важна. На языке Шкловского «созданье новых вещей» посредством нескрываемого приема — допустим, идея Ремизова «создать книгу без сюжета, без судьбы человека, положенной в основу композиции», — называлось юродством. В «Zoo, или Письмах не о любви», лучшей книге самого Шкловского (она вышла в 1923 году в Берлине), по этому поводу сказано: «Мы юродствуем в мире, для того чтобы быть свободными». Юродствуем, уподобляясь Ремизову, который «живет в жизни методами искусства». Или «строим между миром и собою маленькие собственные мирки — зверинцы». Или непременно избираем ход коня.
Летом 1922-го пути всех трех — Шкловского, Ходасевича, Набокова — могли пересечься в германской столице. Ходасевич приехал из Петрограда в самом конце июня, практически в одно время с вернувшимся кембриджским выпускником. Тогда же прибыл в Берлин Шкловский, чтобы прожить тут с год и, кроме «Zoo», написать «Сентиментальное путешествие», книгу воспоминаний о пяти годах революции. С Ходасевичем он был знаком еще по Петрограду, по знаменитому Диску — Дому искусств, бывшей квартире владельца гастрономических магазинов Елисеева; окна смотрели на Невский, Мойку и на Морскую. Там устроили что-то вроде коммуны для голодающих и вымерзающих питерских литераторов: давали пайки, а бывало, и дрова. Шкловский занимал елисеевскую спальню с печкой, расписанной глухарями, Ходасевич — угловую комнату, откуда Невский виден почти до вокзальной площади. Шкловскому запомнились меховая потертая шуба, обтянутое кожей лицо и «муравьиный спирт вместо крови… Когда он пишет, его носит сухим и горьким смерчем».
В Берлине Шкловского и Ходасевича сблизило участие в журнале «Беседа», предназначенном, по мысли Горького, который возглавил издание, объединить писателей, оказавшихся в эмиграции, с теми, кто не уехал из России. Из затеи, начатой по инициативе Шкловского, ничего не вышло: вопреки официальным заверениям, в СССР «Беседу» не пропускали. Неудача этого начинания — после тяжких мытарств «Беседа» прекратилась на седьмом номере — заставила ее сотрудников, поначалу не считавших себя эмигрантами, всерьез задуматься о своем будущем. Шкловский еще до остановки журнала решил возвращаться, не смущаясь тем, что процесс над эсерами кончился приговором двенадцати подсудимых к расстрелу (правда, потом замененному ссылкой), и значит, ему неминуемо предстояло каяться и исправляться. Ходасевич все больше склонялся к мысли, что он не вернется.
Впрочем, Берлин был тягостен им обоим.
В одном из первых же своих берлинских писем — через неделю с небольшим после приезда — поэт описывает пансион, «набитый зоологическими эмигрантами: не эсерами какими-нибудь, а покрепче: настоящими толстобрюхими хамами… Чувствую, что не нынче-завтра взыграет во мне коммунизм. Вы представить себе не можете эту сволочь: бездельники, убежденные, принципиальные, обросшие 8-ми пудовыми супругами и невероятным количеством 100-пудовых дочек, изнывающих от безделья, тряпок и тщетной ловли женихов… Одно утешение: все это сгниет и вымрет здесь, навоняв своим разложением на всю Европу».
Потом острота первых негативных впечатлений сгладится, но аллергия на немецкое (как и на почти все эмигрантское) не пройдет, и в октябре того же года М. Гершензон, философ, пушкинист, тайный оппонент, к которому, однако, Ходасевич испытывал почтительность и расположение, получит письмецо с советом «… не показывайтесь в Берлине: городок маленький, провинциальный, вроде Тулы, но очень беспокойный». В маленьком городке населения было на десять Тул, причем почти двести тысяч составляли русские. Но ощущение провинциальности от этого не пропадало. Когда год спустя вслед за Горьким удалось уехать в Чехословакию, а там и в Италию, Ходасевич вздохнул с облегчением.
Высказанные в том летнем письме страхи, что вскоре целыми днями он будет распевать «Интернационал», оказались напрасными: коммунизм в Ходасевиче не взыграл. Едва ли он так уж сильно взыграл и в случае со Шкловским, чья дорога пролегла в другом направлении. Илья Эренбург, хорошо его знавший как раз в ту берлинскую пору, писал друзьям в Петроград: Шкловский «славный, но без базы, т. е. без больших прямых линий. Весь — детали». По возвращении Шкловский остался таким же. Пока можно было, не вмешивался в политическую жизнь, но когда сказали, что надо с писательской бригадой ехать на Беломорканал и воспевать лучших в мире педагогов-чекистов, поехал не прекословя. Ничего не писал о назначенных партийным указанием советских классиках, но книга о Маяковском знаменовала собой безоговорочную капитуляцию, если вспомнить, что он о том же самом Маяковском писал не в 1940-м, а лет на пятнадцать раньше. «Детали» оставались выразительными даже в самые глухие времена, «большие линии» лучше было никому не демонстрировать.
Тем не менее, закончив «Zoo» письмом во ВЦИК, где, словно вопль, прозвучало: «Я хочу в Россию… Я поднимаю руку и сдаюсь», — Шкловский, видимо, никогда не пожалел о принятом решении. Вернуться его заставила «берлинская тоска», горькая, как пыль карбида. В «Zoo», в «Сентиментальном путешествии» о ней, неотступной этой тоске, вообще о «безверном и бездельном русском Берлине» сказано пронзительно: «Мы заряжены в России, а здесь только крутимся, крутимся и скоро станем». И ничего нет страшнее мысли, что вдруг умереть придется «в летучем гробу ундер-грунда».
А ведь Шкловскому было с чем сравнивать. Он прожил зиму в Петрограде, когда не то что функционирующей подземки, о какой в России и не мечтали, — даже стоящей на ногах клячи не отыскать было по всему городу. Помнил разобранные на дрова стены и новые руины, среди которых оставшиеся здания торчали, как уцелевшие зубы в шамкающем рту. Помнил лепешки из картофельной шелухи, изжаренные на кале, и тоску скрипящих полозьев, когда на санях тащат тело к кладбищу. Но все равно непереносимо было смотреть на речку Шпрее, которая
Этого ощущения — «нет, мы не беженцы, мы выбеженцы, а сейчас сидельцы» — Шкловский не выдержал. И не выдерживали многие, смотревшие на Берлин лишь как на временное пристанище, как на пересадку, вроде той, что у Глайсдрайек, откуда начинались маршруты к Лейпцигер-плац и другим площадям, «где нищие продают спички, и спокойно лежат покрытые попонками собаки, поводыри слепых».
Не выдержал Белый, умчавшись в Москву, словно подхваченный незримым вихрем.
Не выдержал Эренбург, отчаянно томившийся по Парижу в этом городе, где «немцы стонут: доллар растет». Где «все призрачно — пальто, ломтики мяса, небо и нежные взгляды немок».
Набоков — так сложились обстоятельства — остался и прожил здесь пятнадцать лет.
Писатель Владимир Сирин родился в Берлине.
Публикации в «Руле» и четыре одна за другой вышедшие книжки сделали этот псевдоним довольно известным в берлинских эмигрантских кругах. Появились рецензии в «Новой русской книге», журнале, который, по замыслу его издателя, профессора права А. С. Ященко (сначала это было что-то наподобие бюллетеня — просто «Русская книга»), должен был давать отзывы обо всех заметных новинках русской литературы, независимо от политических границ. Давний знакомый Глеб Струве, тот, с кем в свое время советовались насчет Оксфорда и Кембриджа, написал рецензию для «Русской мысли», которая тогда печаталась в Праге. Не оставил без внимания первые книги своего сотрудника и «Руль».
Раньше остальных, в ноябре 22-го был выпущен в свет «Николка Персик». О нем Набоков впоследствии никогда не вспоминал, видимо, считая этот перевод шаловливой повести Ромена Роллана безделкой или грехом своей литературной юности. Известно, что за «Кола Брюньона» он взялся, заключив пари с Владимиром Дмитриевичем, считавшим, что ни на каком другом языке невозможно воссоздать присыпанный прибаутками и каламбурами, расцвеченный архаизмами и грамматическими неправильностями говорок заглавного героя, неунывающего ремесленника-бургундца, который, повествуя об ударах судьбы, перенесенных им во времена Людовика XIII, в начале XVII столетия, остается фрондером, шутником, жизнелюбом, — человеком своей эпохи, еще не позабывшей вольное мирочувствование Ренессанса.
Этот Кола, ставший Николкой (так же как Мари стала Машей, чтобы ненатужно срифмоваться с «нашей»), мог привлечь Набокова своим природным артистизмом, а мог расположить к себе и другим — полным свободомыслием, особенно в делах религии. Но главным образом привлек его не герой и не перипетии рассказа о мытарствах старика, чье прозвище, строго говоря, означает не Персик, а особый бургундский плод, отдаленно напоминающий нектарин. Привлекла изобретательность словесной игры, которой в его переводе подчинено все, вплоть до смысловой точности, — перелагатель не видит причин ею не пожертвовать, если подобающий русский эквивалент грозит нарушением повествовательного ритма. В счастливые минуты ритм и внутренние рифмы оригинала удается передать по-русски, сохранив не только лад, но смысл. Тогда перо Набокова непринужденно выводит что-нибудь вроде: «Осада осадой. А я как сяду, засяду и зада со стула не сдвину», — подобной артистичности он не так уж часто достигал даже в своих самых прославленных произведениях. Однако примеры этого рода единичны. Уверенности еще нет, текст, обычно гладкий, то там, то здесь начинает спотыкаться, да и сама его гладкость навряд ли такое уж достоинство: не проза, а какой-то процеженный отвар.
Пари у отца Набоков, пожалуй, выиграл (и уж конечно, выиграл заочный спор с переводчицей М. Елагиной, которая тогда же, в 1922 году, напечатала свою версию «Кола Брюньона»; книжка петроградского издания попала на глаза Горькому, а тот написал автору, что его повесть «поистине создание галльского гения»). Но для писательского будущего Сирина опыт с «Николкой» навряд ли оказался таким уж существенным. Разве что дал почувствовать, как велики ритмические и звуковые возможности русской стилистики, если почаще обращаться к Далю, смакуя полузабытые, но такие выразительные слова. Четыре томика Даля, случайно приобретенные в Кембридже на книжном развале, впервые понадобились для дела. Теперь они станут для Набокова незаменимыми.
С переводом «Алисы», вышедшим в марте 23-го, связывались более отчетливо выраженные творческие амбиции. Русский вариант Кэрролла (на обложке значилось — Л. Карроль) делался не на спор с целью доказать уменье, которого для крестословиц потребовалось бы не меньше, чем для литературных занятий. За эту сказку Набоков взялся, потому что «Алиса» остро ему напоминала о детстве («я был английским ребенком»). А рассказана она была автором, с которым он ощущал творческое сродство.
В собственных его книгах странные, двоящиеся образы, мир зазеркалья, смешение пригрезившегося с реальным, зашифрованные пародии, которыми оспорены претензии самоуверенной рациональности на то, что она универсальна и не подлежит корректировкам, — все это появится, начиная с напечатанного в 1930-м «Соглядатая» (а может быть, и раньше, с рассказа 1927 года «Подлец»), и не исчезнет вплоть до главных произведений американского периода: таких, как «Бледный огонь» и «Ада». Кэрролл, разумеется, не мог пробудить таких творческих интересов. Он только помог яснее их осознать и в какой-то мере способствовал тому, что они сделались стойкими (причем не он один: чтение Гоголя в этом отношении дало, уж по крайней мере, не меньше).
Но, так или иначе, Кэрролл, в особенности по сравнению с Ролланом, был для Набокова абсолютно «своим» писателем. Оттого он и досадовал на свой перевод, когда о нем напомнила статья в сборнике, изданном к его семидесятилетию: «Если бы за него взяться лет через пятнадцать, он вышел бы намного лучше. Мне удались только стихи и каламбуры». Автор статьи утверждал, что идея одной из пародий была позаимствована из перевода, сделанного Поликсеной Соловьевой, сестрой философа, довольно известной поэтессой, которая печаталась под псевдонимом Allegro. Ее «Алиса» вышла в 1909 году и была в России третьей (а набоковская — уже шестой), однако Набоков утверждал, что не прочел ни одной, включая и появившиеся после его «Ани». Оснований сомневаться в этом нет. Странными были бы предположения, что какой-нибудь английский текст он станет читать по-русски.
Недоразумение с мнимым заимствованием у Соловьевой возникло вот из-за чего: у Кэрролла героиня декламирует стихи, являющиеся пародийным вариантом одного очень популярного в Англии назидательного текста XVIII века. А поскольку ни текст, ни его автор, Исаак Уоттс, в России абсолютно никому не известны, потребовалось подобрать русский аналог: тоже общеизвестный и такой же нравоучительный. Решение лежало на поверхности — кстати, до Соловьевой его нашел первый (анонимный) русский переводчик, заставивший свою Алису («Соню») декламировать: «Киска хитрая не знает ни заботы, ни труда». У Соловьевой это место звучало так: «Божий крокодил не знает ни заботы, ни труда. Он квартир не нанимает и прислуги — никогда». А Набоков русифицировал еще решительнее: «Крокодилушка не знает ни заботы, ни труда. Золотит его чешуйки быстротечная вода».
Ход один и тот же — повсюду «Цыганы», — однако есть существенная разница: в версии Набокова героиня не делает вид, что она англичанка. Она Аня, она посещает Паркетную губернию, играет в куролесы и выслушивает рассказ Мыши о борьбе за престол, освобожденный Владимиром Мономахом. Ее не удивляют подсчеты в рублях и копейках. Что же странного, если, в отличие от Алисы, наверняка знающей стихи Роберта Саути, в середине прошлого века известные каждой благовоспитанной английской девочке, у Набокова Аня по просьбе Гусеницы начинает декламировать: «Скажи-ка, дядя, ведь недаром тебя считают очень старым, ведь право же, ты сед…» — и так далее, — восемь строф, по ритмике и по системе рифм точно воспроизводящих «Бородино».
Этот прием вопиющим образом противоречит позднейшим представлениям Набокова о переводе, который должен быть слепком оригинала: неуклюжим, неудобочитаемым, зато на уровне смысла абсолютно достоверным текстом, примером буквализма в прямом значении слова. Решение, избранное для перевода «Алисы», означало неизбежную долю искусственности. В общем и целом это не перевод, скорее адаптации, а в адаптациях национальный колорит всегда ослаблен, если не утрачен целиком и полностью. Однако тут есть и свой выигрыш. Во всяком случае, теперь никому бы не пришла в голову мысль, смущавшая читателей Соловьевой: откуда девочке-англичанке так хорошо известен Пушкин?
А самое главное, естественной становилась словесная игра, без которой «Алиса» перестала бы быть собой, даже не превращаясь в Аню. Кэрролл выводит на сцену персонажа, которого в современном переводе зовут Черепаха Квази (в оригинале Mock Turtle, Черепаха, которая смотрится как пародия на черепах). Набоков соединяет «черепаху» с «чепухой», и на свет является Чепупаха — слово, без потерь передающее метафору, обыгранную в английском тексте, и вовсе не режущее русский слух. Кэрролл намеренно путает «lessons» и «lessen», и выходит приблизительно так: больше учишься — меньше знаешь. Набоков подбирает пару «уроки» — «укоры»: почти такое же близкое звуковое созвучие, а школьные укоры оставляют у русского читателя не менее яркое впечатление, чем кэрролловский каламбур у англичан.
Внимательным читателям именно «Аня» позволила бы в первый раз ощутить, что появился новый писатель: очень одаренный, очень эрудированный и намеренный двинуться своими путями. В те первые годы русского Зарубежья желание идти своими путями было преобладающим, особенно у молодого писательского поколения. Остро чувствуя значение свершившегося перелома, они — во всяком случае, большинство из них — не разделяли мыслей Шкловского, который писал, что наивно ожидать революции форм вслед за социальной революцией. «Своими путями» — назывался пражский журнал, просуществовавший недолго, лишь полтора года, до лета 26-го, однако выразивший идею обязательной, нормативной новизны отчетливее, чем другие эмигрантские литературные объединения и их издания. Для Набокова эта идея тоже обладала значительностью не меньшей, чем для остальных. Но воплощалась им по-своему.
Это стало видно — но лишь пристальному взгляду — по «Горнему пути». В отличие от «Грозди», составленной наспех и довольно безалаберно, композиция этого сборника была хорошо продумана. Выстроены циклы — семнадцать миниатюр под общим заглавием «Капли красок», девять стихотворений, соединенных в сюиту «Ангелы». Обозначены повторяющиеся мотивы и темы, прежде всего лирическая тема, связанная со Светланой (так автор сначала хотел назвать «Горний путь», но его отговорил Саша Черный, который отверг и заглавие «Горный путь», впрямую напоминающее о Крыме, о последних днях идиллии и романтики). Набоков не мог знать, что третья его поэтическая книга окажется (из русских) последней, изданной прижизненно. Итоговый том «Стихи» появился через два года после его смерти.
Сам он, видимо, не питал серьезного намерения с карандашом в руках перечитать написанное стихами в юности и, собрав разбросанное по старым эмигрантским журналам, произведя отбор, выпустить том, который напомнил бы, что когда-то он был русским поэтом. В интервью 1970 года Набоков отозвался о своем поэтическом творчестве раннего периода сурово и в целом пристрастно: хромота из-за того, что мешают «кандалы», да к тому же надетые на себя без принуждения извне. «Дух музея», в котором представлена частная коллекция, может быть, и не интересная никому, кроме владельца. Все заботы отданы ностальгическим реминисценциям, а когда этот мотив иссякает, автор слишком старается, чтобы у него получались образы пышные, «византийские», намеренно чужеродные той анемии, что возобладала в поэзии эмиграции. Помимо остального, эти образы должны доказать справедливость усвоенной Набоковым теории, по которой даже небольшому стихотворению необходим сюжет, — в нем нужно рассказать какую-то историю. «Лишь к концу тридцатых годов и, главным образом, еще позднее пришло освобождение от этих добровольных пут».
Тут многое замечено точно, но оставлено без внимания главное — исканье «своих путей», попытки уйти от эпигонства, причем намного более удавшиеся, чем раньше. Чужие голоса еще звучат в его ямбах и дактилях, явственно слышится то музыка Бунина («По саду бродишь и думаешь ты. Тень пролилась на большие цветы. Звонкою ночью у ветра спроси: так же ль березы шумят на Руси?»), то, еще чаще, блоковская мелодия, как в стихотворении «Россия»:
Ты в страсти моей, и в страданьях торжественных,
и в женском медлительном взгляде была…
В полях озаренных, холодных и девственных
цветком голубым ты цвела.
Но ученичество, робкое подражательство уходят. Была имитация, появилось осознанное созвучие — осознанный выбор той традиции, той музыки, которую хочется продолжить, продлить, вопреки времени, что ее заглушает. Посвящение на первой странице: «Памяти моего отца» — ко многому обязывало. Как и пушкинский эпиграф из «Ариона» с его клятвой верности погибшим.
В представлениях тогдашнего Набокова верность означала культурное наследование. Творчество становилось преимущественно, если не исключительно, сохранением атмосферы, ассоциаций, духа, тона, всего, что соотносится с «еще свежей Россией». С ее Серебряным веком.
Для Набокова это время, совпавшее с его ранней юностью, пока еще существует нерасчлененно, оно остается счастливым «синеоконным прошлым», в котором «никто никогда не умрет». Отвергнуто — простым неупоминанием, неучастием в созидаемом им культурном мифе — лишь то, что разрушало Серебряный век, приближая другой: революционный и послеоктябрьский. Отвергнут футуризм. Отринуты салонная мистика и эгоцентричность, замешанная на поддельной, аффектированной религиозности («Надо полюбить себя, как Бога. Все равно, любить ли Бога или себя», — записывала в дневнике Зинаида Гиппиус, а дальше были опыты «соприсутствия трех Начал, неразделимых и неслиянных», но не херувимов, которые в одноименном набоковском стихотворении «над твердью голубой… глядят недвижными очами», а литераторов 3. Н. Гиппиус, Д. С. Мережковского и Д. В. Философова).
Но на этом избирательность Набокова, похоже, заканчивается. Серебряный век предстает в книге отголосками, которые доносят едва ли не всю его пестроту. Отголосками программы акмеизма, причем в первом же стихотворении: «Отчетливость нужна, и чистота, и сила. Несносен звон пустой, неясность утомила». И отголосками этой неясности, неотчетливости, возведенной в творческий принцип символистами: «Ты сон навеваешь таинственный. Взволнован я ночью туманною, живу я мечтой несказанною, дышу я любовью единственной». Бунинскими отзвуками, и даже иногда есенинскими («„Жизнь моя, — скажу я властно, — не сердись, — ты не права!“ — но пойму я, что напрасны старые слова»), и с виду совсем уж странными, зная стойкую неприязнь к этому автору, параллелями с Брюсовым — как раз в стихах с библейскими мотивами и «византийской» образностью, которая говорит о холодном (по-набоковски: безбурном) эстетизме и фактическом отсутствии религиозного чувства.
Под старость Набокова поражало, что могли, читая такие стихотворения, обнаруживать в них что-то помимо «литературной стилизации». Ведь только в качестве такой «стилизации» религия и представляла для него некоторый интерес — причем, уверяет он, так было всю жизнь. Как и в других интервью, тут есть доля притворства и привкус эпатажа. Однако книга, которая названа «Горний путь», уже заглавием настраивая на ожидание духовных озарений, вправду их лишена. И не обязательно из-за безрелигиозности автора. Скорее в силу необходимости следовать воссоздаваемому стилистическому канону. Брюсовскому канону, потому что лишь последователь Брюсова мог, взявшись изображать Голгофу, настолько увлечься живописанием черного холма, на котором, окутанные сырым благовонием, что восходит со дна долин, «на трех крестах во тьме белеют трое», — мог до такой степени пренебречь сакральным смыслом главного события евангельской истории. И написать о Распятом лишь вот это: на кресте он (намеренно со строчной буквы) умиленно, сладостно
… вспомнил домик в переулке пестром,
и голубей, и стружки на полу.
Известно, что в крымском, имении графини Паниной была огромная библиотека, где, как запомнилось сестре Набокова Елене Сикорской, имелись книжки тысячи современных поэтов, — из всех них она поименно называет, однако, лишь Белого и Брюсова. Известен и поздний, уже в американский период отзыв о Брюсове самого Набокова: вместе с Анненским, Вячеславом Ивановым, Белым и Бальмонтом он назван среди тех, кто открыл в русском стихе возможности, остававшиеся неясными даже такому мастеру, каким был Тютчев. В юные годы эти открытия, похоже, слишком кружили ему голову: как-то не думалось о том, что под общим именем символизма соединились поэтические миры, порой внутренне враждебные один другому, и что среди них мир Брюсова, тот, где, по убийственной характеристике Ходасевича, воцарилось «бесцельное искусство», ставшее «идолом» (знавший Брюсова в годы своих дебютов, Ходасевич писал в мемуарной книге «Некрополь»: «Литература ему представлялась безжалостным божеством, вечно требующим крови»). Читающим «Ангелов», которые были написаны в Крыму (уж не под впечатлением ли от какого-нибудь брюсовского тома, отысканного на книжных полках графини?), иной раз кажется, что Набоков тогда смотрел на поэзию примерно так же: все в мире «лишь средство для звонко певучих стихов», в которых поэтически воплощенная идея, смысл, в сущности, ничего не решают, поскольку главное — образцовость, с какой выполнено упражнение, точность метра, выверенность строф, продуманные сочетания эпитетов.
Со всем этим, с эпитетами и строфикой, со звукописью и цезурами, больших проблем у начинающего поэта не возникало: умением он не был обделен уже тогда. Сложность состояла в том, чтобы его выверенные строки перестали восприниматься главным образом как уверенно сделанные экзерсисы, а мотивы, тем более библейские, не выглядели декоративными. Чтобы вправду возникало чувство, что славил величие Творца, а не просто давал сочинителю повод, описывая красивый пейзаж, щегольнуть пиррихиями тот Ангел, которому со скалы видны
И рощи темные, и светлые поля,
и рек изгибы и слиянья,
и радуги садов, и тени, и сиянья, —
вся Божия земля!
Но когда рецензент книги Роман Гуль, будущий автор ценных воспоминаний «Я унес Россию», написал, что в сборнике слишком чувствуются затертость формы и «изношенные клише», он судил неверно. Ведь реконструкция Серебряного века, которая была основной задачей и внутренней темой книги, как раз требовала знакомых поэтических ходов, привычных метафор и слов-сигналов, отсылающих к тогдашнему кругу представлений, переживаний, предчувствий. Если эта реконструкция соединялась с лирическим сюжетом, на котором нет печати литературности, эффект был неподдельным, хотя такие случаи единичны. Почти всегда они требуют присутствия героини, с которой поэта связывает многое, и светлое, и мучительное, — той, что скрыта за инициалами В.Ш. (а в «Других берегах» — за условным именем Тамары):
Я думаю о ней, о девочке, о дальней,
и вижу белую кувшинку на реке,
и реющих стрижей, и в сломанной купальне
стрекозку на доске.
Впрочем, ни тогда, ни позже Набоков не считал, что он рожден лириком. «Печать культурности… внушения чужих поэзий», которые выделили его стихи на фоне молодой литературы Рассеянья, — этот взгляд, выраженный в единственной дельной статье о его книге, был приемлемым для автора, смотревшего на себя примерно так же.
Статью написал Юлий Айхенвальд, основной литературный обозреватель «Руля» со второго года издания газеты. Очень известный критик, чьи «Силуэты русских писателей» имели громкий успех при своем появлении в 1900-е годы, он тогда печатался в «Руле» под псевдонимом Б. Каменецкий.
Летом 1922-го Айхенвальд выпустил в Петрограде небольшую книжку, где поместил восторженную статью о поэзии Николая Гумилева. Это был явный вызов большевикам: расстрелянного Гумилева еще не запретили упоминать в печати, однако восторгаться им считалось преступным. Отозвалась «Правда» — статьей под заглавием «Диктатура, где твой хлыст»; похоже, сочинил ее лично Лев Давыдович Троцкий. Уже были составлены списки интеллигентов, общественных и церковных деятелей, ученых, подлежащих в сентябре депортации на знаменитом «философском пароходе», который увез из России цвет ее мысли и культуры. Нашлось в этих списках место и для Айхенвальда. Вскоре он появился в Берлине и пришел к Гессену в «Руль».
Шесть лет, пока Айхенвальд, рассеянный, а к тому же страшно близорукий, не погиб под колесами трамвая, в этой газете каждую неделю появлялись его «Литературные заметки»: истинный образец интеллектуальной широты, ума и вкуса, творения легкого, изящного пера, которое принадлежало «человеку мягкой души и твердых правил», как отозвался о нем Набоков. Псевдоним пришлось взять не по доброй воле. В России у Айхенвальда оставалась семья, он тревожился, что хлыст диктатуры больно ударит по его близким. К счастью, удалось устроить так, что они к нему приехали. Первые советские годы достать визу в Германию не составляло такой уж непреодолимой сложности. Лазейку прихлопнули, когда кремлевский горец принялся обустраивать отечество победившего пролетариата всерьез и надолго.
А начало 20-х стало временем краткого, однако бурного расцвета русского Берлина. Жизнь была неправдоподобно дешева, инфляция и скачущие цены кого-то разоряли, другим давали шанс в минуту разбогатеть, и порой удача сопутствовала самым безоглядным коммерческим начинаниям. Русских была тьма тьмущая, причем они все прибывали. На карикатуре того времени изображен почтенного вида бюргер, который со всех ног несется к пивной с вывеской готическим шрифтом, затерявшейся среди русских реклам. В окне пивной приклеена бумажка с надписью: «Здесь говорят по-немецки».
Среди берлинских россиян отнюдь не все были эмигрантами. Положение многих оставалось неопределенным: границу еще не перекрыли, сохранялся шанс вернуться. И даже не расшаркиваясь перед режимом, не поливая помоями вчерашних приятелей, как поступил красный граф Алексей Толстой, недавний берлинский житель, который по возвращении в Петроград/Ленинград сочинил клеветнический роман-памфлет «Черное золото».
Еще и не думал о своем заявлении во ВЦИК («Впустите в Россию меня и весь мой нехитрый багаж») Шкловский. Он, подобно многим, жил «среди немцев, как среди берегов». И прогуливаясь вокруг Гедехтнискирхе, думал о том, что новые формы «создаются путем канонизации форм низкого искусства».
Белый был страстно увлечен «Эпопеей», своим журналом — вышло четыре номера. Выбор названия он объяснял тем, что «эпопейна» современность: о ней требуется говорить героическими поэмами, она ждет своего Гомера, который «уже зачат».
Совсем ненадолго появилась в Берлине и, пережив подобный камнепаду роман, уехала в Прагу Цветаева. В один из приездов к матери весной 1924-го Набоков с нею познакомился. Весенним ветреным днем долго гуляли по холмам, а потом в два присеста он дописал «Трагедию господина Морна», свою самую большую пьесу в стихах.
Приехал и провел зиму 1922/23 года Пастернак, из-за которого в берлинских литературных кафе схлестывались жестоко, непримиримо. Одним он казался явившимся на свет «Гомером будущего искусства», другие видели в его стихах лишь заумь и шарлатанство. Приезд Маяковского в сентябре 22-го еще больше накалил спор о поэзии и революции. Нескончаемый спор.
Политическая гамма, представленная на карте русского Берлина, поражала богатством оттенков. Были ультраправые: монархисты из самых непримиримых и черносотенцы, потом пошедшие в русские фашисты. Были ультрарозовые, а то и вовсе красные, как бывший кадет Юрий Ключников, который вдруг уверовал в «гений Ленина», отправился со своим единомышленником Ю. Потехиным взглянуть на СССР, затем, в августе 23-го вместе с А. Толстым вернулся в Москву насовсем и через пятнадцать лет стал жертвой ежовских репрессий. Были христианские мыслители — Лев Карсавин, Николай Лосский, Николай Бердяев: высланные из России по прямому указанию Ленина («вождь» о них отзывался, едва удерживаясь от нецензурных слов). Они учредили в Берлине Религиозно-философскую академию, издали сборник «София» и твердо вознамерились начать в изгнании дело русского духовного возрождения.
Были либералы и демократы, искавшие пути к объединению всех антибольшевистских сил с тем, чтобы исподволь готовить освобождение России, которая станет наконец настоящей европейской страной. Были и охваченные сомнениями, изводимые невыносимой тоской по дому, пытавшиеся убедить самих себя, что Совдепия — это не так уж страшно.
Они составляли главную опору движения, назвавшего себя «Смена вех», поскольку его стратегия предусматривала отказ от конфронтации с большевизмом и переход к сотрудничеству с ним, а также основной читательский круг основанной Ключниковым в конце 1921 года газеты «Накануне», о которой поговаривали, что она издается на советские деньги. Борис Пильняк, который привлек к себе внимание недавно напечатанным романом «Голый год», — он был воспринят как свидетельство возникновения послеоктябрьской русской литературы, кое-что перенявшей из стилистики Лескова и Ремизова, однако по своему духу и пафосу принципиально новой, отошедшей от классической традиции, — был специально послан в Берлин, чтобы укрепить позиции группы, считавшей, что эмиграция находится накануне примирения с большевиками. Аргументы в пользу примирения (а если понадобится, покаяния) были изложены в статьях Ал. Толстого: большевики «единственная — в реальном плане — власть, которая одна сейчас защищает русские границы… поддерживает единство русского государства… выступает в защиту России от возможного порабощения и разграбления ее иными странами». Пора собираться «в Каноссу» — так называлась статья-манифест в программном сборнике «Смена вех», вышедшем в 1921 году в Праге. Каносса — символ капитулянтства: там низложенный император Священной Римской империи Генрих IV вымаливал прощение у своего противника папы Григория VII. Было это на исходе XI века. В начале XX иной раз приходилось действовать таким же образом.
Пильняк не находил в этом ничего постыдного, Ал. Толстой с его всегдашним цинизмом — тем более. И он не прогадал: зажил в Совдепии барином, стал, написав не одну сотню позорных страниц, академиком, лауреатом, орденоносцем. У Пильняка все было иначе. В Берлине он развивал свою любимую мысль, что русская революция не коммунистическая, а мужицкая, и большевики просто сумели, изжив свой неорганичный марксизм, встать на позицию народных масс: они продержатся лишь до той поры, пока остаются на этой позиции. Получалось, что неприятие большевизма то же самое, что отречение от России. Эта уловка (хотя Пильняк, кажется, на самом деле верил в то, что утверждал публично) иногда срабатывала. Потом, когда в Россию, не без влияния Пильняка, вернулась практически вся группа сотрудников «Накануне», один свидетель триумфов советского эмиссара в Берлине сравнил его с опытным торговцем живым товаром, который сманивает девиц в Бразилию, «в самый приличный и роскошный дом». Но власть не простила Пильняку ни напечатанных им в 24-м «Отрывков из дневника», где он отказывался воспевать коммунистов (так как «вся жизнь будет коммунистична» еще не скоро, а до той поры подобные усилия остались бы бесплодными), ни повести «Красное дерево», которая без ведома советской цензуры вышла в 1929 году в берлинском издательстве «Петрополис». Пильняка арестовали осенью 37-го и казнили год спустя.
Но в тот свой приезд он чувствовал себя среди эмигрантов победителем. На Курфюрстендамм было кафе «Ландграф», которое облюбовали русские литераторы. На устроенном там вечере Пильняк прочел свой рассказ, где поют «Интернационал», и ушел под гром аплодисментов, хотя в зале сидели эсеры, и меньшевик Мартов, и Гессен с редакцией «Руля» — люди, которых, кажется, не должен был бы приводить в восторг партийный гимн. У Ященко в «Новой русской книге» появилась статья Пильняка «Заказ наш», где говорилось про «мужицкую литературу», которая берет верх в новой России. Сам Ященко отрецензировал книгу Пильняка «Былье», заявив, что его дар воссоздания мужицкой стихии — именно то, в чем ныне нуждается отечественная словесность.
Почти одновременно с появлением в Берлине Пильняка вышел первый номер леворадикального журнала «Вещь». Его редактировал Эренбург, в ту пору неистовый авангардист, который буквально бредил живописью Малевича и Пикассо, стихами Маяковского, композициями Татлина, архитектурными идеями Ле Корбюзье. «Вещь» открылась его статьей с утверждением, что необходим «верный скреп» между «Россией, пережившей величайшую Революцию, и Западом с его томительным послевоенным понедельником». Эренбург печатал (по-русски, по-французски, по-немецки) всех, кто намеревался «делать современное в современности». Он был убежден, что это намного важнее, чем распри между живущими в России и в эмиграции: главное — занять место на «левом фланге искусств». На втором номере «Вещь» прекратила свое существование, а вскоре выяснилось, что на «левом фланге» нет единства: прочитав роман Эренбурга «Жизнь и гибель Николая Курбова», боготворимый им Маяковский наделил автора нелестной кличкой «короля нэповской литературы». Но лозунги, заготовленные Эренбургом, остались. Они звучали и на литературных встречах за столиками в «Ландграфе», и в другом посещаемом артистической богемой кафе на Ноллендорфплац, и в Доме искусств, открытом в октябре 1921-го, где по субботам читали и Эренбург, и Пастернак, и Шкловский.
Правда, берлинский Дом искусств (жилье там не предоставляли, но в остальном он был задуман как аналог петербургского) правление, куда входили Ремизов и Белый, постаралось сделать культурным очагом для всей русской коммуны. Здесь читал о Гёте и Толстом Томас Манн, здесь устроили вечер памяти Владимира Дмитриевича. Здесь же разыгрались события, с полной ясностью показавшие, что эмиграция, не исключая эмигрантского литературного сообщества, состоит из людей, придерживающихся несовместимых принципов: и политических, и нравственных. Публицист И. Василевский, в статьях добавлявший к своей фамилии He-Буква, тиснул в «Накануне» фельетончик, оскорбительный для Эренбурга, который был назван имитатором, графоманом, коммивояжером от искусства, «Тартареном из Таганрога». Василевский, в скором будущем один из возвращенцев (а в 30-е, как почти все они, жертва репрессий), источал яд не столько из-за неприязни к Эренбургу, сколько по привычке старого газетчика, любителя писать «с перцем». Но все равно поднялось возмущение: обвиняли и его, и Ал. Толстого, заказавшего фельетон, требовали обоих исключить из Дома искусств. Когда этого не удалось добиться, в знак протеста правление покинули Ремизов, Белый, Ходасевич.
Однако и Василевский, и Толстой уже начали хлопоты о советских паспортах. Заблаговременно готовя почву для возвращения, красный граф еще в апреле 22-го сочинил письмо К. Чуковскому, где с явным расчетом на публикацию в печати или хотя бы на распространение из рук в руки писал про «собачью тоску» эмиграции, про тяготы житья «из милости, в людях» и страх, что теперь не впустят «домой». Чуковский ответил, что ему близки эти настроения, потому что и на родине предостаточно таких же эмигрантов, которые только «сплетничают, ненавидят друг друга, интригуют, бездельничают» да «поругивают советскую власть». Ответ Чуковского появился в «Накануне», в литературных приложениях, вызвав негодование и в Берлине, и в Петрограде. Многие поспешили заявить, что в «Накануне» больше не печатаются. Мосты были сожжены: с год улаживались формальности, в августе 1923-го основные сотрудники газеты вернулись в советскую Россию. Она продержалась до следующего лета, но это была уже не та газета, которую, одну из всех эмигрантских, цензура пропускала в СССР. Пропала заинтересованность большевиков в таком издании, потому что мавр сделал свое дело: прощаясь с публикой, редакция «Накануне» не без гордости отмечала, что ею «вырвано из обезьяньих лап» эмиграции все стоящее, а остались одни «отбросы». Под «отбросами» имелась в виду вся культура Рассеянья, исключая Ал. Толстого.
Незадолго до конца «Накануне» в нем, неожиданно для многих, стал сотрудничать молодой беллетрист Александр Дроздов, которого прежде поносили в этой газете и за произведения, и за журнал «Сполохи», ежемесячно выходивший под его редакцией. Дроздов объявил, что принцип журнала — «безоговорочная демократичность»: здесь будут представлены русская мысль и культура, «не умершая, не посмевшая умереть в беспримерных и неповторимых условиях». Печатались Бунин и Пильняк, Ходасевич и «Серапионовы братья», Ремизов, Волошин, молодой поэт В. Сирин. Чем не повод для упреков в эстетической всеядности и политической бесхребетности, тут же прозвучавших в «Накануне» (впрочем, и из уст Зинаиды Гиппиус)?
Причины, побудившие Дроздова переменить ориентацию, не очень ясны, но перемена была резкой. Сначала, в декабре 22-го года, напечатанный «Накануне» фельетон «Дар слез», где уничижительной критике подвергались настроения и ожидания эмиграции. Затем отъезд в Москву и через несколько лет — роман об эмигрантской среде под выразительным заглавием «Лохмотья». Как ни странно, Дроздов уцелел, когда разбушевался «большой террор». Он работал в московских редакциях и мирно дожил до преклонных лет. Конечно, он никогда не заговаривал о «Сполохах», о литературной группе «Веретено», выпустившей свой альманах, и о «Веретеныше». Этот «вестник критической мысли и сатиры» просуществовал недолго, три месяца 22-го года: с августа по ноябрь.
Содружество «Веретено», заявившее о себе чуть раньше, в апреле, декларировало, что «ставит своей целью проповедь творческого начала жизни и утверждение веры в созидательные силы русского искусства». Оно видело себя «абсолютно чуждым всякой политики». Его намерением было объединить молодые творческие силы России и Зарубежья, при этом давая отпор «Вещи» с ее космополитизмом и всемерно подчеркивая свою приверженность всему русскому. В Петрограде и Москве появились отделения «Веретена», и одно время казалось, что из этого опыта может выйти что-то путное.
Однако так продолжалось недолго. Как только на устраиваемые «Веретеном» чтения Дроздов пригласил сначала Василевского, а потом Ал. Толстого, объединение раскололось. Второй альманах не увидел света, так как от участия в нем отказались Бунин, Глеб Струве и В. Сирин. А когда Дроздов стал печататься в «Накануне», закрылись оба отделения «Веретена» в России. Роман Гуль, тот, кто прохладно оценил «Горний путь», писал про Дроздова, бросившего в Берлине жену с ребенком, что человек этот «душевно опустошен и циничен». Набоков, узнавший его за несколько месяцев пребывания в «Веретене» (он читал и на имевшем скандальный резонанс вечере в кафе «Леон» на Ноллендорфплац, после которого содружество фактически распалось), был о Дроздове примерно того же мнения.
В автобиографии сказано: «С писателями я видался мало». Создается впечатление, что Набоков жил анахоретом, оставаясь в стороне от многочисленных (особенно в Берлине) эмигрантских литературных групп, школ, объединений. Но это не совсем так. Чехов замечает в письме начинающему писателю-провинциалу А. Пешкову, что «естественное… состояние литератора — это всегда держаться близко к литературным сферам, жить возле пишущих, дышать литературой». Видимо, Набоков не чувствовал этого с полной ясностью, однако такое состояние было естественным и для него.
«Веретено» еще короче познакомило его с молодой литературой эмиграции: с Иваном Лукашом, вскоре ставшим его приятелем и соавтором, с Сергеем Горным, Владимиром Татариновым, Владимиром Амфитеатровым-Кадашевым. Почти все они регулярно выступали на литературной полосе «Руля».
В «Сполохах» Сирин напечатал важное для него стихотворение «Россия» («Плыви, бессонница, плыви, воспоминанье…») с мучительными картинами поругания рая: он «уже давно и срублен, и распродан…». «Все то, что распевало, тянулось к синеве, плясало по лесам… все это умерло», но душа чает Воскресения и предчувствует грядущую жизнь родной страны. А в альманахе «Веретено» появились четыре миниатюры, ярко характеризующие и тогдашние настроения Набокова, и его художественный вкус:
Мы вернемся, весна обещала,
о, мой тихий, тоскующий друг!
Поцелуем мы землю сначала,
а потом оглядимся вокруг.
Позабудем о пляске и плаче
бесновато уродливых дней…
Мы вернемся. Все будет иначе,
где горячий был некогда луг.
Музыка этих стихов намеренно, вызывающе архаична, и это должно было остро ощущаться слушателями Маяковского, той же осенью 22-го года выступавшего в Берлине, или читателями недавно вышедшей в Москве книги Пастернака «Сестра моя жизнь», — автор привез ее в Германию. Поэты, составлявшие круг «Веретена», придерживались принципиально другой творческой позиции. Сирин отчетливо ее выразил стихотворением, так и озаглавленным — «Поэт» (оно предназначалось для газеты «Русская мысль», издаваемой П. Струве, но не было напечатано и почти семьдесят лет провалялось в редакционном архиве).
Явившийся «в черный день моей родной земли», истинный поэт молится «величию и нежности природы», осознавая, как предан он «глубокому глаголу», родному языку, который пребудет и после того, как минет «этот век поветренных скорбей». Точность, выверенность языка, его ясность и незамутненность, сохраненные наперекор уродливому времени, для Сирина высший долг поэзии и самое строгое испытание ее ценности. Когда все осквернено, когда «поблекшие сердца в пыли поникли долу», когда кажется, что родина «мертва, и тленом ветры веют», архаика, на этот взгляд, спасительна — как способ сохранить русскую речь, а значит, и душу России.
Эта мысль останется для Набокова исходной и в поэтическом творчестве, и в оценках сделанного другими поэтами. С ходом лет он будет ее отстаивать лишь все более и более твердо, провоцируя недоумение тех, кто воспринимал его как художника, тяготеющего как раз к новым, подчеркнуто современным формам, то есть чуждого традиционности (его проза давала некоторые основания объявить, ничего не уточняя: «Сирин — зарубежник», писатель, скорее близкий современным европейским веяниям, чем отечественным заветам, из эмигрантов именно он по-настоящему внял призыву «На запад!», который устами своего теоретика Льва Лунца определили как главный художественный ориентир «Серапионовы братья»). Так и не преодоленная — даже в откликах наиболее к нему расположенных и наиболее чутких критиков — настороженность по отношению к поэзии Сирина объяснялась тем, что она осознанно им отделена от всего спектра художественных веяний, помеченных «духом эпохи», который вызывал у него все более отчетливо выраженную негативную реакцию.
Случалось, его слишком увлекала вера в консервативность как поруку выживания языка и культуры, и он явно переоценивал постные подношения музе, пленяясь их узнаваемостью и простотой. Сирин мог, например, с восторгом отозваться о книжке неведомого пражского стихотворца Г. Пронина, который откровенно подражал то Кольцову, то Есенину, и, отметив две-три ужасающие погрешности, тем не менее написать: «Огромным достоинством стихов Пронина является то, что пресловутой революции, пресловутых сдвигов в них не чувствуется вовсе. Эти тихие скромные стихи как будто написаны не в эмиграции, а в ольховом глушняке, в той чудесной неизменной лесной России, где нет места коммунистическим болванам». Но ведь и поэзию Бунина он, в сущности, оценивал по тем же критериям, когда писал в 1929-м, что «нам холодно от мертвых глыб брюсовских стихов», и бальмонтовский стих теперь кажется несносным, и умолкло, не оставив по себе памяти, «блестящее бряцание модных лир… бесследно прошла эта поэтическая шумиха». А вот Бунин остался, потому что он законный наследник Тютчева. Десять лет спустя в этом качестве выступит у Набокова Ходасевич, другой близкий ему поэт, хотя о бунинской лирике он отзывался высоко и в дальнейшем, не отказавшись от давней статьи, где тонко определены ритмический ключ этих стихов и передаваемое ими настроение: «до муки острое, до обморока томное желание выразить в словах то неизъяснимое, таинственное, гармоническое, что входит в широкое понятие красоты, прекрасного… особая поэтическая жажда — все вместить, все выразить, все сберечь».
Самому Набокову/Сирину эта жажда была ведома еще с тех его стихотворений, что написаны в Крыму. В Кембридже, в Берлине она не ослабла, а, пожалуй, наоборот, только усилилась. И поэтому он не испытывал никакого интереса к перепалкам разных литературных групп, споривших друг с другом вроде бы о путях поэзии, однако тут же переходивших на политику, от которой он старался по возможности оградить свое творчество, подчиняя его другим приоритетам. Распад «Веретена» ничуть его не опечалил, как и быстрая кончина другого объединения, пышно себя назвавшего Братством Круглого Стола. Участники были те же самые, добавился только Владимир Корвин-Пиотровский (через семь лет он издал книгу поэтических драм «Беатриче», о которой Сирин написал в газете «Россия и славянство», назвав автора «большим поэтом» и оценив — несколько завышение — «звук, силу, гулкость, чистоту» этих строк).
Ясность, простота, вдохновенье — из одной рецензии в другую Набоков повторяет эти требования, неисполнение которых для него синонимично подмене поэзии суррогатами, что распространились «в наше время отвратительно изысканных, совершенно никчемных стихов с апокалипсическим настроеньицем» или же еще проще, с обилием скверно зарифмованной бессмыслицы. Бунин, в те годы остававшийся для него бесспорным литературным авторитетом, высказывался о современной литературе примерно так же. И система критериев была в общем и целом почти идентичной у них обоих. Авангардизм оба воспринимали как явление очевидно или потаенно родственное революции. Богатую неологизмами и грамматическими вольностями стилистику современной поэзии считали чем-то вроде косноязычия. Отступление от классических традиций, уж тем более вызывающий отказ следовать им, так как они, по Маяковскому, покрылись хрестоматийным глянцем, и Бунин, и Сирин оценивали как кощунство.
Однако Бунин, современник Серебряного века, никогда ему, в сущности, не принадлежал и ясно сформулировал свое расхождение с ним, свое неприятие, когда культура этого века переживала самый пышный расцвет. А Набоков, который застал только ее угасание, был ей слишком многим обязан, чтобы исчезло ощущение своей зависимости от главных художественных направлений той эпохи — от символизма и акмеизма. Брюсовские «мертвые глыбы» были слишком ему знакомы, поскольку — и «Гроздь», и «Горний путь» содержат достаточно свидетельств — он взбирался на них много раз, изучив все расщелины и бугорки. О Блоке впоследствии, уже обосновавшись в Америке, он писал с нескрываемой неприязнью: находил в его стихах банальные мысли, вульгарность стиля, даже какофонию, — но это не заглушает постоянных реминисценций, а то и откровенных заимствований из Блока или подражаний ему в стихах, которые появлялись за подписью «В. Сирин» в берлинских изданиях. Гумилев оказался одним из немногих русских авторов XX века, к которому Набоков сохранил интерес и расположение до старости, а для поэта Сирина он, видимо, был второй после Блока фигурой современного литературного пантеона, — о нем «нельзя говорить без волненья», отмечено в одной критической заметке 1927 года. Сколько бы ни иронизировал Набоков по поводу утихшего «бряцания модных лир», восхваляя пронинские бледные строфы за то, что в них «пахнет ольхой» и воспевается «удалой мухомор», собственные его стихи раз за разом дают почувствовать, что в действительности звук этих лир длится, не замолкая. Достаточно почти наудачу раскрыть том его стихов, и сразу оживет поэтический мир, который неотделим от Петербурга, от Серебряного века, от символизма и его наследников: продолжателей или антагонистов.
Достаточно прочесть хотя бы стихи 1924 года «Видение» (они попали и в посмертную итоговую книгу), те, в которых движущийся иней несет «мою Россию — детский гроб», и сливаются на снежной могиле тени, что «заламывались безнадежно, как будто тени Божьих рук»: кто после этого всерьез воспримет сиринские похвалы «простым, хорошим русским стихам», где всюду ясность, правдивость и «обыкновенные слова»? Сам он, во всяком случае, написать такие стихи был просто не в состоянии: в нем слишком укоренились образность и язык символизма. И Пронина он хвалил не оттого, что в сочинителе книжки «Узор теней» вдруг почувствовал родную душу. Воспевателя трепещущих стрекоз и кудрявых ветвей он поощрял не за достижения, явно мнимые, а оттого, что, читая заурядный сборник, нашел повод для косвенного выпада против той поэзии, которая в самом деле не оставляла его равнодушным, вызывая сложные чувства: неприязнь пополам с заинтересованностью, причем жадной. Сарказм вкупе с опасением, что будущее принадлежит все-таки именно ей.
Впрямую он об этом заговорил в рецензии, на несколько месяцев опередившей его умиления Прониным. И там же назвал имя, которое для этой школы было первым по важности, коснулся явления, справедливо воспринимавшегося как ее визитная карточка. «Есть в России довольно даровитый поэт Пастернак, — начинается эта рецензия. — Синтаксис у него выпуклый, зобастый, таращащий глаза, словно его муза страдает базедовой болезнью. Он без ума от громоздких образов, звучных, но буквальных рифм, рокочущих размеров». И дальше совсем убийственно: скверный русский язык, мысль, выраженная неумело и путано, темноты от безграмотности. Словом, новый Бенедиктов. Этот неудачливый соперник Пушкина стал олицетворением дутой славы творческой бесталанности.
Чтобы правильно прочитать этот пассаж, ошеломительный для думающих, что Набоков — эталон художественного чутья и слуха, нужно ясное представление о том, кем был Пастернак для молодого поэтического поколения тех лет: в России и в Рассеянье. Не случайно Набоков, заговорив о нем, тут же перевел разговор на почитателей и энтузиастов: «Такому поэту страшно подражать. Страшно, например, за Марину Цветаеву». Как знать, читал ли он напечатанный Белым в «Эпопее» эссе «Световой ливень», отклик на «Сестру мою жизнь», в связи с которой Цветаевой сказано: «Пастернак — поэт наибольшей пронзаемости, следовательно, пронзительности». Но творческое сродство Цветаевой и Пастернака уловлено точно, вот только опасения за нее были лишними: она уже напечатала «Поэму горы», «Поэму конца», «Крысолова», а на следующий год выпустит «После России», единственную свою книгу стихов эмигрантского периода и, может быть, лучшую за всю жизнь. К концу жизни Набоков косвенно признает, что судил о ней неверно: в английском, третьем варианте автобиографии мимоходом будет сказано, что у нее был большой талант. Но это 1966 год. Сорока годами раньше Сирин смотрел на нее иначе, и суть дела заключалась, собственно, не в тех или других особенностях Цветаевой как поэта, а главным образом в том, что Набоков отвергал всю новую поэзию, которую она и Пастернак представляли наиболее ярко.
Ближе к нашим дням Иосиф Бродский, размышляя, о Цветаевой, указал коренное ее свойство, которое, наверное, было определяющим для всей школы, — «отбрасывание лишнего… начало преобладания звука над действительностью, сущности над существованием». Трудно поверить, чтобы этого вовсе не чувствовал Набоков; ведь он, внимательный читатель стихов, знал лирику Цветаевой и Пастернака в тех свершениях, которых не отменило время. И кричащая несправедливость его оценок заставляет предположить, что за ними стояли не одни лишь расхождения в художественных верованиях, пристрастиях и вкусах, пусть даже крайне резкие.
Ходасевичу, чьи критические суждения оставались для Набокова безусловно авторитетными, новая школа была внутренне столь же чужда, его неприязнь к ней не раз пробивалась то более, то менее открыто. Однако же, приписывая Пастернаку косноязычие от природы, он отмечал, что поэт все-таки его «сумел превратить в прием, нередко достигающий цели и нечто „пастернаковское“ выражающий». Вслед придирчивому разбору цветаевской «Разлуки», где отмечено, что со страниц книжки «смотрит лицо капризницы, очень даровитой, но всего лишь капризницы… явления случайного, частного, преходящего», в 1925-м, через два года, Ходасевич напечатал статью о «Молодце», признав, что «мысль об освобождении материала, а может быть, даже и увлечение Пастернаком принесли Цветаевой большую пользу: помогли ей найти, понять и усвоить те чисто звуковые и словесные задания, которые играют такую огромную роль в народной песне» (Бродский в связи с Цветаевой пишет, по существу, о том же самом, просто для него дело отнюдь не в требованиях, налагаемых народной песней, вообще не в стилистике и жанрах). А еще через три года Ходасевич, при всех придирках и оговорках, завершает отзыв о книге «После России» признанием, что Цветаева — «самая неуспокоенная» среди поэтов своего поколения, что ее эмоциональное и словесное богатство неоспоримо, а дар — уникален.
Пройдет год, Набокову доведется писать о свежих книжках «Современных записок» и «Воли России»: как бы между делом он заметит о цветаевском «Тезее», что это «темное рифмоплетство, которое не способно вызвать иных чувств, кроме недоуменья и досады», а о переводах из Рильке и размышлениях над его письмами скажет: «темная нелепая проза». Написать подобное мог бы человек, абсолютно лишенный способности постичь поэтическое мышление: в случае с Набоковым это, конечно, исключено. Остается предположить личные счеты, которых не было. Или же (это кажется правдоподобным, если припомнить нетерпимость более поздних набоковских оценок всего не ладящего с идеалом гармонии, поверенной именно его алгеброй) тут уже сказалось нежелание признать, что гений, случается, озаряет головы безумцев, достигших в искусстве «степени высокой» не тем «усильным, напряженным постоянством», которое ставил себе в заслугу известный пушкинский персонаж. Обывательские толки сделали этого персонажа олицетворением зависти, хотя на самом деле — кстати, об истинных мотивах его действий всего убедительнее сказал именно Ходасевич — персонаж глубоко честен перед собой, думая, что свершает подвиг, дабы «спасти музыку», а причины драмы вовсе не связаны с его личными качествами, поскольку ее конфликт — «в глубине искусства, где труд и вдохновенье… оспаривают друг у друга первенство». И непереносима мысль, что вдохновенье может о себе заявлять непредсказуемо, таинственно, ломая все правила, — так непереносима, что почти неизбежным оказывается следующий шаг: признание этого вдохновенья ложным, оттого что оно беззаконно. Или просто оттого, что его природа иная.
К этому персонажу и вообще к «Маленьким трагедиям» Сирин в свой ранний берлинский период обращался достаточно часто, потому что сам пробовал освоить тот же жанр, явно подражая Пушкину, которым отзываются и композиция, и сюжетные ситуации, и белый стих этих драматургических миниатюр. Была вчерне закончена и большая, многоактная «Трагедия господина Морна», которую Набоков прочел в апреле 24-го на заседании Литературного клуба, но так до конца жизни и не напечатал. Видимо, чувствовал, что из очень амбициозного замысла — не меньше как новая версия «Пира во время чумы» — получилась не пьеса, а рыхлая и растянутая поэма, в которой нерифмованным пятистопным ямбом рассказано о короле, бросившем свое царство после дуэли с мужем некой Мидии, его возлюбленной. Этикет обязывал его величество застрелиться, но вместо этого монарх предпочел бегство, а державу охватили смуты и войны. Следуют пертурбации и перипетии, которым место не в трагедии, оглядывающейся на пушкинский образец, а в мелодраматическом романе с неистовыми страстями, роковыми заблуждениями и гибелью (всего эффектнее — самоубийством) героя в заключительном эпизоде. Набоков возвращался к «Господину Морну» и после того, как публика в авторском чтении услышала эту запутанную историю, в которой, помимо короля, замешаны бежавший с каторги бунтарь, его дочь, томимая страстью к изысканному стихотворцу Клияну, некто Эмин — ближайший из друзей Морна, сделавшийся легкой добычей его сластолюбивой дамы сердца, и еще несколько столь же безжизненных, скучно выдуманных персонажей. Есть вариант, где действие уложено в четыре акта, есть другой, где актов пять, и тем, что их целых пять, лишь усиливается ощущение мертворожденности замысла. Она на виду еще из-за того, что свою повесть в стихах автор сочинил для театра, и не оперного, а драматического, о законах которого, судя по трагедии, у него были в лучшем случае приблизительные представления.
Кое-где в этом неотделанном тексте мелькали мотивы, которые стоило бы особо выделить, так как им суждено большое будущее в зрелом набоковском творчестве: двойники, смешение сна и яви, король, лишенный или сам себя лишивший короны, тот венценосец, которому еще предстоит явиться перед читателем последнего, не оконченного русского романа Сирина «Solus Rex» и едва ли не самого усложненного по построению английского романа Набокова «Бледный огонь». Впрочем, исключая потерянное королевство, те же самые мотивы еще до трагедии начали обозначаться в первых сиринских рассказах, причем там они выглядели естественнее и были развернуты интереснее, чем в «Господине Морне». Драматургия давалась Сирину трудно. Даже та, что была драматургией только для чтения.
За полтора года было напечатано четыре таких его произведения: все короткие — один-два акта, все написаны белым стихом (рифма, и то нестрогая, появляется только в одном из них), все без расчета на сценическое воплощение. Во всех один и тот же главный мотив, который выражен самими заглавиями: «Скитальцы», «Смерть». Даты под этими текстами — 1923 год, начало 1924-го — настойчиво возвращают к мысли, что пьесы почти незавуалированно выразили потрясение, вызванное гибелью отца. И в самом деле, сюжеты их всех обязательно напоминают «о царстве потонувшем, о тоске изгнанья», о невозможности вернуться «к очарованьям жизни белокрылой», о том, что «смерть — обрыв нежданный, немыслимый», и об угрюмом существовании на чужбине, пока «зеленоватым призраком» маячит над родиной палач Робеспьер и Корсиканец серым взглядом из-под челки окидывает идущие за него умирать полки.
Пожалуй, наиболее выразительно основной мотив прозвучал в монологе одного из героев драмы «Смерть», которая построена на приеме, ставшем очень типичным для Набокова в более поздних произведениях: событие, что обозначено как основное, быть может, и не происходит вовсе, а только видится свершившимся главному или же случайным его участникам. Невозможно сказать, что было, а что только пригрезилось. Дело происходит в Кембридже, тень Байрона, автора прославленных мистерий «Каин» и «Манфред», незримо протягивается через все действие, в котором два персонажа — Гонвил, потерявший обожаемую жену (хотя не выдумка ли вся эта история с ядом?), и Эдмонд, тайно влюбленный в Стеллу, без которой для него стала бессмысленной жизнь. Сюжет таит в себе загадочность, ключевые эпизоды намеренно оставлены неясными, однако очень реально присутствие смерти. Об этом, о мимолетности земного счастья и написана пьеса, где
… Жизнь — это всадник. Мчится.
Привык он к быстроте свистящей. Вдруг
дорога обрывается. Он с края
проскакивает в пустоту.
И в драме «Дедушка» снова загадка — какой-то из жалости подобранный старичок, который мирно доживает свой век в семье сердобольных крестьян. Однако на этот раз все проясняется, и развязка наполнена драматизмом. Случайный путник опознает в старичке палача, который трудился, не покладая рук, когда бушевал террор, пришедший вслед революции. А дедушка вспоминает свою ускользнувшую жертву и вот-вот довершит недоконченное дело, только бы хватило сил. Французский антураж и датировка действия посленаполеоновской эпохой вряд ли кого-то побудили отнестись к сценке как к исторической иллюстрации. В сиринских пьесах этого периода и время, и место действия — поэтическая условность, как и у Пушкина (во всем следуя великому образцу, Набоков одну из своих пьес, «Скитальцы», выдал за перевод из поэта Вивиана Калмбруда, никогда не существовавшего, и обманул доверчивых рецензентов, которые поверили розыгрышу, как поверили в Ченстонову трагикомедию «The Covetous Knight» первые читатели «Скупого рыцаря»).
«Полюс» был навеян реальными событиями, гибелью в снегах Антарктиды английской экспедиции Роберта Скотта на обратном пути с Южного полюса, где уже побывал знаменитый норвежец Амундсен. Дневники Скотта, переданные в Британский музей, были прочитаны Набоковым, который кое-что оттуда позаимствовал для достоверности деталей. Однако история, случившаяся в 1912 году, осталась только внешней рамкой, в которую заключены авторские размышления о том, как нестерпимо — «до бешенства, до боли» — хочется жить в минуты, когда совсем рядом смерть: «стеклянный вход… вода… вода… все ясно» (то были последние слова бабушки Набокова по матери П. Тарновской, той, что не понравилась Чехову). И размышления о бесцельности земных стремлений. Отдав последний долг почти всем своим спутникам, капитан вспоминает о Колумбе, который тоже страдал, но хотя бы
открыл чудеснейшие страны,
а мы страдали, чтоб открыть одни
губительные белые пустыни…
О настроениях Набокова в его первые берлинские годы трудно было сказать выразительнее.
Меж тем жизнь продолжалась, и он был молод. Одинок и молод, хотя одиночеству подходил конец.
Берлин оставался для Набокова глубоко чужим городом. Так и до него воспринимали немецкую столицу, вообще Германию многие русские. Чехов пишет сестре из Баденвейлера за несколько недель до смерти: «Я живу среди немцев, уже привык и к комнате своей и к режиму, но никак не могу привыкнуть к немецкой тишине и спокойствию. В доме и вне дома ни звука, только в 7 час. утра и в полдень играет в саду музыка, дорогая, но очень бездарная. Не чувствую ни одной капли таланта ни в чем, ни одной капли вкуса, но зато порядок и честность, хоть отбавляй». Впечатления Набокова были примерно такими же. Только вряд ли у него нашлись бы причины добавить, следуя Чехову: «Наша русская жизнь гораздо талантливее…»
Та русская жизнь, которую он, в основном, видел вокруг себя, перемещаясь из пансиона в пансион, такого определения явно не заслуживала. Берлин был перенаселен эмигрантами из России, пока новый всплеск инфляции не заставил их разъехаться кого куда: одних в Париж, других, привлеченных пенсиями, которые платило чешское правительство, — в Прагу, третьих домой: возвращались не то с надеждами, не то скрепя сердце. К середине 20-х годов русская колония заметно опустела. Многие издательские дома и журналы закрылись, газет стало меньше, возможностей зарабатывать уроками тоже. И потянулись унылые дни, заполненные поисками какого-нибудь заработка да тоскливыми разговорами про то, что берлинское лето невыносимо, а денег, чтобы хоть на неделю куда-то съездить, нет и не предвидится. Скучное пережевывание одних и тех же невеселых новостей требовало передышек. Ими становились вылазки за город, в сосновый лес у озера, источавшего тяжелый запах непроточной, превратившейся в большую помойку воды. Но там по крайней мере можно было, отыскав местечко, куда не добрались раскормленные немецкие матроны в нижнем белье, растянуться на сером песке и немножко позагорать. На бульварах, в садиках с чахлыми кустиками скамейки были заняты бледными юнцами, которые, расстегнув рубашки, подставляли солнцу прыщавую грудь.
Эти бульвары, и пивные с бархатным островком бильярда, и бесконечные трамвайные рельсы, по которым, заставляя дребезжать стекла прилегающих домов, до поздней ночи катят вагоны с озябшими пассажирами и кондуктором, придерживающим кожаный кошель, где позвякивает мелочь, эти унылые улицы, и дома, похожие на утюги, — в восемь вечера парадное уже заперто, ситуация почти непоправимая, если по рассеянности забыт ключ, — и москательные лавки, куда ходят за синильной кислотой от клопов, и диковинная световая реклама на Лютцовплац, — все это на полтора десятка лет стало средой обитания молодого писателя Владимира Сирина, входя многочисленными картинами, то явно, то исподволь подвергнутыми художественной деформации, на страницы его книг.
Сам он, томясь среди этой бесцветности и безликости, в ту пору все-таки пытался убедить себя и других, что для творческого человека она не лишена притягательности: отучает от пустословия и от обобщений, от «космических дуновений», которые — стараниями символистов вкупе с их последователями — заполонили литературу. Окунувшись в эту будничность, почувствовав ее изнутри, посидев, да не раз, «в танцевальном кабаке в городе Берлине», — каждый удостоверится, что обобщать смешно, потому что «системы нет. Рулетка истории не знает законов… Вместо космического дуновения — просто случайная мода». И не об этом ли, собственно, нужно сказать — о случайностях моды, о будничном, не интересном для тех, кого манят в литературе лишь мифы и символы, лишь глубокие метафоры, смысл которых неотчетлив и должен остаться непроясненным? Не в этом ли «смысл писательского творчества: изображать обыкновенные вещи так, как они отразятся в ласковых зеркалах будущих времен, находить в них благоуханную нежность, которую почуют только наши потомки в те далекие дни, когда всякая мелочь нашего обихода станет сама по себе прекрасной и праздничной»?
Набоков писал это в странного рода тексте 1925 года, который озаглавлен «Путеводитель по Берлину». Назвать его рассказом едва ли возможно: этой беседе за пивом, которая скучна для приятеля, очень не любящего описываемый город, и занимательна для того, кто составляет описание, не подойдут и другие определения — очерк, скетч. На пяти с небольшим страницах не происходит ровным счетом ничего. Описываются припорошенные трубы и надпись «Отто» на снегу, с подробностями запечатлены «старомодная прелесть» трамвая («желтый, аляповатый, с сиденьями, выгнутыми по-старинному») и рука кондуктора — жесткая, проворная, с загрубелой пятерней. По первому впечатлению — просто набросок, мимолетный эскиз, картинки с натуры, подобранные без всякой системы.
На самом деле система есть, только она не в подборе, а в характере рисунка и композиции. Одно кажется почти несомненным в этом фрагменте — автор читал Шкловского, его «Письма не о любви». Похоже, что и «Сентиментальное путешествие». Там был изложен и обоснован принцип отстранения, который преобладает в современной прозе, той, что рассматривает искусство «как мир самостоятельно существующих вещей». Сами по себе вещи большого интереса не представляют и не образуют никакой иерархии: написать можно обо всем, важно одно — как это будет сделано. Необходим сдвиг в привычной системе ассоциаций, пробуждаемых той или иной вещью, писал Шкловский: этого не случится, пока искусство считают «окном в мир», стараясь «словами и образами выразить то, что лежит за словами и образами». Пришло время, когда центр тяжести будет перенесен непосредственно на слово. Ведь «слова, отношения слов, мысли, ирония мыслей, их несовпадение и являются содержанием искусства. Если искусство можно сравнить с окном, то только с нарисованным».
Это главное положение, которое у Шкловского цементирует всю его «теорию прозы», воспринималось Набоковым как родственное его собственным представлениям о творчестве: еще не до конца им осознанным, но уже ясно о себе заявившим, особенно в рассказах, — тогда, правда, он не считал их (как и романы) истинным своим призванием. «Путеводитель по Берлину» последовательно выполняет именно задачу, определяемую «Теорией прозы» (книга Шкловского вышла в тот же год) как основное дело литературы, для того и существующей, чтобы «вырвать вещь из ряда привычных ассоциаций, в которых она находится». Словно бы из двадцать первого века рассматриваемый трамвай, ряды пустых бутылок в ящике на крыше фургона, прыгающего по мостовой, и почтальон, подставивший мешок, чтобы опорожнить ящик с письмами, и человек в переднике, прогнувшийся под грузом туши, взваленной на плечи, — сплошь «обыкновенные вещи», не допускающие обобщений, к которым теперь утрачено доверие. Однако принцип монтажного стыка, «отношения слов, ирония мыслей» — вот это действительно ново. Ассоциации вправду не те, что сами собою напрашиваются из-за своей затертости. Ходы нетрафаретны — как расположение гостиницы со звучным именем «Эдем», то есть Рай, прямо напротив берлинского Зоологического сада.
И вот этот ход как раз полемичен по отношению к Шкловскому. Его книга о Берлине имеет несколько названий, из которых первое — «Zoo». Ассоциативный ряд понятен, самопроизволен: зоосад — а «русские живут в Берлине вокруг Zoo» — готовая метафора, которая передает состояние эмиграции, равнозначной жизни в неволе, под взглядами толпы, явившейся взглянуть на диковины в клетках и на аквариум, куда на зиму поместили в верхнем этаже человекообразную обезьяну. Рай — для Шкловского такое сопоставление невозможно, даже если бы оно служило только контрастным фоном. (Эренбург, которому книжка не понравилась, язвил в письмах: отчего в ней нет истории горничной, таскавшей у Шкловского лосьон для ращения волос, которым потом пользовался ее любовник? Ему это не пошло на пользу: волосы, правда, выросли, но отчего-то только на ногах, между пальцами, а к тому же сделался чудовищный запор.)
У Сирина не аквариум, а «темнота потопленных Атлантид» и воспоминание о капитане Немо, который со своей подводной лодки разглядывал такие же сияющие углубления и ослепительные морские цветы. Да, «искусственный рай — весь в решетках», но все же какое-то подобие Эдема. И того сопоставления с буднями эмиграции, которое в «Письмах не о любви» дается навязчиво, «Путеводитель» даже не подразумевает. Он не об эмиграции, не о Берлине, он о том, как осознает мир человек, который написал этот текст.
А человек этот считает или по крайней мере старается себя убедить, что «не следует хаять наше время. Оно романтично в высшей степени, оно духовно прекрасно и физически удобно». Так завершался доклад, в котором Набоков убеждал слушателей из Литературного кружка во главе с Айхенвальдом противиться «демону обобщений», но при этом сам обобщал смело, безоглядно, не заботясь об аргументах: война, говорил он, прошла, не оставив особенно заметных шрамов, революция тоже сгинет в бездне вечности, а «о скучнейшем господине Ульянове будут знать только историки». Вот и «будем по-язычески, по-божески наслаждаться нашим временем, его восхитительными машинами, огромными гостиницами… удобнейшими кожаными креслами… тончайшими научными исследованьями…»
С тональностью его первых рассказов, с настроениями, которые преобладают в пьесах и в обеих поэтических книгах, это жизнелюбие не имеет, кажется, ничего общего. Доклад с английским заглавием «On Generalities» выглядел бы какой-то аномалией, если бы не самая последняя его фраза: наслаждаться надо, главным образом, тем «привкусом вечности, который был и будет во всяком веке». А этот привкус способна распознать и передать только литература. Набоков рассуждает об эпохе, делая выводы, которые можно извинить лишь молодой запальчивостью, но думает прежде всего о том, как — без банальностей, без стертых общих слов — об этой эпохе рассказать. О себе он уже знает, что «переводчиком» — так Шкловский называл писателей, смотрящих на произведение как на окно в мир, — он не станет. Для него литература — «нарисованное» окно.
У Шкловского вслед размышлениям о разных типах художников (одних заботит лежащее за словом, других — сами слова в их отношениях) идут мысли о водевиле со вставными номерами, о театре варьете: он «самое живое в современном искусстве». Идею разделить в литературе «переводчиков» и «художников» как раз и подсказало ему посещение театрика «Scala» на Лютерштрассе. Там кувыркались акробаты и вертелись на трапециях гимнастки, а велосипедисты ездили по сцене на заднем колесе. Полная несвязность программы, в которой были еще балалаечники и танцоры, поразила Шкловского. Он стал думать о том, что дивертисментные представления надо считать опытом необычного, существенно нового соединения частей: не через личность героя, не через последовательность вытекающих одно из другого событий, а как-то иначе. И что такие представления — это удачная «попытка уйти из рамок обыкновенного романа».
Набоков был знаком с этими театриками основательнее, чем Шкловский, он с ними сотрудничал и писал для них в свои первые берлинские годы. У него был соавтор — Иван Лукаш, в юности футурист и протеже Игоря Северянина, потом вольноопределяющийся в Белой армии, с которой он эвакуировался из Крыма, добравшись до Берлина через лагерь для интернированных русских солдат в Галлиполи, через Константинополь, Софию и Вену. Об этом он писал в повестях «Смерть» и «Голое поле», имевших некоторый успех.
С Набоковым он познакомился в «Веретене»; обе фамилии были названы корреспондентом «Руля», извещавшим о расколе в сообществе после того, как его лидер Дроздов стал заигрывать с «Накануне», и об уходе восьми бывших участников объединения. Ушли в «Медный Всадник», издательство, которое просуществовало ненамного дольше. Поддерживать своих авторов оно не могло, и Лукаш, обремененный семьей, начал хвататься за любую работу. В Берлине было несколько русских кабаре, охотно посещаемых теми, кто успел вывезти свои капиталы из погибающей России или, как господин Корзухин из булгаковского «Бега», нажил миллионы на бедствиях беженцев. На Хольцштрассе располагалась «Синяя птица», задуманная как точная копия петербургского театрального кафе, которое было одной из достопримечательностей Серебряного века. Руководил ею Я. Южный, опытный антрепренер, который заказывал полуголодным начинающим литераторам что-то вроде сценариев, материал для скетчей и юморесок, забавлявших публику. Платил он копейки — авторы, не исключая Набокова, не раз грозили Южному судом, — и все же Лукаш ухватился за этот шанс, а перо Сирина, более ловкое, чем его собственное, оказалось незаменимым.
Представления в «Синей птице» состояли из полутора десятка номеров, в которых, по выражению Шкловского, все сводилось к «интересности отдельных моментов». Однако как бы самопроизвольно обозначались «соединения частей», не подчиненные обыкновенным мотивировкам. Присутствуя на репетициях — номер по его сценарию могли поставить то в середину, то в конец спектакля, требовались переделки на ходу, — Набоков видел, как рождается соединение, сделанное по принципу монтажа, сводящего разнородные фрагменты, и подчиненное стихии эксцентрики. Тут была явная родственность кинематографу, который начинали осознавать не как балаган, а как новое искусство, обретающее собственный художественный язык. Опыты, имевшие целью ввести монтажные ходы в прозу, были очень характерны и для европейской литературы тех лет, и для русской, в особенности — для советских авторов, среди которых корифеем этого искусства по праву считался Пильняк. Интерес Набокова к подобным экспериментам быстро прошел, а лет через пятнадцать, в «Даре» он их высмеял жестокой пародией, приведя фрагмент из написанного в подражание Пильняку — к тому времени уже расстрелянному, что, впрочем, едва ли побудило бы автора изъять эту страницу, — романа некого Ширина «Седина». Сам Набоков в своем повествовании никогда не пользовался ходами, непосредственно ассоциируемыми с поэтикой монтажа, однако кинематограф интересовал его очень сильно, и монтаж косвенным образом давал себя почувствовать в таких его книгах, как «Король, дама, валет», «Камера обскура» да и «Отчаяние». А все началось с непритязательной «Синей птицы».
Ее программа, менявшаяся дважды в год, была построена так, чтобы привлечь и русских посетителей, и берлинцев. Широко применялась арлекинада, были чисто эстрадные номера, а какие-то сценки разыгрывали по-немецки, комически уродуя язык. Ставили люди, по-видимому, не чуждые новейших театральных веяний. Судя по сохранившимся фотографиям, в этих спектаклях было что-то от артистических капустников, от знаменитой «Летучей мыши» Никиты Балиева, но что-то и от Мейерхольда.
Свою первую работу для этого кабаре, которое продержалось десять лет и не раз гастролировало по Европе, Лукаш и Сирин сделали в конце 1923-го, это был сценарий пантомимы «Вода живая». Оба не придавали своей деятельности серьезного значения. Писали на квартире Лукаша: если его жена уходила, вверив младенца заботе отца, ребенка укладывали на подоконник и принимались, изводя сигарету за сигаретой, разрабатывать первый пришедший в голову мотив, лишь бы он был экстравагантен. Ни одного текста не дошло, они известны только по заглавиям — «Китайские ширмы» — и отдельным сюжетным ходам, которые сразу выдают сходство с приемами немого кино, с лентами Чарли Чаплина и Бестера Китона: ужасно обросший человек приходит к парикмахеру, который долго и усердно его стрижет, обливаясь потом. Наконец показывается крохотная лысая головка — вроде набалдашника трости с нарисованными на нем огромными глазами. Играть эпизод должен был невысокого роста актер, его голову прятали в воротнике, а сверху надевали голову манекена с густой гривой.
Другое кабаре, с которым сотрудничал Набоков, размещалось на Курфюрстендамм. Стараясь перещеголять конкурентов, оно решило выпускать собственный журнал, причем на трех языках — немецком, французском, английском. Журнал, как и кабаре, назывался «Карусель», вышло два номера осенью 23-го и зимой 24-го года. Во втором было написанное по-английски эссе Набокова («В. Кантабофф») о красоте, которую можно обнаружить и посреди безобразия, грубости, уродства. Желающим убедиться, что это так, стоило бы сходить в кабаре или вспомнить раскрашенные деревянные игрушки своего русского детства.
Считая собственные сценарии просто поделками, Набоков тем не менее из сотрудничества с «Синей птицей» почерпнул и кое-что такое, что не пропало бесследно для писателя Сирина. Кино в этом смысле оказалось, вероятно, даже более важным. Набоков в ту пору был знаком с кинематографом не только как зритель. Безденежье заставляло его подрабатывать, участвуя статистом в съемках.
Картины, где он снимался, не найдены или, возможно, были вырезаны кадры, где можно было бы разглядеть в толпе его лицо. Однако известно письмо матери в Прагу с жалобой, что целый день, от семи утра до пяти вечера, пришлось ухлопать на съемки, брови перемазаны гримом, в глазах белые пятна от света юпитеров, а уже надо лететь на урок и затем в «Синюю птицу», на репетицию. А герой первого романа Сирина, появившегося в 1925-м, вспоминает, что «не раз даже продавал свою тень подобно многим из нас. Иначе говоря, ездил в качестве статиста на съемку, за город, где в балаганном сарае с мистическим писком закипали светом чудовищные фацеты фонарей, наведенных, как пушки, на мертвенно-яркую толпу статистов, палили в упор белым убийственным блеском, озаряя крашеный воск застывших лиц, щелкнув, погасали, — но долго еще в этих сложных стеклах дотлевали красноватые зори — наш человеческий стыд».
Напрашивалась мысль самому написать что-то для кино: ведь, помимо остального, проданный сценарий на два-три месяца избавил бы от необходимости бегать по урокам и постоянно думать о деньгах. Прогулки с воспитанниками, сопровождаемые беседой по-французски или по-английски, а также посещением спортивного манежа для уроков тенниса и бокса, все больше докучали — не оставалось времени писать. Балаганный сарай, где — так ему тогда казалось — притворяются, будто заняты искусством, мог, не требуя взамен ничего, кроме элементарных навыков и доли цинизма, дать потом желанную возможность серьезного творчества.
Одна такая затея едва не принесла успех. Летом 24-го Сирин напечатал в нескольких номерах газеты «Русское эхо» большой рассказ «Картофельный Эльф», а затем сделал по нему сценарий, переменив заглавие: «Любовь карлика». Через много лет рассказ был им переведен на английский с пояснением, что сначала он не думал о киноверсии, но словно бы сами собой стали появляться детали, которые просто провоцируют экранизацию, да и действие построено так, что перевести эту странную историю на язык кинематографа не представляет большой сложности. С. Бертенсон, русский эмигрант, который работал в Голливуде, видимо, пришел к такой же мысли, — сделал черновой вариант перевода и показал его режиссеру Льюису Майлстоуну, а на самом деле Мильштейну, выходцу из России. В те годы он был очень известен, его фильм по роману Ремарка «На Западном фронте без перемен» получил высшую премию — «Оскар», и если бы контракт состоялся, у Набокова не было бы причин беспокоиться о своем социальном положении. Бертенсон приезжал к нему в Берлин оговаривать детали (Майлстоуну хотелось при переработке рассказа кое-что в нем поменять) и записал в дневнике слова Набокова, что он, почитатель кино, старается смотреть все новые фильмы, особенно американские. Однако тут выяснилось, что у студии — был 1932 год, время Великой депрессии, экономического кризиса неслыханного масштаба и длительности, — серьезные финансовые проблемы. Постановка «Любви карлика» была отложена. Оказалось, что навсегда.
Об этом нельзя не пожалеть, хотя бы оттого, что «Картофельный Эльф» идеально вписывается в эстетику экспрессионизма, который в то время стал на Западе, и особенно в кинематографе, едва ли не самым ярким и перспективным художественным направлением. Сирин рассказывает о цирковом артисте-«эльфе» крохотного росточка, весом всего в десять килограммов, хотя он взрослый, двадцатилетний мужчина. Эпитетом, ставшим его прозвищем, он обязан несоразмерно большому и тяжелому носу, который изрядно потешает любителей цирка везде в Европе. Фокусник Шок, партнер по арене, как-то приводит Эльфа к себе домой, а тот вдруг влюбляется в госпожу Шок и пресерьезно строит планы женитьбы на ней после неизбежного объяснения с мужем. Объяснения не получается, муж умело разыгрывает сцену самоубийства, которого не было. Карлик в отчаянии оставляет свое ремесло, чтобы поселиться, прячась от всех, в провинциальном городке, где, однако, через много лет его разыщет госпожа Шок и сообщит, что от их мимолетной связи родился сын, большой мальчик. И не успеет сказать, что мальчик этот теперь умер, — от счастья, от желания немедленно увидеть потомка у Эльфа разорвется сердце.
В этой намеренно неправдоподобной истории всего любопытнее приемы, посредством которых воплощается гротескный сюжет с оттенком патологии. Крупным планом описан партнер Эльфа по его номеру, унылый великан родом из Омска: на арене он «стоял, как громадная кукла, механическим движением брал инструмент», потом, выпятив пудовую челюсть, так же механически бил пальцем по гитарным струнам. С партнершей-карлицей, которую представляют как невесту Эльфа, он, давясь от отвращения, на глазах гогочущего зала «должен был танцевать тесный танго». Фокусы Шока заставляют воспринимать самого фокусника как «мираж, ходячий фокус, обман всех пяти чувств». Эльф в минуту потрясения, вызванного признанием госпожи Шок, больше схож с муляжем-чревовещателем, чем с несказанно обрадованным отцом.
Экспрессионизм строил свои эффекты на таком же смешении сна и яви, мертвенного и живого, механического и человеческого. Никакого правдоподобия — только гротеск и деформация. Сюжетные ходы нацелены произвести шоковое воздействие, метафоры должны покончить с бесстрастностью восприятия, ошеломляя читателя или зрителя, открывающего для себя «скрытые сущности» мира. Подобное открытие чаще всего травмирует, потому что мир жесток и алогичен, что бы ни говорили относительно его разумности, стараясь не вспоминать о недавней катастрофе — о мировой войне.
Как раз в годы войны экспрессионизм, дитя немецкого гения, пережил свои звездные часы. Выставки художников, примыкавших к этой школе, становились событиями. Толпы экзальтированных поклонников стекались на премьеры по пьесам драматургов, которые, считая, что «искусство наших дней есть крушение натуралистичности», отдали предпочтение фантазии, возникающей на зыбкой грани между видимым и ирреальным. Когда в 1920-м появился фильм режиссера Роберта Вине «Кабинет доктора Калигари», критика заговорила о состоявшемся крупном художественном событии. Залы ломились от желающих в который раз посмотреть эту ленту, в которой были ярмарочный балаган и ящик, схожий с гробом, а в этом ящике — фигура юноши, загипнотизированного врачом-злодеем и совершающего чудовищные убийства, пока все думают, что он мертв.
Очень вероятно, что Набоков видел картину, — в Германии ее популярность была невероятной. Возможно, фильмы, в которых как статист участвовал он сам, делались в сходной стилистике: кошмары, безумства, злая магия. Какие-нибудь маньяки, обладающие роковой властью вершить чужие судьбы. Необъяснимые происшествия, что-то фантастическое, пугающее, ужасное.
Впоследствии он много раз говорил, что, прожив в Германии полтора десятка лет, тем не менее практически не соприкоснулся ни с немцами, ни с их культурой. Что он не читал их книг и газет, обошелся без знания языка, если не считать десятка обиходных фраз, и «никогда не чувствовал ни малейшего неудобства» по этой причине. Известно, впрочем, что немецкие фолианты по энтомологии Набоков поглощал еще в отрочестве. А его придирки к английским переводам новеллы Кафки «Превращение», одного из художественных текстов, которые он разбирал, обучая американских студентов тайнам высокой литературы, заставляют предположить, что с родным языком автора этой новеллы профессор Набоков был не так уж скверно знаком. Причем еще в свою бытность писателем Сириным: нет ни одного свидетельства, что он им специально занимался, переехав за океан.
Впрочем, не имеет большого значения, читал писатель Сирин своих немецких современников или действительно не читал, и какие фильмы смотрел он, раза два в месяц обязательно выбираясь в кино, и было ли у него ясное представление об экспрессионистах или же он ничего толком о них не знал. Основные их установки не могли быть особенно ему близки. Экспрессионизм считался «левым» искусством, верившим в неизбежность революционных потрясений, которые обновят прогнивший мир. Идеи, причем такие, которые Набокова только отталкивали, для этого искусства обладали первостепенной важностью: персонажи, сюжеты, мотивы — все это, в общем и целом, служило главным образом иллюстрацией тезисов. Человек оказывался полностью зависимым от каких-то злых сил, которые притаились в непонятном ему мире, внушающем тревогу или ужас. Характер получался одномерным или более схожим с маской, чем с живой личностью. Для экспрессионистов личности несущественны, они интересовались явлениями и хотели обнажить их замаскированную сущность.
Однако приверженность гротеску вместо «натуралистичности» была созвучна устремлениям, которые очень ясно проявились уже в самых первых рассказах Сирина. А построение сюжета на стыке действительно происходящего с фантастическим и невозможным (во всяком случае, по меркам здравомыслия), и постоянное присутствие чего-то ирреального, и такой же обязательный оттенок жестокости, которой исподволь корректируется действие, — все это в родстве с художественными ходами экспрессионистов. И драматургов, таких, как Георг Кайзер, обладавший редкостной способностью передавать ощущение беспричинного, но неотступного страха, который владеет персонажами его нашумевших пьес «Коралл», «Газ 1», «Газ 11». И кинематографистов — Вине, а особенно Фрица Ланга, поставившего в 21-м знаменитую картину «Усталая смерть» с ее мистической темой Судьбы, выступающей в облике палача. И художников из берлинской группы «Штурм», написавших для ленты «Кабинет доктора Калигари» выразительные декорации, где передан смещенный, деформированный образ мира, который словно рожден сознанием душевнобольного.
Дело вовсе не во влияниях — никакой творческой зависимости от экспрессионизма Сирин не чувствовал. Мог и вообще им не интересоваться: это не меняет сути дела. Экспрессионизм был больше чем художественной школой, он был умонастроением, настоянным на душевной неустроенности и смятении, которые стали типичной чертой первых послевоенных лет. И вот поэтому он сумел укорениться так прочно — не только в искусстве, а в самой будничности, постоянно о себе заявляя повсюду, от интеллектуальной моды до приемов рекламы. Шкловский описывает «экспрессионистские манекены в окнах Берлина», сделанные по моделям скульптора Руди Белинга. Эти манекены, похоже, перейдут из берлинских окон на страницы второго сиринского романа «Король, дама, валет». Героя этой книги зовут Драйер — говорящая фамилия: не только третий («драй») в треугольнике, который там описан, но, возможно, еще и прямой отзвук кинематографа экспрессионизма — датский режиссер Карл Драйер считался одним из его корифеев.
А типичные для экспрессионистов мотивы и художественные ходы обозначатся уже в самых первых рассказах Сирина. Плохо отзывавшийся о Ремизове, он, однако, побыл (правда, совсем недолго) одним из ремизовских учеников, которых было очень много среди тогдашних начинающих прозаиков. «Нежить» (под зарисовкой, появившейся в «Руле» 7 января 1921 года, впервые стояла подпись В. Сирин) и «Слово» (оно было напечатано там же ровно два года спустя, день в день) представляли собой не рассказы, а что-то слегка напоминающее стихотворения в прозе, и здесь чужая, ремизовская стилистика просто режет глаз. Эти прозрачные лики, лучистые ресницы, и буйная, ветровая тоска, и Леший, задорная нежить, — все сразу вызывает ассоциации с очень в ту пору читавшейся ремизовской «Огненной Россией», со сказами и сказками, которые тогда во множестве печатали разные берлинские издатели, с изобретенным Ремизовым способом описания, у него самого получившим название хорового: «человек в вечном круге хорового мира». Через несколько лет, рецензируя книжку «Звезда надзвездная», Набоков заявит, что «ни особого воображения, ни особого мастерства у Ремизова не найдешь». Пристрастное, несправедливое суждение, но его несложно объяснить именно тем, что писатель, у которого ныне обнаруживаются «суконный язык» и «недопустимые курьезы», в свое время оказывал завораживающее воздействие.
Оно, однако, и правда было недолгим. В «Русском эхе» один за другим появились в 1924-м рассказы «Удар крыла» и «Месть», действительно рассказы — с персонажами, с поворотами интриги, поражающими своей неожиданностью, с экстравагантными событиями, которые образуют сюжет. Тогда же были написаны, но не появились по-русски еще несколько новелл, в которых происходят невероятные, загадочные, пугающие вещи: в точности по экспрессионистскому рисунку. Эти новеллы — «Звуки», «Боги», «Дракон» — пролежали в папках семь десятилетий. Они вышли лишь в составе англоязычного полного собрания набоковских рассказов в 1995 году.
Истории, составившие внутренне законченный цикл, говорят сами за себя.
На лыжном курорте некто Керн, чья жена, ушедшая год назад к другому человеку, вскоре после этого покончила с собой, валандается по гостинице, изводимый мыслью, что тоже наложит на себя руки, и отсрочить решение заставляет лишь знакомство с прелестной Изабель: «Мне нужна ваша любовь. Завтра я застрелюсь». Однако ничего этого не будет. Что-то исполинское, мохнатое, издающее быстрый и радостный лай, ворвется, ломая крылья, через провал окна — ангел с сырой пахучей шерстью, тот, кто, «вероятно, живет на вершине, где ловит горных орлов и питается их мясом». Ударив грифом гитары и затолкав в шкаф, Керн сломает ему крыло. Наутро летучая Изабель, прыгнув на лыжах с уступа, вдруг камнем упадет среди снежных всплесков. И окажется, что у нее сломана грудная клетка.
Профессор-биолог, вернувшись из поездки за редкостными экспонатами для университетской коллекции, узнает о неверности жены и осуществляет план мщения, который мог прийти в голову разве что доктору Калигари или другому доктору, Мабузе из фильма Фрица Ланга, гипнозом расправлявшемуся со своими жертвами. Жена отправляется в супружескую спальню и ложится, не включив света. Профессор входит какое-то время спустя: он в смокинге со вздутой крахмальной грудью, глаза сверкают под лучами электроламп. Жена лежит мертвая, «обнимая мертвый, кое-как свинченный скелет горбуна», который супруг привез из-за границы.
Дракон, проживший тысячу лет в пещере, решается выйти из укрытия, наведавшись в близлежащий городок. Увидев его, хозяева табачной фирмы думают, что кто-то накачал насосом резиновую игрушку и бросил ее на площади. Не обклеить ли ее рекламными плакатиками, рекомендующими новые марки сигарет? Потом позовут циркача на лошади, чтобы он проткнул громадный шар, выпустив воздух. Когда-то от такого удара копьем умерла его мать, и дракон спешит обратно в пещеру, но смерть гонится по пятам.
События разворачиваются в Англии и Германии, описываемые ситуации и приемы описания заставляют вспомнить экспрессионизм, и тем не менее это проза русская и о русском — об эмиграции. Потребуется совсем немного времени, чтобы Сирин, чей талант развивался стремительно, с явным издевательством начал отзываться о «знаменитом надломе нашей эпохи», о «знаменитом эмигрантском надрыве». Но его рассказы 1924 года этот именно надлом и надрыв воссоздают, стараясь его выразить так отчетливо, словно это не проза, а плакат. И порой добиваясь как раз этого эффекта.
В «Руле» не взяли новеллу «Случайность», сказав, что их не интересуют кокаинисты. Лукаш помог договориться с рижской газетой «Сегодня». Рассказ был напечатан — Набоков потом считал, что напрасно. Это не так: для того периода, к которому она относится, новелла важна, в ней выразительно проявлены настроения, совсем не гармонирующие с последующими утверждениями ее автора, что наше время не только физически удобно, но «духовно прекрасно». Для героев рассказа все как раз наоборот: и для русской дамы, которой удалось вырваться из советского Петрограда, и для давно потерянного ею мужа, — он теперь лакей, разносящий тарелки в вагоне-ресторане экспресса Берлин — Париж, без кокаина он обходиться не в силах.
Ясно, отчего Набоков оценивал «Случайность» невысоко. В ней непозволительно много таких случайностей, которые кажутся явной натяжкой. А финал с предугадываемым самоубийством героя, нашедшего на вагонной площадке кольцо, обладающее сокровенным значением для обоих главных участников этой истории, слишком отдает пошловатой мелодрамой. Правда, отринув первоначальный план просунуть голову между буферами, чтобы она лопнула, лакей просто прыгнет под мчащийся паровоз. Мыслилось самоубийство вполне по-экспрессионистски. Получилось обыкновеннее и страшнее.
Пока для Сирина еще не сделалось аксиомой, что любого рода аффектация только портит общее впечатление: один ложный оттенок — привкус чрезмерности и дурной театральности, когда описываются переживания страдающих персонажей, слишком бьющая в глаза символика, броская, однако недостаточно мотивированная развязка, — и утрачено ощущение, что это живые люди, а не паяцы, чьи маски наделены трагической миной. Перечитывая рассказы той поры, чтобы выбрать стоящие перевода для американских сборников, автор был очень строг: забраковал их почти все. Строгость понятна, если судить по чисто эстетическим критериям. И все же эти рассказы многое значили, ведь с них начинается прозаик Сирин. А в чем-то — и писатель Набоков.
Об этом можно было бы, не прибегая к натяжке, сказать даже в том случае, если бы из всех них уцелела лишь напечатанная осенью 25-го «Драка». Она кажется этюдом, набросанным в записной книжке на исходе обычного берлинского дня, проведенного автором за городом, у озера, куда можно было добраться, сев в трамвай, а там пройдя через лесок с преобладанием телесного цвета сосен. Пляж, на котором, аккуратно расстелив простыню, немец с заросшими шерстью кривыми ногами методично читает припасенные газеты, облепленный песком голый младенец и мамаша, расчесывающая длинные волосы, крики продавца кислых леденцов, эоловы возгласы плывущего над деревьями аэроплана, — пейзаж сделан несколькими точными деталями, и они взяты из сферы обыденности, но при всем своем прозаизме выразительно воссоздают среду, время, социальное пространство. Это сиринский пейзаж — немецкая толпа, безликость, густой аромат пошлости — и сиринская история: кабатчик, тупо избивающий любовника своей дочери («маленькое лицо с пустыми и нежными глазами»), который не заплатил двадцать пфеннигов за скверный коньяк. Еще несколько таких историй с героями-немцами, с мотивами механической жестокости и принуждения к единомыслию будет написано Сириным в 30-е годы. И все они относятся к числу его лучших рассказов.
А вот развязка той крохотной новеллы о поплавках голов на светлой глади воды и о владельце пивной, украшенной непременными оленьими рогами, уже совершенно набоковская — что-то из «Ады», может быть, из «Арлекинов». Неприметный эпизод завершен, и автор думает о том, что его можно было рассказать совсем по-другому, к примеру, так, чтобы читающие посочувствовали страданиям Эммы, на глазах которой отец и жених, гакая, колошматят друг друга. «А может быть, дело вовсе не в страданиях и радостях человеческих, а в игре теней и света на живом теле, в гармонии мелочей, собранных вот сегодня, вот сейчас единственным и неповторимым образом».
Став писателем Набоковым, прозаик Сирин позабудет об этом «может быть»: предположение, увенчивающее рассказик 25-го года, превратится в уверенность. Выиграло или проиграло от этого его творчество — вопрос из тех, на которые никто и никогда не даст окончательного ответа. Во всяком случае, Сирин умел чувствовать страдание как боль, даже когда оно проявлялось в банальных или мелодраматических формах, умел его воспринимать эстетически, но не только. Его ранняя проза заполнена все-таки не игрой теней, а реальными переживаниями, среди которых два самых главных — это ностальгия и одиночество.
Ностальгия останется очень надолго, в сущности, навсегда. Чувство одиночества не исчезнет, но по крайней мере перестанет быть таким неотступным. На первой странице романа «Машенька», который был написан тогда же, в 25-м, и появился в берлинском издательстве «Слово» год спустя, при переизданиях стояло: «Посвящаю моей жене».
Ее девичья фамилия была Слоним. Вера Слоним. Отцу, видному петербургскому адвокату, после того как ввели новые ограничения, пришлось выбирать между необходимостью креститься или сменить профессию. Он занялся лесом: производил вырубки и посадки, оценивал, продавал. Дела его шли так успешно, что незадолго до 17-го года Евсею Слониму принадлежало практически все городское хозяйство в каком-то южном захолустье, и он, поборник прогресса, намеревался сделать этот городок настоящей Европой: проложить канализацию, пустить трамваи…
Вера училась в частной школе княгини Оболенской, с детства свободно владела языками, пробовала писать стихи, но свое будущее связывала с наукой — прежде всего с физикой. Одно время она считала себя социалисткой. Революция быстро ее отрезвила. Семья вынуждена была, спасаясь от ареста, бежать сначала в Киев, затем, через петлюровские заставы, в Одессу, где Слонимам предстояло пережить погром. Последние несколько месяцев они провели в Ялте, уехав в марте 1920-го.
До Берлина добирались кружным путем. При помощи своего делового партнера-голландца Слоним сумел продать имущество, принадлежавшее ему в России, какому-то немцу, уверенному в скором падении большевиков. На вырученные деньги были открыты две фирмы, однако новый виток кризиса разорил семью непоправимо. Предполагавшегося хорошего образования (Высшая техническая школа в Берлине) Вера не получила. Пока держались фирмы, она работала там секретаршей и помощницей отца, напечатала в «Руле» несколько забавных историй и сентенций, почерпнутых из какой-то книжки болгарского фольклора, а также перевод из Эдгара По. Ни в «Руле», ни в издательстве, которое Слоним учредил с мыслью выпускать переводы русских классиков для американского рынка (ни одной книги не вышло в свет), они не встретились. Как много раз упустили возможность встретиться и раньше: в Петербурге — дом на Морской Вера помнила с самого детства, — на Сиверской, где ее семья снимала дачу последние два лета перед октябрьской катастрофой.
Встреча произошла 8 мая 1923-го на благотворительном балу в Берлине. Вера была в маске, которую отказалась снять. Через месяц явились на свет набоковские стихи с эпиграфом из Блока, из «Незнакомки».
Отзвуки этого романа легко различимы во многих книгах, и сиринских, и набоковских: в «Подвиге», «Даре», «Себастьяне Найте» — вплоть до «Арлекинов». Пока семья Набоковых оставалась в Берлине, Вера никогда у них не бывала и даже не называла себя, звоня по телефону. Встречались в кафе и бродили по улицам. В девять вечера закрывались все магазины, город пустел. Только продавцы вечернего выпуска «Фольксштимме» ловили одиноких прохожих, чтобы сбыть последнюю пачку, да киноманы собирались у входа в ярко освещенные синема, а в дешевых забегаловках у Силезского вокзала, где тротуар замусорен желтыми картонными квадратиками пригородных билетов, грелись замерзшие проститутки.
Мимо варьете на Фридрихштрассе, куда удачливые коммерсанты ездили полюбоваться полуголым кордебалетом, мимо роскошного ресторана «У Кемпински», — ужин обходился в целое состояние — добирались до парков, где весной упоительно цвели маргаритки, и в Малый Тиргартен с безработными на скамейках: их становилось все больше. Часто проводили время в кино. На экране Рудольф Валентино, бывший платный танцор в ночных клубах, представал в облике демонического соблазнителя с яркой внешностью южанина и повадками триумфатора, перед которым капитулируют изнеженные, анемичные светские красавицы. Потом шла какая-нибудь мещанская драма: бакалейщик отказал в кредите, нечем платить за квартиру, а уже семнадцатое число, и вот муж, банковский служащий, дрожащей рукой извлекает пачку купюр из сейфа. Рыданья, страх, пришедший на выручку друг, который внесет недостающую сумму, пока никто не заметил кражи. Чай втроем, переплетшиеся под столом ноги жены и гостя. Отчаяние мужа, нагнувшегося за упавшей ложечкой и вдруг узнающего всю правду. После таких историй «Нибелунги», сделанные Фрицем Лангом по мотивам немецкого эпоса с использованием типичных приемов экспрессионизма, — впечатляющие массовые сцены, леденящая душу битва Зигфрида с драконом, управляемым спрятанными в его теле людьми, — казались верхом искусства.
Летом 1924-го, приехав навестить родных в Прагу, Набоков сказал матери, что они с Верой обручились. Свадьбу отпраздновали 15 апреля 1925-го. Надо было заплатить за какие-то бумаги. Из ратуши молодожены ушли буквально без гроша в кармане. Обедали у Веры и там оповестили ее семью, что их дочь с этого дня носит другую фамилию.
Это был один из самых счастливых писательских браков за всю историю русской литературы. Они прожили вместе больше пятидесяти лет, а после смерти Набокова его вдова сделала все, чтобы были изданы оставшиеся тексты, подготовлены переводы, и не только на русский, отмечены памятные даты, написана подробнейшая биография Брайена Бойда, для которой ею были предоставлены бесценные материалы. Сын Дмитрий, единственный их ребенок, родился в 1934 году.
В том стихотворении с эпиграфом из «Незнакомки» и цитатами, соединяющими встречу на берлинском маскараде с образами-мифами Серебряного века, было тайное признание:
Иль в нежности твоей минутной,
в минутном повороте плеч —
переживал я очерк смутный
других — неповторимых — встреч?
Подразумевались, конечно, блоковские встречи, берег очарованный и очарованная даль. Но также те, что были пережиты реально. Рядом с посвящением жене на первой странице «Машеньки» стоит пушкинский эпиграф: «… Воспомня прежнюю любовь…».
О том, что сюжет первого романа Сирина носит целиком автобиографический характер, говорил сам Набоков в предисловии к английскому переводу книги, написанном в 1970-м: «Его Машенька и моя Тамара — сестры-близнецы; тут те же дедовские парковые аллеи; через обе книги протекает та же Оредежь; и подлинная фотография Рождественского дома, каков он теперь… могла бы служить отличной иллюстрацией перрона с колоннами в Воскресенске из романа». Между Львом Ганиным и Набоковым, каким он предстает в «Других берегах», в главах, посвященных ранней юности, вправду существует очевидное сходство. Понятно, что и героиня романа обладает теми же чертами, какими автобиография наделила Тамару. Валентину Шульгину.
Есть, конечно, два-три отступления от биографической хроники, внесены определенные корректировки. Ганин поступает в юнкерское училище — это последние месяцы перед революцией. А в Крыму присоединяется к добровольцам: Набоков только собирался, а вот его герой повоевал и запомнил «стоянки в татарских деревушках… дикую ночную тревогу, когда не знаешь, откуда стрельба и кто бежит вприпрыжку через лужи луны, между черными тенями домишек».
Вероятно, тут отголосок каких-то разговоров с Юриком в их последние встречи. Тень Рауша мелькает и еще в одном эпизоде: когда, заговорив о последних классах школы, Ганин припомнит свои фантазии о любовнице, светской даме, хотя в действительности он тогда был «до смешного чист». У Юрика, кажется, в самом деле имелась в Варшаве пассия из высшего общества. Но если и так, игры, подражания французским романам об аристократах было в этой истории явно больше, чем чувства.
Свои давние — еще до появления героини первого настоящего романа — выдумки Ганин вспомнил по ассоциации с березовыми рощами, воспетыми в стихах поэтов, что на заре века украшали мещанские журналы и календари. Поэт Антон Сергеевич Подтягин, сочинитель такой лирики, превратностями русской судьбы в этот совсем не идиллический век оказался жильцом скучного берлинского пансиона, окна которого дрожат от грохота проносящихся рядом поездов, а двери украшены номерами, вырезанными тоже из старого календаря, причем апрельского. Точно у хозяйки, во всех отношениях бесцветной пожилой вдовы, вдруг родилось намерение поиздеваться над постояльцами, представив их героями веселого розыгрыша по случаю прихода весны.
Что-то наподобие розыгрыша и произойдет, а героем, или, может быть, жертвой окажется пошляк Алферов, нынешний муж Машеньки. Напившийся до одури в канун ее приезда из России, после четырехлетней разлуки, он храпит у себя в номере, не зная, что Ганин поставил будильник на десять, даже на одиннадцать, а ее скорый приходит в 8.05. Отчасти похоже на розыгрыш поведение самого Ганина: он — в полной готовности к бегству с любимой — приехал на вокзал вовремя, посмотрел, как подходит к платформе северный экспресс. Но вдруг метнулся на площадь, схватил такси, и вот уже, засыпая, покачивается в купе другого поезда, идущего на юго-запад, в места, где несложно без визы пересечь французскую границу.
Только если это розыгрыши, то очень невеселые. Конфузом и свинством кончается вечеринка, затеянная танцорами из варьете, получившими желанный ангажемент, который даст им возможность еще какое-то время жить в комнате, пропахшей вонючим лосьоном от пота, и наслаждаться своим убогим голубиным счастьем. Отмечали воссоединение алферовского семейства, день рождения машинистки Клары, уже увядшей в двадцать шесть лет, удачу Подтягина, который дождался-таки паспорта с разрешением на выезд. Но воссоединение откладывается, потому что Алферов допился до положения риз. А Клара, тайно мечтающая о Ганине, с грустью смотрит, как он идет к лифту, таща в руках два чемодана со своим добром. И только что полученный паспорт утерян в автобусе — да он бы все равно не понадобился, потому что дни, даже часы его владельца сочтены.
Зная об этом, Подтягин печально размышляет о своей жизни, которая была нелепа и бесплодна, а теперь вот приходится умирать, так и не добравшись до Парижа, где длинные хрустящие булки и красное вино. Подтягину снится Россия, «не ее прелесть, которую помним наяву, а что-то чудовищное. Такие, знаете, сны, когда небо валится и пахнет концом мира». Ганину тоже знакомо подобное психологическое состояние: по его определению, «бесцветная тоска». Метафора, наводящая на мысли о конце мира, появляется уже в самом первом эпизоде романа — застрявший лифт, в котором погасла лампочка, висение в клетке над черным провалом. И дальше, во всех описаниях «унылого дома, где жило семь русских потерянных теней», обязательно будет возникать тот же мотив непоправимого крушения. Настроение безысходности только усиливают и эти громады дыма, вздымающиеся над полотном железной дороги, и постоянное у Ганина чувство, что «каждый поезд проходит незримо сквозь толщу самого дома», и мнимая возможность уехать, что дразнила его неотвязно.
Однако одно преимущество перед соседями по пансиону у Ганина, несомненно, есть — ему «снится только прелесть. Тот же лес, та же усадьба. Только иногда бывает как-то пустовато, незнакомые просеки».
Машенька, о судьбе которой он узнал по чистой случайности, заполнила собой, точно бы выплыв из этих снов, и просеки, и весь далекий пейзаж Ингрии, с которой сопрягается у Ганина ощущение счастья. Первоначально роман так и назывался — «Счастье», и если автор в итоге отверг этот заголовок, причина, должно быть, та, что по всему характеру повествования требовался уточняющий эпитет: утраченное, погибшее, несбывшееся — а с ним появилась бы нежелательная прямолинейность. Ганин чувствует, что Машенька «вся его юность, его Россия», а это — юность, и Россия, что была тогда, в юности, — не возвращается. Оттого, проводив прибывший состав взглядом, он идет не на платформу, а к стоянке такси. «Образ Машеньки остался вместе с умирающим старым поэтом там, в доме теней, который сам уже стал воспоминаньем. И, кроме этого образа, другой Машеньки нет, и быть не может».
Почти через полвека, перечитав книгу для издания по-английски, Набоков не утаил от себя и от читателей, что испытывает к своему первому роману особенное сентиментальное чувство. Оттенок его ясно распознаваем и в самом романе, в тех его эпизодах — свидания на берегу Оредежи, разноцветные стекла беседки в парке, осенние, дождевые поцелуи, белая скамья, сияющая в темной зелени хвой, — которые для автора имели самое непосредственное биографическое значение. Где-то на этих страницах, восстанавливающих поэтичную атмосферу давнего лета, юношеские предчувствия, сладкие грезы, а затем — пленительный образ девушки с большим бантом и нежной смуглотой щек, остро ощущается еще не прошедший восторг перед Буниным, которому, с очень почтительной надписью, был послан авторский экземпляр только что вышедшей книжки («И глядя на небо, и слушая, как далеко-далеко на селе почти мечтательно мычит корова, он старался понять, что все это значит — вот это небо, и поля, и гудящий столб; казалось, что вот-вот сейчас он поймет, — но вдруг начинала кружиться голова, и светлое томленье становилось нестерпимым»). Где-то, особенно в чувствительных стихах, которыми пестрят письма Машеньки из Полтавской губернии Ганину в Ялту, ясно распознается стилизация: мимозы, что хрупки, как грезы, и полные бокалы вина с целью сбросить оковы любви, и сияющая речная волна, — все это сильно отдает олеографией, как отдавала ею и поэзия, поглощаемая «Тамарой»: К.Р., Гофман, Жадовская.
Но есть пронзительность, невозможная и при самой искусной имитации, если за нею не стоят «патетические причуды» тоски по родине, над которыми напрасно иронизировал в предисловии к переводу «Машеньки» стареющий Набоков. Нигде больше (исключая только два-три десятка страниц в «Даре») эта тоска не высказалась у него так ясно и определенно, как в повести о юношеской любви, о том, что все исчезло, «все это далекое, светлое, милое», и невыносимо примириться с исчезновением, невозможно до конца осознать, что прошлое и сегодняшнее разделены непроницаемой стеной. Когда, закончив роман, Сирин прочел его в Литературном кружке, не очень склонный к восторгам Айхенвальд сказал, что появился новый Тургенев: так его поразил «тот русский дождливый август, тот поток счастья», который вновь и вновь возникает в памяти, вопреки всем теням берлинской жизни, и создает острое ощущение ностальгии.
Айхенвальд говорил о бунинской выучке, но можно было сказать и об уроках Марселя Пруста. Ведь август, который был девять лет назад, возникает из провала во времени благодаря запаху карбида, который случайно донесся из гаража, растекаясь по лиловому в сумерки асфальту, — обычный прустовский ход с использованием внешне произвольных ассоциаций, вызываемых совпадениями цвета, запаха или вкуса: они включают тонкие механизмы эмоциональной памяти. И время в «Машеньке» — тоже прустовское время, возвращение к давно ушедшему, но вдруг — иной раз без внешнего повода — вплотную приблизившемуся к тому, что происходит сейчас. Об этом думает и Ганин, постигая, что «временем для него был ход его воспоминанья, которое развертывалось постепенно». Ганин хотел бы, чтобы оно стало всей его жизнью. И знает, что это невозможно.
Много лет спустя, разбирая «В сторону Свана» на своем курсе, посвященном шедеврам европейской литературы, профессор Набоков отметил и тонко доказал, что «книга, которую будто бы пишет рассказчик в книге Пруста, все-таки остается книгой в книге… есть Марсель-соглядатай и есть Пруст-автор». К «Машеньке» невозможно отнести эту характеристику: уже оттого, что рассказчик отсутствует, — повествование ведет Сирин. Но Сирин и Ганин, по существу, не разграничены, это появится позднее, в тех произведениях, где много автобиографического материала, как в «Подвиге» или «Даре», однако идентичности героя и автора нет: повествователь как бы со стороны наблюдает за персонажем, которому он отдал факты из истории собственной жизни. Реконструкция, сделанная в «Машеньке», — через мелочи, осевшие где-то в лабиринте памяти, через внезапные ассоциативные переходы, как запах карбида, которым «включен» событийный ряд девятилетней давности, так что заново пережито вставанье с постели после болезни и увидены мягкие литографии на стенах, — по духу своему уже прустовская (в лекции Набоков особо отмечает важность такого рода эмоциональных потрясений для эпопеи «В поисках утраченного времени» и способность французского романиста осознать «художественную важность подобного опыта»). Сложности отношений «Марселя» и «Пруста», соглядатая и автора, — или рубежи искусства и жизни — этот главный прустовский сюжет в первом романе еще не обозначился. Однако он возникнет у Сирина очень скоро, уже в «Защите Лужина», которая появилась через три года после «Машеньки». И для Сирина он тоже станет одним из самых важных.
Рецензенты «Машеньки» этого, конечно, не предвидели. Они вообще не проявили особой художественной чуткости. Странно, ведь о книге, среди других, писали видный прозаик М. Осоргин и один из лучших критиков Зарубежья К. Мочульский. Однако первый нашел в романе только бесцельность и тоску эмигрантского быта. А второй судил еще резче: набор банальностей из репертуара средней руки беллетристики, главным образом подражателей Чехова. «Бессмысленный сумбур того, что есть, сгущен, доведен до черного тона, чтобы на его фоне еще озареннее, еще прозрачнее светились краски того, что было», — с неодобрением писал Мочульский и не удерживался от издевательского тона: «Шуточки-с, настроеньице, немного истерики, немного бреда, немного выпивки». Словом, сплошь «утомительные бытовые мелочи… Ну и, конечно, споры о России и сознание обреченности». А когда дело доходит до «того, что было», все начинает утопать в благоуханных туманах, в томных описаниях, — невзирая на литературное умение автора, в его прозе «есть какая-то дряхлость».
Сказано очень зло, поэтому и несправедливо. Набоков не забыл обиды, почти через сорок лет выпустив ответную стрелу. «Некий Мочульский, — сказал он интервьюеру, — никак не мог взять в толк, что меня не увлекает никакой мистицизм, становящийся коллективным действием, — не увлекает религия, церковь, причем любая церковь»; вот за это безразличие он и набросился на юного автора. К тому времени «некий Мочульский» давно был в могиле, а Набоков, как профессор русской литературы, конечно, знал, что книги Мочульского, в особенности о Серебряном веке, превосходны. Но верх взял возобладавший у него после «Лолиты» комплекс триумфатора, которому доставляет свирепую радость появившаяся возможность расплатиться по старым счетам. Впрочем, читающим «Плейбой», для которого делалось это интервью, было абсолютно неинтересно, кто такой Мочульский и за что он язвил дебютанта Сирина. Эта публика понимала, что Набокова пригласили в журнал как автора «Лолиты», но и на «Лолиту» смотрела лишь с одной точки зрения: подойдет ли героиня на роль «подружки», которые в «Плейбое» меняются ежемесячно? Был ли прототип? Появится ли фотография с аппетитной голой попкой и кружевами на причинном месте?
Место для полемики можно было выбрать и поудачнее. Но симптоматично само это желание вернуться к далеким временам, поставить точку, понимая, что она будет последней, так как оппонента уже нет на свете. Все дело в том, что в годы, когда он еще не был ни славен, ни богат, слишком часто приходилось Набокову слышать что-нибудь вроде суждений Мочульского. И примерно то же самое много раз говорилось, когда уже никому бы в голову не пришло объяснять действительные или мнимые промахи Сирина тем, что это молодое перо.
Даже первый роман, в котором сам автор на склоне лет замечал неискушенность и неопытность, наметил — при всем обилии отголосков Тургенева и Бунина, о чем Мочульский говорил не без яда, — какой-то, пока трудноуловимый, отход от классической русской традиции. Когда этот отход сделается очевидным и станет восприниматься как сознательный, подчеркнутый жест, конфликт Сирина с русскими критиками из эмигрантской среды приобретет характер долговременной распри, порою принимавшей драматические оттенки.
Выход в свет «Машеньки» ничего не переменил в распорядке жизни молодой четы Набоковых. Все так же приходилось браться за случайную работу, выкраивая для творчества скудные часы. Жить все так же нужно было в пансионах, вроде описанного в романе. Общество, с которым Набоковы поддерживали более или менее стабильные отношения, оставалось немногочисленным: сотрудники «Руля». Философ Г. Ландау, к которому после смерти Владимира Дмитриевича перешли обязанности основного редактора, критик А. Савельев, в прошлом инженер и офицер Белой армии, ветераны кадетской партии Гессен и Каминка, Айхенвальд.
В редакции «Руля» — три комнаты на Циммерштрассе, в доме, где размещался могучий издательский концерн Ульштейна (он, кстати, выпустил немецкий перевод сиринского романа, в коммерческих целях дав книге завлекательное заглавие: «Она приедет — но приедет ли она?»), всегда бывало шумно. Сюда переместился интеллектуальный центр русского Берлина после того, как, за отсутствием платежеспособных посетителей, позакрывались кафе, названия которых вошли в историю.
Был еще Союз писателей, который раз в год устраивал бал с целью сбора средств для нуждающихся членов этой организации, и был русский театр, организованный Юрием Офросимовым, критиком, много писавшим в «Руле» о художественной жизни эмиграции. Желая пополнить афишу современными пьесами, Офросимов уговорил Сирина сделать что-нибудь для сцены. Вскоре по выходе «Машеньки» ее автор уселся за пьесу. На этот раз предстояло сочинить не текст для чтения, как его более ранние драматургические опыты, а именно пьесу, которую можно поставить и сыграть. «Человек из СССР» был показан театром «Группа» осенью 1926-го и прошел всего один раз. Отзывы были очень прохладные. В новогоднем номере «Руля» автор напечатал первое действие этой драмы, четыре остальных известны только в английском переводе — позднем, 1984 года.
Неуспех спектакля был отчасти предопределен изъянами пьесы, в которой чеховская стилистика экспозиции — далеко не процветающий русский ресторан в Берлине (а замышлялся «эдакий ночной кабак, подвал вроде „Бродячей собаки“»), его старик-владелец и два официанта, в прошлом белые офицеры, неблагополучие, усталость от нелепой, поминутно унижающей жизни — плохо ладит с почти детективной интригой, завязывающейся, когда появляется некто Кузнецов, главный персонаж. В перечне действующих лиц он назван купцом, а на самом деле это не купец, скорее авантюрист с идеей. Втершийся в доверие к властям, часто бывающий в Совдепии — и в Москве, и в Саратове, — он, похоже, намеревается предпринять что-то умопомрачительное: не меньше как свергнуть режим, сколотив для этого заговор.
В его истории, о которой, правда, приходится догадываться по скудным намекам, есть отголоски реально происходивших событий. Советскую границу нелегально, причем дважды, пересекал В. Шульгин, известный политический деятель, в прошлом депутат Думы. Когда шла работа над пьесой, у всех на устах было имя Бориса Савинкова: попав в Чека, он вроде бы раскаялся в своей антисоветской деятельности и при очень подозрительных обстоятельствах погиб на Лубянке, где, по официальной версии, бросился в лестничный пролет. Публика премьеры, разумеется, проводила прямые аналогии. Но спектакль не спасла и злободневность.
Возможно, причина была еще в том, что любовная коллизия — «треугольник», построенный по правилам мелодрамы, — изобилует порядком избитыми ходами, а политическая подоплека решений и поступков героя, если автору она вправду была важна, оказывается в лучшем случае виньеткой, да к тому же избыточной. У Кузнецова роман с «фильмовой актрисой» Марианной Таль. Тем не менее свою очередную поездку в СССР, с ведома и одобрения тов. Громова из полпредства, он затевает для того, чтобы вскоре туда, верней, в свободную Россию смогла вернуться вместе с ним жена, которая, кажется, еще не догадалась, что ее супруг тешит себя надеждой походить на артиллерийского офицера-корсиканца, ставшего императором. Потрясенная бесчувственностью возлюбленного, для которого политика выше, чем страсть, Марианна принуждена воплощать свои романтические грезы исключительно на съемочной площадке с луковками-куполами и балалайками — скоро в прокат выйдет очередная порция чепухи с русской подкраской. Один из официантов, бывший барон, снимается статистом вместе с Марианной, за десять марок, и хотя в первом акте он умолял Кузнецова взять его с собой в Россию, это не помеха для объяснения в любви госпоже Кузнецовой. Она крайне огорчена разрывом с мужем, но надеется, что разрыв не окончательный. И так далее.
В довольно неумело построенной пьесе, — местами она отдает именно пошлостью, которую Набоков преследовал так яростно, любопытна, однако, наспех обозначенная атмосфера кинематографа, где Марианна добилась положения и известности, пусть играть ей приходится не всегда то, что она хочет (теперь вот коммунистку, а это адски трудное дело). В тогдашнем Берлине существовало три русских киностудии, верней, кинофабрики: об искусстве там не задумывались, просто спешили, пока не вышли деньги, снять еще одну историю про опустошительную страсть и коварные измены, рассчитывая на тех, кто обожает бульварные романы. Для Набокова кино — во всяком случае, такое кино — олицетворяло безвкусицу, примитив, скудость вымысла, отсутствие Музы: так о нем сказано в стихотворении «Кинематограф» (1928). И все-таки балаган его завораживал. Иначе не объяснить, отчего мир кино — обычная тема в рассказах и романах берлинского периода, а приемы повествования, типажи, построение ключевых эпизодов, способы изображения, пришедшие из кино, — все это использовано у Сирина очень широко, и не только для пародирования. Целый роман — «Камера обскура», тот, с которого началась его (правда, в ту пору очень скромная) известность в странах, где говорят по-английски, — насквозь прошит отсылками к сюжетам и образам тогдашнего кино, и в особенности немецкого, возросшего на дрожжах экспрессионизма. А в стихотворении 28-го года, где с иронией описываются обычные для кинематографа «гонки, водопады, вращение зеркальной темноты», — где как «роскошное воображенье самоуверенного пошляка» представлен весь этот мир экрана, — все же слышна и другая нота: увлеченность, пусть только совсем наивные люди станут искать в кино «гармонии услады» и «ума полет». Ничего этого там, конечно, нет, но зато
Там письма спешно пишутся средь ночи:
опасность… трепет… поперек листа
рука бежит… И как разборчив почерк,
какая писарская чистота!
Тривиальные выдумки, которые рассыпаются, едва в зале вспыхнул свет и тапер поднялся из-за рояля, таят, однако, какую-то магическую притягательность не только для приказчика, насмешливо обсуждающего с подругой показанную им повесть, где некто занят подслушиваньем у дверей и есть богатей, не чуждый сострадания. «Люблю я световые балаганы все безнадежнее и все нежней…» — начальные строки стихотворения «Кинематограф», видимо, следует воспринимать, не ища в них сарказма или обмана читателя. Сирин их действительно любил, прекрасно понимая, что это балаганы, и не больше. В неудавшейся пьесе одни только отзвуки этой любви и были, пожалуй, живой нотой.
Хотя, разумеется, в ней обращает на себя внимание основной сюжетный ход.
Рецензент спектакля С. Плотников был прав, отмечая, что о герое пьесы трудно сказать, кто он: не то искатель приключений, не то мученик добровольческой идеи. Если бы свою статью критик писал год-другой спустя, ему бы стало ясно, что возвращение на родину — нечего и говорить, без санкции тех, кто там властвует, — было для Сирина больше чем писательской темой, это была своего рода одержимость. Вот стихи 1929 года:
Для странствия ночного мне не надо
ни кораблей, ни поездов.
Стоит луна над шашечницей сада.
Окно открыто. Я готов.
И прыгает с беззвучностью привычной —
как ночью кот через плетень —
на русский берег речки пограничной
моя беспаспортная тень.
Это сон, вот отчего в бегущего «напрасно метит часовой». Но подробности сна, проделанный маршрут — реалистичны и узнаваемы. Тут неведомый дом, но он, конечно, стоит на неназванной Морской. Тут длинная набережная, которая идет, конечно, вдоль Невы. В темных комнатах все по-другому, но все волнует: «прежние мои игрушки, и корабли, и поезда…»
Весной 1926 года — работа над «Человеком из СССР» шла полным ходом — в Берлине устроили выставку Добужинского: серия картин с видами Петербурга. Набоков на ней был, и должно быть, припомнились уроки рисования, отрочество, знакомые места. Стихи, навеянные выставкой, начинаются так: «Воспоминанье, острый луч, преобрази мое изгнанье…» В поэзии тех лет «воспоминанье — изгнанье — преображенье», переплетаясь, создают сиринский лейтмотив.
Из стихотворений, где он чувствуется особенно ясно, самую большую известность приобрел «Билет», напечатанный в июне 27-го. Оно не самое удавшееся. Описание немецкой фабрики, где машина печатает бланк, на котором пробьют диковинное название станции в России, пожалуй, чрезмерно подробно. Поэтому финальная кода (приказчик, что «выдаст мне на родину билет») не создает необходимого эмоционального напряжения. Однако отчего-то именно оно привлекло внимание московской «Правды», которая перепечатала стихи из «Руля» через три недели после публикации. И сопроводила зарифмованным комментарием Демьяна Бедного: по части бичеваний и обличений он был первый виртуоз. Выражений этот виршеплет не выбирал — свою отповедь озаглавил «Билет на тот свет» и пообещал: что до билета на родину, то «тебе, поэтик бедный Сирин, придется ждать… до гробовой доски». Предсказание, как ни жаль, сбылось.
Верней всего, Набоков знал о перепечатке и о комментарии, в «Руле» постоянно освещались материалы московской прессы. Во всяком случае, его статья «Юбилей», приуроченная к десятилетию октябрьского переворота, воспринимается и как ответ воспевателю «советских тисков», которые не разжать «всей белой плотве».
Пафос статьи, которая представляет собой редкий у Сирина образец чистой публицистики, — презрение и гордость. За десять лет наука презрения изучена эмиграцией в совершенстве: презрения к скудной коммунистической идейке, заморочившей столько недалеких душ и произведшей на свет столько простофиль с их умственной серостью и «мещанской дурью». Презрения к убожеству, которое пришло на смену «праздничной истории человечества», в той, прежней России, знавшей времена своего пышного расцвета. Презрения к тупости и самодовольству, несвободе и серости, которые год за годом насаждает победивший большевизм.
Для Рассеянья, писал он, это были и десять лет верности. Оно осталось верным «той особенной России, которая невидимо нас окружает, живит и держит нас, пропитывает душу, окрашивает сны». Никогда прежде голос Набокова не звенел такой медью. Он писал о наболевшем, о выстраданном — как ни чужды были такие слова его уже в те ранние годы скептичной, иронизирующей прозе. Он славил рассеянное по миру государство, которое сильно свободой ото всех законов, кроме закона любви к оставленной родине и закона жить по совести. Он был благодарен музе Истории, слепой Клио, за щедро ею подаренную возможность — как часто пользуются персонажи его книг этим шансом! — «насладиться… изощренным одиночеством в чужую электрическую ночь, на мосту, на площади, на вокзале». Вкусив такой свободы, они, «волна России, вышедшей из берегов», сумели то, что не дано было другим, — смогли «пронзительно понять и прочувствовать родную нашу страну».
Похоже, этой статье Сирин придавал значение манифеста. Подобной четкости и резкости интонаций больше у него не найти нигде, разве что, и то изредка, в интервью, когда возникает тема из тех, что действительно задевали его за живое. «Юбилей» коснулся как раз такой темы. Слишком существенные, слишком для него самого важные вещи были здесь затронуты впрямую, слишком ответственные мысли сформулированы без оговорок и без лазеек для кривотолков. Набоков написал о том, что принимает изгнание. И принимает его не как унижение. Как судьбу.
В ту зиму 1927/28 года на его письменном столе лежала стопка исписанных школьных тетрадок, три первые главы новой книги. К маю она вчерне была закончена, еще полтора месяца ушло на поправки. В сентябре издательство «Слово» выпустило эту книгу, а концерн Ульштейна приобрел права на немецкое издание, которому должна была предшествовать публикация серийными выпусками в «Восзихе цайтунг». У книги было карточное заглавие — «Король, дама, валет».
Матери Набоков признавался в письме, что порой трудно, но зато интересно вести повествование, где нет русских персонажей. Трудность была та, что описываемое немецкое семейство, в котором мужа, жену и дальнего родственника из провинции связывают пошлые отношения — супружеская измена, «треугольник», — не вызывало у автора никакой эмоциональной реакции, пусть бы даже неприязни или брезгливости: оно попросту скучно. А интерес состоял как раз в отсутствии эмоциональных подпорок. Рассказ должен был состояться в собственных границах: без ностальгических пассажей, без лирики сокровенных воспоминаний. Впервые у Набокова было отчетливое чувство, что всю эту среду придумал, сотворил он сам силой своего художественного дарования.
В итоге получился берлинский роман. Представляя перевод книги на английский, Набоков много лет спустя говорил, что именно необходимость писать о немцах и о берлинской жизни доставляла ему самые большие муки. Он не знал языка, не прочел по-немецки (впрочем, и в переводе с немецкого) ни одного романа, и друзей из немцев у него не было. Зато, рассказывая тривиальную историю, действие которой охватывает несколько зимних и весенних месяцев и протекает, вплоть до последнего эпизода, в германской столице, он ощущал себя абсолютно свободным: мечта о чистом вымысле, который не корректируется даже «эмоциональными обязательствами», исполнилась.
В «Машеньке» было совсем другое: там — по крайней мере, так казалось автору, с неудовольствием перечитавшему собственную книгу вскоре после ее появления, — герои точно бы красовались в витрине, с ярлычками, которые удостоверяют, что все это некие типы, и по ним можно ясно представить себе, что такое мир Рассеянья, кем он населен. В «Машеньке» преобладала мысль о литературе как о «человеческом документе», властвовала «этнопсихология»: все очень русское, очень эмигрантское, узнаваемое до трепета и слез.
Ничего этого не должно было быть в новой книге. И прежде всего надлежало исчезнуть «взволнованности», над которой сорок лет спустя, в предисловии к английскому переводу, автор откровенно иронизирует. «Я мог бы, — сказано там, в предисловии, — перенести действие „КДВ“ в Румынию или Голландию. Близкое знакомство с топографией и погодой Берлина определило мой выбор».
Но дело не только в топографии и, уж конечно, не в погоде. Через четыре года после книги Сирина появился еще один берлинский роман, нашумевший и по сей день знаменитый, «Маленький человек, что же дальше?». Предполагать какое-то сиринское влияние на автора этого романа наивно: автор, Ганс Фаллада, был прозаик с большим именем и вполне определившейся индивидуальностью. Если сравнить с Сириным, это совсем другая индивидуальность. Фаллада — тонкий, наблюдательный бытописатель, непревзойденный знаток будничного обихода самых обыкновенных людей, истинный поэт Берлина, где прошла вся его творческая жизнь. Но совпадения между двумя книгами (разумеется, непредумышленные) кое-где очевидны. И они навряд ли случайны, потому что в обеих книгах главный герой — это, в сущности, сам Берлин, воссозданный как особый мир, особая среда обитания, которую прежде всего остального характеризуют обезличенность, бездушие и автоматизм.
Любопытно, что есть и более частные совпадения, вплоть до некоторых подробностей рассказываемой истории. И в «КДВ», и в «Маленьком человеке» говорится о провинциале, которому предстоит непростая, а поначалу просто мучительная адаптация в гигантском, четырехмиллионном городе. Тот «маленький человек», Йоганнес Пиннеберг, о котором рассказывает Фаллада, потерял работу, так как посмел жениться вопреки ожиданиям хозяина, жаждавшего сбыть с рук перезрелую, некрасивую дочку. И вот приходится, подавив страх, ехать в столицу, где он окажется в полной зависимости от сожителя собственной матери: ведь Яхман — человек со связями. Франц, до двадцати лет коптивший небо У себя в захолустье, благоволением своего троюродного дяди, очень состоятельного человека, оказывается в Берлине, где дела его сложились куда удачнее, чем у Пиннеберга. Но удачей он обязан исключительно капризу Драйера и еще тому, что супруга Драйера, Марта, вздумала завести молодого любовника.
У Драйера — большой магазин, где «только мужские вещи, но зато — все, все — галстуки, шляпы, спортивные принадлежности». Франц станет там приказчиком с перспективой (правда, не очень определенной) когда-нибудь сравняться с самим господином Пифке, старшим продавцом, «настоящее дело которого было разгуливать по магазину, торжественно и учтиво устраивая там и сям свидание между покупателем и приказчиком». Попечением проходимца Яхмана Пиннеберг тоже получает место продавца в магазине мужских вещей, хотя напрасно так уж радуется — это ненадолго. Есть в «Маленьком человеке» и полный аналог Пифке: у Фаллады старшего продавца зовут Гейлбут. О нем, истинном виртуозе, когда нужно всунуть клиентам вещь вовсе им не по карману, известно только, что одиночество ему скрашивают встречи общества «Культура нагого тела», членом которого он состоит.
Сцена посещения этого общества — Гейлбут решил, что для Пиннеберга, у которого рожает жена, такая встряска будет как раз впору, — написана с присущим Фалладе блеском фельетониста, который не упустит ни одной подробности, если она выразительна и смешна. Ни задушевных разговоров в кабинке для переодевания, где собеседники, Гейлбут и его дама, сидят нагишом. Ни голых тел, столпившихся перед трамплином в бассейне, — дородные матроны производят особенно фантастическое впечатление. Ни агента по продаже ковров, затесавшегося в это общество с корыстной мыслью: а вдруг удастся навязать свой товар сочленам? Жутковатая картина, от которой у Пиннеберга мурашки бегают по спине. Но пятью страницами ниже мы видим героя ошалевшим от счастья — он только что стал отцом. И в этом соединении пугающего гротеска с чуточку сентиментальным жизнелюбием весь Фаллада. На своих персонажей он смотрит иронично, а на окружающий их мир — нередко с насмешкой, и даже едкой, но ничто не способно лишить его веры в замечательные свойства «простого сердца» или умерить пылкое сострадание маленьким людям, которых преследуют напасти и невзгоды.
У Сирина на авансцене, в сущности, точно такой же «маленький человек». Понаблюдав за Францем в его светленькой комнатке, где на стене висит женщина в одних чулках, а другая стена занята зеркалом с флюсом, и все время пахнет потом, и валяются на полу подштанники с отлетевшими пуговицами, толковый социолог сразу бы определил, что жилец относится к категории бедствующих и отверженных — тем более если сравнить его жилище с особняком Драйеров, где царит безвкусная, но роскошь. Впрочем, социологу было бы лучше всего удовольствоваться внешним наблюдением, потому что Франц описан так, что не возникнет малейшего повода для симпатии или умилений. Есть сцена, когда он вместе с Драйерами отправляется в мюзик-холл, в ней много общего с посещением кружка нудистов у Фаллады: вплоть до зеленой воды бассейна, где плещется полураздетая девица, чья обязанность — целовать в уста тюленя, который сигает по доске, будто смазанный салом. Но там герой весь в мыслях о жене, которая сейчас мучается схватками. А вот Франц в своей тарелке среди этих шимпанзе в человеческом платье и клоунов в ежеминутно спадающих штанах. И, наблюдая номер, обозначенный как «Эластичная продукция братьев Челли», он думает о том, что своя прелесть заключена в неведении Драйера, который ничего не подозревает, а оплачивает все, и даже ту комнатку в пансионе, где так часто перед ужином проводит часок без малого его жена.
Эта «эластичная продукция» мелькнула в программке не по капризу автора. Вскоре читателю будут представлены дивные образцы такой продукции: бледный мужчина в смокинге, бронзоватый юноша с ракеткой для тенниса, солидный господин с портфелем под мышкой — движущиеся манекены, ожившие электрические лунатики, последнее откровение дерзновенного изобретательского ума. Драйер, которому были продемонстрированы первые разработки, потрясен этой «гибкой системой суставов и мускулов», которые приводятся в действие батареями, этим гуттаперчевым веществом, что кажется живой плотью. Вообразив себе подобия человеческого тела («с мягкими плечами, с гибким корпусом, с выразительным лицом»), которые расхаживают за витриной его магазина, он не в состоянии сдержать восторга, хотя тут же начинает прикидывать, какой барыш принесла бы своевременная продажа потрясающей новинки. Он, со словарем читающий английские книжки, — вероятно, и модного тогда Бернарда Шоу, — уже видит себя в качестве пожилого Пигмалиона, которого окружает «дюжина электрических Галатей». И пройдет это наваждение только когда — пусть Драйер еще об этом не узнал — на смертном ложе окажется та, кого он, превративший ее из бедной провинциальной барышни в супругу миллионера, мог бы, с долей фантазии, вправду счесть собственного изготовления статуей, которая внушила скульптору страстную любовь. Манекены, которых демонстрируют покупателю-американцу, вдруг станут ему неприятны своими однообразными движениями, приторностью сосредоточенных лиц, словом, скукой, что прежде казалась волшебством.
Ему, разумеется, было бы тяжело примириться с мыслью, что точно таким же манекеном — гомункулусом, курьезом, куклой вроде тех, какими забиты подсобные помещения его магазина, пока другие куклы, в пиджаках, с повязанными галстуками, красуются в торговых залах, — предстает у Сирина он сам, как и Марта, и Франц, и весь тот паноптикум, что собрался у Драйеров отпраздновать Рождество. Куклой кланялся и вертелся за прилавком облагодетельствованный им племянник, этот Валет, не желающий вечно оставаться в подчинении у Короля, а ночью мертвой куклой валился в постель, не зная, спит он или бодрствует. Кукольное существование ведет Дама, та, для кого невозможно ничто «не предвиденное ею, не входящее законным квадратом в паркетный узор обычной жизни». Автоматически, как куклы, дергаемые за веревочку невидимым актером, Валет и Дама любят друг друга, верней, трижды за неделю выполняют ритуал: «В четверть восьмого… он, запыхавшись, влетал к себе в комнату. Через несколько минут являлась Марта. В четверть девятого она уходила. А в без четверти девять Франц отправлялся ужинать к дяде». Днем он барабанил пальцами о прилавок, ставший немой клавиатурой, на которой репетировалась вечерняя процедура раздевания любовницы.
Актер, управляющий этим кукольным вертепом, — или же игрок, у которого на руках карты, легко рушащие любую комбинацию с королем, дамой и валетом, — носит в романе знаковое имя. Он, иллюзионист и фокусник, притворившийся серым старичком в домашних сапогах на пряжках, зовется Менетекелфарес, словно бы этого берлинского обывателя можно было увидеть за пиршеством у Валтасара, когда три слова, означающих «сочтено, взвешено, разделено», огненными буквами выступили на стене. К старичку, кстати, Франц перебрался прямиком из номера привокзальной гостиницы, где жил и тот изобретатель ходячих манекенов, который особенно гордился их эластичностью, их «стилизованной одухотворенностью». Не из его ли мастерской явился в мир и сам Валет, то и дело заставляющий вспоминать Гофмана, будто бы не прочитанного Сириным, но отчего-то все время у него отзывающегося (особенно Гофман, написавший новеллу «Песочный человек», где герой влюбляется в красивую куклу, теряет рассудок, когда Олимпия не преображается в человека, и накладывает на себя руки). Или, может быть, права изобретения принадлежат все-таки старичку-хозяину, который беззвучно шлепает по коридору, пока Валет и Дама обсуждают после утех детали своего плана, заключающегося в убийстве Короля ради последующего безоблачного счастья? Может быть, это он, знающий, что все на свете лишь игра воображения, их всех и выдумал: Франца, и его подругу, и громкоголосого господина, который как-то явился проведать Валета, страшно перепугав Даму, не вовремя вздумавшую облачиться в ночные туфельки, припасенные возлюбленным для сладостных минут.
Эффект сиринского повествования возникает на размытой, ускользающей грани, где сходятся, друг в друга перетекая, живое, но родственное автомату, и механическое, но притворившееся живым. Карточная игра, когда не выигрывает никто, однако ставка, сделанная Дамой, совершенно точно оказывается битой, — собственно, самая пригодная метафора для описания пертурбаций, происходящих в семействе Драйеров вслед за тем, как вывезенный из провинции подслеповатый племянник появляется в Берлине. Мысль о физическом устранении Короля возникает у давно им тяготившейся Дамы после автомобильной аварии, в которой пострадал шофер (а мог бы попасть в морг сам хозяин). Не предчувствуя печальной для нее развязки, Марта принимается строить планы прекрасного будущего: магазин работает, денежки прибывают, и уже не придется слушать по ночам храп заросшего рыжей шерстью супруга (а изредка, по долгу службы, делить с ним ложе, сдерживая отвращение). Вот сел бы он в тот день рядом с водителем… А случается, дохнут от инфлюэнцы, да и «мало ли что вообще бывает: болезни, скажем. Может быть, у него порок сердца?»
Такое чувство, словно она просто раскладывает пасьянс, что-то наподобие «Могилы Наполеона», популярной в те годы у любительниц коротать вечерок с колодой, где и двойки, и тройки. Даме не дано знать, что предназначенная для Наполеона, для Короля могила — влажная, морская могила, как они с Валетом решили перед последней сдачей, перенеся заключительный тур на балтийское побережье. — ждет именно ее, подхватившую летальное воспаление легких в ту лодочную прогулку, когда не умеющий плавать Драйер должен был пойти прямиком на дно, как только в нужном месте, подальше от берега вдруг одновременно встанут, накренив борт, оба гребца. Все бы так и вышло — преферанс непременно получается у твердо выучивших правила, по которым следует раскладывать карты, — однако ею сделан один неверный ход, после которого комбинация погублена непоправимо. И никого при этом не жаль: ни Марту, преспокойно обдумавшую убийство и отсрочившую его только из расчета получить по завещанию еще сто тысяч за манекены, которые Драйер поехал продавать в Берлин, ни Драйера, читающего газету на балконе номера, где только что умерла его жена. Ни Франца, уже примерившегося ущипнуть пышнотелую горничную, но решающего повременить до завтра.
Они двигаются, соприкасаются, взаимодействуют в точности как экспонаты из кунсткамеры, вроде выставленной там (Драйер вместе с обеспокоенным конструктором ходящих манекенов ездил взглянуть) искусственной женщины, что была у почтенного бюргера, ни с того ни с сего совершившего преступление. Женщина умела закрывать стеклянные глаза, нагревалась изнутри, волосы у нее настоящие, но сделана грубовато, «в общем — чепуха». Этот бюргер лишь упомянут и больше не появляется, однако автор уже достиг в своем искусстве той стадии, когда исключены случайные, ничего не значащие мелочи. Бюргер — еще одна мимолетная подробность, которая дополняет, придавая ему законченность, воссоздаваемый социальный пейзаж, он — знаковая фигура берлинской будничности, образующей ауру сюжета и в большой степени определившей его характер. «Король, дама, валет» — берлинский роман не оттого лишь, что действие происходит в немецком мегаполисе, а оттого, что этот мегаполис становится у Сирина олицетворением описываемого времени, и психологии, помеченной этим временем, и созданной им духовной — вернее, бездуховной — среды.
В романе Фаллады Берлин тоже значит очень много: будничный город с вонючими многоквартирными домами-казармами северного района, с безработными, которые часами просиживают на скамейках в Малом Тиргартене, разглядывая клумбы цветущих маргариток, с дешевыми кафе, где по субботам играет духовой оркестр, с кутилами, знающими прелести баров и кабаре, где пляшут красотки в одном передничке. У Фаллады четко просматривается конкретное время событий, он не забывает упомянуть о свастике, намалеванной на стенах общественной уборной поверх нацарапанной карандашом надписи «Сдохни, жид!», и о рисунке, прилепленном к стеклу вагона: толстый еврей, который болтается на виселице. Таких деталей Сирин не использует, ему важен не политический пейзаж, а обобщенный образ цивилизации, для которой история Короля, Дамы и Валета — всего лишь мелкий, банальный эпизод ежедневной хроники, даже не обязательно уголовной.
И поэтому его Берлин напрочь лишен той непритязательной, иной раз с примесью шаржа, но все-таки поэзии, без которой не обходится ни одна книга Фаллады. Сиринский Берлин показан так, как его открывает для себя Франц, который в первый же день по приезде разбил очки, из-за чего только усилилось ощущение какой-то беспросветной серости и скуки, царящей и на этих унылых улицах, под которыми грохочет подземка, и на прославленной Унтер-ден-Линден — липы осыпались и выглядят жидковатыми. Вот что такое этот Берлин: светлоногие женщины на облюбованных проститутками углах, «и черные фигуры, поверявшие друг дружке душные, сладкие тайны в углублениях подъездов… и черный, влажный, нежный асфальт». В сочетании с постоянно маячащими перед читателем манекенами и золочеными болванками, на которые приказчики натягивают штаны и пиджаки, каждый подобный штрих закрепляет ощущение, что описываемый мирок неотличимо схож с пошловатой фотографической открыткой, какие сбывают простофилям, явившимся из своего медвежьего угла на экскурсию по знаменитым проспектам. Или, возможно, с парадизом, пригрезившимся прыщавому юнцу, который вдруг увидел себя «в визитке, в полосатых штанах, в белых гетрах» — а вечером его ждет гологрудая дама, поднимающая рюмку к пунцовым губам.
Чувство всеобщего омертвения (и эмоционального тоже: поддельны переживания, испытываемые героями хотя бы и в наиболее яркие мгновенья их жизни) — самое неотступное из тех, что пробуждают картины набоковского Берлина. Оно, это чувство, преследовало и читателя «Машеньки» с ее картинами черных домов, над которыми нависло небо, «бледное, как миндальное молоко», и слепых стен с механически пляшущими буквами рекламы, и такой же механической любовной схватки, когда окна пансиона подрагивают от грохота несущихся поездов, и косого отсвета витрин, в котором мельтешат куда-то спешащие, словно заведенные, люди. «Король, дама, валет» с заостренным, повторяющимся мотивом манекена, который неотличим от живого теннисиста или коммерсанта, послуживших моделями изобретателю с помощниками — анатомом и скульптором, придает образу Берлина завершенность, заставляя осознать этот город как нечто едва ли не апокалиптическое. Тут вывернуты все понятия и отношения, убита всякая вера, погублена всякая человечность: упомянув в «Защите Лужина» о том, что на вечера в доме невесты героя, эти празднества пошлости, собиралось эмигрантское общество, и в частности, чета Алферовых (она потом встретится чете Лужиных, и супруг, как встарь, будет трясти желтой бородкой, сетуя на холода), Сирин написал истинный финал «Машеньки». Теперь никто бы больше не назвал его новым Тургеневым, доверившись оценке Айхенвальда.
Впрочем, догадаться, что такая оценка некорректна, можно было, уже прочитав историю о короле, даме, валете. Ее действие разворачивалось в середине 20-х годов, однако характер изображения — минимум конкретики, марионетки вместо героев, густо, даже с долей избыточности даваемая атмосфера абсолютной духовной стерильности — позволял легко перемещать события и в другие времена, в другую социальную среду, если сохранялась основная тема: люди, неотличимые от манекенов. Сорок четыре года спустя польский режиссер Ежи Сколимовский снял в Германии фильм по второму сиринскому роману, отдав женскую роль Джине Лоллобриджиде. Он перенес события лет на тридцать вперед; на экране были витрины, вопящие об изобилии, взлетали авиалайнеры, мчались по автобанам красивые машины, словом, представал портрет общества, которое, подразумевая воцарившиеся в нем поклонение вещам и страсть к их приобретению, стали называть потребительским. Персонажи, все трое, выглядели невозможно самодовольными, упивающимися своей жизненной удачей. Марта стала в фильме итальянкой, которая смутно помнит ужасы фашизма и войны; она согласилась выйти за богатого англичанина, попросту ее купившего, и убеждена, что ей немыслимо повезло: какое благоденствие, какая царственная — можно бы добавить: до чего безвкусная — роскошь.
Франц в экранизации оказывается изобретателем искусственной кожи; он пытается увлечь мужа Марты, у которого солидная фирма, своими муляжами и, как ему кажется, точно прокладывает маршрут, ведущий к кошельку преуспевающего родственника через постель его супруги. Свидания происходят в номере грязноватого отеля, который, видимо, напоминает Марте ее полуголодную, ностальгической дымкой овеянную юность. Вернувшись на виллу, она погружается в мир, где сплошные подделки и заменители, которые почти неотличимы от реальных вещей, но все-таки отдают синтетикой. И ею же отдает беззаконная страсть героини, более всего схожей с марионеткой как раз в интимные минуты. А герой ее романа прежде имел обыкновение спать с кожимитовой куклой: метафора, которая кажется резковатой, прямолинейной даже в стихии чистого гротеска, подсказывающей художественные ходы книги.
Тем не менее Сколимовский прочел ее точно, во всем считаясь с волей и логикой автора. Трудно сказать то же самое об откликах русской эмигрантской критики. Сочли, что это рассказ о «буржуазной среде», в котором «раскрывается безысходная мрачная плоскость и безличность человеческого существования». Писали о «бульварно криминальном изгибе сюжета». Отметив «потрясающую зрительскую насыщенность текста», говорили, что все же получилась ужасно холодная книга: все математически просчитано, сплошная схема, к которой автор порой «прилаживает сложные и замысловатые зигзаги». Так высказался о романе критик из Ревеля Н. Андреев, впоследствии крупный специалист по русской истории и археологии. Ему казалось, что своим разбором он сделал комплимент молодому прозаику: как большое достоинство отметил «виртуозную стилизацию под изображаемую среду», а что до простой, банальной развязки, так это «для Сирина естественный путь».
Тон статьи был и правда благожелательный, однако осмысление такое, что им косвенно подтверждалась складывающаяся репутация Сирина как писателя даровитого, только дорожащего лишь внешними эффектами, отделкой, щегольством композиции и равнодушного к треволнениям времени, как и к мукам души. Эта репутация за ним останется надолго. Вряд ли можно назвать ее полностью надуманной — не только старания литературных противников принесли такой результат, — однако и полностью справедливой она не была никогда. По крайней мере, до тех пор, пока Набоков писал по-русски.
В декабре, через три месяца после публикации второго романа, нелепо погиб Айхенвальд, возвращавшийся домой с вечеринки у Набоковых на Пассауэрштрассе, 12. Кружок, душой которого был этот критик («скромный, близорукий человек с тонкими, подвижными пальцами», как написал Набоков в одном своем рассказе), распался с его смертью, и усилилось ощущение одиночества, давно знакомое Сирину, — литературного одиночества, потому что в Берлине просто никого не оставалось из людей его круга. Жизнь смягчала мрачные настроения. На последних страницах романа, уже после губительной для Марты морской прогулки, по пляжу мимо Франца проходят, беспечно болтая на незнакомом языке, «проклятый счастливый иностранец… со своей загорелой, прелестной спутницей». Набоковы и правда были в то лето на Балтике. А деньги за газетную публикацию немецкого перевода позволили зимой поехать в Перпиньян, в Восточные Пиренеи, где ожидалась удачная охота на бабочек.
Обосновались в деревушке Ле Булу, у самой испанской границы, и там был начат третий роман — «Защита Лужина». К июню, когда надо было возвращаться в Берлин, книга была на две трети готова. В августе Сирин ее закончил. Осенью 1930-го она вышла отдельным изданием в «Слове» и вызвала отклики, несопоставимые с прежними: теперь, кажется, никто не подвергал сомнению, что впору говорить о значительной литературной величине.
Это был первый действительно крупный успех, рывок вперед, после которого прежде напечатанное, не исключая и оба романа, стали воспринимать — разумеется, несправедливо — только как подготовительную стадию, как пролог, за которым начинается для Сирина настоящая литература. Ее любил и сам автор, вложивший в свою повесть много личного, особенно на первых страницах. Там дорога к станции, гулко и гладко идущая через еловый бор, чтобы пересечь петербургское шоссе и потянуться дальше, «в неизвестность». Там утренние прогулки с француженкой, как две капли воды похожей на ту самую мадмуазель О., что описана в «Других берегах», причем и маршрут примерно такой же: с Лужиным гуляют «по Невскому и кругом, через Набережную, домой». Там Балашовское училище, оно же Тенешевское, и футбол на заднем дворе, и учитель словесности, сам «недурной лирический поэт», и еще многое, что порой отчетливым, а чаще смутным, размытым пятном видится через «особый снег забвения, снег безмолвный и обильный», который «белой мутью застилал воспоминание».
Однако эти лирические наплывы в романе единичны. И почти не слышится проникновенных нот. И заглавный герой совершенно не похож на Ганина из «Машеньки», пусть Лужину тоже отдано кое-что из пережитого автором.
Задача, которая им перед собой поставлена в этой книге, коренным образом отличается от целей, преследуемых Сириным в двух предыдущих. Слово «задача» самое верное, поскольку Лужин гениальный шахматист, который привык все на свете соотносить с дебютами, миттельшпилями и этюдными окончаниями блестяще разыгранных партий. А Набоков к тому времени, когда он принялся за роман, считающийся первым из его шедевров, был довольно опытным шахматным композитором, тонко постигшим искусство непредусмотренных ходов и внешне рискованных атак с жертвами и, вслед им, ошеломительным матовым натиском. С «очаровательной, хрустально-хрупкой комбинацией», вроде проведенной Лужиным в его эпохальной партии против Турати и натолкнувшейся, правда, на веский ответ: «угроза и защита, угроза и защита».
Вот так — «угроза и защита» — в сущности, и построен роман, где, по слову автора в предисловии к английскому изданию 1964 года, есть фатальный узор в биографии героя, идентичный контрнаступлению его соперника за невидимой доской, которое завершилось для Лужина катастрофой.
Жизнь художника, истинная и главная сиринская тема, на взгляд Ходасевича, как раз в «Защите Лужина» впервые заявляет свои права на доминирующее положение, хотя художник, тот, чья фамилия стоит в заглавии, странное существо и странна, а для посторонних просто непостижима его жизнь. Посторонние не сознают, что вся она подчинена приему, который ведет собственную активную жизнь в его сознании, и этот прием — защита: не только и не столько против дебютного начала, обеспечивающего Турати победу за победой, сколько против порядка вещей в мире, потому что этот порядок требует от Лужина невозможного, непосильного. Он требует согласиться с тем, что детство однажды кончается, и бесповоротно. Он требует приспособиться к анонимной субстанции существования, к обезличенному универсуму механических связей и отношений, в котором стерта, уничтожена индивидуальность.
Шахматы для Лужина — разумеется, не профессия, а искусство, пусть многим покажется, что на самом деле они только суррогат творчества, подделка под другую жизнь, где оспорены или, возможно, вовсе отменены непреложные истины, с которыми герой, едва ли отчетливо это осознавая, находится в безысходном конфликте. Свои партии Лужин играет не против пожелтевшего от бессонницы венгра, который напрасно думал, будто нашел в безнадежной позиции ничью, или седовласого англичанина, с достоинством подписывающего капитуляцию, или холодного итальянского виртуоза. Он играет против судьбы, принуждающей принять обыденные правила и мерки, тогда как этот шахматный Паганини — «человек другого измерения, особой формы и окраски, несовместимый ни с кем и ни с чем».
На самом деле он принципиально совместим с другими героями Сирина, с теми, кто грезит, что «времени нет». Что «ничто никогда не изменится». Что все так же, словно не прошли годы и годы, будет тяжело опускаться в кресло тучная француженка с костяными пуговицами на юбке, а лифт на толстом бархатном шнуре будет медленно ползти наверх в том петербургском доме, от которого остались одни стены да попорченные паркеты, а жизнь ушла.
Эта идиллия закончилась в ранней биографии Лужина травмой, грязью, гадостью, которую он смутно почувствовал, хотя и не понял, что за сложности были между отцом, сочинителем назидательных книжек с либеральной начинкой, и матерью, склонной к истерикам, а также теткой, с некоторых пор никогда не переступавшей порог их особняка. Шахматы в первый раз начинают занимать Лужина, когда ему стала необходима защита от пошловатых сюжетов обыденности.
Эта ситуация повторяется на протяжении всего романа. Поэтому бесполезны попытки невесты, затем жены героя приучить его к «нормальной» жизни. С какими-то акварельками вместо бессмертных гамбитов. С солидно обставленной берлинской квартирой, с горничной и чтением вслух ни разу им прежде не прочитанной «Войны и мира», вместо прокуренных шахматных кафе и напряжения за доской, по которой невообразимыми, гениально придуманными ходами передвигаются деревянные фигурки.
«Нормальная» жизнь попросту невозможна для Лужина, потому что он, этот смолоду состарившийся шахматный корифей, который считает только несущественной оболочкой все обиходное бытие, открыл в себе художника, творца приемов, неизвестных никому прежде. И чувствует теперь, что эти приемы освоены — нужны новые, еще более ошеломительные и дерзкие, ибо искусство не терпит повторений. И полностью равнодушен ко всему остальному на свете.
В нем есть что-то уродливое, ведь он привык ценить фантомы — эти «прелестные, незримые шахматные силы» — выше, чем любые радости реальной жизни, и волнение они у него вызывают куда более сильное, чем любые реальные потрясения: допустим, смерть отца или даже собственная женитьба. С каким трудом после сеанса игры вслепую Лужин «вылезал из мира шахматных представлений», как тяжело ему раздваиваться, обитая в будничности, когда в мыслях он все так же передвигает пешек и коней, ведя поединок к победному финалу. Уж, конечно, не ради приза. Ради торжества собственной веры в шахматное «призрачное искусство» как противоядие от докуки и бесцветности жизни.
Мыслей, не относящихся к шахматам, нет в его голове, этом «драгоценном аппарате со сложным, таинственным механизмом». Кто-то считает Лужина вундеркиндом, кто-то — почти невменяемым, хотя невменяемым он становится, оставшись без своего ремесла, стукая пальцем по приобретенной для его забав пишущей машинке и сочиняя бредовое письмецо к милостивой государыне, которой сообщается, что тело найдено, а также найден восклицательный знак. Тут недаром слышатся отголоски «Записок сумасшедшего». Положение гоголевского Поприщина и Лужина сходно, хотя никакой директор департамента не преследует сиринского героя, чья тихая берлинская жизнь с поминутно его опекающей женой и калачами, посылаемыми тещей, могла бы показаться картинкой семейного счастья.
Но он несчастлив — неподдельно и глубоко несчастлив, чего не в состоянии понять никто, кроме Валентинова, его злого демона: не то воспитателя, не то антрепренера. Не то Мефистофеля с ухватками выжиги, не то пошляка с нахрапом.
Этот, по собственному его о себе мнению, «амюзантнейший господин», который похитил юный талант из-под носа папаши, упивающегося либеральной болтовней, носит перстень, украшенный адамовой головой, масонским знаком, говорящим о бренности сущего — оно должно быть отринуто и осуждено. Не так часто Сирин настолько ясно дает читателю понять, что перед ним иносказательные ситуации и фигуры-олицетворения. В изобретателе удивительной мостовой перед Казанским собором, в незаменимом устроителе любительских спектаклей просвечивают черты дьявола, намного менее величественного, чем булгаковский Воланд, однако обладающего магической властью над бедным Лужиным. Это власть торгаша над художником — больным и ущербным, но художником, стоит ему только ощутить «ужас шахматных бездн», ринувшись в «упоительные дебри», — власть циничной расчетливости над бескорыстием, законченной тривиальности над оригинальностью на грани безумия. И проявляется она непременно в изощренном издевательстве вроде валентиновской идеи купить гений Лужина для того, чтобы что-то живое и достоверное появилось в невыносимо топорной истории насильника, бежавшего с каторги и под чужим именем ставшего шахматным чемпионом. Киноконцерн «Веритас», по сценарию Валентинова снимающий эту мелодраму (где есть еще старуха-мать, что рыдает на груди жертвы с мольбами не губить сына, у которого голова пошла кругом при виде барышни, спавшей, раскинувшись, в одном с ним купе), конечно, мог обойтись без «правды факта», обеспечиваемой участием в картине Лужина, а также Турати и других великих игроков. Может быть, сцена турнира по ходу фильма вовсе не предусматривалась, может быть, не было и самого фильма. Тут действуют отнюдь не те законы, по которым складываются отношения в реальной жизни, а чувствуемые Лужиным, хотя и непонятные ему законы необычной, «роковой» комбинации, «замысловатое повторение зафиксированных в детстве ходов», посредством которых искусство начинает, но выигрывает банальность, попахивающая подлостью. И оттого что невозможно переменить течение этой партии, движущейся всегда к одному и тому же исходу, последнюю страницу книги — подоконник в запертой изнутри ванной, разжавшиеся руки, вечность, ожидающая Лужина там, внизу, где распадается на бледные и темные квадраты бездна, — можно предугадать с самого начала.
Еще до того гибельного дня, когда Валентинов, отыскав его берлинский адрес, явился в своем пальто с котиковым воротником шалью и с обаятельной улыбкой на холеном лице, Лужин, за доской всегда ощущавший себя предводителем, в чьей власти судьба этих горбатых и венценосных фигур, начинает испытывать «бессилие перед… медленной, изощренной атакой». Ему кажется, что он словно бы вдруг оказался совершенно голым посреди шестидесяти четырех квадратов, черных и белых, тех, что мелькнут в последний его миг, за которым вечность. И, понимая, что на этот раз защиты не найти, Лужин прибегает к единственному для него выходу: «Нужно выпасть из игры».
Он капитулирует перед «пошлостью равенства», о которой Сирин так часто, с таким отвращением писал в свои берлинские годы. Эта пошлость старалась растворить в себе Лужина и прежде, не без успеха: недаром он, человек экстраординарной одаренности, на протяжении всего романа лишен собственного имени. Открывается оно только в самом последнем абзаце, когда ищут Александра Ивановича, но его нет, а окно ванной вышиблено и льется ледяной воздух. До этой минуты Лужин аноним, некто, «нумер», как именуются люди в антиутопии Замятина «Мы», напечатанной за три года до романа Сирина в пражской «Воле России». Но его безымянность можно понять и по-другому: как нежелание сделаться господином Александром Лужиным, у которого неплохие виды на карьеру, появившиеся вместе с удачным браком. У которого в прошлом — обыкновенная биография петербуржца его поколения: культурный дом с библиотекой, где стоят отцовские книжки для учеников, которых он хочет (не очень приобщившись сам) приобщить к разумному, доброму, вечному, привилегированная гимназия. А там и какое-нибудь солидное занятие, благоустроенная жизнь, которой не получилось исключительно из-за вывихов истории, заставившей грузиться на пароход, увозивший в «благословенную высылку», в «законное изгнание».
Так было у сотен, у тысяч других, однако Лужин исключение. Он «феномен — явление странное, несколько уродливое, но обаятельное, как кривые ноги таксы». И, зная о феноменальности, которой он отмечен, — или, во всяком случае, инстинктивно о ней догадываясь, — Лужин все усилия прилагает к тому, чтобы избежать участи типажного обывателя-либерала предреволюционных лет и мешанина-эмигранта в русском Берлине. С детства он поступает нестандартно, то посвящая себя «веселой математике», увлекаясь «причудливым поведением чисел, беззаконной игрой геометрических линий», то самозабвенно играя в складные картинки, где постепенно появляется на зеленом фоне круп коровы и рука с дудкой. Шахматы — продолжение этих игр, когда важна и точность сочетания, без которой картинки не выйдет, и его беззаконность, опровергающая плоскую логику ценителей житейской разумности.
Но окончательно ее опровергнуть не по силам даже гению, и на разработанную им защиту найден убийственный контраргумент, и вся партия превращается в вариант этюда, в котором цель белых — спровоцировать атаку, приводящую к мату их королю. Это не просчет великого мастера, а может быть, наоборот, — его осознанный выбор, который требовал изысканного умения, чтобы осуществился замысел, схожий с самоубийством на доске. После такого эндшпиля самоубийство в жизни — только логичная последняя точка.
За шесть лет до «Защиты Лужина» в «Руле» был напечатан сиринский рассказ «Бахман», самим автором впоследствии названный своего рода прологом к шахматному роману. Тема тут и правда та же самая — гений и обыденность. Их отношения конфликтны, и верх в итоге берет все-таки обыденность: пианист Бахман, чьи композиции признавались совершенно своеобразными, покидает концертные залы, спившись, слушает мелкую музыку автомата со щелью для монетки и плачет навзрыд. Бывший его импресарио, от имени которого рассказывается печальная история с долей рискованно тривиальных подробностей вроде страстной любви полоумного музыканта к умирающей женщине и их последней, неописуемо счастливой ночи в какой-то гостинице, — явно не чета Валентинову, в нем вовсе нет демоничности, хотя бы и уцененной. Но он именно воплощенное здравомыслие; ходячий антипод Бахмана со всеми его капризами, неопрятностью, невоспитанностью и пьяными срывами. В последнем эпизоде перед читателем не кто иной, как этот антрепренер Зак: он с дамой сердца путешествует по Швейцарии, он благополучен, а Бахман опустился — «неудобно было подойти».
«Бахман» был включен Сириным в его первую книгу рассказов «Возвращение Чорба», вышедшую сразу после появления «Защиты Лужина». Кроме 15 рассказов, в ней напечатано 24 стихотворения. При переиздании за год до смерти Набокова стихи были изъяты — жаль, так как они в книге не приложение, но как бы второй текст, которым дополняется и корректируется прозаическое повествование. В русском пятитомнике, самом полном издании Набокова, начатом в год его столетия, книга, названная «Возвращение Чорба», вовсе не существует: рассказы и стихи разведены по разным разделам, разным томам и печатаются по хронологии газетных публикаций, а не так, как расположил их, готовя сборник, сам автор.
Производить подобные усовершенствования можно, только предполагая, что сборник был составлен наспех, без плана и системы. Это неверное предположение. Был отбор — десяток рассказов, к 1930 году уже напечатанных в периодике, остались за пределами книги (куда, однако, попала большая новелла «Подлец», прежде не публиковавшаяся), а стихи брались лишь такие, которые соотносятся с ее главными темами. И была композиция, тоже подчиненная движению главных тем. Иначе Сирин не открыл бы книгу заглавным рассказом, хотя он напечатан в «Руле» через полтора года после самой ранней из этих пятнадцати новелл — «Благость».
Нищий эмигрант, который из-за несчастного случая потерял юную жену, — года не прошло, как, обманув добропорядочных бюргеров, ее родителей, обустроивших для новобрачных спальню с двумя парами новеньких ночных туфель и ковриком, украшенным надписью: «Мы вместе до гроба», они из-под венца бежали в свое романтическое свадебное путешествие, — Чорб теперь одержим идеей безумной, невозможной, однако для сиринского персонажа почти неизбежной: он страстно мечтает об обратимости времени. «Ему казалось, что, если он соберет все мелочи, которые они вместе заметили, если он воссоздаст это близкое прошлое, — ее образ станет бессмертным и ему заменит ее навсегда». Это один из лейтмотивов книги, подчеркнутый даже заглавиями: «Ужас», «Катастрофа», «Сны», «Крушение», «Расстрел» — и, может быть, особенно ясно звучащий в стихотворении с не менее красноречивым заглавием «Тень». Там описано выступление бродячего цирка на площади городка со старинным собором, когда под звон курантов, в котором «пребывал Господь», шагает в вышине по тугому канату акробат, «прелестный облик теневой», что вдруг исчез «с трепетом крылатым» и уступил место грубому гаеру, тянущему руку за подаяньем. Вот что она такое, мучающая сиринских персонажей мечта о «вечности обратной»: грезится «блаженство гордое души», а является потный циркач, каким обернулась голубая тень акробата, словно бы растворившаяся в щербатой от древности церковной стене. Искушает неисполнимая надежда заглушить ужас катастрофы снами, в которых не было бы ни крушений, ни расстрелов, вернуть во всей их яркости картины счастья — отыскав ли на южном пляже необыкновенный камушек с белым пояском, который был у нее в руках накануне их последней совместной прогулки, вернувшись ли в места, где березы укутаны плотным чехлом плюща, и поселившись в грязноватой гостинице, в том самом номере, где они целомудренно провели свою первую ночь. Однако напоминания о пережитом ужасе неотступны, а одиночество не по силам. И по гостиничному коридору Чорб идет с проституткой, которая сейчас уляжется в кровать под розовой купальщицей в золотой раме, а за дверями равномерно поскрипывают кровати, словно постояльцы занялись распилкой бревен.
Заключительная сцена рассказа, когда перепугавшиеся, ничего не знающие о ее судьбе родители являются к Чорбу объясниться с дочерью и его случайная спутница на ночь прошмыгивает мимо них в коридор, типично сиринским художественным ходом соединяет трагедию и пошлость. Тональность книги во многом как раз и создана их переплетением. Сюжеты часто строятся на несовпадении, даже контрасте времени, ассоциируемого с памятью, которая хранит сокровенные, неразрушимые образы и пространства: олицетворяя динамику бессвязного, хаотичного движения, оно обычно скрывает в себе угрозу, вдруг реализующуюся драматическими случайностями. Герои принимают их за слепую жестокость судьбы: разве должно было случиться так, что жена Чорба притронется к оборвавшемуся проводу электромачты? Разве должен был, проехав свою остановку, с трамвайной площадки спрыгнуть прямо под колеса мчащейся сзади громады молодой немец из рассказа «Катастрофа»?
Однако в этом безумии открывается своя система. Приказчик в крахмальном воротничке, замечтавшийся о скорой свадьбе и о рыжих волосах своей Клары, пожаром рассыпавшихся по подушке, покидает мир в состоянии благости, подаренном и пивом, выпитым с друзьями, и воздушной теплотой зари, сделавшей волшебными верхние выступы домов, балконы и карнизы. Катастрофа избавила его от неизбежных и скорых разочарований, ведь Клара любит другого, «иностранца, проходимца какого-то». А Чорб, как раз один из таких «проходимцев», уже по этой причине обречен оставаться парией для своего немецкого тестя в добротном фраке, для тещи, с умилением демонстрирующей гостям на бракосочетании перину в супружеском гнездышке. Они, конечно, никогда не примирятся с тем, что дочь вышла за «человека не в своем уме», и устроят так, чтобы счастье кончилось со свадебным путешествием. Неустранимый привкус тривиальности сопровождает у Сирина и неподдельные драмы, и горячий восторг перед жизнью в ее цветеньи.
Только в обработках традиционных поэтических мотивов — Голгофа (стихотворение «Мать»), Дон Жуан («Гость»), Святая Иоанна («La Bonne Loraine») — этот оттенок не чувствуется. Хота и эти обработки нетрадиционны: исчезают и героика, и просветленность. Воскресение никогда не утешит мать Иисуса, потому что ни в третий, ни в сотый день не откликнется на ее зов «смуглый младенец, лепивший воробьев на солнцепеке, в Назарете». Доверчивой Донне Анне не уразуметь, что она «сердцу нежеланна, что сердце темное мертво».
Сердце современного Дон Жуана и правда стало только вместилищем «случайно-сладостных имен», для него существуют лишь «смена встреч, обманы вдохновенья» (тема, которая будет продолжена в повести «Соглядатай», где герой, переспав с горничной, приверженной пикантному разврату, не без тайного удовольствия корит себя за то, что слишком уж удачлив в своей роли «авантюриста, Дон Жуана, Казановы»). Некто Эрвин, герой «Сказки», шокировавшей критиков, непривычных к такому переворачиванию великих сюжетов, мечтает о нескончаемых любовных победах, при этом страшась завести банальное уличное знакомство, когда взгляд выхватит из толпы хорошенькое личико. Судьба шлет ему встречу с солидного возраста дамой, у которой мешочки под накрашенными глазами, и дама эта Дьявол, готовый исполнить пакостные мечтания деградировавшего берлинского сородича того озорника из Севильи, что был героем старинного сказанья, воскрешенного в стихотворении «Тень». Но ничего не выйдет даже из этой жалкой подделки с опереточными атрибутами: встреча в полночь, и непременно в доме номер 13 да еще на улице Гофмана, великого мистификатора, написавшего своего «Дон Жуана» за сто с лишним лет до Сирина. Мир сиринских рассказов: «страшная нагота, страшная бессмыслица» — таков, что в нем невозможны ни обманы, в которых «смысл и сладость есть», ни «смертельное любви воспоминанье». А если воспоминанье приходит, оно словно бы отделено от текущего, от окружающего какой-то непроницаемой пеленой.
Воспоминанье — это давние мгновенья любви и «друг мой далекий и прелестный», та, кому пишет свое письмо в Россию герой одноименного рассказа, быть может, лирически самого насыщенного во всей книге. Это «оттенки голосов», звучавших там, на родине, «и пенье пушкинских стихов, и ропот памятного бора», шумящая, бессмертная российская глубина, о которой говорится в написанном ко Дням русской культуры стихотворении 1926 года «Тихий шум». Это вернувшиеся из глубин забвенья «мелочи прошлого», простые и пронзительные, заставляющие испытать состояние необъяснимого счастья даже в Берлине, показавшемся герою другого рассказа, долго жившему где-то в Африке, «заблудившейся русской провинцией». А ведь внешних поводов для ощущения этой прелести мира нет. Просто мелькнут в черном асфальте отблески фонарей, или пронесется в сумерки, визжа на повороте, пустой трамвайный вагон, а дома, как туманы. Или светом сумасшествия озарится в грозу ночной мир, по которому, подгоняемые громовержцем, бегут кусты сирени.
Немотивированность состояний, когда приходит совершенно бунинское чувство, что мир — «мерцающая радость, благостное волнение, подарок, не оцененный нами», — это тайный вызов Сирина авангарду, не верившему, что современная жизнь способна пробуждать подобные чувства, и в особенности скептично настроенному, когда заговаривали про очарованье простоты. Ничего простого в искусстве, по суждению Шкловского, не существует; дело писателя — не любоваться, восхищаясь, но «вырвать вещь из ряда привычных ассоциаций, в которых она находится», создать эффект остранения. Сирин тоже стремился, уходя от избитых ассоциаций, строить в своих описаниях «благости мира» новый образный ряд, но при этом нередко передавал именно «благоухающую нежность», которую потомки когда-нибудь почувствуют в «обыкновенных вещах», что запечатлены им так, точно бы они уже отразились «в ласковых зеркалах будущих времен».
Есть много схожего между Берлином Шкловского в «Письмах не о любви» и сиринским — в рассказах: говоря словами Шкловского, тоска, и эмигрантская любовь, и трамвай, на котором некуда ехать, и все одни и те же проститутки в красных шляпах на знакомом до последней выбоины углу Потсдамерштрассе. Но берлинская жизнь по Шкловскому — это как нырок на дно моря, откуда «выносишь… один песок, текучий, как грязь»: только такое погружение, ничего больше. А по Сирину — еще и возникающее после таких же погружений чувство, что со временем «всякая мелочь нашего обихода станет сама по себе прекрасной и праздничной».
Различие (при кажущейся внешней неотличимости) двух этих образов Берлина вряд ли может удивить. Дело не только в том, что они принадлежат писателям, у каждого из которых свой почерк. Тут надо иметь в виду и разный жизненный опыт. Шкловский был всего шестью годами старше, однако прошел мировую и гражданскую, вынес страшные петроградские зимы первых лет после переворота и ускользнул из западни, когда топор уже висел над его головой. Сложно было бы ожидать от него праздничных настроений или, как в сиринских рассказах, радости, примиряющейся с ощущением ужаса, который внушает «страшная бессмыслица» мира. У Набокова была память о соприкосновении с этой трагической бессмысленностью, и отблесками 28 марта 1922 года так или иначе окрашивается почти все написанное им в тот начальный период творчества. Но не так ярко окрашивается, чтобы исчезли жизнелюбие молодости и вера, что день нынешний есть только предвестие будущих времен, когда все увидится по-новому в «ласковых зеркалах». Принцип остранения идентичен у них обоих, цели, для которых он используется, явно не совпадают.
Сирин во имя этих целей иной раз готов и на довольно сомнительные художественные решения. Единственный рассказ во всей книге, действие которого разворачивается в России — той, прежней России, — воссоздает трагическую ситуацию: отец, только что похоронивший умершего в Петрограде сына, пустое поместье, зима, холод, непереносимая боль утраты. Бренность, а не благость и не вести из потустороннего мира, такие частые в рассказах Сирина этого времени (да и впоследствии много раз становившиеся его темой, а нередко и фабулой) — вот настоящий сюжету «Рождества», но ведь неспроста новелле дано такое обязывающее заглавие. На последней странице безутешный Слепцов разглядывает, стараясь забыться, свою коллекцию бабочек и вдруг кокон оживает, потому что под тугой шелк проникло тепло. Вот он, этот ползущий по стене черный комочек, который только что был прахом. В недышащей плоти, которая стала ночной бабочкой, ощутим «порыв нежного, восхитительного, почти человеческого счастья» — финал, по безвкусной иллюстративности вполне подходящий для наставительного рассказика из журнала «Чтец-декламатор», исторгавшего слезы у чувствительных барышень на ранней заре века.
И «Письмо в Россию», с его нежными акварельными красками, с его поэзией мелочей и упоением «самой жизнью… сияющие воды, беззвучно, но зримо шумящее дерево» — какой контраст заполнившей киноэкран толпе «более или менее искусно дрессированных людей»! — испорчено концовкой, невольно заставляющей вспомнить самого скверного Брюсова, того, кто желал восславить, не разграничивая, и Господа, и Дьявола, чтобы «всюду плавала свободная ладья». Свое послание возлюбленной, с которой он разлучен больше восьми лет, рассказчик пересыпает признаниями, что «необъяснимо счастлив» и что счастье это останется, когда по прошествии веков «школьники будут скучать над историей наших потрясений». Он всем на свете умилен: отражениями фонаря, улыбкой танцующей четы, щедростью Бога, смягчающего человеческое одиночество. И еще умилен «детской улыбкой смерти»: какое дивное зрелище желтые нити от веревки удавленницы, старушки, которая повесилась на кресте над могилой мужа. А «таинственнее и прелестнее всего были серповидные следы, оставленные ее маленькими, словно детскими, каблучками в сырой земле у подножья»: буквально как цитата из какой-то декадентской антологии, брюсовскими стараниями лет за тридцать до того печатавшихся в изобилии.
Это и дало повод поэту Георгию Иванову в статье о первых книгах прозаика Сирина утверждать, что его писательскому облику присуща «отталкивающая непривлекательность». Что он попросту «перелицовывает» модную беллетристику французского и немецкого образца. И пользуется репутацией новатора по единственной причине — русская культура никогда не признавала такой эстетики.
Напечатанная в парижском журнале «Числа», который, кстати, сам был при своем появлении в 1930 году воспринят серьезной критикой Зарубежья как декадентский (хотя намеревался противодействовать «политическому террору эмигрантщины»), статья Иванова содержала обидную фразу о «способном, хлестком пошляке-журналисте», который «сыплет дешевыми афоризмами», изумляющими простаков-обывателей. Это было равнозначно объявлению литературной войны, которая не прекращалась целые десятилетия — До смерти Иванова и даже дольше. Увидев в американском журнале портрет Набокова, о котором после триумфа «Лолиты» говорили на всех углах, умирающий Иванов почувствовал, что «желчь моя закипела», и порадовался, вспомнив, как в свое время «назвал его смердом и кухаркиным сыном. Он и есть метафизический смерд». От него «разит „кожным потом“ душевной пошлятины». Набоков не оставался в долгу: вскоре после ивановской рецензии пригвоздил ее автора эпиграммой («Такого нет мошенника второго…»), уничижительно отозвался о «Распаде атома» (не надо бы незаурядному поэту «баловаться прозой»). И даже в последнем романе, в «Арлекинах», вышедших в свет, когда противника уж шестнадцать лет не было на свете, зло высмеял весь круг авторов журнала «Простые числа».
Набоков считал, что всему причиной был его резкий отзыв в «Руле» о романе Ирины Одоевцевой «Изольда», присланном с авторской надписью, содержавшей благодарность Сирину за книгу «Король, дама, валет». Одоевцева была женой Иванова, и, прочитав ироничные строки о «стилизованном любострастии» и «знаменитом надломе нашей эпохи», — ничего другого в «Изольде» рецензент не обнаружил, — тот впал в ярость, выместив гнев на произведениях самого рецензента. Надо признать, Иванов негодовал не понапрасну. Хотя книжка на самом деле поверхностна и неудачна, избранный Сириным способ разбора и тон статьи подчас нетерпимы (подобным пересказом ничего не стоит уничтожить и кое-что из написанного его пером, — например, сообщив читателю, что в рассказе «Звонок» изображены страхи стареющей кокотки, к которой вдруг приехал много лет ею не виденный сын, а она в этот день ждет любовника, вдвое ее моложе). Но все-таки конфликт, который после статьи Иванова в «Числах» сделался открытым и острым, возник не только на личной почве, хотя именно так изображал дело лет тридцать с лишним спустя Набоков в интервью для «Плейбоя», не обращая внимания на то, что читающих «Плейбой» имя Иванова волнует ничуть не больше, чем имя попутно оскорбленного в этом интервью Мочульского.
Иванов говорил о «пошлости не без виртуозности» как знаке сиринской прозы (и просто пошлости — как определяющем качестве стихов). Соглашаясь с критикой, от которой слышалось: «Так по-русски еще не писали», — он добавлял: европейские задворки, хотя копия иной раз «недурна» (подразумевалась «Защита Лужина», явно превосходящая все остальное). При всей своей злости Иванов все же признавал, что «это хорошо сработанная, технически ловкая, отполированная до лоску литература». Однако она внушает «инстинктивное отталкивание», поскольку Сирин, если присмотреться, не писатель, он самозванец — причем с «большими имитаторскими способностями». Вот к этому утверждению, к этой главной мысли, собственно, и подводил весь пристрастный ивановский разбор. Несколько пропитанных ядом ком-алиментов, а в итоге — отлучение от «литературы в ее подлинном, „не базарном“ смысле». Или, по меньшей мере, отлучение от русской литературной традиции.
Со временем это станет одним из общих мест в эмигрантской критике, писавшей о Сирине. Постараются закрепить за ним реноме даровитого, однако по сути своей нерусского писателя. Для кого-то такая трактовка означала как раз признание сильных сторон его творчества: Николай Андреев, один из ранних сиринских энтузиастов, писал одновременно с Ивановым, что это истинный «зарубежник»: в нем «так много европеизма», он удачнее других выполнил призыв «На запад!», прозвучавший из уст Льва Лунца, одного из ярких теоретиков русского пореволюционного авангарда. В отличие от ивановских убийственных похвал все это говорится с неподдельным восторгом. Ведь, по Андрееву, европеизм — это сдержанность, ирония, «увлекательная игра сюжетом», «блеск технической обработки», то, чего так долго недоставало русской литературе с ее тяготением к «крепости, простоте, нутру, горячему пламени встревоженной мысли и тоскующей души».
Но Набокову в ту пору, похоже, необходимо было, чтобы у него находили именно горячий пламень. Он не хотел слыть европейцем среди закоснелых литературных компатриотов. Его задевали отзывы критиков, не считавших, что Сирин выразил «русскую точку зрения» в литературе (благодаря как раз тогда появившейся статье под этим заглавием, написанной влиятельной английской писательницей Вирджинией Вулф, это понятие стало обиходным: как синоним художественной искренности и правды).
Отзвуки давних стычек и сиринских недовольств слышны еще и в интервью 1964 года, том самом, что заказал «Плейбой». Сильно преувеличивая, Набоков говорит, что в молодости его почти травили. И приводит причины: он не принадлежал к литературным группам и сообществам, распределившим между собою журналы, не примкнул ни к одной из политических групп, не выставлял напоказ своей «озабоченности» серьезными философскими, моральными вопросами. Эти выкладки небеспочвенны: недоразумение, возникшее между Сириным и критиками, начиная с первых же его произведений, реально существовало, порой приобретая оттенок драматизма. И все же никто, включая самых откровенных врагов, не отрицал, что возникло литературное явление. Писатель Сирин уже не был ни мнимостью, ни далекой мечтой. Русский писатель, что бы по этому поводу ни говорили его тогдашние недоброжелатели.
Роковых я требую примет:
Кто увидит родину, кто — нет,
кто уснет в земле нерусской?..
Если б знать… Ведь странникам даны
только сны о родине, — а сны
ничего не переменят…
«Защита Лужина» открыла Сирину путь в «Современные записки», самый солидный и авторитетный литературный журнал эмиграции. Там сотрудничали все живые классики. Молодым приходилось пробиваться, преодолевая настороженность стариков, а также вполне традиционные вкусы редакторов, которые, принадлежа к эсерам, рассматривали литературу главным образом с политической стороны или, во всяком случае, как нужное общественное дело. Тем не менее роман взяли, и возьмут все остальные крупные сиринские произведения довоенной поры. Появившаяся в трех журнальных книжках, с 40 по 42-ю, «Защита Лужина» еще и по этой причине была прочитана практически всеми, кто не утратил интереса к русской культуре, очутившись в изгнании.
Отзывы были разноречивые, но, практически без исключений, с признанием яркости, характерности явления, именуемого «Сирин». Вслед Иванову жесткие, придирчивые оценки прозвучали в статье Зинаиды Гиппиус, напечатанной в тех же «Числах»: смысл был тот, что невозможна серьезная литература, если она не говорит о России, ее страданиях, гибели и воскресении. Есть свидетельство — не очень надежное, так как оно принадлежит возвращенцу Льву Любимову, человеку с неважной репутацией, — что книгу прочел Бунин. И что он якобы высказался в таком духе: у этого мальчишки в руках оружие, из которого он перестреляет все старшее поколение, не сделав исключения и для меня.
В том, что подобных замыслов у Набокова не было, можно не сомневаться. К Бунину он в те годы относился почти благоговейно и даже под конец — случай для Набокова почти уникальный — сохранил достаточно объективности, чтобы считать Бунина большим поэтом, хотя совсем охладел к его «парчовой» прозе. А в 1929-м он дважды в «Руле» коснулся бунинского творчества: написал о первых главах «Жизни Арсеньева», затем о книге «Избранные стихи». И оба раза с патетикой. О романе: «Потрясающе-прекрасные страницы… страшным великолепием, томным великолепием, но всегда великолепием полон его мир». О стихах: «Лучшее, что было создано русской музой за несколько десятилетий».
Он определил основное бунинское настроение, передающее «самую сущность поэтического чувства творчества вообще», — понимание, что все преходяще, до муки острая жажда «выразить в словах то неизъяснимое, таинственное, гармоническое, что входит в широкое понятие красоты, прекрасного». И как особое свойство этого таланта отметил дар запечатлевать мимолетное, улавливая в нем «вечно повторяющееся».
Об этом же Набоков говорил пять лет спустя на берлинском чествовании Бунина, который возвращался из Стокгольма после Нобелевских торжеств. Тогда они и познакомились: после заседания вместе обедали в каком-то ресторане. Был сочельник 1933 года и одновременно — годовщина прихода Гитлера к власти. С потолка свисал большой нацистский флаг. Три года спустя на границе Бунина обыскал патруль, заставив его раздеться догола, унижая и третируя так, словно европейская слава ничего не значила. Бунин разослал по газетам возмущенное письмо.
Их следующая встреча с Сириным произошла через три года в Париже — эпизод, которому отведена страничка в «Других берегах». Русскую версию автобиографии Набоков заканчивал меньше чем через год после смерти Бунина, однако это не побудило его смягчить краски. Описан совместный обед в Кафе-де-ла-Пэ, напрасная попытка Бунина завязать за рюмкой душевный разговор («я не терплю… водочки, закусочек, музычки»), болезненное внимание, с каким, старея, классик следил за собеседником, радуясь, что тот сдал еще больше. Говорить было не о чем, оба скучали. Вышло недоразумение в гардеробе: девушка почему-то запихнула кашне Сирина в рукав бунинского пальто, на улице пришлось неловко его вытаскивать в полном молчании. На прощанье Бунин напророчил еще молодому коллеге, что тот умрет в страшных мучениях и совершенном одиночестве. К счастью, он оказался скверным предсказателем.
Их отношения после этой трапезы не прервались, но стали, мягко говоря, прохладными. Немногочисленные прямые отзывы о Сирине, записанные бунинскими современниками, в лучшем случае отмечены сдержанностью, хотя поначалу был почти энтузиазм (Галина Кузнецова, ближайший к Бунину человек в ту пору, заносит в свой дневник за декабрь 1929-го: «И. А. читал Сирина. Просмотрели писателя! Пишет лет 10, и ни здешняя критика, ни публика его не знает»). Один только комплимент посредственной «Университетской поэме», для Бунина оставшейся лучшим сиринским произведением, красноречиво говорит, какие чувства он испытывал к набиравшему силу Набокову. Встречи продолжались и после переезда во Францию, а незадолго до Второй мировой войны, когда решение ехать дальше, в США, уже вызрело, Бунин написал рекомендательное письмо, своим авторитетом Нобелевского лауреата содействуя возможной карьере Сирина как преподавателя. Через двенадцать лет Набоков по-своему ответил любезностью на любезность, отказавшись писать о «Воспоминаниях» Бунина, которые он нашел неудовлетворительными с литературной точки зрения и недопустимыми по тону. Участвовать в бунинском юбилейном вечере, устроенном в Нью-Йорке, он тоже отказался, написав (не для печати, конечно), что затрудняется публично хвалить старческий эрос «в аллеях».
Дневники И. А. и В. Н. Буниных начала 30-х годов содержат несколько выразительных откликов, по которым можно составить впечатление, как отнеслись к новому писателю русские парижане из литературного сообщества. Запись Веры Николаевны, прочитавшей «Король, дама, валет» (можно почти не сомневаться, что это близко и к мнению Ивана Алексеевича): «Роман Сирина — „настоящего мастера“ — интересен и бездушен». Суждение Мережковского после выхода «Защиты Лужина»: «Боюсь, что все это мимикрия». Письмо В. А. Зайцевой, жены писателя Бориса Зайцева: «Пишет, что он (Сирин) „Новый град“ без религии» («Новый град», авторитетный, очень серьезный журнал христианского направления, приверженный «вечной правде, правде личности и ее свободе», был начат соредактором «Современных записок» И. Фондаминским, кстати, добрым приятелем Набокова, при активном участии философов Г. Федотова и Ф. Степуна в 1931 году). И далее в том же письме: «Глядя на него, не скажешь: „Братья писатели, в вашей судьбе что-то лежит роковое“».
Вера Алексеевна иронизировала без намерения высмеять или задеть. Зинаида Гиппиус говорила примерно то же самое, но со всей свойственной ей злой наблюдательностью. И с нею чаще соглашались, чем спорили, те, кто откликнулся рецензиями на «шахматный роман»: Адамович, Кирилл Зайцев. Чувствительный диссонанс внесла, кажется, только статья Владислава Ходасевича, постоянного литературного обозревателя газеты «Возрождение».
Набоков, давний ценитель Ходасевича, написал в «Руле» о «Собрании стихотворений» 1927 года, последней его поэтической книге, и написал восторженно: «огромный поэт», «восхитительное произведение искусства», в котором нет банальных красивостей и отсутствует «узкое традиционное поэтичество», но есть свобода в выборе тем и образов, есть «проза в стихах» — а для Сирина она высшее достоинство. Его приводила в восхищение «стеклянная прелесть образов», именно стеклянная, иначе говоря, не рассчитанная на то, чтобы читатель проникся сопереживанием поэту, перенял выраженное им настроение. Ни жалости, ни сочувствия не пробудит этот поэт, он гений мастерства, которое не нуждается в подпорках гражданственности или психологизма, и «временами кажется, что он шалит, играет, холодно наслаждается своим даром воспевать невоспеваемое».
Впоследствии о поэте Ходасевиче Набоков будет судить точнее, в некрологе 1939 года назовет его «литературным потомком Пушкина по тютчевской линии», напишет, что «горечь, гнев, ангелы, зияние гласных» — вот мир «Европейской ночи», и все в нем «настоящее, единственное», не то что дежурный пессимизм, который облечен в неряшливые, полуграмотные строки. Эта некрологическая статья завершала давний спор, который сам Ходасевич вел со своими основными противниками Ивановым и Адамовичем относительно призвания поэзии. Должна ли она, как казалось им, стать в наш катастрофический век прежде всего, а то даже исключительно, «человеческим документом», заполнившись прямыми отголосками трагедий и разочарований, перенесенных поколением свидетелей неслыханных исторических катастроф? Или же, как думал он, ее необходимость в том, чтобы посреди такой реальности сохранялся островок художественной гармонии, и значит, высокой духовной традиции?
Для Набокова тут не могло возникнуть ситуации выбора. Позиция Ходасевича, его человеческий облик, насколько об этом позволяли судить холодноватые стихи («некий оптическо-аптекарско-химическо-анатомический налет») — все это ощущалось Набоковым как глубоко родственное ему самому еще до того, как он прочел первые отзывы критика «Возрождения» о собственных книгах. Они не давали лишних авансов («Король, дама, валет» оценивался как «вещь безусловно даровитая, современная по теме и любопытная по выполнению», но не больше), зато в них были заинтересованность и доброжелательство, которыми Сирина не избаловали. О «Защите Лужина» Ходасевич высказался уже намного более определенно, считая, что это крупное обретение эмигрантской литературы.
Личное знакомство произошло осенью 32-го, когда Набоков впервые приехал в Париж для публичного выступления. Ходасевич на нем присутствовал, а через четыре года был их совместный вечер в том же зале Las Cases. Статья Ходасевича «О Сирине», наверняка лучшая во всей необъятной набоковской критике, появилась зимой 1937 года, став итогом долгого творческого общения и внимательного чтения всего, что писал интересовавший критика автор, — кончая «Даром», который критик дочитывал в «Современных записках» в свою последнюю осень.
Статью о поэзии Ходасевича Набоков заканчивал мыслью, что эти стихи оценят те, «кто может наслаждаться поэтом, не пошаривая в его „мировоззрении“ и не требуя от него откликов». Ходасевич, оценивая Сирина, исходил из той же посылки: мир творчества, созданный им из «кажущихся подобий реального мира», на деле сотворен из совершенно другого материала, и переходы из одного мира в другой — в любом направлении — подобны смерти. Это вовсе не зачарованность формой, потому что и в книгах Сирина открываются сложные проблемы, но только они всегда связаны с постижением тайны творчества и жизни в творчестве.
Суммируя свои наблюдения над разными сиринскими книгами, Ходасевич назвал их темой «жизнь художника», хотя впрямую художник не показан: его может заменять шахматист, коммерсант, а возможно, и шарлатан, который пытается сойти за художественную натуру. И в подтверждение своей идеи сослался на «Соглядатая».
К американским изданиям своих русских книг Набоков в 60-е годы написал предисловия. Представляя читателям «Плейбоя», где впервые появился английский перевод, повесть 1930 года, он не слишком, видимо, полагался на их искушенность хотя бы в сравнительно простых художественных построениях и заметил, что несколько раз проводил со знакомыми нечто вроде тестов, когда надо было догадаться, кто главный герой, в каких отношениях Смуров находится с рассказчиком. Что это одно и то же лицо и что рассказчик, или герой, просто выступает в роли соглядатая, который держит героя, или рассказчика, под неусыпным наблюдением, первым понял ребенок.
О своем переводе «Алисы в стране чудес» он в предисловии не упомянул, хотя такое смешение фантастического и относительно достоверного (как бывает во сне, когда человек не узнает собственных обстоятельств и поступков, понимая, однако, что этот странным образом себя ведущий господин он сам) обладает несомненным сходством с рассказом Льюиса Кэрролла. И не только постоянное балансирование на грани сна и яви, но многое другое заставляет над страницами «Соглядатая» вспоминать сказку, сочиненную математиком Доджсоном для дочери ректора колледжа Крайст Черч, своей любимицы Алисы Лидделл. Постоянные перемещения действия из мира, который отражается — пусть причудливо, с изломами — на поверхности зеркала, в тот, что Кэрролл именует Зазеркальем, а Сирин потусторонностью, могли озадачить хоккейного тренера и магистров университета, тяжело прошедших тест, устроенный автором. Но они ничуть не смутят знакомых с Чеширским котом, чья улыбка висит в воздухе, когда сам он исчез. Стихия пародии, поминутно дающая себя почувствовать в сиринской повести, вполне привычна для помнящих декламацию Алисы, готовой порадовать Гусеницу, и для знающих знаменитую балладу «Бармаглот», где Кэрролл собрал целый пучок типичных романтических сюжетов и метафор, передразнивая самых прославленных стихотворцев своего времени.
В предисловии Набоковым указано, что путь героя пролегает через «обставленный зеркалами ад», но, кажется, точнее было бы определить этот маршрут как пролегающий по ту сторону. Уже на первых страницах Смуров, избитый тростью господином, который предварительно позвонил по телефону, чтобы не ошибиться адресом (похоже, это был муж его тогдашней любовницы, мрачное лицо с соответствующей фамилией — Кашмарин), не вынеся этой боли и унижения, стреляется, нащупав между ребер сердце. Однако «после наступления смерти человеческая мысль продолжает жить»: Смуров думает, что «по инерции», — а на самом деле даже очень активно, ибо она занята важным делом. Это дело — «реставрация» жизни, которую рассказчик, он же герой, согласился бы признать своей истинной, и собственного облика, не противоречащего его фантазиям о себе, хотя с истиной он как бы и не соотносится вовсе.
Смуров продолжает существовать и после «призрачного выхода из больницы», находя «острую забаву в том, чтобы, оглядываясь на прошлое, спрашивать себя, что было бы, если бы… заменять одну случайность другой». Фантазия управляет жизнью, события и грезы неразделимы. Описано русское интеллигентское семейство, Берлин, соперничество героя с бывшим полковником Добровольческой армии, ныне женихом покорившей сердце Смурова барышни по прозвищу Ваня, спиритические сеансы, увлекшие Вайнштока, хозяина книжной лавки, где рассказчик, надо думать, исполняет должность приказчика и после своей — действительной? придуманной? — смерти. Но на поверку действие оказывается только «систематизацией смуровских личин». Рассказчику, да и автору, интересны не перипетии жениховства, которое не препятствует визитам в комнату горничной дальше по коридору, им интересно другое: кто он, этот Смуров, придумавший глупую историю про свои подвиги после отступления Врангеля — в Ялте, на перроне вокзала, которого там никогда не было. Может быть, он герой авантюрного романа вроде майнридовских, чтение которых, заражая «воинственно-романтической грезой», привело к печальным итогам Юрика Рауша, в отличие от Смурова знавшего, что такое бессонные ночи в степных балках, на разрушенных снарядами станциях, потому что он вправду был «смельчак, партнер смерти». Или, возможно, он открывшийся Вайнштоку на очередном сеансе агент, которого большевики прислали для провокаций и устранений, а этот его потертый, в пятнах костюм и галстучек, завязываемый так, чтобы скрыть износившееся место, просто маскировка. Или правда ничего таинственного нет за обликом бедствующего эмигранта, которому перевоплощаться на людях в бывалого офицера удается все труднее? Что если присмотревшиеся впрямь удостоверятся, что это всего лишь «чудесный мыльный пузырь, сизо-радужный, с отражением окна на глянцевитом боку»?
«Ничего нет на свете, нас нет, мы не существуем, а только кажется, что существуем, — бормотал доктор Чебутыкин в „Трех сестрах“, собираясь на дуэль, кончившуюся гибелью Тузенбаха. — …И не все ли равно!» Вся идея Смурова, может быть, возникла из этой реплики в пьесе, которую он, как любой его сверстник, должен был знать хотя бы по отголоскам триумфального успеха спектакля в Художественном театре. Но у Чебутыкина давящие воспоминания о прошлом не поза, а такая же подлинность, как его запои. Чеховские персонажи бывают жалкими, безвольными, анемичными, когда это недопустимо, однако не бывает, чтобы они строили жизнь как игру, как соглядатайство: им в голову не придет, что «единственное счастье в этом мире — это наблюдать… во все глаза смотреть на себя, на других, — не делать никаких выводов — просто глазеть». Немыслимо допущение, что кто-то из них, подобно Смурову, принявшись каяться — «пускай сам по себе я пошловат, подловат», — тут же отыщет оправдание, состоящее в приписанной сиринским героем самому себе «фантазии… эрудиции… литературном даре». Заявляя, что все лишь воображение и что ему дано, то ускоряя, то доводя до смешной медлительности движения окружающих людей, делать разные узоры из них, как и изо всего остального, Смуров уподобляется Чебутыкину, но заимствованная мысль у него вывернута и опошлена, потому что он, не в пример тому батарейному врачу, — внутренне пустое, полое существо. Ходасевич назвал его бездарностью и самозванцем, «пытающимся выдать себя за художника». В жизни он тоже самозванец — каким, например, не был Берг из тремя годами ранее написанного рассказа «Подлец».
Между этим рассказом и повестью «Соглядатай» есть кое-что общее: воспоминания о Крыме, где Берг, прославленный меткостью стрелок, каждый раз, прикончив противника, делал отметку, доведя общее число крестиков в записной книжке до пятисот двадцати трех, и та же самая ситуация — между зеркалом и Зазеркальем. Есть и гораздо более явственный, чем в «Соглядатае», чеховский отзвук, повесть «Дуэль». Тут тоже поединок, почти завершенный логичным исходом, и явное сходство героя, жалкого и трусливого, с Лаевским, так же как Берга с фон Кореном (а по биографической канве — с тем же Юриком Раушем). Антон Петрович, обманутый муж, который швырнул Бергу перчатку, угодившую в кувшин с водой, сбежит в тот самый миг, когда пора стреляться. И потом ему привидится, что Берг тоже струсил, а жена, раскаявшись, вернулась. Привидится так ясно, что сон кажется реальнее яви. Но только автор не даст персонажу задержаться в Зазеркалье, притупляющем ощущение, что подлец — это, главным образом, он сам.
Смуров устроен по-другому: ему «страшно, когда явь вдруг оказывается сном, но гораздо страшнее, когда то, что принимал за сон, легкий и безответственный, начинает вдруг остывать явью». Очутившись в положении Антона Петровича, которому грезится благополучное завершение постыдного для него хода событий, Смуров испытал бы не облегчение, а ужас как раз по той причине, что некая завершенность стала несомненной. Что более невозможно подбирать новые «случайные зеркала», которые выдают бесконечные (все до единого необязательные) смуровские отражения. Что история его жизни действительно пришла к какому-то финалу, а значит, уже не спрятаться за утешительное «меня нет, — есть только тысячи зеркал, которые меня отражают».
При всей своей вопиющей, нередко смехотворной предвзятости по отношению к Достоевскому (Набоков предъявил ему массу бездоказательных, а порой просто пошлых обвинений), одну его повесть он неизменно оценивал высоко и даже соглашался признать шедевром — «Двойник», раннее произведение, где, цитируя неточный набоковский пересказ, говорится о «чиновнике, который сошел с ума, вообразив, что сослуживец присвоил себе его личность». Неточность в этой характеристике (она из лекции о Достоевском, по написанному тексту читаемой в годы заокеанской преподавательской карьеры Набокова), скорее всего, непреднамеренная. Но характерная: исчезает тема «ветошки», человека, унижаемого и потрясенного этими унижениями, больного из-за них, впадающего то в непомерную «амбицию», то в моральное самоуничижение. То есть опущено то главное, ради чего «Двойник» и написан и чего ни один читатель, пусть даже органически не воспринимающий Достоевского, просто не может не заметить.
Набоков хвалил повесть за то, что в ней искусно развернута история («со множеством почти джойсовских подробностей, густо насыщенная фонетической и ритмической выразительностью»), и давал понять, что в таких подробностях, в подобной выразительности вся суть. Это очевидный абсурд, как и утверждение, что «Двойник», интересный как предвестие Джойса с его холодными выкладками и ухищрениями, превосходит будущие романы, называемые великими только в силу какого-то всеобщего ослепления, ибо на деле там одни нелепые мелодрамы пополам с экзальтированной религиозностью.
Отсылки к «Двойнику» и скрытые цитаты из других широко известных произведений, в которых варьируется мотив двойничества — из Гофмана, из Эдгара По, — составляют в «Соглядатае» важный смысловой пласт, причем авторская установка остается пародийной. И главная цель пародии та, чтобы тема двойничества стала чисто игровой, утратив те трагедийные оттенки, которые читатель, не испытывающий предвзятости, сразу чувствует у Достоевского в истории Голядкина. В истории Смурова таких оттенков и правда нет, однако в повести оказалось и кое-что еще, помимо «превосходной охоты», которая, по позднейшим уверениям Набокова, единственно его занимала, когда он с наслаждением пригонял одну к другой различные стадии расследования, увлекшего героя, и не думал ни о чем больше. От магии Достоевского невозможно избавиться, каким бы искажениям он ни подвергался. И эта магия проступила в «Соглядатае» мотивом расщепленности, раздвоенности, нецелостности жизненного опыта, воплотившегося в судьбе Смурова: темой, которая прочно ассоциируется именно с Достоевским. Настолько прочно, что от его незримого присутствия не свободны даже те, кто хотел бы развивать эту тему наперекор его аранжировкам.
Смурову, когда перед ним целых три варианта его вероятного портрета, вспоминается бабочка, лет за двести до того пойманная и описанная великим Карлом Линнеем, автором труда с выразительным названием «Система природы». Прошло время, обнаружены многие разновидности той же бабочки, не во всем схожие с линнеевским экземпляром. Теперь уже не приходится говорить, что где-то летает типический вид, а не разновидность, или субспеция, как выражаются натуралисты. Но определение, которое восходит к прославленному шведу, сохранено, «и этой условностью как будто все улажено».
Лет через сорок после «Соглядатая» Линней промелькнет на страницах «Любовницы французского лейтенанта», яркого романа, который принадлежит перу англичанина Джона Фаулза, одного из лучших прозаиков рубежа тысячелетий. Действие в этой книге происходит давно, в 1867 году; ее герои — характерные порождения своей эпохи, верящей, что природа человека и мир, в котором он обитает, познаны едва ли не сполна, объяснены покоряюще логично. Так что остается лишь дополнять, но ни в коем случае не изменять имеющуюся интерпретацию, где все построено на жесткой системе причин и следствий.
Чарльз, молодой биолог, страстный дарвинист, который занят изучением исчезнувших форм, — оно должно проиллюстрировать необратимость поступательной эволюции, — чувствует, что есть в «Системе природы» фундаментальный просчет, выражающийся в формуле nulla species nova: система не может включить в себя ни одного принципиально нового вида. Опыт подсказывает ему, что на самом деле природа — это непрерывное движение, смеющееся над всеми попытками классификации, которая стала бы всеобъемлющей и непререкаемой. Он гонит прочь мысль, что безумие, подстерегшее Линнея на склоне лет, было следствием его маниакальной идеи, требовавшей совершенствовать систему бесконечно, с надеждой добиться недостижимого: чтобы схема победила природу. Чтобы летали абстракции, а не формы. Чтобы навсегда покончить с самим вопросом, изводящим Смурова, как годами изводил он и самого Набокова: «Где тип, где подлинник, где первообраз?»
Смуров жаждет определенного ответа на это вопрошание, иначе говоря, жаждет своего по возможности полного равенства типу: оно освободит от докуки духовных и нравственных забот, которые ведомы только индивидууму. Герою Фаулза предстоит удостовериться на собственном опыте, что схема, пусть с виду безупречная, властвует — тем более в делах страсти — только до определенной черты. Подающий надежды ученый и счастливый жених, Чарльз под конец романа окажется на грани либо крушения, либо радикального перерождения. Предложены три допустимые развязки, которые не отменяют одна другую: ход, усиливающий ощущение, что Фаулзу были хорошо известны приемы Набокова. Тем более что у него с Набоковым есть и другие общие черты, такие, как обилие явных или скрытых цитат, часто с пародийным оттенком. А также интерес к собирателям энтомологических коллекций.
Принесший Фаулзу славу роман 1963 года так и озаглавлен — «Коллекционер», и его герой, с виду бесцветный муниципальный служащий по фамилии Клегг, увлечен собиранием бабочек. У него громадная, ценнейшая коллекция: как сам он с гордостью утверждает, «даже лучше, чем в Музее естественной истории в Лондоне». Меловки, голубянки, перламутровки, экземпляры, по которым следует изучать тип, и другие, интересные ярко выраженной аберрацией, — десятки ящиков, тысячи экспонатов. И все это богатство результат личных стараний и трудов, которыми заполнена жизнь.
За вычетом того, что Пильграм, герой одноименного рассказа Сирина, который вошел в книгу «Соглядатай», не может похвалиться своими поимками — он всю жизнь провел в Берлине, в магазине бабочек, где есть уникальные виды, — между ним и Клеггом нет принципиальной разницы: оба одержимы коллекционированием, оба помешаны на бабочках. Жизни вне страсти собирателя не существует ни для того, ни для другого. Клеггу безразлично все одушевленное, то есть человеческое, и, даже когда в его доме пленницей оказывается прелестная юная студентка, которую зовут Миранда, в точности как героиню шекспировской «Бури», этот современный Калибан видит в ней лишь необыкновенную бабочку, предмет своих пожизненных вожделений, и фотографирует в разных видах, уже представив себе, какой чудесный новый экспонат теперь появится под стеклом в зале будущего музея. А Пильграм, четверть века угрюмо проживший с бесцветной, заурядной женой, никогда не хотел ни семейного быта, ни детей: «Дети служили бы только лишней помехой к воплощению той страстной, неизменной, изнурительной и блаженной мечты, которой он болел с тех пор, как себя помнил».
Мечта заключалась в том, чтобы когда-нибудь поехать в экспедицию с сачком, морилками, булавками. Может быть, если судьба подарит удачу, в энтомологии появится прежде не описанный вид бабочек, который назовут его именем (сам Набоков испытал эту радость, но через много лет после того, как «Пильграм» был написан). Ради великой мечты, которая обращает мир в охотничьи угодья, так что Акрополь или французские Альпы интересны лишь как места обитания какого-нибудь особенно экзотичного бархатного существа, — пришпиленное черной булавкой, бездыханное, оно займет самое почетное место в ящике с экземплярами, более всего ценимыми истинными любителями, — Пильграм, ни секунды не колеблясь, решится обокрасть вдову такого же, как он сам, фанатика-собирателя и бросит свою лавку, нищую жену, Берлин. Впрочем, он никуда не уедет: близость великого мига, о котором грезилось так долго, стала слишком тяжким испытанием для изношенного сердца. Утром супруга, открыв магазин, найдет на полу его тело, но, по логике рассказа, это воистину счастливая смерть.
Он, конечно, не форма, а законченный тип, который осчастливил бы Линнея легкостью и обоснованностью классификации. Пильграм заслуживает ярлычка точно так же, как любой экспонат в коробках, которые «наполнены ровными рядами безупречно свежих, безупречно расправленных бабочек». Это истинный энтузиаст подобной ровности, безупречности, полноты подбора, и суть описанного человеческого типа не в том лишь, что, кроме бабочек, для Пильграма нет жизни, не в этой одномерности. Сами бабочки в его восприятии — «символ прекрасной погоды», такой притягательный, когда прохожий видит их в витрине ненастным берлинским днем. Компонент коллекции. Элемент системы с ее мертвой завершенностью.
Энтомологу Набокову внятна изнурительная и блаженная мечта, что преследует его героя, видящего необыкновенные сны, в которых он светлым кисейным мешком ловит редчайшие породы. Писатель Сирин воссоздает осуществление этой мечты как драму, и критика не случайно обнаруживала в рассказе столь редкую для его автора «теплоту»: немецкий лавочник, питающейся гороховой колбасой, разумеется, не в родстве с автором, но идея, высшая цель его жизни, пробуждает нескрываемое авторское сочувствие. Фаулз, изобразивший точно такой же тип, воспринимает его по-другому, нередко показывая Клегга глазами его пленницы, для которой он существо предельно безликое, иссушенное и как раз ординарное, несмотря на свою великую коллекционерскую страсть (а ведь «ординарность — это бич цивилизации», точно так же, как «коллекционирование — это антижизнь, антиискусство, анти все на свете»). Однако взгляд Миранды («Вы набили свои ящики красотой и заперли на замок») и суждение Фаулза не во всем совпадают. Для него случай Клегга не патология, а, как ни печально, норма, если подразумевать отношение к миру, который он, как и большинство, стремится систематизировать, освоив в согласии с понятиями и привычками коллекционера, успокаивающегося лишь после того, как живая материя подвергнута обработке цианистым калием, чтобы очутиться под стеклом в ровном, безупречном ряду. В представлении Набокова энтомология и поэзия соприродны, в представлении Фаулза они антагонистичны, поскольку энтомолог всегда коллекционер, а коллекционер — антипод художника. Нет доказательств, что роман Фаулза был прямой полемикой с самым прославленным певцом энтомологии и бабочек, какого знает история литературы, хотя как раз в ту пору, когда создавалась эта книга, имя Набокова приобрело поистине мировую известность. Так или иначе, «Коллекционером» обозначена существенно иная, по сравнению с Набоковым, позиция. И она, во всяком случае, заслуживает внимания размышляющих над сюжетом «с бабочками», который стал своего рода фирменным знаком набоковской прозы.
Томик «Соглядатай» — повесть и двенадцать рассказов — вышел в Париже за год до Второй мировой войны, однако в периодике рассказы появились намного раньше: с 1930-го по 34-й. «Руль» дышал на ладан, надо было пробиваться в другие издания. Как автор «Современных записок» Сирин не испытывал особых сложностей, обращаясь в незнакомые редакции.
Почти все его рассказы этого времени шли в «Последних новостях», самой авторитетной газете русского Зарубежья. Она выходила в Париже под редакцией П. Н. Милюкова, который знал Набокова с детства, потому что был тесно связан с его отцом. Литературную критику вел в «Последних новостях» главным образом Адамович, упорный противник Сирина, на этих же газетных полосах помещавший о нем едкие отзывы. Но, конечно, он никогда не пытался воспрепятствовать публикациям сиринских произведений. Не позволяло воспитание. Да и престиж прозаика Сирина был уже неоспоримым.
Помимо «Защиты Лужина», укреплению его репутации более всего помогли как раз некоторые рассказы начала 30-х годов, в частности, «Пильграм». Или «Занятой человек», появившийся в печати через полтора года после смерти Маяковского, опознаваемо присутствующего в этом повествовании.
Дата существенна, поскольку этот шарж Сирин написал над еще свежей могилой и отдал в газету, отринув сентиментальные соображения. У него перед глазами был недавний пример, статья чтимого им Ходасевича «О Маяковском», появившаяся по совсем горячему следу, ровно через десять дней после самоубийства поэта в квартире на Лубянском проезде. Для Ходасевича Маяковский олицетворял все глубоко ему ненавистное: осквернение поэзии, насилие над культурной традицией, «экстатическую наклонность к низвержению кумиров» в сочетании с сервилизмом, когда надо было воспевать большевистский режим. Обо всем этом Ходасевич за три года до трагедии написал в памфлете с убийственным заглавием «Декольтированная лошадь» и в своем издевательском некрологе повторил обвинения Маяковскому фактически слово в слово. Предваряя упреки в недостойности подобных жестов, первая же страница оповещала, что автору неоткуда «взять уважение к его памяти». Да и вообще не те времена, «когда над могилами недавних врагов с уважением склоняются головы и знамена». В это трудно поверить, однако Ходасевич пользуется в точности теми приемами, какие применяла советская пропаганда, громя «классового врага»: «история движется борьбой», «за спиною наших врагов стоит не иное добро, но сама сила зла» и т. п. Так что позволительно обойтись не то что без белых перчаток, но без нормального чувства приличия.
Последовал ответный выпад: Роман Якобсон, для Маяковского просто «Ромка», написал про «пасквили висельника». Ходасевич упорствовал: пусть от него не ожидают, чтобы он склонил голову перед памятью футуриста, это все равно что преклониться перед ленинским мавзолеем. Разъяснение Ходасевича появилось летом 1931 года, а через три месяца был напечатан сиринский рассказ.
Героя этого рассказа зовут Граф Ит — псевдоним, который он выбрал, принявшись сочинять куплеты для «тощей театральной труппы», с которой попал из Пскова в Ригу, став эмигрантом. В английской версии фамилия персонажа Графицкий — не для того ли, чтобы созвучием усилить сходство с прототипом? Граф, вполне бездарный дилетант, который, однако, добывает хлеб писанием «легких, деревянных стихов», поднаторел в рифмах типа «проталин — Сталин». Как раз эти газетные вирши «оказывались наиболее ладной и вещественной стороной его бытия».
Со всем остальным у Графа дело обстоит скверно, особенно с заботами, относящимися к области трансцендентального, даже если это всего лишь «трансцендентальная трусость» из-за внушенной себе мысли, что он умрет, не перешагнув рокового рубежа тридцати трех лет, и никакой жизни за гробом ожидать не приходится. Его ангел-хранитель, «полноватый такой господин с седыми кудрями», жилец того же пансиона, представившийся Иваном Ивановичем Энгелем, правда, распорядится так, чтобы шальная пуля, которую Графу едва не влепили именно в тридцать четвертый день рождения, пролетела за миллиметр от виска, но иных милостей от него добиваться нечего. Этот Энгель подчас на удивление схож с Баяном из «Клопа», каким его играл в легендарном спектакле Мейерхольда (Набокову, конечно, неизвестном) актер Н. Тамарин: мещанин в клетчатых брючках, вальяжный хам, который обучает бонтонности, принятой у советского бомонда, вчерашнего «братишку» Присыпкина. А сам Граф, согласно общей идее рассказа, предстает чем-то вроде переметнувшегося к белой эмиграции Маяковского: тоже сочиняет частушки о скорой победе — но только не той, какую одержит «атакующий класс», а наоборот, сулимой буржуям, если они, сплотившись, прикончат гидру революции, и рифмует торжество народов с гибелью пролетарских уродов. А потом, отдав стишки в редакцию, предается мрачным мыслям, «что будущего века нет, что человеческая жизнь лопается так же непоправимо, как пузыри, которые пляшут и исчезают в бурной бадье над пастью водостока». И с ужасом смотрит на календарь, по которому ему все еще тридцать три года — как не признаваемому им Христу.
Религия для него в лучшем случае нечто наподобие соломки, которую, кто знает, следовало бы подстелить, смягчая вероятные болезненные ощущения при неотвратимом переходе в мир иной. «Развешивающая иконы по стенам жизни, не является ли она вот такой попыткой создать благоприятственную обстановку, — точно так же, как, по мнению иных врачей, фотографии миловидных и упитанных младенцев, украшая спальню беременной, отлично действуют на плод?» Младенец в спальне, труп в анатомическом театре — кто-то где-то ласково говорил о трупе: «мыленький» — вот, считает Граф, весь путь человеческий, если стоять на почве твердого знания, отбросив прекраснодушные иллюзии. Он истинный материалист, этот Граф: «мыленький» стоит у него «на запятках всякой проносившейся мысли», и, не веря в загробную жизнь, он тем не менее печется о разных психических или даже физических мерах, которые исключили бы неприятные случайности, когда придет сакраментальная минута.
Все эти саркастические пассажи явно целят в «поэта подонков, бездельников, босяков просто и босяков духовных», как аттестовал Маяковского Ходасевич. Но рикошетом бьют по самому Сирину. И чем откровеннее издевательство, тем болезненнее рикошет, потому что и при непримиримости идеологических или литературных расхождений правила молчания на похоронах, если не выговорить слов сочувствия, никто не отменял. Об этом не было бы надобности напоминать любому, для кого переход, ужасающий Графа с его пустой душой, обладает сакральным значением. Но ведь в «Других берегах» на этот счет даны очень точные пояснения. «Сколько раз я чуть не вывихивал разума, стараясь высмотреть малейший луч личного среди безличной тьмы по оба предела жизни! — сказано Набоковым. — Я готов был стать единоверцем последнего шамана, только бы не отказаться от внутреннего убеждения, что себя я не вижу в вечности лишь из-за земного времени, глухой стеной окружающего жизнь. Я забирался мыслью в серую от звезд даль, но ладонь скользила все по той же совершенно непроницаемой глади».
По крайней мере, никто не упрекнет человека, сделавшего такое признание, в нехватке честности или мужества (хотя и эти строки не помешали попыткам замысловатыми путями доказывать — понятно, с какими натяжками, — будто Набокову была не вовсе чужда религиозность). «Занятой человек» мог быть создан только писателем, для которого описанный в нем опыт перехода черты земного существования интересен главным образом с одной стороны: какой пейзаж откроется «по ту сторону». Начиная с «Соглядатая», этот пейзаж составлял постоянную (по мнению, которое высказано Верой Набоковой и не раз потом повторено, — даже главную) тему сиринского да и набоковского творчества.
Неприязнь к Маяковскому была для Набокова естественной, но вряд ли сама по себе настолько сильной, чтобы она склонила его пожертвовать воспитанием, разумеется, запрещавшим подобные жесты, когда отзвуки выстрела еще не утихли. Дело было, похоже, не в Маяковском, а скорее в советских нападках на эмиграцию, резко усилившихся после «великого перелома», ознаменованного, помимо многого другого, проработками Пильняка и Евгения Замятина именно за публикации в эмигрантской печати (через месяц после того, как был напечатан сиринский рассказ, Замятину разрешили уехать и он появился в Праге, затем ненадолго в Берлине, где впервые прочел что-то сиринское, отметив, что на Западе теперь есть яркий русский писатель). Власть ужесточала политику в отношении зарубежной России — настолько, что незадолго до своего конца отказ в визе получил никогда не имевший таких проблем Маяковский, так как опасались, что он станет невозвращенцем. А с другой стороны, были предприняты попытки продолжить эксперимент, получившийся с «красным графом». В Европу отправились доверенные лица режима с поручением заманивать на родину слабодушных, истосковавшихся, идейно переродившихся, загнанных в безвыходное положение. Тридцатые годы ознаменовались на этом направлении крупными успехами: был привезен и поселен в Гатчине совсем одряхлевший Куприн, вернулся Сергей Прокофьев, уехала в Москву Цветаева, не строившая никаких иллюзий, но подчинившаяся долгу перед своими близкими, как она его понимала.
Почти одновременно с Замятиным в Берлине объявился некто Тарасов-Родионов, пролетарский писатель, наделенный правами советского эмиссара и поддерживаемый постпредством. Вскоре после революции он приобрел некоторую известность, выпустив «Шоколад», роман, в котором члены партячейки осуждают одного из своих товарищей, поддавшегося буржуазным соблазнам — полюбил хорошие шоколадные конфеты. Они догадываются, что выдвинутые обвинения легковесны да и недоказуемы, однако отдают должное намного более для них важному принципу: партия не ошибается (по этой логике она не ошибется и через несколько лет, отправив Тарасова в лагерь, где он погиб). Коммерческими сделками с шоколадом занимается герой пятого романа Сирина «Отчаяние», едущий по этим делам в Прагу, где завязывается история с двойником, ставшая пружиной сюжета. Набоковские комментаторы, для которых поиски всевозможных литературных отголосков, аллюзий и подтекстов давно стали своего рода спортивным соревнованием: кто обнаружит их больше? кто укажет самые малоправдоподобные? кто перещеголяет всех, интерпретируя не только метафоры, а чуть ли не любую подробность как скрытую цитату? — заподозрили, что операции Германа именно с шоколадом, а не с макаронами или ваксой, косвенно дают понять, что для Сирина берлинская встреча с Тарасовым не прошла бесследно и в творческом смысле. Это столь же достоверно, как утверждение одного из писавших об «Отчаянии», что желтые перчатки, которые были на герое, когда он пошел гулять по Праге, сняты им с лорда Генри из «Портрета Дориана Грея», поскольку тот носил такие же. Предполагать, что Набоков с его изысканными вкусами захотел бы и смог осилить тарасовский «Шоколад», можно лишь при усилии пылкого воображения, однако разговор с автором этой скверно написанной повести действительно состоялся.
Остается только гадать, отчего отправленный за границу для разложения эмигрантской литературной среды Тарасов наметил своей жертвой Сирина. Но так или иначе, зайдя в русский книжный магазин, московский посланец оставил там записку автору «Защиты Лужина» с предложением повидаться, и Набоков из любопытства пошел в названное кафе. Вот как он об этой встрече вспоминал через тридцать пять лет в интервью с писателем Гербертом Голдом, который сменил его на кафедре в Корнелле: «Я поинтересовался, разрешено ли мне будет свободно писать о чем захочу и уехать из России, если мне там не понравится. Он сказал: будете так восхищены всем у нас происходящим, что времени не останется думать про отъезд. И еще, добавил он, я совершенно свободен выбирать любую из многих тем, которые щедро предлагает писателю советская Россия, смогу написать про колхозы, про заводы, про хлопководство в Хлупи-стане — масса захватывающих сюжетов. Пришлось ответить, что колхозы и пр. меня не занимают, и тогда невезучий соблазнитель оставил меня в покое. С композитором Прокофьевым ему повезло больше».
Дня через два после этого разговора Сирин написал рассказ «Встреча» — о том, как в Берлин приезжает советский инженер непролетарского происхождения, по большевистской терминологии — «спец» («О, эти слова с отъеденными хвостами, точно рыбьи головизны…» — кирпичики «новояза», потом описанного Оруэллом в «1984» как обязательная составная часть тоталитарной системы). И, приехав, решает повидаться с братом, окончившим университет с магистерской степенью по литературе, а теперь размышляющим, то ли устроиться в мелочную лавку, то ли в типографию. Говорить им не о чем, не то что близости, а понимания давно уже нет, да еще кончается топливо в спиртовке, значит, чаю не выпить. Томительные полчаса с разговорами про то, как образуется магнитное поле (что-то об этом написано в журнале, валяющемся на кушетке у Льва, а Серафим спец как раз в данной области), про скверную берлинскую погоду и про немецкий роман, случайно попавшийся гостю на глаза. Там «о кровосмесительстве» («Ерунда, конечно, — комментирует Серафим, — но довольно занятно…»). Подразумевается «Брат и сестра» Леонхарда Франка, изрядно нашумевший роман 1929 года. Франк — одно из первых имен в истории экспрессионизма, от которого Набоков отмахивался, но с которым в начальную пору на самом деле соприкасался достаточно часто. А кровосмесительство станет основным фабульным узлом в его написанной через тридцать пять лет «Аде», которую автор считал (другое дело, что напрасно) своим главным творческим свершением.
В рассказах, потом из парижской периодики начала 30-х годов перекочевавших на страницы сборника «Соглядатай», читатель, которому известен весь путь Набокова, распознает завязь нескольких его важнейших сюжетов. «Потусторонность», «переход» — пружина, на которой все держится в «Оповещении», в «Совершенстве», в «Terra incognita», где герой, умирающий под «страшным тропическим небом», думает, что «за смертью есть в лучшем случае фальсификация, наспех склеенное подобие жизни, меблированные комнаты небытия». Два рассказа — «Обида», «Лебеда» — основаны на воспоминаниях детства, а их герой, мальчик Путя, носит одно из прозвищ, которые в семье дали будущему Владимиру Сирину: все это как бы эскизы к «Дару», насыщенному автобиографическими отголосками. С рассказа «Хват» начнется набоковское описание пошлости, но не как фона основного действия — это было уже в первых его романах, — а как основной повествовательной темы. Рассказ «Красавица», один из лучших у Сирина (и у Набокова в английской версии, которая открыла сборник 1973 года, названный «Русская красавица», он тоже явно выделяется), притягателен своей уникальной тональностью: и поэзия, и вульгарность. Причем они переплетены до полной неразличимости в истории героини, свежестью своей и прелестью сводившей некогда с ума, но как-то незаметно опустившейся, погрязшей в вульгарности берлинского эмигрантского обихода с непременными посещениями танцзалов, куда ходят плясать фокстрот, и с упоительным подробным обсуждением — диван, переполненная пепельница — чужих сердечных обстоятельств, с отказом перенимать привычки и мнения презираемого большинства, с тривиальными мечтами о замужестве, пусть по сценарию, требующему поисков какого-нибудь стареющего холостяка.
Набоков давно почувствовал, что ему не просто далек, а отвратителен весь этот стиль жизни, где граммофоны и джаз (тогда выговаривали по-немецки — «яцц»), и фуксом попавшие в язык крылатые английские словечки наподобие «викенда», и нескончаемая погоня «за несколько мифическим существом, которое зовется Европой», причем присутствует еще и «нежно-революционная истома, а главное, главное — некое сакраментальное отношение к современности в кавычках». Обо всем этом саркастически сказано в его отклике 1930 года на очередную книжку «Воли России», журнала, дорожившего подобной современностью чуть ли не превыше всего и насаждавшего ее в новейшей русской литературе. Результаты этих усилий сделать писателя «поверенным своей эпохи» не впечатляли, а намерения попутно сбросить с парохода стариков-архаистов вроде Бунина, поскольку случились исторические разломы и «восстания ангелов», Сирин находил — совершенно справедливо — комичными, припоминая, как в чеховской «Дуэли» Лаевский по любому поводу говаривал: «В наш нервный век…» Новаторов из пражского издания Сирин разделал под орех, однако основной его мишенью были не они. Этой мишенью был, несомненно, Ремарк, который в рецензии упомянут, — правда, мимоходом. И даже не сам Ремарк, чья слава после только что напечатанной первой книги «На Западном фронте без перемен» в мгновенье ока стала всемирной, а литература, которую он представлял, — литература поколения, с легкой руки Гертруды Стайн названного «потерянным».
Время этого поколения, собственно, уже миновало. Кончился «век джаза», в котором оно обрело естественную среду обитания. Скотт Фицджеральд, придумавший это определение для 20-х годов, написал, что генерация, чьим верным поэтом он оставался до конца своей недолгой жизни, ощутила время карнавалов завершившимся в тот мрачный четверг октября 1929-го, когда случился крах на бирже Нью-Йорка и началась Великая депрессия. Продлится она долгих четыре года. За нею придет эпоха жестких социальных конфронтаций, московских процессов, долгими отголосками отозвавшихся на Западе, франкистского мятежа и Гражданской войны в Испании. А там и Второй мировой.
Фицджеральд знал, что недавние карнавалы, о которых еще напоминали хриплые звуки тромбонов, были, как он выразился, «жизнью взаймы», что юность его поколения, тех, кто уцелел на первой большой войне, растрачена впустую: им, прошедшим фронт или, во всяком случае, казарму, странно было питать надежду, «что пройдет всего год-другой, и старики уйдут, наконец, с дороги, предоставив вершить судьбы мира тем, кто видел вещи как они есть». Знал, но все же не мог противиться ностальгии по временам, когда «век джаза» переживал свою «бурную юность и пьяную молодость».
Ремарк, для которого не литературой, а как раз юностью (и не бурной, а травмирующей) был Западный фронт, знал, что и для возвратившихся жизнь остается непрерывной жестокостью, что от нее не защититься ни священным, в его глазах, чувством товарищества, ни романтичным переживанием обреченной любви как момента истины. И все же они оба — и Ремарк, и Фицджеральд — остались певцами «потерянного поколения». Даже когда одному пришлось расплачиваться за свой карнавальный стиль жизни тяжелой семейной драмой, а другой вынужден был спасаться бегством из отечества, где на флагштоках подняли знамена со свастикой и в костры на площадях швырнули его книги, объявленные нацистским режимом примером «дегенеративной литературы».
«Восставшие ангелы», с которыми Набоков столь решительно размежевался в статье 1930 года, были русским эмигрантским — по необходимости подражательным — вариантом этого же явления. Существенное отличие составляла только просоветская ориентация «Воли России», делавшаяся все более явственной (впрочем, журнал скоро закрылся). Однако спор шел не о политических позициях, но о «современности в кавычках» как предмете обожания и воспевания. А имя Ремарка, мелькнувшее в следующем абзаце, ясно указывает, какая именно современность представляется Набокову символом «всего громкого, ходкого, передового, но вполне посредственного».
Он писал об этом не только в обзоре очередного номера «Воли России». Походя, но зло высмеял разговоры про «эпоху великих потрясений, тревог и поисков» в фельетоне, изобличающем фрейдизм: фельетон не набоковский жанр, но война психоанализу, объявленная в нем, была набоковским делом и продолжалась десятилетия. Резко — сам впоследствии об этом сожалел — разнес книжку стихов Бориса Поплавского, из всей молодой русской литературы Зарубежья ближе всего стоявшего к «потерянному поколению» (через много лет Набоков назовет его «первым хиппи», а «дети-цветы» как раз и были самыми прямыми наследниками фицджеральдовских героев). Наконец, опубликовал «Подвиг», свой четвертый роман. С историей «потерянного поколения» эта книга связана не самоочевидно, однако прочно: как полемическая реплика, подсказанная убеждением.
19 марта 1923-го, без внешних поводов, без юбилейной даты Сирин написал три строки гекзаметром, назвав их «Памяти Гумилева»:
Гордо и ясно ты умер, — умер, как Муза учила.
Ныне, в тиши Елисейской, с тобой говорит о летящем
медном Петре и о диких ветрах африканских — Пушкин.
Присутствие Гумилева, более или менее ясно распознаваемое, не раз чувствовалось в его поэзии, особенно ранней. Мечты об «Индии невидимой» и образ «рыцаря из рати Христовой» несут на себе следы гумилевского происхождения. От акмеизма Сирин был далек, но все-таки недаром во вступительном стихотворении книги «Горний путь» прозвучало требование отчетливости, и чистоты, и силы, а желанный «новый звук» тут же повлек за собой «новый край».
Петербургская поэтическая атмосфера последних лет перед революцией была пропитана Гумилевым, а его насильственная смерть осознавалась как трагический конец огромного периода, что ознаменован высшим расцветом литературы: русской классики. Имена Гумилева и Пушкина не случайно сближены в кратком набоковском реквиеме. Дело не в соразмерности талантов, а в том, что знаковыми становятся даты: начало и завершение эпохи, когда русский гений пережил свой звездный час.
В сознании Набокова — и это самое существенное — гибель Гумилева не только мученичество, но и героика. Не только заклание, но и подвиг. Никаких сомнений на этот счет не оставляет лекция 1941 года «Искусство литературы и здравый смысл», где есть абзац о Гумилеве, убитом «ленинскими бандитами», вот еще почему: «Во время всех жестоких испытаний, в тусклом кабинете прокурора, в пыточных камерах, в извилистых коридорах, по которым его вели к грузовику, в грузовике, везшем его на место казни, на самом этом месте… поэт не переставал улыбаться». Гумилев в свои последние минуты становится для Набокова невольником чести: не поза, а поступок, достойный того, кому выпала судьба своею гибелью завершить эпоху.
Ничего этого — ни гумилевского подтекста, ни сопрягаемого с ним смысла — не почувствовали рецензенты «Подвига», который был напечатан в «Современных записках» и к концу 1932-го вышел отдельной книгой. Отзывы оказались в основном очень прохладными, а смысл повторяющихся упреков без труда предугадываемым: что за «Подвиг» без подвига, что за повествование без кульминации, которая ожидается, но не наступает. То же самое написал американский прозаик, горячий набоковский почитатель Джон Апдайк, откликаясь на перевод, вышедший в 1971-м: просчет в том, что автор «позабыл о главной обязанности романиста — о необходимости создавать напряжение».
Сам Набоков тоже остался не совсем удовлетворен творческим результатом. Эдмунду Уилсону, долгие годы его самому близкому американскому приятелю, он даже писал, что старается вспоминать об этой книге как можно реже: такая же неудача, как «Полтава» у Пушкина, да что там, просто «блевотина». Это было явно чересчур, и в интервью Набоков ничего похожего не повторил. Даже, наоборот, сказал о «Подвиге» как о дорогом для себя произведении, одном из лучших его русских романов, который местами взмывает к «высотам чистоты и печали». И пояснил смысл заглавия: «Вещь эта — о преодолении страха, о триумфе и блаженстве этого подвига».
Для английского варианта, впрочем, им было выбрано другое заглавие — «Glory», то есть слава. Необходимость перемены обоснована в авторском предисловии к переводу: нужно было, чтобы заглавие доносило смысл «возвышенного приключения и незаинтересованного достижения», двойной смысл, который содержится в русском понятии подвига, как его трактует Набоков. Комментаторы со ссылкой на Даля добавляют еще один, и они правы: подвиг — это также движенье, стремленье, путь.
В рукописи роман одно время носил название «Романтический век». А название «Романтические цветы» носила вторая книга стихов Гумилева, изданная им в Париже (1908), та, где был цикл «Озеро Чад», открывавшийся знаменитым «Жирафом». Слава романтика, вероятно, последнего настоящего русского романтика, для которого никогда не умолкает муза странствий, а путь — это и есть самопознание, пришла к Гумилеву после этой книги. Потом она только усиливалась и его африканскими скитаниями, и героикой в годы большой войны, и стихами, в которых звучала знакомая нота:
Свежим ветром снова сердце пьяно.
Тайный голос шепчет: «Всё покинь!»
Перед дверью над кустом бурьяна
Небосклон безоблачен и синь,
В каждой луже запах океана,
В каждом камне веянье пустынь.
Так начинается поэма «Открытие Америки». У Сирина есть эпизодический персонаж по фамилии Бубнов, писатель с именем. Он занят книгой, героем которой будет Колумб, «или, точнее, русский дьяк, чудесно попавший матросом на одну из Колумбовых каравелл», — еще отзвук Гумилева в «Подвиге». Навряд ли случайность, что тридцатилетний лысеющий литератор взялся именно за гумилевскую тему, он ведь и сам отчасти схож с мэтром акмеизма и тоже царит среди прыщеватых молодых поэтов, которые декламируют все о ностальгии да о Петербурге (а Бубнов срезает: «Слишком у вас Петербург портативный»).
Рядом с Бубновым герой «Подвига» Мартын Эдельвейс «всегда чувствовал себя странно, немного как во сне». Не вызывая полного доверия к себе, Бубнов, однако, слишком превосходит тех, кто с ним рядом. Все остальные намного проще: и распевающие на эмигрантских вечеринках «Есть на Волге утес», и способные потолковать про Пруста и Джойса. Общение с Бубновым, которому Мартын помогал собирать материалы для описания колумбовых плаваний, как раз и отвадило от посещения заседаний с «восторгами гражданственности», вообще от всего круга «деятельных, почтенных, бескорыстно любящих родину русских людей». Должно быть, круг этот стал скучен оттого, что автор прекрасных книг впервые помог герою ощутить магию искусства.
До Бубнова в его жизни промелькнула Алла Черносвитова, которая писала пряные, звучные стихи: они «всегда обращались к мужчине на вы и сверкали красными, как кровь, рубинами». С этой декаденткой, наслаждающейся «рубиновым угаром греха», а свою жизнь уподобляющей «легкому дыму папиросы Режи, надушенной амброй», связано посвящение Мартына в тайны пола, описанное с нарочитым обилием плоских подробностей: прожорливая неуловимая блоха в постели, напоминания мужа Аллы о необходимости мазаться прыщемором. На языке Аллы потные свидания в полдень именуются «заглянуть в рай», но рай этот такой же поддельный, как ее строки про пурпур шелков, вампирный рот и про то, что завтра «смешаются с песком красивые тела» (в авторском экземпляре отмечено на полях, что это выпад по адресу Георгия Иванова, самого талантливого из гумилевских учеников. Набокову хотелось отделить чтимого им поэта от продолжателей, внушавших раздражение).
И все-таки Мартын, стоя с Аллой на Акрополе или гуляя в ее обществе вдоль моря, у которого прилепилась жалкая гостиница для русских беженцев, чувствует дыханье майнридовской романтики. Сочинительница грешных сонетов, подарившая ему книжку стихов, воспевших «празднества плоти» и разукрашенных фигурами голых подростков, видится Мартыну (как в детстве виделась однолетка-кузина, предмет первых эротических грез) белокурой креолкой, тогда как сам он Морис Джеральд, тот, кто во «Всаднике без головы» обнял Луизу, восклицая: «Что может сравниться с таким лобзанием?» Знающим главные события набоковской юности, как они описаны в «Других берегах», не придется удивляться этой ноте: она постоянно сопровождает рассказ о Юрике Рауше. А с Юриком прежде всего — во всяком случае, биографически — сопрягалось для Набокова понятие подвига. Мартыну, несомненно, отданы какие-то черты кузена, проведшего свою краткую жизнь в «воинственно-романтической майнридовской грезе», как отдано ему многое из жизненного опыта самого автора: детские впечатления от Биаррица, бегство в Крым после большевистского переворота, университетские годы в Кембридже. Даже место в воротах студенческой футбольной команды.
Однако у Набокова все это было приготовлением к главному делу жизни, к писательству, тогда как Мартын не художник. Что-то родственное художественному инстинкту у него пробуждается лишь под самый конец романа. А сферой приложения творческого дара будет не искусство, но реальная жизнь, выстраиваемая (так, во всяком случае, хочет верить герой) по законам сюжета, который объективно совпадает с гумилевским: путь, стремленье, героика.
Заглавие «Романтический век» вовсе не означало, что будет апология эпохи, воссозданной в повествовании (возможно, Сирин и отказался от него из опасения, что его воспримут как некий гимн времени, которое он описывал). Но и у Гумилева «Романтические цветы» не означали только томления по голубому цветку романтиков, столетием раньше заявивших о себе как о новой школе и новом духовном явлении. Иннокентий Анненский сказал о книжке, что она «отразила не только искание красоты, но и красоту исканий». Гумилев ответил благодарственным письмом, где есть важное уточнение: «Вы увидели… ту иронию, что составляет сущность романтизма и в значительной степени обусловила название всей книги». Красота, искание, ирония — лад и строй «Подвига» определяются этим сочетанием столь же точно, как тональность гумилевских стихов.
Другим рабочим названием «Подвига» было «Воплощение», то есть осуществление личности. Этот мотив, оставшийся в романе одним из центральных, побуждает толковать «романтический век» не только как детскую («майнридовскую») грезу, не как продолженные в жизнь мраморные сны с древнегреческими жрецами, о которых захлебываясь рассказывала Алла Черносвитова, но как героику: когда для этого есть воля и за разговорами о «послевоенной усталости» не пропало понятие чести. Гумилев, улыбающийся в минуту расстрела — он умрет с сознанием своего бесконечного нравственного превосходства над палачами, — это, конечно, романтический век без кавычек, выразивших скепсис (и недаром такой же образ появится в «Даре», передающем самые сокровенные мысли Набокова: Федор пытается вообразить последние минуты отца, которого, очень вероятно, казнили красные, и отец видится ему презрительно улыбающимся, когда уже наведены стволы). Одна из неочевидных отсылок к Гумилеву в «Подвиге» (но, пожалуй, самая важная) подразумевает стихотворение 1918 года «Я и вы»: «И умру я не на постели, при нотариусе и враче, а в какой-нибудь дикой щели, утонувшей в густом плюще».
С Мартыном, по всей очевидности, именно это и происходит после его поступка, который для кого-то непостижимая странность, для кого-то явное безумие, но для автора все-таки подвиг, какие бы при этом ни делались оговорки. «Что за ерунда, — размышляет бывший университетский товарищ героя, узнав о намерении Мартына перейти латвийскую границу, чтобы наведаться, пусть всего на один день, в бывшее отечество. — Тут есть что-то странное. Спокойно сидел в Кембридже, пока у них была гражданская война, а теперь хочет получить пулю в лоб за шпионаж. Морочит ли он меня или нет?» Как выясняется, не морочит, и на последней странице романа Дарвин, кембриджский повеса, ставший крупным журналистом, отправляется подготовить мать Мартына к страшному известию, которое, видимо, поджидает ее со дня на день.
Побуждения, которые привели к этому странному выбору, так и остаются в романе непроясненными, однако они очень понятны, если помнить о гумилевском сюжете, незримо направляющем ход действия. Отец Сони Зилановой, которую Мартын одно время считал своей невестой, — он прирожденный общественный деятель из тех, кого называют передовыми, — недоумевает: «Кто бы мог предположить. Юноша уравновешенный, солидный… Просто, вы знаете, не верится, тут какой-то подвох…»
Зиланову и людям его круга не пришлось бы ничего объяснять, будь тут те же мотивы, что в истории князя Павла Долгорукова, в прошлом баловня судьбы, который на Западе бедствовал, тосковал и в конце концов решил — а было ему уже за шестьдесят — незаконно вернуться в Россию, одевшись странником и отыскав по карте места, где меньше риска натолкнуться на пограничный патруль. Затея эта плохо кончилась: летом 1927 года пришлось писать некролог. Его автор А. Тыркова-Вильямс утверждала, что решение князя «не было ни жестом отчаяния, ни донкихотством… Многие пожимали плечами, считая это безумием фантастической души, уставшей от эмиграции. На самом деле издали почуял он, что опять глухо, но неуклонно нарастают в России какие-то освободительные силы, что опять настала пора, хотя бы ценой подвига и жертвы, пробуждать в запуганных людях человеческое достоинство и политическую волю. Он знал, что пример убедительнее слов».
Однако Мартын не думает ни о политике, ни о заразительном примере. Приманивает героя не иллюзия пробуждения запуганных, а какие-то неясные огни, «звавшие его еще в детстве», и воспоминание о платформах среди чернеющих кустов, и раз за разом выплывающий из непостижимых глубин памяти образ: «лес и вьющаяся в нем тропинка… какие большие деревья!» Картина с тропинкой в лесу висела над его постелью в детстве, а на первых же страницах книги говорится, что Мартын «спрашивал себя, не случилось ли и вправду так, что с изголовья кровати он однажды прыгнул в картину, и не было ли это началом того счастливого и мучительного путешествия, которым обернулась вся его жизнь». Круг замыкается, когда Дарвин тропинкой через лес идет на швейцарскую виллу сообщить госпоже Эдельвейс о случившемся.
Принявшись в предисловиях объяснять американцам свои книги (и часто изображая себя намного более скучным писателем, чем он в действительности был), Набоков на склоне лет воздаст самому себе должное за «взмахи волшебной палочки» в «Подвиге», где он сумел сделать интересным героя, не обладающего художественным талантом, а главное, так построил рассказ, что ожидаемое событие («подвиг») только продлевает сказочную тропинку на запомнившейся с детства картине. Если бы это в самом деле было так, излишними оказались бы гумилевские реминисценции, как и частые цитирования еще одного ключевого текста русской литературы — «Выхожу один я на дорогу». Не нужны были бы пиратские корветы, и африканские дебри, и тропические топи, которыми подростком Мартын грезит наяву, и не маячил бы в повествовании Ливингстон, пропавший у истоков Конго, как и обнаруживший его на берегах Танганьики журналист Генри Стэнли. И, представляя, каким было бы объяснение с Соней, Мартын не увидел бы «в живописной мечте», как на его груди полощется георгиевская ленточка за конные атаки в Крыму, — у кавалериста Гумилева таких ленточек было две, — и не надо было бы указывать, что в Лондон он приезжал на вокзал Виктория, а в свой последний берлинский день оказался у Бранденбургских ворот, которые украшены скульптурой римской богини войны. Та тропинка, на которую мальчиком в ночной рубашке перебрался Мартын из своей постели, выводит прямо на кремнистый путь из лермонтовского стихотворения, упомянутый в романе при описании крымских дней Мартына, и становится метафорой духовного пути — со всем мученичеством, уготованным тем, кто на него ступил.
Решив перейти границу, он думает не о том, что по другую сторону откроется Россия. С Соней он беседует не о России, но о Зоорландии, «скалистой, ветреной стране», где «ветер признан был благой силой, ибо, ратуя за равенство, не терпел башен и высоких деревьев». Одновременно с «Подвигом» были написаны стихи «Удальборг» («перевод с зоорландского») про немой город, где под запретом все праздники и нет «ни садов, ни базаров, ни башен, и дворец обернулся тюрьмой». В романе эти мотивы получают развитие — и воцарившийся среди зоорландцев «закон глухонемых», и всеобщий испуг зоорландских граждан. Там, в Зоорландии, «искусства и науки объявлены были вне закона, ибо слишком обидно и раздражительно для честных невежд видеть задумчивость грамотея… Бритоголовые, в бурых рясах, зоорландцы грелись у костров, в которых звучно лопались струны сжигаемых скрипок, а иные поговаривали о том, что пора пригладить гористую страну, взорвать горы, чтобы они не торчали так высокомерно».
Что-то зоологическое, запредельное воцарилось там, где прежде была Россия. В Кембридже профессором русской словесности был Арчибальд Мун, говоривший, что в российской истории обозначен «некий отчетливый конец… что Россия завершена и неповторима, — что ее можно взять, как прекрасную амфору, и поставить под стекло». Все, что было после октябрьского переворота, — «блатная музыка». Мартыну иногда хочется возразить, но нечего: Муном выражено убеждение самого автора.
И зная, как прав этот долго живший на его родине профессор, для которого Россия была единственной любовью, Мартын, конечно, не может обольщаться надеждами, что подвиг будет вознагражден прикосновением к утраченному навсегда. Он отправляется на границу, потому что для него это необходимое действие, которое одно дает надежду покончить с душевной анемией, поразившей все поколение его сверстников — «потерянное поколение». Второй, намного более типичный вариант судьбы причастных к этому поколению — путь, пройденный Дарвином: с восемнадцати лет доброволец на большой войне, первоклассный боксер, автор книжки рассказов, «от которых знатоки без ума», причем во всех этих рассказах описываются лишь совершенно конкретные вещи вроде адских машин, попугаев или отражений на воде. Хемингуэй — и вехи биографии, и доктрина «простой, честной прозы», которая не признает ни абстракций, ни грохочущей риторики, — как бы маячит за этой ярко очерченной фигурой, хотя нет никаких оснований говорить, что он и явился прототипом Дарвина (скорее всего, Набоков о нем к 1930 году, после имевших мировой резонанс «Фиесты» и «Прощай, оружие!», знал, но его отзыв о Хемингуэе относится к гораздо более позднему времени и отмечен крайней пристрастностью). Непосредственный прототип, однако, и не требовался. В Хемингуэе, как ни в ком другом, воплотились все самые характерные черты «потерянного поколения», так что принадлежавшие к этой генерации поневоле несли в себе что-то опознаваемо хемингуэевское. Вплоть до тождества конкретных жизненных фактов — непредумышленного, как в истории Дарвина с его кембриджскими эскападами, порой напоминающими парижские, как они описаны в «Празднике, который всегда с тобой», и влеченьем к Соне, странным своей непоследовательностью, и путешествием на Тенериффу, как Хемингуэй в Памплону. С карьерой журналиста — правда, не в «Торонто стар», где, вернувшись с фронта, блистал будущий американский романист, а в «Морнинг ньюс».
Мартын человек того же круга, что Соня, и кембриджский сокурсник Вадим, и Дарвин, одно время оказывающий на героя сильное влияние. Однако невозможно представить, чтобы из его уст послышались речи о заработках и прекрасных надеждах на будущее, а работой стало сочинение статей о каком-то мораториуме, хотя Дарвин и предлагает старому товарищу «газетное дело». Для Мартына затеянное им смертельно опасное предприятие вырастает в ритуал самопознания и преодоления той духовной вялости, которая затронула и его самого, пока он оставался одним из «восставших ангелов», по ироничной и жесткой сиринской характеристике.
Это в своем роде посвящение, открывающее действительно самые важные истины о жизни, и, как всякая инициация, оно должно сопрягаться с неподдельной опасностью, а не с «шаблончиком… общественных заслуг». Не будет ни шаблончика, ни трибунных восторгов — совершенно ясно, что будет другое, то, о чем Сириным сказано в пронзительных стихах, вошедших в книгу «Возвращение Чорба»: «Россия, звезды, ночь расстрела и весь в черемухе овраг».
Вспоминая свои берлинские годы, Набоков писал в «Других берегах», что видит себя и тысячи эмигрантов «ведущими несколько странную, но не лишенную приятности жизнь в вещественной нищете и духовной неге, среди не играющих ровно никакой роли призрачных иностранцев, в чьих городах нам, изгнанникам, доводилось физически существовать». Население русского островка в Берлине редело год от года, убывала и нега: изгнание не обязательно помеха для чувства полноценности духовной жизни, но вряд ли и стимул. Набоков в автобиографии много раз подчеркивает, что ничуть не страдал из-за того, что на протяжении пятнадцати лет, проведенных в Берлине, круг культурного общения только суживался. Едва ли эти уверения надо понимать буквально. Когда миновало без малого четверть века, несложно было не только утверждать, но и вполне искренне думать, будто это возможно: пользоваться «их постройками, изобретениями, огородами, виноградниками, местами увеселения и т. д.», но к самим «туземцам», говорящим по-немецки, относиться так, точно они вправду «прозрачные, плоские фигуры из целлофана», с которыми не вступают в отношения, напоминающие человеческие. Но апартеид, о котором Набоков пишет с оттенком не совсем понятной горделивости, был бы самым неподходящим положением для писателя, берущегося изображать быт, нравы, привычки, психологию этих «туземцев». А поскольку у Набокова таких книг несколько, остается заключить, что на самом деле апартеида не было. Или, в любом случае, он соблюдался не так уж неукоснительно.
Разумеется, уместны оговорки такого рода, что немцы в романе «Король, дама, валет» и впрямь какие-то целлофановые, то есть схожие скорее с картами из колоды, чем с живыми людьми. И все-таки это именно немцы, а не берлинцы из русских, с которыми у автора было намного больше точек соприкосновения. Весь порядок жизни в доме Драйеров, весь характер принятых у них отношений несут на себе черты характерно немецкого уклада и социального обихода. Нужно было обладать достаточно полным знанием именно немецкой мещанской среды, чтобы написать такую книгу.
Для романа «Камера обскура» это знание потребовалось даже больше. Любопытно, что перенесение действия из Берлина в Лондон (и на тридцать лет вперед) сразу же отняло у этого произведения что-то существенное, во многом определив неудачу всего замысла, осуществленного английским кинорежиссером Тони Ричардсоном. К 1969 году, когда Ричардсон стал снимать «Смех в темноте», взяв за основу набоковский автоперевод книги, он был опытным, признанным мастером, а сценарий писал крупный драматург Эдвард Бонд, да и актеров пригласили с именами: звездой была Анна Карина (Набоков признал, что картина не получилась, но тем не менее испытал восторг, увидев ее в роли Магды, по фильму Марго. У него в романе есть киноактриса, взявшая сценическое имя Дорианна Каренина. Опять получалось, что нелюбимый им Уайльд был прав — жизнь подражает искусству, а не наоборот).
Экранизация провалилась из-за того, что Ричардсон и Бонд сочли возможным интерпретировать роман просто как историю физической страсти, которая, овладев человеком солидного возраста и положения, обретает характер одержимости, делая его легкой добычей юной авантюристки и ее циничного любовника. Посмотрев фильм, Набоков выразил сожаление по поводу того, что страсть в нем показана «так примитивно, пошло, банально и по этой причине настолько отталкивающе». Лет за десять до Ричардсона «Смех в темноте» заинтересовал одного французского продюсера, который хотел снимать в главных ролях Роже Вадима и Брижит Бардо: зная тогдашнее реноме этих актеров, можно не сомневаться, что эффект был бы тем же самым, как у Ричардсона с Анной Кариной. Не тот эффект, который предполагается романом.
Набокова это должно было задевать, поскольку для «Камеры обскуры» все связанное с кино имеет первостепенное художественное значение. Дело не только в том, что знакомство героев происходит в захудалом кинотеатре «Аргус», где Магда служит капельдинершей, не в эпизодах, связанных с ее провальным кинодебютом, не в Дорианне Карениной, с которой в роман входит язвительно описанная атмосфера кинобизнеса. Дело скорее в характере образов, начиная с метафоры, которая подсказала заглавие (камера обскура — далекий предшественник фотоаппарата или проектора, линза, при помощи которой можно было получать и воспроизводить изображения-тени), и в характере повествования, осознанно сближенного со сценариями лент немого кино.
Этот кинематограф Набоков знал и любил. Раза два в месяц они с женой ходили на вечерние сеансы, выбирая полупустые залы где-нибудь подальше от центра. Кумирами его были Бастер Китон, Гарольд Ллойд и, конечно, Чаплин, неподражаемый автор «Золотой лихорадки» (снятой как раз в 1925 году, когда Горн, играющий важную роль в «Камере обскуре», изобретает морскую свинку Чипи, игрушку, завоевавшую мир). В своих интервью Набоков называет и другие имена: Рене Клэр, как создатель великих картин «Под крышами Парижа» и «Свободу нам». Датчанин Карл Дрейер, чьи «Страсти Жанны д’Арк» обошли в конце 20-х годов экраны мира.
«Синематографизированный» роман (так определил жанр книги высоко оценивший ее Ходасевич) и в самом деле «показывает, как синематограф, врываясь в жизнь, подчиняет ее своему темпу и стилю, придает ей свой отпечаток». Ходасевич, впрочем, напрасно думал, что «Сирин… не изображает обычную жизнь приемами синематографа»: «Камера обскура» именно это и делает. Причем — этого требовало тогдашнее понимание специфики кино, где властвуют маски, типажи, фигуры «из целлофана», — «синематографическими» ходами уместно и удобно было воссоздавать быт и жизнь обедненную, сильно тронутую пошлостью, сводящуюся к набору избитых ситуаций, предугадываемую в любых проявлениях. Словом, немецкую жизнь, как ее представлял себе Сирин.
В романе, точно намеренно лишенном какой бы то ни было интеллектуальной рефлексии и психологической углубленности, эта жизнь показана в двух ее внешне контрастных, но, по существу, почти идентичных обликах. Первый план: дом Бруно Кречмара. По наследству получив изрядный капитал, который позволяет держать огромную, богато обставленную квартиру в Берлине и баловать любовницу подарками вроде автомобиля за двадцать тысяч марок, этот искусствовед и коммерсант в мире художеств являет собою законченный тип бюргера с некоторыми интеллектуальными поползновениями: они лишь оттеняют сугубо мещанский характер представлений и ценностей, действительно обладающих для него жизненным значением. Второй план: швейцарская, занимаемая контуженным на войне отцом Марты, его беспричинные припадки ярости, сопровождаемые оплеухами направо и налево, пивная, где брат героини, Отто, философствует в том духе, что «человек должен первым делом жрать, да!» Грязь, грубость, власть самых примитивных инстинктов, особенно подчеркнутых при описании пансиона сводни, которая и познакомила Магду с ее обольстителем Горном: он любит ездить толстыми губами вверх и вниз по голой спине своей юной наложницы. Горн — небесталанный циник, карточный игрок, плебей, лишь благодаря собственной наглости и спросу на такие поделки, как его вездесущая свинка, зацепившийся в изысканном обществе. Но и представляющий это общество Кречмар ничем, кроме глупого доверия к авантюристам, от него не отличается. Та же «бессмысленная жажда обладания какими-то молоденькими красавицами». Та же абсолютная, фантастическая душевная зачерствелость (из трусости он не пойдет на похороны своего единственного ребенка). Одно и то же плоское сладострастие — у Горна беззастенчивое, у Кречмара чуть сентиментальное, но одинаково у них обоих выражающееся в дрожи, вызываемой отроческим сложением общей любовницы.
В кинотеатре «Аргус» Магда, сбежав от домашнего воспитания тумаками, жадно смотрит очередную мелодраму с роковой страстью, веря, что со временем и она станет фильмовой дивой, а тогда мечты осуществятся: нарядные кабаки, негритянская музыка, Горн навечно у ее ног. И после того как у Кречмара голова пойдет кругом от какого-то особенного движения лопатками, которое, снимая плащ, делала смазливая, хотя чуть вульгарная девчонка, эта мечта начнет воплощаться. Следует описание приема в квартире героя, где теперь новая, юная хозяйка: мутно-сиреневый от сигарного дыма воздух, буфетчик с лицом лорда, возвещающий о прибытии полногрудой певицы, которая всем рассказывает о своих ангорских кошках, и модного писателя, в чьем новом романе восславлена «таинственная, огромная мощь Востока» — йоги, тигры, баядерки, факиры. Дорианна Каренина явится в открытом платье, подчеркивая достоинства своих прославленных плеч. Горн поинтересуется происхождением ее псевдонима: «Скажите, вы Толстого читали?» — «Толстого? Нет, не помню. А почему вас это интересует?»
Тот «легкий налет гнусности», который Кречмар более или менее отчетливо ощутил только по прошествии года сожительства с Магдой, на самом деле загустевшим слоем покрывает всю немецкую бытовую среду, описываемую в романе через различные ее облики, однако неизменно под тем же самым знаком: это мир, где властвует пошлость. Ее оттенки разнообразны. Есть непритязательная пошлость обихода родителей и брата Магды, людей холодного, грубого нрава. И олеографическая пошлость курортного флирта с лунными отблесками, чешуйчатым сиянием посреди моря, пальцами партнера по фокстротам, жадно шарящими под платьем, которое Магда надевает на голое тело. И глумливая пошлость забав, которым ее научил Горн: например, заказать по телефону гроб, указав взятый из справочника адрес, а потом заливаться смехом, воображая ужас и возмущение получателей. Горну доставляет радость «помогать жизни окарикатуриться», устраивая мерзости одна изобретательнее другой, — паштет из отбросов, поднесенный томно улыбающейся женщине в постель, окурок, как бы ненароком оброненный в темном углу лавки, где сложен шелк.
Под конец действия таким же образом Горн будет обращаться с ослепшим, беспомощным Кречмаром, испытывая восторг от одного сознания, что, мучимый тяжелыми подозрениями, тот не догадывается о происходящем. Этот садизм, однако, не вызывает ни сострадания к жертве, ни нравственного возмущения, поскольку повествование специально построено так, чтобы подобные чувства исключались. Перечитав книгу много лет спустя, Набоков признал ее худшим своим романом именно из-за того, что «персонажи — безнадежные клише», они не в состоянии спровоцировать живой отклик. И весь интерес читателя сосредоточивается только на композиции эпизодов, на ритме рассказа, на построении кадров и приемах монтажа.
Этими приемами, изобразительным языком кинематографа ко времени своего четвертого романа Сирин владел как настоящий мастер, особенно выигрышно продемонстрировав свое умение как раз в кульминационных сценах. Когда из-за неопытности Кречмара терпит аварию автомобиль, взбирающийся по горному шоссе, в фокусе оказываются залитые солнцем провансальские холмы, и солнце на берлинских улицах, где торгует мороженщик в белом колпаке, и стоящая на балконе фрау Кречмар в трауре, и желтый дирижабль над дорогой, и старуха, которая собирает над обрывом ароматные травы, — законченный образец монтажа в согласии с принципами, найденными для кино Гриффитом, а затем Эйзенштейном (именно в начале 30-х годов их начала активно осваивать литература — немец Деблин, американец Дос Пассос). Очнувшись после нескольких послеоперационных недель, Кречмар вспоминает загиб белой дороги, синеватый парапет, красно-желтые фуфайки ехавших навстречу велосипедистов, мелькнувшую на миг растопыренную руку Магды — ни одного звука, как в немых фильмах, где все решал точно смонтированный визуальный ряд.
Писатель Зигенфельд, чья унылая повесть о нервном пациенте в приемной у дантиста невольно спровоцировала разыгравшуюся трагедию, бьется над тем, как «навсегда задержать на странице мгновенный облик текучего времени», и пробует этого добиться методом подробнейшей психологической интроспекции по примеру Пруста, с которым он был когда-то знаком. Сирин, когда писалась «Камера обскура», действовал противоположным способом — вообще без психологии: только действие и с выделенными деталями запечатленная среда, в которой оно совершается. Результат не принес ему удовлетворения, но попытка перенять язык кино не пропала бесследно. Кое-что из этого опыта пригодилось позднее, особенно в прозе американского периода.
«Камера обскура» была написана с необыкновенной легкостью, всего за несколько месяцев. Сначала эта книга называлась «Райская птица»: там была измена героини, а брошенного ею любовника ждала слепота, однако остальное не совпадает с окончательным текстом. Хотя это, в сущности, роман-сценарий, кинематограф за него не ухватился, да и нельзя было предлагать такую прозу Голливуду — слишком откровенные эпизоды, которые могут разозлить ханжей, и уж очень мрачно все заканчивается. Зато книгу заметило одно английское издательство и заказало перевод. Набоков ничего об этом не знал, а увидев вышедший по-английски роман — было это в начале 1936-го, — остался крайне недоволен качеством текста и сам перевел книгу заново, изменив заглавие: теперь она называлась «Смех в темноте». Это был его первый опыт в прозе на английском. Выпустило «Смех в темноте» американское издательство «Нью дирекшнз», оно печатало только тех писателей, которые считались представителями авангарда и действительно прокладывали новые пути, как требовало имя фирмы.
Критика, исключая Ходасевича, высказывалась в лучшем случае сдержанно: внешний блеск при внутренней пустоте, «превосходный кинематограф, но слабоватая литература» — формула Адамовича, с некоторыми вариациями повторенная и в других рецензиях. Набоков постарался не обращать внимания на эти нападки, зная, что они не так уж беспочвенны. У него уже начал вызревать новый замысел. Когда из сурово перекраиваемой «Райской птицы» рождалась «Камера обскура», в «Руле» прошла заметка, описывающая дело мошенника, который решил разыграть самоубийство, после чего мнимая вдова должна была получить по страховке большую сумму и за границей воссоединиться с мужем, убившим встречного бродягу: обгоревший труп с подброшенными документами предстояло обнаружить полиции, и свидетельство о смерти владельца давало основание требовать выплаты по полису. Аферу раскрыли, преступник был приговорен к казни, как и другой проходимец, действовавший по тому же плану: убийство рабочего, служившего в его мебельном магазине, часы исчезнувшего владельца, найденные рядом с обуглившимся трупом. Набокова поразило это криминальное вдохновение, он почувствовал, что тут готовый сюжет. Такие подсказки из уголовной хроники, которая претворялась в произведения, становившиеся шедеврами, бывали в русской литературе и прежде. У Достоевского.
Раздражение, которое Достоевский вызывал у Набокова, не всегда было таким сильным — нечто схожее с фобией — и таким нескрываемым, как в его американские годы. Мартовский доклад 1931 года в Берлинском литературном кружке «Достоевский и достоевщина» (последнее словцо как раз об эту пору запустили в оборот советские изобличители, не простившие Достоевскому ни его религиозности, ни «Бесов») содержит попытку как-то отделить классика от современных его продолжателей, компрометирующих образец, который, впрочем, едва ли и достоин лучшей участи. Дальше высказывания Набокова о Достоевском становились все более прямолинейными и нетерпимыми.
Читая американским студентам курс русской литературы, Набоков включил в него разбор «Преступления и наказания», однако это была только уступка доминирующему мнению, которое, на его взгляд, возвеличило посредственность, придав ей статус великого литературного феномена. Когда бегло, когда относительно подробно говорил он и о других главных романах Достоевского, а также о «Записках из подполья», однако цель при этом оставалась одна и та же: доказать, что репутация этого писателя, введенного в мировой пантеон, — ложная, что прозрения, которыми он знаменит, на самом деле «пустоши банальностей», а вся его философия — не более чем «реакционная журналистика». Только глупцы могут принимать ее всерьез.
Почти всякий раз, излагая свое эстетическое кредо, Набоков считал нужным повторять эти мысли, составившие не слишком яркий и свежий букет (так, уличая неприятного ему автора в том, что тот был всего лишь реакционным журналистом, Набоков, хотя ему это, видимо, не приходило в голову, поддержал плоские суждения об «архискверном Достоевском», принадлежащие Ленину). Может даже показаться, что более неприязненного отношения к Достоевскому, чем набоковское, не было, однако это не так. Бунин, например, в этом отношении столь же непримирим, и причины примерно такие же: стиль Достоевского говорит либо о небрежности, либо о плохой выучке, описываемые им ситуации нежизненны, взяты из анекдота, да ко всему прочему никто так не чувствует и не поступает. Все выдумано, причем неумело.
Понятно, что, как каждый крупный писатель, Бунин оценивает других писателей исходя из соблюдения или несоблюдения ими художественных требований, которые аксиоматичны для него самого. С Набоковым происходит то же самое, а поскольку требования, признаваемые им истинными, с годами все менее идентичны тем, что признавались Буниным, их отказ считать Достоевского крупной литературной величиной, при кажущемся сходстве обоснований, на самом деле имеет под собой довольно разную мотивацию. Бунину враждебен художественный (он бы сказал: антихудожественный) лад Достоевского; Набоков, как заявлено в его послесловии к «Лолите», тоже признает литературу только в той мере, в какой она доставляет эстетическое наслаждение. Достоевский к такой литературе не имеет, согласно его критериям, даже отдаленного отношения, но дело не только в том, что у него, как однажды выразился Бунин. «точно экзема на языке», а также «большая ноздря и он нюхает, канализацию человечества». Набоков в лекциях тоже говорил про «истерику», про «галерею неврастеников и душевнобольных», про безвкусицу и сентиментальность, однако все это была лишь прелюдия к главному его выпаду против Достоевского: он — олицетворенная Литература Больших Идей, а это обычно синоним «журналистской дребедени», упрятанной в «громадные гипсовые кубы, которые со всеми предосторожностями переносятся из века в век». Придет время, и, как знать, может быть, найдутся смельчаки, которые хорошенько трахнут молотком по загипсованным фантомам (этот способ наведения порядка в царстве литературы широко практиковался в бывшем отечестве Набокова, и может даже показаться, что он обобщил накопленный там опыт, только переклеил ярлычки). Достоевский, правда, в послесловии к «Лолите» не упомянут, рекомендуется обратить внимание на кубы с другими этикетками: Бальзак, Горький, Томас Манн. Однако для знающих воззрения, изложенные в лекциях задолго до «Лолиты», ясно, что первым примером псевдолитературы, прячущей свою беспомощность за глубокомысленными идеями, которые на поверку тоже несостоятельны, для Набокова оставался Достоевский. Молоток предназначался прежде всего для той гипсовой емкости, в которой хранился его литературный прах.
«Отчаяние», которое написано в 1932 году и через полтора года появилось в «Современных записках», в свете всего последующего воспринимается как пробный удар. Над какой гипсовой емкостью занесен осмелевший молоток, гадать не приходится: «Преступление и наказание». Герман, замысливший убийство двойника, случайно им встреченного на пражской окраине, и не очень умело осуществивший его, чтобы потом все это описать в захватывающем романе (подвигла его на эту затею именно мечта о шедевре, а вовсе не страховая премия, как подумают профаны), убивает не только жалкого Феликса с его грязными ногтями, но попутно и Федора Михайловича, к которому он испытывает отвращение вроде недуга. И второе убийство — по своим мотивам, по очевидным параллелям с историей Раскольникова, который ведь тоже совершил преступление не ради выгоды, а из-за идеи, — намного интереснее, чем уголовная история. (Раскольников, кстати, впрямую упомянут рассказчиком, признающим свое с ним «карикатурное сходство»: именно карикатура, а не герой, чья фамилия в английской версии намеренно искажена: Raskalnikov, чтобы выделить не то kal, не то rascal — «мерзавец».)
У Германа, чьи дела идут все более скверно, есть и корыстный расчет. Но преобладает все же другое побуждение, о котором им сказано так: «Таила ли моя, с виду серая, с виду незамысловатая, молодость возможность гениального беззакония?» Гениальность, реализующая себя в убийстве, которое приравнено к «волшебному произведению искусства» из тех, что «чернь долгое время не признает, не понимает, коих обаянию не поддается». «Гениально продуманное преступление», труд вдохновенного художника, знающего «тайную уверенность творца» и оттого «непогрешимого». Герман воспринимает свой выстрел в мнимого двойника как творчество, как озарение. Тут есть нечто отдаленно родственное наполеоновскому комплексу героя Достоевского, но есть и более прямые аналогии.
Сиринский бюргер, «здоровый, прекрасно одетый, очень моложавый», по субботам посещающий с супругой кафе или кинематограф, обладает сходством со многими литературными предшественниками, в особенности — с Томасом Гриффитсом Уэйнрайтом из эссе Оскара Уайльда «Перо, полотно и отрава», реальным лицом, жившим в начале XIX века. Этот эстет, питавший нежную любовь к живописи и к природе, совершил целую серию убийств (следствие установило не все), которые должны были стимулировать его художественное вдохновение. Несколько раз Уайльд упоминает в своем этюде имя английского романтика Томаса Де Квинси, современника Уэйнрайта, откликнувшегося на его процесс. У Де Квинси есть эссе, где убийство рассмотрено как вид искусства, а преступник сравнивается с художником. Сиринский Герман исходит из убеждения, что подобное тождество обоснованно и должно быть подтверждено реальным делом.
Этому делу он придает некий провиденциальный смысл. В описываемой Германом сцене убийства двойника (на поверку тот оказывается двойником лишь в его воображении, так как полиция сразу отвергает предположение о неотличимости убитого от убийцы, на котором строился весь план) герой рекомендуется «неким Фреголи», отсылая понятливого читателя к популярной пьесе Николая Евреинова «Самое главное», которая шла в эмигрантских театрах лет за десять до «Отчаяния» (был в 1925 году разыгран и капустник по ее мотивам, причем Набоков выступил в роли самого Евреинова). Этот доктор Фреголи убежден, что театральная иллюзия способна облагораживать реальную будничность. Продолженная за пределами сцены актерская игра должна доказать, что жизнь с ее «засильем бездарных режиссеров» спасется только «волшебным искусством» арлекинады, воплощающей высшее, поистине свободное и творческое начало, у которого нет никаких точек соприкосновения с плоскими нормами принятого социального поведения. «Через преображенье к преобращенью!» — рефреном повторяет Фреголи, апологет «инстинкта театральности», противостоящего убогости и унынию, которые возобладали в реальном мире.
Для Германа эта философия не содержит в себе и слабого оттенка морального чувства, напротив, с нею утрачивает почву любая этическая обеспокоенность. А одной из основных целей эксперимента, осуществленного героем «Отчаяния», как раз и было доказательство, что он «хозяин своей жизни, деспот своего бытия» в мире, где «Бога нет, как нет и бессмертия», так что незачем тяготиться нравственными смыслами и следствиями своих поступков. После того как Герман заключил, что «небытие Божие доказывается просто» и что идея Бога только «сказка… чужая, всеобщая сказка», да еще пропитанная неблаговонными испарениями и древними страхами, для него естественно заключить, что человеческие деяния должны оцениваться критериями не этическими, а только артистическими, как полагал и доктор Фреголи. И столь же естественно сразу вслед за убийством обрушить весь свой пафос, пропитавшийся желчной иронией, на чувствительных, жалостливых, сострадающих, на тех, кто начитался Достоевского (в английской версии он фамильярно именуется «стариканом Дасти», то есть «замшелым»), сочинившего нечто надрывное под названием не то «Кровь и Слюни», не то «Шульд унд Зюне», то бишь «Вина и кара».
«О каком-нибудь раскаянии не может быть никакой речи — художник не чувствует раскаяния, даже если его не понимают». Этот пассаж, следующий непосредственно за выпадом против «Дасти», он же «Даски», сиречь «невразумительный», обладает в романе ключевым значением. В результате глупейшей ошибки (на месте убийства им оставлена палка с именем и адресом жертвы) «гениальное беззаконие» оказывается, в житейском измерении, топорным шарлатанством, но ничего не выходит и из намерения оправдать себя в собственных глазах, сделав драму, разыгравшуюся в безлюдном бору, сюжетом художественно безукоризненной повести с убийством. Повесть точно так же несамостоятельна и топорна, начиная с исходного допущения, что Герман, отвлекая от себя подозрения, построит рассказ на теме поиска виновного, каким является он сам: столетием ранее этот прием использовал, и с несравненно большей виртуозностью, Эдгар По, сочиняя новеллу «Вильям Вильсон». Заглавие романа Сирина говорит об отчаянии, которое охватывает героя не в момент изобличения, а в ту минуту, когда он убеждается, что шедевра ему не создать. Ходасевич объяснил смысл заглавия логично и ясно: герой «погибает от единой ошибки, от единого промаха, допущенного в произведении, поглотившем все его творческие силы. В процессе творчества он допускал, что публика, человечество может не понять и не оценить его создания, — и готов был гордо страдать от непризнанности. До отчаяния его доводит то, что в провале оказывается виновен он сам, потому что он только талант, а не гений».
Это очень убедительно, но при условии, что будет принято допущение, сделанное Ходасевичем: «материал», которым оперирует сиринский «подлинный, строгий к себе» художник, не имеет значения, ибо важен только сам творческий акт. Ходасевич, как и автор, столь решительно отделил эстетику от этики, что получилось логическое построение, которое, во всяком случае, небезупречно: можно ли не считаться с тем, что «творчеством» в данном случае стало убийство? Ходасевич находил, что, по меркам гениальности или только таланта, нет разницы между поэтом, сочинившим безупречный сонет, и уголовником, артистически прикончившим простака, которого он заманил в ловушку. Вся соль только в том, чтобы он не забыл прихватить с собой палку, покидая брошенный на месте убийства автомобиль.
Язвительные замечания Германа по поводу «Дасти» рассыпаны по всему тексту романа, где с сарказмом говорится про «прелесть надрывчика», про лакеев, которые в России любят летними вечерами играть на гитаре, про женщину, отравленную любовником, которого она содержала, — уж не Свидригайловым ли? — про бутафорские кабаки, где ведут застеночные беседы о мировых проблемах, и, с особенным нажимом, про «бледные страницы всех философий», исходящих из признания Бога. Для героя Сирина они «как пена давно разбившихся волн».
Приписать эти выходки только герою, сказав, что автор просто изображает некий человеческий тип, который ему ничуть не ближе и не симпатичнее, чем был любезен Достоевскому Парадоксалист «Записок из подполья», очень соблазнительно. Однако для этого нет оснований ни в романе, ни в последующих, впрямую от Набокова идущих интерпретациях наследия Достоевского. За два года до того как «Отчаяние» появилось по-английски (это произошло в 1966-м), в интервью «Плейбою» Набоков еще раз проехался по адресу этого писателя, особо отметив, что «его чувствительных убийц и душевных проституток невозможно вынести и одной минуты». Это почти прямая цитата из монологов Германа, не испытывающего при мысли о жертве никакого содрогания. Ему вспоминаются лишь задубевший ноготь на большом пальце Феликса и «нелепый, безмозглый автоматизм его покорности».
Хотя в интервью Набоков обычно пытался дискредитировать Достоевского главным образом как «неряшливого» писателя (при этом, как было показано американским исследователем Сергеем Давыдовым, кое-что заимствуя из приемов построения рассказа, использованных в «Преступлении и наказании», в частности, нечетное количество глав, разбивающее зеркальную симметрию, которой страстно добивается герой-рассказчик), на самом деле спор этот касался преимущественно не эстетики, а мира высших ценностей, соотносимых с искусством. Лекции не оставляют на этот счет никакого сомнения, потому что в них самые ядовитые стрелы припасены для того, чтобы поразить не беллетриста Достоевского, а Достоевского-пророка, раздражающего Набокова «упоением трагедией растоптанного человеческого достоинства». Объективному слушателю и читателю лекций придется отметить для себя, что лектор повторил те плоско тенденциозные суждения о Достоевском, которые ведут свою генеалогию от народнической критики во главе с Михайловским, любителем потолковать о «жестоком таланте» и неуместных надрывах, когда надо «дело делать». А порой лектор говорит едва ли не слово в слово то же, что говорило об «Идиоте» и «Братьях Карамазовых» официозное, вооруженное «ленинской методологией» советское литературоведение.
«Отчаяние» уже предуказывало подобное развитие связанного с Достоевским сюжета. Этот роман особенно ясно показал, что проза Сирина — явление качественно иной природы, чем та русская классика, в которой главенствует, говоря толстовским языком, «нравственное отношение к предмету». Одна и та же или, во всяком случае, схожая тема развивается в истории Раскольникова и в «Отчаянии», однако с принципиально различным итогом. У Достоевского итог определен нравственными уроками рассказанной истории и тем духовным потрясением, которое переживает ее герой (оно необходимо как пролог грядущего восстановления погибшего человека — истории, вслед первому роману из «великого пятикнижия», в различных версиях повторенной так часто, что можно говорить о сквозной и доминирующей теме). У Сирина итог катастрофичен по причине творческой несостоятельности персонажа с яркими художественными амбициями, и вся проблематика перемещается в область эстетических категорий. Не следует, отметив это перемещение, заключать, что Сирин к этическим проблемам вообще оставался равнодушен или — подобное заключение было бы и вовсе странным — что он не принимал всерьез моральные критерии, уподобляясь каким-нибудь провинциальным денди, каких в годы ранней юности мог наблюдать в петербургских артистических салонах, где царили доморощенные последователи Оскара Уайльда. С такой публикой у него никогда не возникало ни чувства взаимопонимания, ни тем более ощущения душевного родства. Всю жизнь Набоков испытывал нелюбовь к декадансу: и как к умонастроению, определявшему характер эмоций вкупе с поведенческими нормами, и как к эстетике, более всего на свете страшащейся естественности, органичности, завершенности, полноты художественного образа. Умонастроение не передалось ему вовсе. С эстетикой дело обстояло сложнее — и неприязнь к Достоевскому, переросшая в решительный отказ считаться с литературой крупных этических коллизий как с художественным фактом, выдает скорей всего не сознававшуюся самим Набоковым зависимость как раз от декаданса. От Уайльда, который первым объявил (не сделав ни одной оговорки), что «всякое искусство совершенно бесполезно».
В своем предисловии к английской версии «Отчаяния» Набоков, с явным нажимом на эту «бесполезность», особо подчеркнул, что его книга «ничем не отвечает на социальные запросы современности, не содержит никакой истины, которую могла бы, виляя хвостом, донести до читателя». К 1966 году, когда это писалось, подобные разъяснения и автокомментарии успели стать почти обязательным атрибутом практически любого набоковского высказывания, относилось ли оно к оценке других писателей или к собственному творчеству. Скучные своей предсказуемостью (хотя, порассуждав о «бесполезности», Набоков счел нелишним указать, что его героя «Ад никогда не помилует»), они не остановили тех интерпретаторов и перелагателей, которые обнаруживали в его прозе именно «социальные запросы» и были в этом правы — хотя бы отчасти. Их правоту доказал Райнер Вернер Фасбиндер, немецкий кинорежиссер, который экранизировал «Отчаяние» в 1978 году.
Набоковское предисловие упоминает о «весьма существенном пассаже», который «по глупости был исключен в более застенчивые времена». Этот пассаж занимает почти две страницы: супружеская спальня, соитие, двойник Германа, наблюдающий за «очень активной парой» как бы в театральный бинокль, причем присутствие другого лишь усиливает яростные восторги Германа и повышает в цене пухлые прелести его половины. Фасбиндер нашел в этом эпизоде ключевую метафору для своей интерпретации романа. Главенствующий смысл в ней принадлежит мотиву мертвенности, механичности, бездушности существования, проникающей даже в такие сокровенные пределы, как эрос. Заняв кресло в углу, двойник бесстрастно наблюдает кукольное исступление на брачном ложе, над которым красуется фотография Гитлера, — ход, как будто бы невозможный в художественном мире Набокова, старательно изолируемом от злобы дня, однако вполне естественный, если считаться с датами, фигурирующими в романе: 1930, 1931. Штурмовики, свастика, зримые приметы катастрофы, которая приблизилась вплотную, весь этот тщательно воссозданный ландшафт немецкой будничности в ту пору, когда Герман озабочен своей состоятельностью как художника (но испытывает ее методами, естественными для криминальной среды), не вульгаризирует замысел Сирина, а лишь придает ему необходимую соотнесенность с историей.
В романе Герман представлен и как своего рода бунтарь против радикального несовершенства мира, отказавшего ему в самом главном — в подлинной, реальной творческой способности, без которой существование пусто. Он оказывается пусть жалким, но все-таки подобием тех метафизических бунтарей, которые составили галерею бессмертных характеров Достоевского. У Фасбиндера бунт показан не как жест непримирения с судьбой, обделившей героя столь ему необходимым чувством своего соответствия творческому призванию, но как попытка вырваться за пределы механистичности, мертвенности, с которыми Герман поминутно сталкивается, — и как заведомая неосуществимость подобных стремлений.
Дирк Богарт, играющий Германа, увидел в нем не маньяка, не самозваного гения, чьи претензии будут жестоко развенчаны, не фанатика, одержимого безумной идеей, а человека, ставящего опасный опыт над самим собой: он пробует существовать как бунтарь, тогда как по природе остается обывателем, и не двойник, им выдуманный, а это доподлинное раздвоение становится предметом его мучительных рефлексий. Через замутненное стекло Герман смотрит на мир, укрытый пеленой дождя со снегом, едва угадывающийся в смутных очертаниях, таящий в себе какую-то угрозу: символика, появившаяся в самом начале фильма, пройдет через всю картину, придавая ей стилистическую и философскую целостность.
Герой постоянно чувствует рядом с собою стекло, зеркало, отражающую поверхность: стеклянные перегородки загроможденного шоколадными фигурками интерьера, стеклянная клетка, в которой стучит на машинке секретарша его офиса. Грубое стекло аквариума, где сонно плавают рыбы. Наконец, осколки витрины, разбитой сапогом штурмовика: тоже в своем роде вторжение кипучей жизни, улицы, по которой грохочут кованые подошвы, в искусственно упорядоченный, анемичный мир вещей за зеркальным окном. Но и вторжение той реальности, которая заставляла содрогаться людей, мало-мальски понимавших, к чему ведет стремительный ход немецких событий.
«Все — обман, все — гнусный фокус, я не доверяю ничему и никому», — возвещал Герман, передразнивая Ивана Карамазова, возвращавшего билет в Царство Божие, которого для сиринского героя просто не существует. Этот герой никогда не примирится с положением раба Царя Небесного, «даже не раба, а какой-то спички, которую зря зажигает и потом гасит любознательный ребенок». Его вызов мироустройству, оказавшемуся «гнусным фокусом», закончится визитом заподозрившего что-то неладное французского полицейского в городишке, где Герман намеревался пересидеть неделю-другую, а потом привести к блистательному завершению свой грандиозный план. И вот он испытывает отчаяние, стоя «над прахом дивного своего произведения», которое погибло из-за дикого, невозможного просчета — как же угораздило забыть про эту злосчастную палку! — и вовсе не думает о том, что сюжет гениально задуманной повести был, говоря без обиняков, бесчеловечным. К сюжету он вообще безразличен, его волнует только исполнение.
Однако самого Сирина жизнь очень скоро заставит считаться с характером сюжетов, которые она будет навязчиво предлагать.
Первый вариант «Отчаяния» был закончен в сентябре 1932-го. Ровно через четыре месяца, 30 января 1933 года, рейхсканцлером сделался Гитлер. Еще через полтора года, объединив посты рейхсканцлера и президента, бывший ефрейтор стал диктатором нацистской Германии.
Значение случившегося было не всеми и не сразу осознано. Если общие положения нацистской доктрины не составляли никакой тайны и, разумеется, не могли внушать каждому, кто не поддался истерии шовинизма, ничего, кроме брезгливости, то первое время маловероятной казалась возможность их практического применения в европейской стране с глубокими культурными традициями. За эту наивность пришлось дорого расплатиться всем, кто не уехал сразу.
Набоковых происходившие в стране перемены задели довольно скоро. Во-первых, Германию покинули практически все еврейские семьи, а это означало резкое сокращение числа учеников, тем самым — и сокращение семейного бюджета. Во-вторых, закрылась фирма, где Вера Набокова служила секретаршей на неплохом окладе: хозяева были неарийцами, а режим сразу начал призывать к бойкоту еврейских предприятий и магазинов. У дверей лавок, принадлежавших тем, чьи фамилии раздражали нордический слух, уже дежурили рослые юноши в черной униформе, настойчиво рекомендуя покупателям проходить мимо. С марта начались ежедневные погромы, а скоро заработали и первые концлагеря.
Костры из книг запылали весной: Вера Набокова вспоминала, как захлопывала окна, чтобы не слышать патриотических песен, под которые возбужденная толпа на площади швыряла в огонь тома, признанные вредоносными. Какое-то время удавалось находить случайную работу: стенографисткой на конгрессе, переводчицей на деловой встрече. Но каждый раз все сложнее было обойти основную трудность, связанную с тем, что в девичестве госпожа Набокова носила фамилию Слоним.
Сильно поредевшую русскую колонию пока не трогали, но было ясно, что это только вопрос времени. В колонии нашлись свои энтузиасты нового порядка, и среди них — убийца Владимира Дмитриевича, давно выпущенный из тюрьмы. Он уже расхаживал в нацистской форме и быстро делал политическую карьеру. Другие предпочитали не демонстрировать профашистские симпатии так открыто, однако выбор сделали твердо и окончательно. Когда в конце 1933 года стало известно, что получивший Нобелевскую премию Бунин на обратном пути остановится в Берлине и следует устроить чествование, некто Парамонов, владелец нескольких больших гаражей, ссудил порядочную сумму на аренду зала, однако потребовал, чтобы на трибуне «не было ни жидов, ни полужидов». Речь шла об Иосифе Гессене, редакторе уже закрывшегося «Руля», и о Набокове. Оба сочли не только честью, но долгом непременно присутствовать и выступить.
Условия делались все хуже месяц от месяца. В Берлине стало негде печататься, деньги кончились. Да и редкие контакты с «берлинскими туземцами» становились для Набокова в тягость. «Громкий Гитлер» назойливо напоминал о себе не только вездесущими портретами, но и прямыми отголосками произносимых им речей. Воинственные выпады, которыми они были густо уснащены, в обывательской среде отзывались все более нескрываемыми угрозами по адресу всех, кого не заботит возложенная на Германию великая миссия. А его нападки на «дегенератов», как именовались художники, чуждые нацистской идеологии, делали само занятие искусством небезопасным, особенно для лиц, лишенных всяких гражданских прав.
Летом 1933-го Сирин написал рассказ «Королек», который выразительно передает будничную атмосферу начальной поры гитлеровского правления. Был в Берлине бедствующий русский живописец Мясоедов, что-то вроде непризнанного гения Васьки Перебродова, который упомянут в «Отчаянии»: он пешком пришел в немецкую столицу из Данцига и перехватил у деверя Германа, пьяницы Ардалиона двести марок — «дело чести». Этого Мясоедова уличили в том, что он, искусный рисовальщик, занялся изготовлением фальшивых купюр. Был скандальный процесс, о котором много писали в газетах. Год с небольшим спустя Мясоедов превратился в поляка Романтовского из сиринской новеллы, в «королька», как на жаргоне называют фальшивомонетчика. Автору искренне жаль, что герой выбрал такое опасное и антихудожественное ремесло: пользоваться талантом для того, чтобы разрисовывать банкноты, — еще более откровенное издевательство над искусством, чем преступный замысел Германа. Как грустно, что в мире «распадается гармония и смысл», что в нем царит «пестрая пустота».
Ведь до самой последней страницы рассказа читатель почти уверен, что новый жилец мрачного дома с балкончиками, откуда на него пристально смотрят двое пучеглазых мужчин, братья Густав и Антон, — это поэт, философ, книгочей, которого только бедность заставила обосноваться в черном квартале. На самом деле он по социальному статусу такой же человек дна, как все здешние, но все-таки инстинкт не обманывает, нашептывая им: чужак. Он впрямь не вписывается в понятное братьям, одобренное ими устройство мира, при котором «всяк будет потен, и всяк будет сыт. Будет работа, будет что жрать, будет чистая, теплая, светлая…» — да еще с ковром, с буфетом. Густав непременно всем этим обзаведется, женившись на своей большеротой Анне, у которой анатомический смех и блестящее рыжее оперение под мышками.
Романтовский — хилый, запуганный, мечтающий только о том, чтобы его оставили наедине с собой, — явно из «бездельников, паразитов, музыкантов», которым воспрещен вход в этот близкий рай. Увидев его у книжного лотка, убедившись, что ночью у него допоздна горит свет, братья уже точно знают, что между им и ними полная несовместимость. И хотя жилец пытается скрыть вызываемую соседями («огромные… с бессмысленными говяжьими голосами, с отхожим местом вместо мозга») дрожь унизительного страха, от их тупого взгляда его ужас не ускользнет. Ясно, что последует дальше: темный пустырь, несколько особенных, скользких звуков, оставшееся на земле тело. И только одно необычно: Романтовский — как он смел не походить на сотни таких же, как они! — перед смертью выкрикнул несколько слов по-польски. Для братьев уже этого достаточно, чтобы исчезли любые сомнения насчет собственной правоты.
Подобный социальный тип, поднявшийся со дна вместе с ростом фашизма, и порядок вещей, обеспечивающий все условия для его стремительного возвышения, вызывал у Набокова острый интерес, который был, разумеется, не только эстетическим. В «Других берегах» он вспоминает одного немецкого студента, которому за плату помогал с письмами по-английски, писавшимися кузине в Америку. Тихий очкарик, гуманитарий, бесцветная единица статистики. И лишь одно выделяло Дитриха среди тысяч таких же: он коллекционировал фотографические снимки, на которых запечатлены казни. Момент, когда с плеч осужденного скатывается голова, этот собиратель изображений декапитации воспринимал как высокое эстетическое зрелище. Похоже, даже черпал в нем некое вдохновенье. Спрятанный в рукаве макинтоша фотоаппарат жадно ловил кульминационные моменты повешений и гильотинад, а самой заветной мечтой Дитриха было путешествие в Америку, чтобы своими глазами увидеть, что происходит на электрическом стуле, когда привязано тело и поворачивают рубильник. Какой восторг — «прекрасная атмосфера той полной корпоративности между палачом и пациентом, которая… заканчивалась феноменальным гейзером дымчато-серой крови».
О милом Дитрихе ничего не известно, помимо посвященной ему странички набоковской автобиографии, которая заканчивается пригрезившейся автору картинкой собрания нацистских ветеранов в каком-нибудь избежавшем бомбежек уютном городке: его знакомец под одобрительный гогот своих товарищей демонстрирует чудесные снимки, доставшиеся так неожиданно и дешево, пока шла война. Может быть, «дизер Дитрих» — продукт воображения, уж очень естественно он вписывается в ландшафт и колорит того романа, который Сирин писал летом 1934 года. Там, в этом романе, есть персонаж, которого зовут мсье Пьер, он палач, обосновавшийся в тюрьме по соседству с жертвой, чтобы лучше к ней присмотреться и как бы с нею сродниться. И у мсье Пьера — знакомое хобби: фотографии. Много фотографий, на которых этот коротышка с необыкновенно развитой мускулатурой предплечий запечатлен то в саду с огромным помидором в руках, то за чтением в качалке, то беседующим с прирученной птичкой. «Как-нибудь я принесу свой аппарат и сниму вас, — сообщает он арестанту, к которому, похоже, искренне расположился. — Это будет весело».
Роман представлял собой нечто необычное для Сирина и по теме, и по жанру, и по характеру повествования. Опубликованная в «Современных записках» год спустя книга называлась «Приглашение на казнь».
За вычетом романа «Камера обскура», который сам он ценил ниже остальных своих произведений, это был первый его русский роман, вышедший (в 1959-м) по-английски, в переводе Д. Набокова с поправками и предисловием автора. В предисловии, как бы загодя ставя барьер на пути тех, кто любит сопоставлять, чтобы поговорить о тенденциях и об эволюции жанровых форм, Набоков сам назвал напрашивающееся имя Джорджа Оруэлла, припечатав автора двух знаменитых антиутопий определением «популярный поставщик идеологических иллюстраций и романизированной публицистики». Таким же упреждающим маневром была издевка над критиками из эмигрантов, которые, прочтя роман, усмотрели в нем присутствие Кафки. Набоков оповещал их о своем незнании немецкого, полном невежестве по части современной немецкой литературы, а также о том, что «Замок» и «Процесс», книги, безусловно, выдающиеся, стали ему известны, когда «Приглашение на казнь» уже появилось в печати.
Впрочем, одно влияние — любопытным образом никем не замеченное — он готов был признать: влияние Пьера Делаланда, автора трактата «Слово о тенях», откуда взят эпиграф к книге (цитата из того же автора приводится и в романе «Дар»). Это мистификация, никакого «волшебного» Делаланда, как о нем говорится в предисловии к английскому изданию «Приглашения на казнь», не существует. Набоков его выдумал с единственной целью высмеять будущих критиков. И заодно прекратить любые разговоры о мнимом подражании Кафке.
Подражания и не было, однако какая-то перекличка с миром австрийского писателя все-таки ощутима, и сомнительно, чтобы она оказалась самопроизвольной. В том, что немецкий язык Набоков знал гораздо лучше, чем можно предположить по его высказываниям на этот счет, трудно сомневаться, прочитав лекцию о Кафке. Американский издатель лекций заглянул в принадлежавший Набокову томик Кафки и обнаружил на полях критический отзыв об английском переводе, в котором утрачен «чудесный плавный ритм» оригинала: как бы смог его оценить не знающий немецкого лектор?
Лекция вообще убеждает, что творчество Кафки (хотя оно рассматривается в привычной для Набокова системе понятий, которая требует непременно противополагать «литературу» и «святость», словно они несовместны) читавший ее изучил основательно. Конечно, лекция специально готовилась и для нее многое было прочитано впервые, но как-то не верится, чтобы, разрабатывая курс, в который входил и Кафка, Набоков начинал с чистого листа.
Он, правда, разбирает не «Процесс», а знаменитую новеллу «Превращение» и делает вывод, что Кафка соприроден Гоголю: у обоих «абсурдный герой обитает в абсурдном мире, но трогательно и трагически бьется, пытаясь выбраться из него в мир человеческих существ». О Цинциннате, герое «Приглашения на казнь», может быть сказано в точности то же самое. Это истинно кафкианский персонаж, если принять интерпретацию, предложенную Альбером Камю, для которого Йозеф К. из «Процесса» — типичный «герой абсурдного творчества»: «Он живет, и он приговорен. Он узнает об этом с первых же страниц романа, неуклонное развитие которого есть его жизнь, и хотя он противится такому исходу, ничего удивительного в нем не видит».
Зачин обоих романов, «Процесса» и «Приглашения на казнь», в сущности, идентичен. Первая фраза у Кафки: «Кто-то, по-видимому, оклеветал Йозефа К., потому что, не сделав ничего дурного, он попал под арест». А у Сирина: «Сообразно с законом, Цинциннату Ц. объявили смертный приговор шепотом» (что до Йозефа К., его приговор даже исполнен будет анонимно — двумя господами, чьих лиц не видно, на каком-то пустыре под покровом тьмы). Ни тот, ни другой персонаж не ведают, за какую провинность карает их закон, но объяснений, обоснований и не требуется. Как раз в том, что обоснования отменены, может быть, и заключается сущность того устройства мира, которое изображено, вспоминая Достоевского, под знаком «фантастического реализма».
Как бы он ни поносил Достоевского, сиринская зависимость от него в «Приглашении на казнь» выступила (уже при описании камеры Цинцинната, где, кроме узника, обитает прожорливый паук — в точности свидригайловский образ вечности как баньки с пауками) столь же ясно, как в «Процессе» — зависимость от «Преступления и наказания», которой Кафка, впрочем, не стыдился и не скрывал. Оба они, и русский писатель, и австрийский, показывают анонимную бесчеловечную субстанцию, которая именуется социумом и навязывает свои патологические законы в качестве единственно мыслимых норм. И оба пошли по проложенному Достоевским пути дальше.
Для Достоевского сохраняют определяющий смысл понятия вины, воздаяния и искупления. То, что Цинциннат в последние свои минуты перед казнью постигает как «ложную логику вещей», было обыденностью в подпольном мире, где обретается Парадоксалист, и в следственной части, где служит Порфирий Петрович (чья фигура — «полный и даже с брюшком… пухлое, круглое и немного курносое лицо… довольно бодрое и даже насмешливое» — все время маячит где-то поблизости при описании мсье Пьера, он же Петр Петрович: «безбородый толстячок лет тридцати» с пухлыми руками и длинными ресницами, бросающими тень на херувимскую щеку. У Порфирия тоже какие-то необычные ресницы: почти белые, моргающие, они оттеняют странный взгляд, совсем не гармонирующий с его фигурой, «имевшею в себе даже что-то бабье»). Но эта ложная логика, эта галлюцинация, почитаемая естественным состоянием, а вовсе не маскарадом, в мире Достоевского не обладает универсальной властью: этические коллизии ею не отменены и не приглушены. Раскольников сам вершит над собой моральный суд, и вынесенный им приговор был бы ничуть не менее суровым даже без ухищрений Порфирия, который лишь добыл фактические доказательства его виновности, но мог и не трудиться, поскольку преступника все равно замучит совесть.
Ситуация, обрисованная на страницах «Процесса», уже совсем иная: Йозеф никакой вины за собою не чувствует, однако, не в силах примириться с мыслью, что его казнят действительно ни за что, он принимается изобретать преступление, которого не совершал: если оно будет найдено, бессмыслица происходящего, возможно, перестанет им восприниматься как — в полном значении слова — убийственная. Первым слушателям «Процесса», который Кафка, до конца жизни не решившийся отдать роман издателям, читал, пригласив двух-трех друзей, книга показалась смешной, поскольку мотивация поведения Йозефа выглядела как невероятная. Они, конечно, не могли предвидеть жизненных подтверждений, которые появятся во множестве вместе с ростом тоталитарных режимов и совершенствованием методологии публичных расправ. Когда вызрел замысел «Приглашения на казнь», и эти режимы, и созданные ими карательные методы сделались неотъемлемой частью социального ландшафта. «Процесс» никому бы уже не показался изобретательно и забавно придуманной сказкой. Однако книге Кафки и на самом деле присущ жестокий комизм, и нужен он не в качестве контрастного фона, которым оттенен масштаб описанной трагедии. Наоборот, он нужен для того, чтобы показать трагедию как будничность, как привычное событие, почти уже не воспринимающееся всерьез, а значит, утрачивающее величие, прежде всегда ему присущее.
О Кафке часто говорят, что у него был особый дар предвидения, и тоталитарное общество он описал еще до того, как оно обрело реальные контуры. Справедливо, но при одном уточнении: подобным предвидением поражают и некоторые другие книги, тогда как только Кафка увидел фундаментальную особенность нового миропорядка в этом намеренном, последовательном опошлении трагедии. Ныне она банальность, приевшийся анекдот, где и мало-мальски свежие подробности быстро становятся тривиальными.
В «Приглашении на казнь», написанном через двадцать лет после того, как Кафка приступил к «Процессу», размытость границ между трагедией и гнусным фарсом придает переживаниям Цинцинната, приговоренного к казни, особую мучительность, так как для него недостижимо самое главное: покинуть мир с сознанием, что он трагический герой. Как главный персонаж истинной трагедии он должен бы обладать, пусть даже ошибочной, но четко проявленной моральной позицией и оттенком величия, которое заключает в себе его судьба, но ничего этого нет — ни величия, ни позиции. Есть только камера с пауком, который окажется игрушкой, подделкой — как и все остальное, за вычетом самого существенного: на площади, носящей название Интересная, действительно возведен эшафот с плахой в виде плоской дубовой колоды.
Фарс разыгрывает мсье Пьер, под видом смертника занявший соседнюю камеру: в точности как Порфирий Петрович, добиваясь отношений «близости… терпения и ласки» между приговоренным и палачом, он затевает настоящее клоунское представление со стойкой на руках, с поднятым зубами стулом, с напудренным директором тюрьмы в ботфортах, который бешено аплодирует его номерам. Фарсом становится посещение узника его семейством, явившимся с домашней мебелью (а жена, Марфинька, и с очередным любовником) и занявшимся выяснением материального вопроса, пока старший из детей предавался любимому занятию, незаметно душа кошку. Чистой воды фарс и посещение Цинцинната матерью, которой смертник должен напоминать: «Помните, что тут драма. Смешное смешным — но все-таки…» В последней главе, когда подан запряженный клячей экипаж, которому предстоит проследовать на Интересную, слетают с окон решетки, раскалываются трещинами стены, сторож Родион стаскивает с себя бороду и лохматую шапку волос, а директор, из Родрига Ивановича ставший просто Родей, и адвокат Рома являются в серых рубахах, в опорках: «без всякого грима, без подбивки, без париков».
Прием, выдержанный на протяжении всего романа, обнажен в заключительном эпизоде, и этим как будто подтверждается правота Ходасевича, которому именно «Приглашение на казнь» дало основные аргументы для утверждения, что истинная тема Сирина — жизнь приемов: «С окончанием их игры повесть обрывается». Совершенно не важно, отрубили Цинциннату голову или нет (финал, когда герой, спустившись с рушащегося помоста, направляется «в ту сторону, где, судя по голосам, стояли существа, подобные ему», поддается самым разным толкованиям). И вообще неправомерны попытки искать в книге некое «идейное единство», так как имеет значение лишь другая целостность, стилистическая, — ради нее вьется эта «цепь арабесок, узоров, образов». Авторитет Ходасевича помог укрепиться схожим толкованиям настолько, что забылось время и место написания книги, да и ее явная необычность на фоне всего, что Сирин создал прежде. Забылось, что Цинциннат уж явно не художник: в отличие от Лужина, даже в отличие от Германа. Из-под его пера может выйти только письмо (и то оборванное, едва лишь непроизвольно вырвалось запретное слово «смерть»), А в этом письме — Родя/ Родриг /Родион смахнет его вместе с другими бумагами, выметая сор из опустевшего помещения, — прорывается крик затравленного, почти обезумевшего от страха человека, которому не до приемов и не до их метаморфоз в сознании художника: «Все сошлось, то есть все обмануло, — все это театральное, жалкое… Все обмануло, сойдясь, все. Вот тупик тутошней жизни, — и не в ее тесных пределах надо было искать спасения. Странно, что я искал спасения».
Помнящим житейски необъяснимую пассивность, с какой вел себя в катастрофической ситуации Йозеф К., — а ведь можно было, вняв совету дяди, уехать в деревню, чтобы переждать несчастье, — трудно подавить ощущение, что между героями Кафки и Сирина есть какое-то глубокое сродство. Дело не во влиянии первого писателя на второго, а в соприродности мирочувствования, которое вызвало к жизни «Процесс» и «Приглашение на казнь». Устав от ожидания все откладываемой и откладываемой экзекуции, Цинциннат думает, что напрасно пытался внести хоть какую-то упорядоченность в эту стихию «неопределенного, вязкого и бессмысленного». Так и Йозеф, почувствовавший, что ему не удастся изобрести собственного преступления, смиренно следует за двумя вежливыми господами, которые проводят его к пустой, заброшенной каменоломне, где произойдет развязка. Горячечное видение или реальность этот нож, который второй из провожатых дважды повернул в сердце Йозефа, этот нежданно рухнувший в облаке красноватой пыли помост с плахой, когда Цинциннат словно растворяется в винтовом вихре, — вопрос, по существу, неправомерный, если считаться с тем, что мир, описанный в обоих произведениях, отрицает логику и смысл: лишь бесчеловечность неизменно остается его определяющим свойством. Все обмануло, но и все сошлось — на той точке, когда жестокость без всякого внешнего повода и без отброшенных за ненадобностью оправданий превращается в вязкую, обволакивающую стихию.
Посетивший камеру тесть обрушивается на Цинцинната: «Изволь мне объяснить, как ты мог, как смел… как не одумался, злодей?» — но наивно было бы предполагать, что хотя бы намеком читателю будет сообщено, когда и каким именно образом узник переступил черту, определенную законом. Шурин рекомендует: «Покайся, Цинциннатик. Ну, сделай одолжение. Авось еще простят?» — но остается загадкой, в чем именно ему каяться. После Кафки подобный перевертыш — не наказание за преступление, а напротив, изобретенное преступление, ибо в нем нуждается система наказания, на которой стоит порядок вещей в мире, — для литературы уже не новость (к середине 30-х годов ситуация не была чем-то исключительным и в европейской реальности). Но у Сирина, по сравнению с «Процессом», сделан следующий шаг: проблема своей вины, если и занимает Цинцинната, то в гораздо меньшей степени, чем Йозефа. Герой Кафки чувствует какую-то чудовищную нелепость в том, что стоит перед судом, ничем не спровоцировав свои злоключения. Цинциннату в схожей ситуации открываются другие смыслы: «Ошибкой попал я сюда — не именно в темницу, — а вообще в этот страшный, полосатый мир».
В мире этом ему уготованы только «беда, ужас, безумие, ошибка», и все из-за «гносеологической гнусности», из-за некой его, Цинцинната, «непроницаемости, непрозрачности», — из-за того, что герой не вписывается в окружение, оставаясь непозволительно другим и в своем семействе, и в этом городе, где с любой точки ясно видна крепость-темница, и рядом с Родригом Ивановичем, Родионом да Петром Петровичем, которые составили его тюремное общество. И другой он — это, видимо, имело в виду важное лицо, делая на него «донос второй степени», — по той причине, что из всех персонажей романа один Цинциннат, при всей его приземленности и негероичности, сохраняет сознание, в котором не воцарились «бред», каламбур, сплошная деформация, или же, по Достоевскому, «скверный анекдот». Все то, что полностью себе подчинило вязкую бессмыслицу жизни, как она показана в «Приглашении на казнь».
Словами о «бреде», ставшем действительностью, увенчивал свой разбор романа один из лучших эмигрантских критиков Петр Бицилли — он писал о «Приглашении на казнь» несколько раз. Для него это была книга, передающая «удивление, смешанное с ужасом перед тем, что обычно воспринимается как нечто само собой разумеющееся и смутное видение чего-то лежащего за всем этим „сущего“. В этом — сиринская Правда». Присутствие Правды, постижение, что за «бредом» реальности все-таки есть нечто «сущее», или же истинное, Бицилли связывал с тем, что в романе Цинциннат волей автора лишен индивидуальных свойств и намеренно представлен олицетворением вечных человеческих качеств, оказываясь в вечно повторяющейся ситуации преследуемого и казнимого без всякой вины, просто за то, что он носитель человеческого начала среди абсолютной и всесильной бесчеловечности. Такие персонажи-олицетворения, при помощи которых автор непосредственно затрагивает область конфликтов, повторяющихся из века в век, словно бы существование людского рода без них немыслимо, были приметой старинного жанра аллегории. Бицилли казалось, что Сирин возвращает к жизни этот средневековый жанр, поэтому одну свою статью о сиринском романе критик так и назвал — «Возвращение аллегории».
Отвлеченно рассуждая, он был во многом прав, а статья у него вышла блестящая, далеко перекрывшая литературную тему, которая в ней обсуждалась. Однако «Приглашение на казнь» Сирин писал в совершенно конкретной социальной ситуации, а она располагала не к иносказаниям, но к точным суждениям и, главное, действиям — просто чтобы выжить. Эти усилия вскоре поглотят его энергию почти без остатка, и в своем роде чудо, что именно в таких условиях им будет написан «Дар», лучший его русский роман.
Но зато, о Россия, сквозь слезы,
сквозь траву двух несмежных могил,
сквозь дрожащие пятна березы,
сквозь все то, чем я смолоду жил,
дорогими слепыми глазами
не смотри на меня, пожалей,
не ищи в этой угольной яме,
не нащупывай жизни моей!
Материалы для «Дара» Набоков начал собирать с зимы 1933 года. В замысел поначалу он не посвящал никого, лишь год спустя кое-что было сообщено Ходасевичу. Тот, должно быть, с немалым удивлением узнал, что Набоковым за последнее время перечитаны сочинения Чернышевского, а также горы книг о нем и вообще о шестидесятниках. Стараясь сохранить объективность, Набоков признавал за будущим героем жизнеописания, которым занят в романе его автобиографический главный персонаж Федор Годунов-Чердынцев, настоящее мужество и даже находил трогательные места, там и сям рассыпанные по его сочинениям. Но все же не удержался и привел презрительный отзыв о Чернышевском литературного новичка Льва Толстого: «клоповоняющий господин».
Знакомство с Ходасевичем состоялось на его парижской квартире в октябре 1932 года, в первый приезд Набокова для публичных чтений. Русские парижане ожидали его с любопытством. «Защита Лужина» и «Подвиг» привлекли внимание читающих «Современные записки». Критика, особенно Ходасевич, уверенно называла Сирина самым ярким из писателей, которые пришли в русскую литературу после катастрофы, в Рассеяньи. Злой выпад Георгия Иванова, как и скепсис респектабельных, но колючих отзывов Адамовича, лишь подогревали ожидание незаурядного события, которым должен был стать вечер Набокова, назначенный на 15 ноября.
В свою прокуренную квартирку на улице Катр Шемине в Биянкуре, неподалеку от кладбища, где часто хоронили русских эмигрантов, Ходасевич, ожидая визита Набокова, позвал тех, кто ему был близок из парижской литературной среды: поэтов Юрия Терапиано и Владимира Смоленского, критика Владимира Вейдле. Присутствовала Нина Берберова, еще недавно хозяйка этого дома. Много лет спустя, упомянув тот вечер в автобиографии «Курсив мой», она вспомнит папиросный дым, чаепитие, игры с котенком и разговоры, «которые после многих мутаций перешли на страницы „Дара“». На гостя квартиры, где они с Ходасевичем прожили не один год, Берберова смотрела глазами, полными обожания. Еще с тех книжек журнала, где появилась «Защита Лужина», Сирин для нее был, как сказано в автобиографии, «огромный, зрелый, сложный современный писатель», который, «как Феникс, родился из огня и пепла революции и изгнания. Наше существование отныне получало смысл. Все мое поколение было оправдано».
Возможно, тут путаются даты и более поздняя, окончательная оценка выдается за впечатление от первого знакомства. Но все-таки свидетельства Берберовой обладают большой ценностью. Кажется, она единственная описала набоковские чтения в мрачном зале «Лас-Каз», происходившие и в ту первую поездку, и во вторую, через четыре года. Зал, вмещавший около 160 человек, заполнялся целиком. Молодые располагались сзади и слушали читающего холодно, угрюмо — кто-то откровенно завидовал его растущей славе, кто-то искренне думал, что эта проза по всему своему художественному строю чужая русским традициям. Те, кому было под пятьдесят, ценили и подчас даже восторгались, хотя тоже со вздохами: «непонятно». Истинную меру дарования Набокова и особое его положение в литературе постигали немногие, на взгляд Берберовой, пожалуй, лишь они с Ходасевичем. Другие так и не осознали, что принадлежит этот автор «не России только», а всему миру, что нельзя о нем судить по мерке «национальной психологии», которая для него «перестала быть необходимостью». И что он среди русских писателей первый, кто приучил открывающих его книги перенимать, сострадая или негодуя, не переживания героя, но мысли, взгляд, жизненную тему самого автора. Тема определена так: «изгнанничество и поиски потерянного рая, иначе говоря — невозможность возвращения рая». Берберовой кажется, что она зародилась еще в «Машеньке» и, претерпев разные метаморфозы, осталась центральной вплоть до написанного в 1962-м «Бледного огня». Можно было бы продолжить: «Ада», «Посмотри на арлекинов!» тоже повествуют об изгнании и невозвращении. Хотя и о многом другом.
Вейдле, еще один приглашенный Ходасевичем, когда принимали Набокова, тоже по прочтении «Защиты Лужина» написал, что «это более западная, чем русская, книга» и что «порицать Сирина за это никак нельзя. Во-первых, русская литература не ограничивается тем, что мы до сих пор считали русским, а во-вторых, очень вероятно, что путь Сирина именно и есть для всей будущей русской литературы единственно возможный путь». Угрюмая реакция задних рядов на набоковских вечерах не означала непонимания, она могла означать лишь неодобрение, однако далеко не всеобщее. Тот же Вейдле — по возрасту, по литературной биографии его следовало числить среди молодых — много раз писал о Сирине, всегда отмечая «богатство воображения, щедрость выдумки, напор тысячи вещей, с силой выбрасываемых наружу… все пущено в ход, поднято, округлено как бы внезапным волевым усилием». Его ничуть не смущало, что русская читающая публика не привыкла «к этим встряскам, резким поворотам, подчеркиваниям, ударам хлыста». Вейдле был убежден, что, помимо всего остального, Сирин создает собственного читателя. И верил, что для литературы это благо.
Его статьи в крупной газете «Возрождение», где много лет печатал критические обзоры и Ходасевич, конечно, были известны Набокову, знавшему, что почитателей у него в Париже довольно много. Постепенно он с ними знакомился: с быстро дряхлевшим, спивающимся Куприным, с Юрием Фельзеном, одаренным молодым прозаиком, чьи книги «Обман» и «Счастье» были попыткой вслед Прусту превратить прозу в лирический дневник или подробнейшую интроспекцию (автор этих повестей, справедливо считавшийся одной из надежд русской литературы изгнания, погиб в годы оккупации — не то в лагере, не то при попытке бегства в нейтральную Швейцарию). Было возобновлено знакомство с Марком Алдановым, которого Набоков мельком знал еще по Берлину. Вероятно, была и встреча с Евгением Замятиным, который обосновался в Париже с зимы 1932-го, не считая себя эмигрантом и серьезно рассчитывая вернуться, «когда разгуляется». В одном из писем этого времени Набоков просит кланяться Замятину, назвав его «пресимпатичным». Французский перевод запрещенной на родине антиутопии «Мы» он прочел сразу по возвращении из Парижа. Может быть, это чтение не пропало бесследно для исподволь рождавшегося замысла «Приглашения на казнь».
Мысль перебраться в Париж насовсем, судя по письмам жене, становилась все заманчивее. Особенно она окрепла после его вечера, прошедшего под овации после каждого стихотворения, вслед которым были прочитаны две главы из «Отчаяния». Читал он, по воспоминаниям очевидцев, великолепно, совсем не по-актерски, «с очень характерным жестом, левая рука к уху».
На следующее утро некая поклонница из богатых предложила в его распоряжение на четыре месяца свое поместье на юге Франции, неподалеку от Перпиньяна, где когда-то купил замок очаровательный Рука — дядя Василий Рукавишников. Было решено, что он вернется в Париж сразу после Нового года, когда планировалось выпустить французские переводы сразу двух его книг, а затем они с Верой поедут в Пиренеи наслаждаться весенней охотой на бабочек. Однако ведомства, выдававшие визы, думали иначе. С «нансеновским» паспортом, который он получил, как все беженцы, по политическим причинам, согласно решению специальной комиссии Лиги наций, возглавляемой прославленным норвежским путешественником, даже туристические поездки для него, как лица без гражданства, были проблематичными.
Домой Набоков возвращался через Бельгию. Его пригласила, устроив три литературных вечера, княгиня Зинаида Шаховская, поэт, а затем прозаик (прозу она писала и по-французски) и мемуарист. Свою книгу «В поисках Набокова» она выпустила в 1979-м, через два года после смерти ее героя. Торопилась, зная, что набоковских современников, близко с ним общавшихся в годы, когда ничто еще не предвещало грядущей мировой славы, практически не осталось. И кроме того, ее смешило подобострастие, сделавшееся в книгах о Набокове привычной интонацией, «как будто… пишущие не стояли, а предстояли, и не перед писателем, а перед каким-то тираном». Если она думала, что ее мемуары, где набросан живой образ, переменят безудержно апологетический тон, который и поныне преобладает в литературе о Набокове, остается улыбнуться ее простодушию. Но сама эта мемуарная книжка как раз и ценна, помимо приводимых подробностей и фактов, абсолютной непредвзятостью суждений.
Зинаида Шаховская вспоминает «прелестного и живого человека, с которым никогда не было скучно и всегда свободно и весело». Никакой маски, сквозь которую трудно распознать реальные черты, никакой надменности, заставляющей собеседников постоянно чувствовать, что их от Набокова отделяет почтительное расстояние, тогда не было. Шаховским, включая тех членов семьи, которые не имели никакого отношения к литературе, оставались «совсем не понятны разговоры писательской братии о его холоде, сухости и равнодушии, в сущности, об его бесчеловечности». Совсем напротив, Набоков той поры поражал вниманием к людям, едва ему знакомым, как вечно болевший поэт Анатолий Штейгер или некая голландская барышня, которой срочно требовался жених. А о близких — о жившем в Брюсселе младшем брате Кирилле, о матери, чьи денежные дела год от года становились все хуже, — он заботился неустанно, просто не в его силах было основательно им помочь.
Запомнилось «перманентное умиление», которое в нем пробуждал сын, ненаигранная радость прогулок с ним и ухода за младенцем — он писал Шаховской, что гордится исчерпывающими познаниями в искусстве стирки пеленок. Запомнилась «врожденная элегантность, на которую сама бедность отпечатка не накладывает». И разумеется, больше всего запомнился по любому поводу о себе напоминающий острый писательский взгляд, «занятная игра соглядатайства», которой он был увлечен безоглядно.
Быстро сблизившись, они в предвоенные годы были на «ты» и время от времени встречались то в Берлине, где Шаховская, наведываясь по журналистским делам, останавливалась у Набоковых в квартирке на Несторштрассе, то в Брюсселе, то в Париже. Там жил другой брат Набокова, Сергей, с которым они виделись осенью 1932-го и больше, похоже, не встречались — из-за органического отвращения старшего брата к педерастам. Судьба Сергея оказалась страшной: кто-то оклеветал его или выдал в конце войны, когда он работал переводчиком на берлинском радио. Дальше был нацистский лагерь смерти.
Жить в Германии становилось непереносимо, и не только по материальным причинам. Шаховская приводит отрывки оставшихся у нее писем Набокова того времени, в которых главная тема — возможность уехать: во Францию ли, в Англию, в Бельгию, все равно. Но сложности оказывались почти непреодолимыми. Ни английское издание «Смеха во мраке», ни французские переводы этого же романа и «Отчаяния» не принесли коммерческого успеха, хотя в литературных кругах (по крайней мере парижских) имя Сирина было уже известно, а об «Отчаянии» написал, пусть крайне поверхностно, сам Жан Поль Сартр, наиболее известный из молодых покорителей французского Парнаса. Продержаться на гонорары «Современных записок» было нельзя, а других доходов не предвиделось. И все время приходилось удостоверяться в том, что «нансеновский» паспорт действительно не стоит ровным счетом ничего, хотя даже с ним были большие хлопоты, когда требовалось продление.
С появлением Дмитрия бытовые условия стали совсем тяжкими — писать нередко нужно было в ванной, приладив доску. Отложив «Дар», Набоков принялся за перевод «Отчаяния», напечатанный в 1937-м в Англии и не обративший на себя внимания, а кроме того, написал по-французски «Мадмуазель О.», впоследствии сделав этот рассказ о своей гувернантке главой автобиографии. Фрагмент автобиографии одновременно был им написан по-английски, но он затерялся.
Чтения, обычно организуемые при деятельном участии Шаховской, проходили в основном перед французской публикой, которой Набоков явно импонировал. Переезд во Францию стал главной его заботой, в особенности после того, как Веру уволили с последнего места службы, не скрыв, что причина — ее происхождение, и одновременно стало известно о назначении С. Таборицкого, убийцы Владимира Дмитриевича, помощником нацистского чиновника из русских, ведавшего делами, связанными с российской диаспорой в Германии. Был май 1936-го. Набоковым оставалось полгода с небольшим берлинской жизни.
В мемуарах Шаховской есть портрет Набокова этого периода: аристократ, петербуржец, «высокий, кажущийся еще более высоким из-за своей худобы, с особенным разрезом глаз несколько навыкате, высоким лбом… и взглядом… внимательным, любопытствующим, не без насмешливости почти шаловливой. В те времена казалось, что весь мир, все люди, все улицы, дома, все облака интересуют его до чрезвычайности. Он смотрел на встречных и на встреченное со смакованьем гурмана перед вкусным блюдом и питался не самим собою, но окружающим. Замечая все и всех, он готов был это приколоть как бабочку своих коллекций: не только шаблонное, пошлое и уродливое, но также и прекрасное, — хотя намечалось уже, что нелепое давало ему большее наслаждение».
Последнее слово, может быть, и не вполне точно: по крайней мере, оно требует оговорок. Набокову в эти годы пришлось не однажды соприкоснуться именно с уродством, которое постоянно о себе напоминало в окружавшей его немецкой будничности, обретя под его пером несколько ярких художественных отражений. 1937 годом датирован рассказ «Облако, озеро, башня», год спустя написано «Истребление тиранов»: вопреки всем заверениям автора, будто в литературе для него важно, хорошо ли написано, и ничего больше, обе новеллы заставляют задуматься, главным образом, не о том, «как», а о том, «что» в них изображено (хотя отделять одно от другого абсурдно, и делать это приходится лишь вслед Набокову, постоянно прибегающему к подобным противопоставлениям). Едва ли именно такие сюжеты — а они, конечно, впрямую навеяны увиденным в Германии после 1933 года — доставляли наслаждение более изысканное, чем, например, лирический, тронутый ностальгией сюжет чуть раньше написанной новеллы «Весна в Фиальте».
Книга рассказов под этим же заглавием была издана только в 1956-м, в Нью-Йорке, ее составили тринадцать произведений, из которых самое раннее, «Адмиралтейская игла», было напечатано в газете «Последние новости» еще летом 1933-го, а самое позднее по времени, «Василий Шишков», увидело свет там же через шесть лет, уже после начала Второй мировой войны. Книга получилась очень разнообразной по тональности, по стилистике, по характеру коллизий, вокруг которых строится действие. Тут нет длящейся основной темы, как в двух других русских сборниках новелл: в «Соглядатае» и особенно в «Возвращении Чорба». И это не случайность, точно так же как не случайность, что, увлеченный «Даром», Сирин все-таки на полгода оторвался от этой рукописи, чтобы посвятить себя роману «Приглашение на казнь». Если уж говорить о том, что как художник он, всегда предъявлявший себе и другим одни и те же требования, все-таки мог от каких-то тем испытывать наслаждение, а над другими просто трудиться с присущей ему безупречной профессиональной выучкой, то радость должны были приносить «Дар» и другие вещи с более или менее ясно проступающей автобиографической подоплекой — «Круг», «Адмиралтейская игла». Однако время заставляло обращаться и к совершенно иным материям.
У Шаховской приведены отрывки из писем Набокова тех предвоенных лет, когда с адресатом его связывали доверительные отношения. Там часто повторяется одна и та же нота: «Люблю литературу и не терплю примеси к ней». Идеи, политика, философия, социология, религия — все это примеси, которые должны быть беспощадно удалены. Узнаваемость, злободневность коллизий не только не достоинство, а свидетельство слабости произведения, ибо «ничего нет менее правдоподобного, чем подобие правды».
И на страницах «Дара» будут попадаться суждения такого же рода, а в книжке о Гоголе, открывающей американский период творчества Набокова, и затем в лекциях этот мотив станет просто навязчивым. Шаховская не соглашалась: сразу же осознав, что Сирин явление и «никого равного ему среди нас нет», она понимала и причины, побудившие Бунина отозваться об этом прозаике едко, хотя, разумеется, с большой пристрастностью — «чудовище». Ибо мир рушится, а он, считая себя русским писателем, озабочен лишь изысканностью приемов и совершенством ритмов своей прозы.
«Чего-то мне в его произведениях не хватало, где-то был провал», — пишет Шаховская о своих впечатлениях от тогдашних книг Сирина и уточняет, что именно: «Обозначившаяся почти сразу виртуозность и все нарастающая надменность по отношению к читателю, но главное — его намечающаяся бездуховность». Это очень сильное слово, непозволительно сильное по отношению к Сирину. Такое чувство, что Шаховская, рассказывая о Набокове 30-х годов, видела перед собой автора написанных четверть века спустя «Бледного огня» и «Ады». Русскоязычный Набоков был другим.
Он мог убежденно заявлять, что добрые чувства и писанье стихов — явления разной природы, а «отзыв на современность» литературе противопоказан, равно как «духовные запросы». Однако писал он в эти годы прозу, убедительно опровергающую все эти декларации. Вырвавшись из Германии, он осенью 1937-го напечатал в новом журнале «Русские записки» рассказ «Облако, озеро, башня», о котором Шаховской же сказано, что он «гораздо более тонко, а следовательно, и более глубоко, чем даже „Истребление тиранов“, показывает зло тирании». Что до большой новеллы «Истребление тиранов», которая написана год спустя, Шаховской она не нравилась (рядом со свидетельствами очевидцев о Гитлере или о Сталине показалась ей бледной). Однако, как бы ни оценивать рассказ, он создает трудности для обвиняющих Набокова в олимпийской бесстрастности, когда она нетерпима.
Повествование в нем ведет скромный учитель рисования из провинциальной гимназии, которого буквально доводит до безумия ненависть к диктатору, чьи мечты о переустройстве мира по собственному усмотрению, кажется, сполна осуществились. В юности рассказчик знал этого поборника канонизированного единства, удерживающего «на железобетонном престоле неумолимое развитие темных, зоологических, зоорландских идей». Тогда трудно было даже предположить, что эти идеи прельстят целую страну, которая стала такой же Зоорландией, какой, в глазах Мартына из «Подвига», было большевистское государство, поднявшееся на руинах России. И рассказчик не может себе простить, что в далекий день, когда они с будущим властелином оказались наедине, а кругом была глушь, он не выстрелил из лежавшего в кармане револьвера. Ибо «не было бы ничего, ничего из того, что есть сейчас, ни праздников под проливным дождем, исполинских торжеств, на которых миллионы моих сограждан проходят в пешем строю, с лопатами, мотыгами и граблями на рабьих плечах, ни громковещателей, оглушительно размножающих один и тот же вездесущий голос, ни тайного траура в каждой второй семье, ни гаммы пыток, ни отупения, ни пятисаженных портретов, ничего…». Прочитав одно это описание зоорландского социального порядка, кто всерьез отнесется к запальчивым набоковским высказываниям в том духе, что истинному ценителю литературы важны не «чувства, или турбины, или религии», а только безупречность художественного решения? Только «ловкость рук», как, отвечая на письмо с такими уверениями, в сердцах написала его отправителю Шаховская, для которой литературы нет, «если нет стержня и основы».
Но на самом деле стержень в русской прозе Набокова, конечно, был. И был собственный художественный ход, ничего общего не имеющий с построением рассказа в антифашистских книгах, к середине 30-х годов стараниями немецких писателей-эмигрантов уже составивших целую библиотеку. Обычно эти книги описывали прямую конфронтацию с режимом, становящуюся моментом высшего нравственного испытания для тех, кто не поддался шовинизму и сохранил гуманистические верования. Некоторые произведения были созданы людьми, по личному опыту знавшими, что такое нацистская демагогия и какими методами действует гестапо. В этой литературе была неоспоримая фактологическая правда, и никто бы не поставил под сомнение ее благородство, однако постичь истинный характер отношений в тоталитарном обществе и описать возобладавший в нем тип сознания оказалось ей не по силам. Она исходила из убеждения в незыблемости высших ценностей и вечных идеалов, которые попраны грубым насилием, однако в конечном счете непременно восторжествуют, поскольку тоталитаризм несовместим с прекрасной человеческой сущностью. Набоков, при всей своей нерасположенности к полемике вокруг такого рода общих мыслей, разобрался в сути происходящего намного глубже.
Он описал всеобщее исступление и помрачение умов, ставшее неотъемлемым отличительным свойством общества, в котором «оливковым маслом народной любви» покрыты желваки и идущая через весь лоб морщина тирана. Этот укрывшийся за чугунными дверями «пленник воли народа» сумел добиться того, что казалось невероятным гуманистам былых времен: преклонения, которое перед ним испытывают казнимые, энтузиазма, которым пышут униженные. Он обзавелся не только телохранителями и воспевателями — стихи одного из них, с явными пародийными отголосками Маяковского, приведены в новелле, — он завоевал расположение масс, заполнив их убогий мир своими ничтожными идеями. И даже ненавидящие подчинены его воле, потому что ненавистью к нему отравлено в их сознании все — «до последнего солнечного пейзажа, до последнего детского воспоминания».
Мрачная история несостоявшегося (да и невозможного, по всей природе вещей в описываемом социуме) истребления тирана в этом рассказе принимает форму не то исповеди жалкого Гамлета, который проклинает свой гамлетизм («о, лунный олух»), не то притчи с современными обертонами. Рассказ «Облако, озеро, башня» кажется написанным без изысков — просто история какого-то служащего из русских эмигрантов, который выиграл на благотворительном балу увеселительную поездку, оказавшуюся мучением из-за того, что немцы, его спутники, буквально затравили бедного Василия Ивановича, принуждая его неукоснительно выполнять все туристские ритуалы, хотя он вовсе не любитель петь хором или развлекаться, прячась под лавкой, чтобы оттуда пальцем лезть под юбку задастой девки с огромным ртом. Шаховская в своей книжке особо отметила этот рассказ как неподражаемо точную картину общества, где торжествует принцип «цузаммен марширен» — все в ногу. Василий Иванович, вздумавший читать в дороге томик Тютчева, а затем пленившийся романтическим пейзажем с облаком, отражающимся на озерной глади, и старинной башней вдали, — «неподвижное и совершенное сочетание счастья», он здесь останется навсегда, — невозможен в таком обществе по той единственной причине, что, ничем перед ним не провинившись, просто оказывается, подобно Цинциннату, другим, не по шаблону думающим и чувствующим. Его тоже будут принуждать к единомыслию, к обезличенности, к стандарту, — то издеваясь над тем, что он не понимает пудовых шуток и чужд животных шалостей, то избивая долго, методично, изощренно, хотя он, возмечтав о романтике, всего-то решил не возвращаться с группой в Берлин. И для него, как для Цинцинната или для несчастного поляка из новеллы «Королек», пережитое будет напоминать «какое-то приглашение на казнь».
Набоков, не приходится сомневаться, воспринимал последние годы своей берлинской жизни точно так же. И не только отвращение к тупой нацистской пропаганде было тому причиной, не только страх за Веру и мучительные чувства, испытанные им при вести о карьере Таборицкого побуждали его искать возможности бегства любым способом. Повествователь в «Истреблении тиранов» с горьким чувством осознает: «Все полно им, все, что я люблю, оплевано, все стало его подобием, его зеркалом, и в чертах уличных прохожих, в глазах моих бедных школьников все яснее и безнадежнее проступает его облик». Этот набоковский персонаж исцелился, сумев, наперекор владевшей им ненависти и вопреки внушаемому ею отчаянию, увидеть в диктатуре фарс, а в тиране — смешное: «Смех, собственно, и спас меня». Набокову такого выхода было не дано. Оставалось одно — во что бы то ни стало уехать. «Истребление тиранов» он писал уже во Франции.
Со слов Шаховской мы знаем, что «Мадмуазель О.» была написана в два или три дня и Набоков считал, что «это совсем второй, если не третий сорт». Вряд ли с такой оценкой согласится кто-нибудь из знающих пятую главу «Других берегов», которая представляет собой русскую версию этого рассказа. Первый его вариант был французским, и автор не скрывал, что преследует главным образом сугубо практические цели.
Ему необходимо было создать для себя какой-то плацдарм в литературном Париже. Замаячившая летом 1934-го перспектива преподавательской работы в скромном швейцарском коллеже рухнула, не реализовавшись, а попытки обосновавшегося в Лондоне Глеба Струве что-нибудь подыскать для старого приятеля ни к чему не приводили. Оставалась Франция с ее сравнительно большой эмигрантской периодикой и Союзом русских писателей, изредка предоставлявшим материальную помощь. С ее во всех отношениях передовым журналом «Нувель ревю франсез», который заметил Набокова еще по первой переведенной книге — «Защита Лужина» вышла в 1934-м — и активно его поддерживал. С крупным издательством «Галимар», которое выразило готовность печатать сиринские произведения и дальше, хотя большим спросом у публики они не пользовались. Публика в те годы тяготела к социально ангажированной литературе. И была не расположена к Зарубежью, откровенно предпочитая советских авторов.
В январе 1936-го стараниями Шаховской устроили вечер в Брюсселе, а затем Набоков уехал в Париж, чтобы вместе с Ходасевичем выступить в знакомом зале «Лас Каз». Берберовой запомнились это чтение и последовавший за ним писательский ужин в кафе «Лафонтен». Были Бунин, Алданов, Вейдле. Разговор зашел о Толстом и, словно поддразнивая собравшихся, Набоков заметил, что так и не собрался прочесть «Севастопольские рассказы». Бунин, всю жизнь разве что не молившийся на Толстого (и в это время как раз занятый своей книгой о нем), позеленел от злости, нецензурно выругавшись. «Ходасевич, — пишет Берберова, — засмеялся скептически, зная, что в русских гимназиях чтение „Севастопольских рассказов“ было обязательным. Что касается меня, то я получила урок на будущее: можно не стыдиться… не все непременно уважать». Этих уроков за свою жизнь Набоков даст множество.
В Париже он пробыл месяц и твердо решил, что постарается туда перебраться еще до конца года. Появилась статья в «Нью-Йорк таймс», где его называли одним из наиболее ярких современных романистов, — сообщая об этом матери в Прагу, Набоков с иронией прокомментировал: и при этом у меня не найдется приличной пары брюк. Положение Елены Ивановны стало совсем скверным. Чешское правительство постоянно сокращало субсидии эмигрантам, а кроме того, усиливалась болезнь. Набоков мучился, сознавая, что почти ничего не может сделать для матери. Последний раз они виделись в мае 1937-го, об этом говорится в «Других берегах»: Дмитрий, играющий в Стромове, «где за боскетами пленяла взгляд необыкновенно свободная даль». Два года спустя Елены Ивановны не стало. Трава двух несмежных могил — берлинской и пражской — навсегда закроет ту, с детства им в себе хранимую Россию. «За горе, за муку, за стыд» никто не ответит, «и душа никому не простит». Эти щемящие стихи написаны осенью 1939 года в Париже.
После вечера, кончившегося скандальной стычкой с Буниным, он снова приехал туда год спустя, еще не зная, что германская глава его биографии закончена. В Германии началась поголовная перепись эмигрантов, за которой должны были последовать репрессии. Достать документ, разрешающий поиски работы во Франции, не удавалось. Даже вид на жительство удалось раздобыть далеко не сразу. Ситуация становилась критической.
Еще из Берлина Набоков обратился к академику Ростовцеву, историку античной культуры и восточных цивилизаций, ученому с мировым именем. Когда-то он был активным кадетом, хорошо знал Владимира Дмитриевича, а теперь занимал кафедру в Йельском университете и фактически возглавлял русскую диаспору в США. Он сделал для Набокова все, что было в его силах, однако время оказалось очень уж неблагоприятным: работы никто не предлагал, и даже ручательство такого авторитета, как Ростовцев, не смогло «выбить искру в башке любого ректора», на что, судя по этому письму в Йель, Набоков рассчитывал. Рекомендацию от Ростовцева он получил, работу за океаном — нет.
Из Берлина был вывезен набросок автобиографической книги, написанной по-английски, — как сам он потом признавал, в спешке: не стоит жалеть, что рукопись в итоге пропала. Готовил он ее для какого-нибудь английского издательства, надеясь, что публикация им самим переведенных «Смеха во мраке» и «Отчаяния» сделает ему имя в англоязычных странах. Работать он был готов где угодно, хоть в Индии, хоть в Южной Африке, и читать лекции что по энтомологии, что по литературе, только бы нашлась вакантная университетская должность. Об этом он писал накануне отъезда из Берлина одному старому знакомому своего отца. Вакансии, однако, не было.
В Лондоне существовало общество эмигрантов, возглавляемое последним послом России Е. В. Саблиным, — Русский дом. Набоков написал его руководителю с просьбой устроить в феврале 1937-го вечер, а лучше два, «с чтением моих вещей. Для меня это чрезвычайно важный вопрос в виду моего тяжелого материального положения». Вечера были устроены, но трудностей они не облегчили. Хлопоты Струве и бывшего тенишевца С. Гринберга не дали результата, как и прием в честь гостя, на котором были видные лица английского литературного мира: Леонард Вулф, муж Вирджинии Вулф, чью романтическую фантазию «Орландо» Набоков года за два до отъезда из Берлина прочел, написав Шаховской: «первоклассная пошлятина»; популярный романист Л. П. Хартли и еще баронесса Будберг, героиня превосходной биографической книги Берберовой «Железная женщина», авантюристка с ярким прошлым, любовница Горького и Уэллса. Набоков прочел отрывок из несохранившейся автобиографии, главу о своем английском детстве. Перед отъездом он оставил Струве шутливый текст по-русски и по-английски, что-то вроде заполненной анкеты для потенциальных работодателей: «Беден!! Талантлив!! Гордость эмиграции!! Новое слово!!» — и перечень основных произведений.
Из этой поездки больше всего ему запомнилось посещение Кембриджа. Он не был здесь пятнадцать лет и поехал не столько для сентиментальных воспоминаний, сколько с утилитарным расчетом: тот, кого в автобиографии он называет взятым напрокат из «Новой Элоизы» именем Бомстона, стал за эти годы крупным должностным лицом и мог бы оказать реальное содействие. Стоял промозглый февральский день, старинные здания едва различались за пеленой дождя. Из разговора ничего не вышло: Бомстон, а верней, Батлер был поглощен мыслями о сестре, которую как раз в это утро прооперировали, и слушал вполуха. Договорились снова увидеться месяца через два, когда Набоков еще раз приедет для чтений. Он приехал — правда, не через два месяца, а через два года, — и опять неудачно. А потом, спустя еще двадцать лет, посетил Англию мировой знаменитостью, автором «Лолиты», чье имя было у всех на устах.
Последние страницы «Других берегов» рисуют предвоенную пору его жизни почти как идиллию: удачное избавление от «тени, бросаемой дурой историей», беспокойные странствия по Европе, сады, парки, расходящиеся аллеи и цветники, приглушенные звуки оркестра в Савойских Альпах. Действительность была другой. Шаховская цитирует трагические письма: где бы подыскать жилье как можно скромнее и дешевле? Где бы раздобыть сотню франков на обратные билеты с юга в Париж? «У нас сейчас особенно отвратительное положение, эта гибель никого не огорчает и даже не волнует». Вот пустили слух, что в Провансе Набоковы задержались, чтобы еще себя побаловать морем, — «эти завистливые идиоты не понимают, что нам просто деваться некуда».
Вере с сыном удалось выбраться только в апреле, и она с облегчением вздохнула, когда поезд пересек чешскую границу. Он присоединился к семье полтора месяца спустя, добравшись до Праги в объезд, через Швейцарию и Австрию, — лишь бы обойтись без зрелища рейха. Его ждал неприятный сюрприз: жена получила из Парижа анонимное письмо, в котором со смаком излагалась история из тех, что доставляют наслаждение любителям рыться в чужом белье.
Подробности этой истории были обнародованы лет десять назад, породив атмосферу сенсации: еще раз подтвердилось давнее наблюдение — толпа обожает узнавать собственные грехи в жизнеописаниях тех, кто ей не равен. Пушкинское замечание, что незачем сокрушаться из-за пропажи байроновских записок, ибо нет никакой надобности видеть великого человека на судне, побудило бы вообще не касаться этого эпизода, если бы он не привел к тяжкому семейному кризису, к чувству вины и мыслям о самоубийстве. Самое существенное все-таки нужно упомянуть.
Героиню звали Ирина Гваданини, принадлежала она к семье Кокошкиных, видных деятелей русского либерализма. Знакомство с Набоковым произошло на его вечере в январе 1937-го, когда речь, предшествующую чтению, произнес Ходасевич, — эта речь стала основой его замечательной статьи «О Сирине», появившейся две недели спустя в «Возрождении». Ирине шел тридцать второй год. Она зарабатывала на жизнь стрижкой пуделей и писала стихи. Крохотная книжка вышла через много лет, уже после войны.
Их роман продолжался до лета. Набокову удалось продать «Галимару» права на французский перевод «Отчаяния» (с его английской версии), и вырученная сумма дала возможность уехать в Канны. Ирина, нарушив договоренность, последовала за ним. Было нервное объяснение на пляже. Больше они никогда не встречались.
Прямых отголосков испытанного потрясения в его книгах нет, если не считать одного странного совпадения: жених Нины, героини рассказа «Весна в Фиальте», уезжает работать инженером в какую-то тропическую страну, из-за чего расстраивается их помолвка, как расстроился брак Ирины, когда ее муж отправился служить в Африку. Однако «Весна в Фиальте» написана еще в Берлине, за полгода до их встречи. Дата при публикации в одноименном сборнике указывает, однако, «Париж, 1938». Трудно отделаться от мысли, что это не совсем случайная оговорка. И едва ли такая уж случайность, что как раз в весенние и летние месяцы 1937-го написаны первые варианты третьей, затем пятой глав «Дара», самых лиричных глав в этом лирически самом насыщенном набоковском романе.
За все последующие сорок лет не было ни одной хотя бы теоретической угрозы его семейному союзу, действительно на редкость гармоничному. Вероятно, та картина счастья, которой завершается в автобиографии описание двадцатилетнего европейского житья, каким-то образом соотнесена с тогдашним ощущением надвинувшейся, но миновавшей грозы, перенесенного и оказавшегося несмертельным солнечного удара, как называл такие ситуации Бунин. Других поводов для неомраченной радости не было. Жизнь приходилось вести неустроенную, полную лишений. И приближалась война.
Одно время Набоковы оставались в Провансе, в Мулине, где рядом с их пансионом находился армейский лагерь и на полигоне постоянно шли учения. Денег нет, окружение — русские инвалиды, «старые грымзы», как он их аттестует в письме Шаховской. Гитлер, положив в Мюнхене на лопатки западную дипломатию, вводит свои войска на территорию бывшей Чехословакии. Начинается паника. Париж кажется единственным местом, где можно ощутить себя мало-мальски защищенным. Найти там квартиру по скудным средствам — дело почти безнадежное, но все-таки это удается сделать: рю де Сайгон, в самом центре, между площадью Звезды и Булонским лесом, бывшая студия, которую занимал живший в одиночку танцовщик. Троим там тесно, неуютно, но надо радоваться и тому, что есть. На кухне иногда собираются близкие знакомые: один из редакторов «Современных записок» Илья Фондаминский — когда немцы войдут в Париж, он будет депортирован и погибнет в лагере, — Марк Алданов, поэты Алла Головина и Галина Кузнецова. Многие годы Кузнецова была самым близким человеком Бунину. Но фактически уже произошел разрыв.
Бывает Ходасевич. Это его последняя зима. «Вижу его так отчетливо, сидящим со скрещенными худыми ногами у стола и вправляющим длинными пальцами половинку „Зеленого Капораля“ в мундштук», — вспомнилось в «Других берегах» пятнадцать лет спустя. Похороны Ходасевича июньским днем 1939 года, кажется, в последний раз собрали весь русский Париж. С ним уходила эпоха в жизни Рассеянья: по совпадению дат, Цветаева вернулась в Москву, на гибель, неделей раньше.
Статья Набокова «О Ходасевиче» успела в «Современные записки» перед их закрытием. Это одна из его самых важных статей, дань памяти тому, кого он всегда считал и «крупнейшим поэтом нашего времени», и наиболее себе близким. А вместе с тем статья — в каком-то смысле еще и собственный манифест. Ходасевич для него уникален не только тем, что «в совершенном знании правил стихосложения, языка, равновесия слов» у него нет соперников, не только много раз ему ставившейся в упрек чеканностью строк, которые так резко противостоят повсеместно распространившимся «приблизительным стихам», побуждая не чувствующих биения и обаяния этой поэзии называть ее — до чего несправедливо! — холодной и бездушной. Еще поразительнее другое: Ходасевич, понятно, ничего общего не имевший с казенными оптимистами московской штамповки, остался по своей природе чужд и «заштатным пессимистам… здешним ипохондрикам», которые ничуть не лучше «тамошних здоровяков». Он, деля «нашу бездарную эмигрантскую судьбу», не был ею раздавлен, он доказал, что «в изгнании спасает только талант» (а в России и талант не спасает). Талант — это желчь, «шипящая шутка», «счастливое одиночество недоступной другим высоты».
Он писал о Ходасевиче как об антагонисте тех, кто занят «жеманным притворством», оправдывая неряшливость своих и чужих стихов объективной невозможностью поэзии в наше время, когда ценится только документ, удостоверяющий, что человеческое страдание безмерно. Имена Адамовича и Георгия Иванова названы не были, однако они себя, разумеется, узнали, читая ядовитые строки о гробовых дел мастере, вздумавшем сетовать на скоротечность земной жизни. Набоков решительно отверг все аргументы в обоснование «размолвки между выделкой и вещью». Для него художественная безупречность была больше чем эстетическим требованием, она была главное из «таинственно необходимых свойств» того, что называют прекрасным, или поэзией, или искусством. А искусство — вопреки утверждению Адамовича, незадолго до этого написавшего статью с вызывающим заглавием «Невозможность поэзии», — оказывалось в этом мире единственным спасением. И как раз из-за того, что на нем лежала такая громадная ответственность, оно не терпело подмены.
Об этом Набоков много думал, все тверже определяя свою писательскую позицию и собственное место в литературе. Тема была для него сокровенно важной. Неудивительно, что она то и дело о себе напоминает в прозе Сирина, начиная с того рассказа, который по времени был самым ранним из всех, составивших лет через двадцать книгу «Весна в Фиальте».
«Адмиралтейская игла» появилась в печати еще летом 1933-го, и как раз для этой новеллы, где все начинается с сентиментального романа, тиснутого некой дамой, которая укрылась под псевдонимом Сергей Солнцев, Набоков читал Вирджинию Вулф, а также Кэтрин Мэнсфилд и, вероятно, еще кого-то из представляющих «женскую прозу», вызвавшую у него ощущение «какой-то цветочной сладости». Госпожа Солнцев, к возмущению рассказчика, который обнаружил в ее книжке историю своей первой любви, состряпала нечто столь же тривиальное, безвкусное, с «несметными и смутными ошибками», которые сделали ее произведение, источающее «тошный душок литературной гари», истинным несчастьем, так как оно отняло у повествователя самые нежные воспоминания. И ужаснее всего, что госпожа Солнцев — это, похоже, та самая Катя, которую — какое блаженство даже вспомнить — рассказчик давным-давно, в другой, еще русской своей жизни, обнимал, срывая землянику, за теплое плечо.
Но и у рассказчика, в сущности, нет серьезных доводов, которые убедили бы, что достоверна именно его версия событий и что не домысленное им позднее, а вправду лучшее воспоминание хотя бы эти малиновые отблески на Катиной щеке, когда она гасит свечку на елке, осыпавшейся шестнадцать лет назад. Или дачный крокет на давно исчезнувшей площадке, где одуванчики росли перед каждой лункой. Ведь и они с Катей — теперь это видится вполне ясно — «подделывали даль и свое настоящее отодвигали туда», то есть строили свой роман по правилам литературы: той, где цыганщина, и Аполлон Григорьев с гитарой, исполняющий свою знаменитую венгерку, и Блок, переписывающий в тетрадку слова романсов, «точно торопясь спасти хоть это, пока не поздно». Приведенная Шаховской фраза из письма: «Ничего нет менее правдоподобного, чем подобие правды», — вероятно, на самом деле ключевая, чтобы понять нерв творчества Набокова. Когда отстаивали преимущества человеческого документа над поэзией, которая стала «невозможной», предполагалось, что подлинность, или, пользуясь более изысканным словом, аутентичность, сама по себе не составляет проблемы: надо просто свидетельствовать, не поступаясь честностью. Для Набокова аутентичность как раз и стала труднейшей проблемой. И достичь правды оказалось, по его системе критериев, возможным только способами искусства, которое ставит перед собой требования максимальные, непосильные, но единственно существенные.
Ахматовой, поэзию которой Набоков не понимал и не любил, принадлежат ставшие хрестоматийными строки: «Когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда…» В представлении Набокова «сором» становились «обыкновенные вещи», и в них надо было открыть «ту благоуханную нежность, которую почуют только наши потомки», — задача, над которой размышлял герой «Путеводителя по Берлину». О том, какими усилиями даются такие открытия каждому, кто не побоится погружения в «сор», откуда предстоит извлечь мелочи, из которых любая когда-нибудь «станет сама по себе прекрасной и праздничной», говорит крохотный, но важный сиринский рассказ «Тяжелый дым». Зимой 1935 года его напечатали «Последние новости», уже запрещенные ко ввозу в Германию.
В этом рассказе описана ситуация нескрываемо, вызывающе банальная: эмигрантское жилье где-то у Байришер Плац, улица с чередованием витрин — то кукла парикмахера, то вересковые пейзажи в окне окантовщика, — отяжелевший от сырости дым на мокрой крыше трактира. Сутуловатый юноша с бледной небритой щекой, которую, наверно, скоро разнесет от флюса, — побаливает зуб. Его отец и сестра, которые не разговаривают друг с другом. Нищенский минимум событий. Просто у сестры вышли папиросы и надо их раздобыть, наведавшись в папин кабинет.
Кульминация наступает неожиданно, без внешних мотивировок, и обозначена она сменой «он» на «я», не подготовленной никакими фабульными поворотами. Был некто Гришенька, проделавший по коридорам свой сомнамбулический маршрут, но вот уже, «словно душа озарилась бесшумным взрывом», вслед которому потянулись аллитерации и рифмы, не он, а «я верю восхитительным обещаниям еще не застывшего, еще вращающегося стиха». Как знать, не прозвучит ли в нем музыка, родственная той, которую таят в себе стоящие на полке, рядом с «Защитой Лужина» и «Двенадцатью стульями» (Ильфа и Петрова автор «Защиты Лужина» в интервью снисходительно похваливал), гумилевский «Шатер», и томик Баратынского, и, как ни удивительно, названная в том же ряду пастернаковская «Сестра моя жизнь»?
Возможно, этого не случится, но важнее все-таки сам факт, что рождается — «из какого сора»! — стихотворение. И даже можно догадаться, о чем оно. Мимоходом упомянуто, что окантовщик выставил у себя в окне «неизбежную Inconnue de la Seine», гипсовую маску молодой утопленницы, которую извлекла из реки парижская полиция, — отчего-то в Берлине любили украшать этим слепком фасады и интерьеры. За год до «Тяжелого дыма» Сирин там же, в «Последних новостях», напечатал стихи под этим же заглавием: «Inconnue de la Seine». Причем с пометой «Из Ф.Г.Ч.», то есть из Годунова-Чердынцева, молодого поэта, который стал главным героем уже начатого автобиографического «Дара».
В этих стихах та же нескрываемая, намеренная тривиальность сюжета — «жребий твой был на счастие скуп… в темных яблоках злая река… Кто он был, умоляю, поведай, соблазнитель таинственный твой». А перечисление вариантов ответа сразу заставляет вспомнить городские романсы Блока с их смешеньем пошлости и тоски, с увеселительными заведениями, в которых является Незнакомка, с Архангелом, вышедшим из лавки бакалейщика («И казалось, что был он перепачкан мукой»). Решение, предложенное Сириным, по сути, блоковское: опять чувствительные струны, «кудрявый племянник соседа — пестрый галстучек, зуб золотой», мещанская трагедия, надрыв. И все это закольцовано пронзительностью лирического зачина: «Торопя этой жизни развязку, не любя на земле ничего…» А зачин впрямую отзывается в последней строфе, где виновник, будь он тот кудрявый фат, или завсегдатай кабаков и бильярдных, или «гуляка проклятый, прогоревший мечтатель, как я», рыдает от одиночества в опустевшем черном мире. Совсем по Ахматовой — стихи, растущие, «как желтый одуванчик у забора, как лопухи и лебеда». Кстати, «Лебеда» — название раннего рассказа, обладавшего для Набокова сокровенным автобиографическим смыслом и поэтому отмеченного редкой у него открытостью «добрых чувств». Бывают странные сближенья.
И еще один рассказ того же времени, «Памяти Л. И. Шигаева», затрагивает тему, которая явно принадлежит к числу доминирующих у Сирина: «обыкновенные вещи» (и люди), «всякая мелочь нашего обихода» — именно мелочь, нечто вполне ординарное и неприметное, однако заполняющее собою «обиход», то есть жизнь. Оттого их утрата ранит, даже если происходит она незаметно, как смерть того лица, что упомянуто в заглавии.
Леонид Иванович, «положительный, благообразный… чистоплотный и домовитый», составитель какого-то технического словаря, — лицо вполне бесцветное. Он «совершенно лишен чувства юмора, совершенно равнодушен к искусству, к литературе и к тому, что принято называть природой». Словом, законченный обыватель, правда, с добрым сердцем: когда роман со стриженой немочкой закончился для рассказчика пьяными слезами и бредом, Шигаев помог ему выкарабкаться — бескорыстно, по-человечески. Горько узнать, что благодетель, так радовавшийся нежданному шансу уехать в Прагу и заняться там своим любимым делом, умер на улице от разрыва сердца, и горько не оттого лишь, что этот человек одно время многое для рассказчика значил. Печалит, главным образом, мимолетность бытия, бесследность исчезновения. Тяжело сознавать, что «моя жизнь — сплошное прощание с предметами и людьми, часто не обращающими никакого внимания на мой горький, безумный, мгновенный привет».
«Прощание» — самое точное слово, если определять основной мотив написанного Сириным в последние европейские годы. Это и в буквальном, и в метафорическом смысле прощальная мелодия, порою подкрашенная грустной иронией, но чаще беспримесная, как в стихотворении «Поэты», написанном в Париже в 1939-м:
Сейчас переходим с порога мирского
в ту область… как хочешь ее назови:
пустыня ли, смерть, отреченье от слова,
иль, может быть, проще: молчанье любви.
В стихах, передающих душевное состояние, когда хочется «не видеть всей муки и прелести мира», тоже оставлен — конечно, с намерением — сор будничности: и трескучие изумруды рекламы, и даже вид «уборной, кружащейся в сумерках летних»: возле нее подрастающее поколение играет в прятки. Подобные занижения, резко выделенные прозаизмы, которыми по принципу сходства противоположностей усиливается высокая, обобщающая поэтическая тема, чаще других набоковских современников позволял себе Ходасевич, с именем которого, несомненно, связано стихотворение «Поэты», созданное в год его смерти. И сама эта идея — поэзия прощания — близка основным лирическим темам «литературного потомка Пушкина по тютчевской линии», как назван Ходасевич в некрологической статье о нем, в которую Набоков вложил свои самые выношенные мысли, касающиеся сущности и призвания искусства. В «Современных записках» статья и стихи шли друг за другом, летняя книжка и осенняя. И целили, не называя имени, в Адамовича. Стихи оказались даже более удачным выстрелом.
Их авторство было приписано некоему Василию Шишкову, вдруг обнаружившемуся в Париже превосходному молодому поэту, которого Адамович, с трудом скрывавший свою неприязнь к Сирину за обтекаемыми формулами критических комментариев, радостно приветствовал в отклике на очередной номер журнала: какой талант! И года не пройдет, пророчествовал Адамович, как на устах у всех, кто любит русскую поэзию, будет имя Шишкова, написавшего «Поэтов» и не менее замечательное стихотворение «Отвяжись, я тебя умоляю». Только кто же он, таинственный Василий Шишков?
Набоков, удовлетворенный удавшимся розыгрышем, объяснил — кто, вынеся это имя в заглавие своего рассказа, появившегося уже после того, как началась война, и ставшего последним из написанных по-русски. Прочитав «Василия Шишкова» в сентябрьских «Последних новостях», Адамович (вскоре он уйдет на фронт добровольцем) признал виртуозность проделки, но отношения к Набокову не переменил.
В рассказе суть тех претензий, которые постоянно высказывал по адресу Набокова Адамович, изложена одной фразой: отдавая автору свою тетрадку со стихами, Шишков предупреждает, что книг его не любит — «они меня раздражают, как сильный свет или как посторонний громкий разговор, когда хочется не говорить, а думать». Однако автору это не мешает оценить дарование обратившегося к нему дебютанта по справедливости: «Стихи были очень хороши». И задуматься о его печальной судьбе: решив «исчезнуть, раствориться», Шишков выполнил свое намерение, причем, кажется, в буквальном смысле вознамерился «оставить от себя, от своей туманной личности только стихи». Еще одно прощанье, снова переход — никуда.
Даже если допустить, что два прекрасных стихотворения, которые предшествовали рассказу, замышлялись прежде всего как демарши в той литературной войне, что обе стороны были намерены вести до капитуляции противника (ее так и не последовало), в них слишком видна боль, какую доставляет неизбежно наступающее «молчанье любви… молчанье отчизны… молчанье зерна» («Путем зерна» — называлась книга, сделавшая Ходасевича признанным поэтом). Поэзия прощания звучала ностальгически, со слезой:
Пора, мы уходим — еще молодые,
со списком еще не приснившихся снов,
с последним, чуть зримым сияньем России
на фосфорных рифмах последних стихов.
В новеллах ностальгическая нота подчас пробивается такой же щемящей музыкой. Тогда и рассказ становится в своем роде поэзией прощания. Особенно такой рассказ, как «Весна в Фиальте».
Он был написан весной 1936-го, в разгар работы над «Даром», с которым связан неочевидно, но прочно, и как раз этой лирической темой прощания. Имя курортного местечка Фиальта ассоциируется и с Фиуме на Адриатике, и с Ялтой, местами, оставившими след в биографии автора, и это еще один повод воспринимать новеллу как спутник романа, в котором прямых биографических отзвуков больше, чем в любом другом произведении Набокова, исключая разве что «Машеньку». Однако сама история, воссозданная двумя-тремя подробностями, которые выхватывает из небытия память, от начала и до конца выдумана. Это история продолжавшейся пятнадцать лет игры в любовное увлечение, при последней встрече едва не осознанное рассказчиком как чувство, требующее иного названия — любовь. И закончится она трагически, автомобильной аварией, в которой повинен фургон бродячего цирка, постоянно о себе напоминавшего всю последнюю встречу героя с Ниной то аляповатыми афишами на заборах, то верблюдом, сопровождаемым человеком в бурнусе.
Этот цирк придает сюжету, бунинскому по своему характеру, оттенок печальной иронии и то ощущение бескрылости, которое люди со слухом распознавали в стихах Ходасевича — лиричных и скептичных одновременно. Чистый лиризм не соответствовал бы характеру этих странных отношений, которым не сопутствует «ни тени трагедии»: мелькнувшая мысль о возможной перемене участи наперед парализуется «нестерпимой печалью», так что возможна лишь ситуация, когда Нина «впопыхах появлялась на полях моей жизни, совершенно не влияя на основной текст». Однако привкус фарса, сопровождающий торопливые измены, не заглушает боль, которая в момент перехода «с порога мирского», да еще такого внезапного и катастрофического, заставила рассказчика увидеть все это совсем по-новому, поэтически, проникновенно: укрытую снегом еловую аллею там, в России, и оживленно-тихий смех, а потом чужие города, «где рок назначал нам свидания», и саму ее, «маленькую узкоплечую женщину, с пушкинскими ножками» (в «Даре», составляя биографию Чернышевского, Годунов-Чердынцев особо отметит среди его прегрешений перед художественным вкусом нетерпимую подмену метонимического образа изящества грубым прозаизмом — просто маленький размер ноги, «фюсхен», как выражаются немцы). И ужаснее всего, что рассказчик «не в состоянии представить себе никакую потустороннюю организацию, которая согласилась бы устроить мне новую встречу с нею за гробом». Переход окончателен. «Молчанье любви» не прервется.
Оно не прервется, даже если «та область», куда ведет путь «с мирского порога», лежала бы не за гробом (там для рассказчика «Весны в Фиальте», как, собственно, и для всех остальных сиринских персонажей, ничего нет — лишь пустыня или отрешенье), но где-то в России. Мелькнет полуфраза про «молчанье отчизны», которым заполнено ее внешне живое, но на поверку омертвелое пространство. Туда, в это молчанье попадает — в бреду ли, во сне, в состоянии эмоционального шока — главный персонаж другой сиринской новеллы, «Посещение музея».
Она была написана уже во Франции, а лучшим комментарием к ней могли бы послужить стихи, сочиненные еще позднее, в 1947-м, когда Набоков преподавал в небольшом городке неподалеку от Бостона. Стихи обращены к князю С. М. Качурину, полковнику Белой армии, окончившему свои дни на Аляске, в монастыре. Когда-то князь в подробностях объяснял Набокову, каким образом можно с минимальным риском перейти советскую границу. К посвященным ему стихам автором сделано такое примечание: «Только золотым сердцем, ограниченными умственными способностями и старческим оптимизмом можно оправдать то, что он присоветовал описываемое здесь путешествие». А начинаются стихи так:
Качурин, твой совет я принял
и вот уж третий день живу
в музейной обстановке, в синей
гостиной с видом на Неву.
Тот, кто для приличия именуется толмачем, конечно, живет в той же гостиной. И ни сбегающие к реке спиральные огни, ни столбы ростральных колонн не могут заслонить широкоплечего раба и провинциала, который воцарился в бывшей российской столице. И вообразить путешествие дачным поездом на Сиверскую немыслимо даже в полетах буйной фантазии, которая сродни майнридовской («чарующий чапараль» из «Всадника без головы» упомянут в конце стихотворения — ассоциация, стойко соотносящаяся с детством, с Юриком Раушем, а значит, и с Мартыном из «Подвига», который осуществил безумную качуринскую идею). Оттого невозможно все: захлест станционной сирени, «и все подробности берез, и красный амбар налево от шоссе».
Может быть, самое любопытное в этом стихотворении — как раз «музейная обстановка». Она непосредственно его соединяет с рассказом, написанным девятью годами раньше. В новелле музей, куда случайно попал рассказчик, отправившийся в провинцию по делам, напоминает какой-то сюрреалистский пейзаж или эпизод из картины Ингмара Бергмана. Все сдвинуто, насильственно сближено и перепутано: греческая статуя водружена на тигровую шкуру, червяк в спирту смотрит на скелет кита, залы забиты «нереальной дрянью», продажа экспоната возможна лишь после того, как у директора будет совещание с мэром, «который только что умер и еще не избран». А сам экспонат, висящий на видном месте, отчего-то отсутствует в каталоге, отличающемся образцовой полнотой. Этот не занесенный в каталог портрет русского дворянина появился ниоткуда, и, помня это, читатель уже не удивляется, когда рассказчик, проделав, как Гришенька в «Тяжелом дыме», свой сомнамбулический маршрут, из музея попадает прямиком в Россию. Туда, где все тот же, привычно «ленивый и ровный стук копыт, и снег ермолкой… на чуть косой тумбе, и он же… на поленнице из-под забора». Где Мойка — или ближе к Фонтанке, хотя, возможно, и к Обводному каналу.
Но все лишь мираж. Лишь показалось на миг, будто после фантомов музея явилось «несомненное ощущение действительности». И довольно было одного взгляда на кончик вывески, где твердый знак исчез, став в 1918 году жертвой орфографической реформы, для того и затеянной, чтобы поменьше осталось напоминаний о прежней России.
«Полупризрак в легком заграничном костюме», он, этот посетитель музея, продирающийся через «превосходно подделанный туман», под конец удостоверяется, что реальных возвращений не бывает, — мотив, через девять лет отозвавшийся в стихах, построенных как диалог с фантазером-князем:
Мне хочется домой. Довольно.
Качурин, можно мне домой?
Набоков давно и твердо знал: можно — если только не понимать это «домой» уж слишком буквально, как географическое перемещение. Или как попытку реконструкции ушедшего времени, которая всегда безнадежна. Что-то напоминающее такую попытку предпринимает учительский сын Иннокентий, который в рассказе «Круг» разыскивает в Париже семью, знакомую ему по тем давним временам, когда у них в имении — это были Годуновы-Чердынцевы и глава семьи был знаменитый ученый, погибший затем где-то в диких горах или пустынях, — гимназистом проводил лето.
Разыгрывается бешеная тоска по России. Жаль тогдашней своей юности и все вспоминается, как увлеклась им барышня, Таня, но он был неумен и неловок, да к тому же смущали слава ее отца и зримые знаки благоденствия, окружавшего их жизнь. А вот теперь ему, чужому, хочется плакать о том, что все это исчезло, словно и не было. И странно, что так спокойно, просто говорят о прошлом те, у кого там, в прошлом, осталось счастье.
Он не постиг простого секрета: круг не размыкается и все в нем заключенное не пропадает, пока остаются память и культура — пока сохранена «расцветка пламени», если позаимствовать образ из автокомментария к этой новелле. Вот поэтому Таня «оказалась такой же привлекательной, такой же неуязвимой, как и некогда», — но фраза, начинающаяся словами «во-первых», поставлена в рассказе последней, завершая воссозданный в нем круг, который Иннокентий должен пройти весь. Чтобы под самый конец он «почувствовал: ничто-ничто не пропадает, в памяти накопляются сокровища, растут скрытые склады в темноте, в пыли — и вот кто-то проезжий вдруг потребует у библиотекаря книгу, не выдававшуюся двадцать лет».
Может быть, это будет книга, которую вынашивает, зная, что она главное дело его жизни, брат Тани, живущий в Берлине. Его зовут Федор, он автор двух-трех десятков стихотворений, вышедших плохо раскупаемым сборником, он мечтает стать писателем, которому хватит таланта и сил продолжить великую русскую традицию. Роман, от которого как бы отделился, зажив самостоятельной жизнью, рассказ «Круг», был тогда, зимой 1934-го, продуман и примерно наполовину написан — правда, вчерне. У него уже было заглавие. «Дар».
Последнюю точку в рукописи Набоков поставил в январе 1938-го, а в октябре роман был закончен печатанием на страницах «Современных записок». Однако его публикация сопровождалась скандалом, одним из самых громких за всю историю литературы русского Рассеянья. Журнал категорически отказался поместить четвертую главу, жизнеописание Чернышевского, которое, нежданно даже для самого себя, затеял герой книги, начинающий поэт Федор Константинович Годунов-Чердынцев, увлекшись так, что на несколько месяцев оно стало для него главным делом жизни. Приводимые в романе возмущенные комментарии, которые Федор читает по выходе своей книжки, едва ли не списаны с натуры. Особенно непримиримо был настроен один из редакторов журнала В. В. Руднев, которого и подразумевал Набоков, жалуясь другому редактору, Фондаминскому, на нетерпимость, проявившуюся в стараниях подвергать искусство цензуре, ставя во главу угла партийные предрассудки. Но Фондаминский ничего сделать не смог, да едва ли он так уж сильно и расходился в своих мнениях с Рудневым и третьим редактором — М. В. Вишняком. Возможность опубликовать «Дар» целиком всерьез даже не обсуждалась.
Скрепя сердце, Набоков согласился на огромную — пятая часть текста — купюру, надеясь восстановить изъятую главу, когда будет печататься книга. Шли переговоры с одним издательством, дело, казалось, было на мази. Все рухнуло с начавшейся войной. Отдельное издание последовало лишь через полтора десятка лет, в 1952-м, в Америке.
Замысел романа, занимающего центральное положение в русской прозе Набокова (а пожалуй, и вообще в его творчестве), вызревал долго и осуществлялся без строгой последовательности. Рукопись несколько раз откладывалась: ради «Круга», «Весны в Фиальте», «Приглашения на казнь», ради французской новеллы о гувернантке. Раньше других была начерно сделана как раз глава, спровоцировавшая общественное негодование, — четвертая, потом вторая, связанная с отцом героя и его азиатскими экспедициями. Весной 1936-го написаны стихи, которые будут отданы герою, чьей поэтической книжке суждено сыграть очень важную роль в его судьбе (кстати, первая серьезная, неконъюнктурная статья о Набокове, появившаяся в советской России, еще в 1979 году, — правда, в узко специальном периферийном издании, — называлась «Некоторые замечания о поэзии и поэтике Ф. К. Годунова-Чердынцева». Автор, Мих. Лотман, применил самый простой прием, обманывая цензуру, — писал так, словно названный поэт действительно существует, а о том, кто его придумал, впрямую не сказал ни слова).
Книжка познакомит героя с поэтом и критиком Кончеевым, авторитет которого для Федора неоспорим. И с Зиной Мерц, одной из немногих, кто купил этот сборник — точно бы в предчувствии будущей встречи, свиданий под бесцветным берлинским небом и того сказочного летнего вечера, когда, с одиннадцатью пфеннигами в кармане, они идут мимо темной кирхи к своему дому, а в воздухе медовый запах цветущих лип, и оба чувствуют «груз и угрозу счастья».
Первая глава, со стихами, писалась осенью 36-го и доделана была уже во Франции. Ею на следующую весну началось печатание романа в «Современных записках», хотя автор еще работал над продолжением, а третья и пятая главы существовали только в наметках. Критика испытывала большие трудности, очутившись перед необходимостью судить о романе по разрозненным выпускам. Даже Ходасевич, преданный ценитель Набокова, жаловался в письме к нему: «Если бы Вы знали, как трудно и неуклюже писать об кусках, вынутых из середины!»
Денежные обстоятельства заставили снова отложить книгу на два месяца, в течение которых создана пьеса «Событие». Связанные с нею надежды выкарабкаться из ямы, впрочем, не оправдались. «Дар» тоже не облегчил положения: журнал платил очень скромно, отдельное издание не появилось. Сам факт, что в таких условиях — фактическое бегство из Германии, постоянные напоминания о нищете, пришедшийся на эту же пору семейный кризис — роман все-таки был доведен до завершения, кажется почти невероятным.
Еще более невероятной с дистанции времени кажется реакция на эту книгу ее первых читателей. Они словно бы и не заметили, что в русской литературе произошло нечто грандиозное, собственно, больше, чем все другие сиринские произведения, оправдывающее слегка экзальтированные оценки Берберовой и еще нескольких людей того же круга, считавших, что книгами Набокова оправдано существование целого поколения: вот он, «огромный русский писатель», который, «как Феникс, родился из огня и пепла революции и изгнания». Правда, Берберова, по ее словам, пришла к такому выводу уже после «Защиты Лужина», но в это как-то плохо верится. Если две книги прочесть одну за другой, станет очевидным, что за те семь лет, что их разделяют, Набоков ушел вперед на огромное расстояние.
Но ничего этого, в сущности, не увидели немногочисленные рецензенты, откликавшиеся на новое произведение по мере того, как фрагмент за фрагментом оно выходило в свет. Именитый и довольно влиятельный Петр Пильский, критик рижской газеты «Сегодня», уже по прочтении первой главы «Дара» объявил, что автор даровит, но это «талант литературного фокусника», у которого «с потолка падает словесный искусственный дождь». Нашлось и еще несколько уничижительных слов, которые пишутся с той же буквы: франт, фат, фехтовальщик. Пишет он «не для читателя, а для литературы и о литературе», причем пишет недобро, с издевкой, потому что у него «непрощающая душа». Он не художник, а карикатурист и, на взгляд Пильского, прямой родственник Горну из «Камеры обскуры», этому любителю «помогать жизни окарикатуриться». Вот так же и Сирин «поворачивает людей смешными и отталкивающими сторонами, укорачивает их рост, гримирует, делает из их лиц маски, щелкает их по лбу и радуется, что все сумел так сконструировать, что при щелчке в лоб получается звонкий звук, будто из пустого сосуда».
Это были претензии несостоятельные, но, по крайней мере, в основе своей литературные. Высказывались и другие, к литературе имеющие лишь косвенное отношение. В Берлине печаталась русская газетка «Новое слово», откровенно фашистская по своей ориентации. Она обиделась за нелестное изображение Германии и немцев. Некто Андрей Гарф особенно негодовал по поводу нескольких страниц, на которых описаны обыватели, что расположились по берегам озера, демонстрируя тяжелые гузна и рыхлые ляжки. Такого просто не может быть в новом нацистском государстве, где воспитывают здоровое поколение, побеждающее на олимпиадах, а спорт стал делом первостепенной важности. И далее Гарф, охваченный антисемитским восторгом, писал, что перед глазами автора явно стояли представители другой, неспортивной расы, с которой в рейхе, к счастью, покончено. Придет время, пророчил он, и все увидят, что на этом «талантливом фальшивомонетчике» одежды не больше, чем на голом короле, а какая есть, та сшита модным портным «из Парижа и Бердичева».
При всем различии исходных предпосылок и установок между Пильским и критиком-самоучкой из русских фашистов оказалось нечто схожее: они оба смотрели на книгу Сирина как на сатиру, и для обоих эта сатира была неприемлемой, пусть в силу причин, не имеющих между собой ничего общего. Такое понимание «Дара» поначалу было едва ли не безоговорочным. Подпустил яда и Адамович, который в многолетней распре с Набоковым неизменно являл пример безупречной корректности тона. На этот раз, отмечая особую сиринскую «способность высечь огонь отовсюду, дар найти свою, ничью другую, а именно свою тему», он, однако, определил стилистику «Дара» как пародийную и попутно заметил, что «пародия — самый легкий литературный жанр». Другие, похоже, не увидели в романе вообще ничего, кроме издевательств над святынями русской либеральной и прогрессивной традиции, а также злой издевки над эмигрантским культурным сообществом, включая таких его видных представителей, как тот же Адамович, который носит в книге смешное имя Христофор Мортус, то есть, по Далю, служитель при чумных, а по-латыни просто мертвец. Если перевести, получится что-то вроде Христоносец Смертяшкин.
Когда дело доходило до прямой конфронтации с литературными врагами, Набоков забывал и о полученном воспитании, и о вкусе. Он оказывался единомышленником ненавистного ему Ленина, как только речь заходила о Достоевском, ненавидимом обоими. Сам того не ведая, он и в случае с Адамовичем заговорил по-ленински, повторив формулу «господа смертяшкины», которой вождь клеймил «ренегатов», выпустивших сборник «Вехи», и которую часто пускали в ход ленинцы последующих призывов, обличая «декадентов» (а революционно настроенные молодые люди на последнем вечере Блока орали из зала: «Сойдите с трибуны, вы мертвец!»). По поводу этих неприятных перекличек Набоков мог бы процитировать своего героя, который восторгается собственным загаром, в подробностях описывая его оттенки: «Все это звучит, как брошюрка нудистов, — но своя правда не виновата, если с ней совпадает правда, взятая бедняком напрокат». Однако хороша правда, которую приходится защищать подобными приемами.
Причем Набоков прибегал к ним не раз, удостоив Адамовича тем же прозвищем еще за несколько лет до «Дара» и позволяя себе даже издевательство над фамилией, в которой слышится «Адамова голова» (по Далю — то же, что «мертвая»). На этом каламбуре построены стихи «Ночное путешествие» (1931), в которых Адамовичу досталось за «унылость… слог жеманный», а главное, за то, что он пишет стихотворения, хотя лира его жестяная. Знающие поэзию Адамовича знают и меру набоковской пристрастности — в данном случае вопиющей.
Читая «Дар», Адамовича узнавали сразу, даже секретарша «Возрождения» немедленно догадалась, кто такой этот Христофор Мортус. И ничуть не смутило разъяснение, что в действительности Мортус женщина средних лет, мать семейства. Она, «в молодости печатавшая в „Аполлоне“ отличные стихи» (Адамович, хотя и принадлежал к кругу журнала «Аполлон», не напечатался там ни разу, а стихи его Набоков озлобленно назвал бездарными), теперь скромно живет неподалеку от могилы Марии Башкирцевой и страдает «неизлечимой болезнью глаз»: это придает «какую-то трагическую ценность» всему публикуемому за знаменитой подписью.
Меж тем эти указания важны, хотя ими вносится, и не по недосмотру, некоторая путаница. Упоминание Башкирцевой, русской художницы, которая умерла в Париже совсем молодой, оставив «Дневник», один из наиболее ярких «человеческих документов» в литературе XIX века, заставляет еще раз подумать об Адамовиче, чья любимая мысль была та, что поэзия должна уступить место документальному свидетельству о катастрофической эпохе. Однако близорукая дама средних лет, взявшая себе мужской псевдоним, заставляет предположить, что за Мортусом стоит и еще одна фигура — Антон Крайний, то есть Зинаида Гиппиус, поэт, чье имя постоянно упоминалось в числе сотрудников «Аполлона» (впрочем, ни разу Гиппиус не напечатавшего) и чье отношение к Набокову всегда оставалось критическим. Имя Христофор, то есть Христоносец, к Гиппиус и ее кругу богоискателей, занятых бесконечными разговорами о Третьем Завете, имеет более непосредственное отношение, нежели к Адамовичу, старавшемуся избегать подобных тем.
Кто радуясь тому, что пародия получилась настолько злой, а кто этим возмущаясь, первые читатели «Дара», однако, не слишком задумывались о мотивах, руководивших его автором, чьи цели выглядели самоочевидными — месть, сведение счетов. Разумеется, было и это. Адамович, умевший превратить свое перо в острую шпагу и сделать убийственный рипост, проявил намного больше джентльменства, чем его оппонент, до конца своих дней отзываясь о Набокове прохладно, но с готовностью признать его не просто виртуозом, а художником, у которого есть своя неотступная тема — «обезжизненная жизнь… мертвый мир, где холод и безразличие проникли так глубоко, что оживление едва ли возможно». Скорее, правда, это тема самого Адамовича и близких к нему поэтов, о которых Набоков отзывался, как о Борисе Поплавском, с явным презрением. Предложенную Адамовичем интерпретацию трудно признать обоснованной (хотя, как всегда, кое-что им замечено острым взглядом). Толкование было спорным, однако ни резкостей, ни издевок Адамович не допустил ни разу. Лишь выражал сожаление, находя у Набокова бестактность (в «Комментариях», главной книге эссеистики Адамовича, изданной в 1967 году, о Набокове упомянуто всего один раз и по частному поводу: да простит его Бог за нападки на Достоевского, в котором он «ничего не уловил и не понял»).
Гиппиус вообще не узнала себя. О Набокове она как критик высказывалась всегда в одном и том же ключе: «Как великолепно умеет он говорить, чтобы сказать… ничего! потому что сказать ему нечего». Он писатель, чуждый «общим идеям», а отсутствие идеи, в глазах Гиппиус, не искупается эстетическими совершенствами. Гарф в «Новом слове» формулировал тупо, прямолинейно, однако говорил, по существу, то же: «Дело не в таланте, а в направлении творчества».
Вот это и был тот главный пункт, вокруг которого завязалась полемика, не обошедшаяся без оскорбительных выпадов — прежде всего со стороны Набокова. Какими бы спорными ни были оценки Адамовича, какой бы сомнительной ни представлялась его система критериев, по которой выходило, что Лермонтову с его неподдельной болью надлежит отдать предпочтение перед Пушкиным, к концу жизни впавшим в грех чистого художества, — все-таки могильщиком литературы, как явствует из семантики слова «мортус», он, конечно, мог быть назван только при заведомо недоброжелательном взгляде на его комментарии, много лет остававшиеся одним из главных событий в культурной жизни зарубежной России. Однако дело было не только в недовольстве, испытываемом Набоковым при чтении этих комментариев, когда речь в них заходила о его собственных книгах. И не в давней обиде на Гиппиус, которая в свое время советовала Владимиру Дмитриевичу отговорить сына от занятий поэзией, поскольку у него нет дарования (а в Париже после чтения Сирина отозвалась о нем, по свидетельству Берберовой, с неприязнью и насмешкой).
В предисловии к американскому изданию «Дара» сказано, что истинная героиня книги — русская литература, и сказать точнее, наверное, невозможно. Если бы это было лучше понято, прекратились бы попытки читать роман главным образом как коллекцию то откровенных, то зашифрованных пародийных отголосков, видя за его героем самого автора, а за литературными вкусами и отношениями Федора — личные набоковские пристрастия и фобии. Пародий в самом деле много — чего стоит хотя бы обзор критических откликов на книгу Федора о Чернышевском, в котором дается подробный пересказ статьи Мортуса. За вымышленными именами узнаются или угадываются реальные, хорошо известные лица. И все же основная цель — не размежевание в эмигрантской литературной среде, не передразнивание и вымещение обид. Русская литература, которая для Федора остается высшим духовным свершением, не может им быть воспринята только как перечень великих произведений — с восторгом или неприятием по причинам идеологического и художественного порядка. Молодой поэт, которого, как Пушкина, — на него Федор оглядывается постоянно, в тайной надежде хотя бы случайного сходства, — лета начинают клонить к прозе (и суровой, подразумевая книжку о Чернышевском), осознает себя впрямую причастным к этому миру, формируется как личность под самым непосредственным его воздействием и, разумеется, производит среди его ценностей собственный выбор. Становясь все более осознанным и продуманным, этот выбор, в сущности, составляет основной сюжет романа воспитания, развертывающегося перед читателями «Дара». Выпады против Мортуса, реальные и воображаемые беседы с Кончеевым, цитируемая повесть бездарного Ширина «Седина», хроника трудов и дней виднейшего из русских революционных демократов — все служит обоснованию художественной позиции героя. А для него эта позиция есть и жизненное кредо.
Вот отчего потребовалась в романе глава о Чернышевском — на первый взгляд чужеродная основным линиям повествования, а на самом деле все их в себе фокусирующая, так что без нее «Дар» становится совсем другой книгой (и даже разборы Ходасевича, трижды писавшего о романе по мере его публикации, но только в общих чертах знакомого с сочинением Федора, кажутся поэтому довольно приблизительными). Романом о русской литературе «Дар» становится прежде всего благодаря четвертой главе. И еще — рецензиям, которыми открывается пятая.
Мысль написать биографию Чернышевского появляется у Федора как бы в силу чисто внешних обстоятельств. Среди его немногих берлинских знакомых есть семья, которая носит эту фамилию (ее дал далекому предку отец Николая Гавриловича, священник, «любивший миссионерствовать среди евреев»). И после гибели единственного сына этих Чернышевских, Яши, застрелившегося в лесочке у озера, куда Федор иногда наведывается, выкроив время для загородной прогулки, мысли героя постоянно возвращаются к опустевшему дому, где осталась только Александра Яковлевна, так как Александр Яковлевич, отец Яши, не перенес удара — свои дни он окончит в психиатрической лечебнице. Этим Чернышевским нужно, чтобы кто-то написал историю их рода, — все-таки память о Яше, — а начинать историю следует с великого шестидесятника и даже с его отца-священника. О собственном отце Федор помнит, что «он был счастлив среди еще недоназванного мира, в котором он при каждом шаге безымянное именовал». Предстоящее погружение в историю рода Чернышевских — хотя Федор еще ничего не решил, да и вообще ему неприятны попытки направлять вольный полет его музы, — будет таким же опытом именования. А для будущего биографа этот поиск имени и есть суть литературы.
К тому же, интересуясь, подобно самому Набокову, шахматной композицией, Федор покупает советский журнальчик с этюдами, а там напечатана статья к юбилею мученика русского свободолюбия. Разглядывая на картинке того, кто, кажется, сочинил «Что делать?» (путающееся с «Кто виноват?»), Федор, не читавший ни строки этого автора, ассоциациями соединяет его образ со скверно составленной композицией какого-то П. Митрофанова из Твери, и вот уже потянулась цепочка мыслей, которые станут первотолчком к занятиям Чернышевским: «Отчего это в России все сделалось таким плохоньким, корявым, серым, как она могла так оболваниться и притупиться?.. Когда началась эта странная зависимость между обострением жажды и замутнением источника? В сороковых годах? В шестидесятых? И „что делать“ теперь?»
Ответ на последний вопрос ему в общем-то уже известен. Об этом Федор, сын знаменитого русского ученого и путешественника, чей след теряется где-то в Туркестане или Сибири в годы революции, размышлял все семь лет своей взрослой жизни, проведенные в эмиграции — там, где с неизбежностью «воспоминание либо тает, либо приобретает мертвый лоск, так что взамен дивных привидений нам остается веер цветных открыток». Ему даже казалось, что тут «не поможет никакая поэзия, никакой стереоскоп»: стихи, которые он сочиняет в начале романа, — «Благодарю тебя, отчизна, за злую даль благодарю», — содержат упоминание о разговорах с самим собой, ввиду отсутствия собеседников, и о своем бормочущем безумии. Называя Набокова писателем, чье характерное свойство «сухая и мертвящая грусть», и отметив, что «в плоскости состояния» (правда, не ставшего художественной темой) он все-таки связан «с понятием эмиграции — то есть с понятием отрыва, разрыва», Адамович, возможно, подразумевал и эти строки, и всю эмоциональную гамму, преобладающую на первых страницах «Дара». Однако стихотворение в конечном счете оказывается не столько упреком судьбе, каким были стихи самого Адамовича, написанные в продолжение знаменитой лермонтовской «Благодарности», воспроизводимой и тематически, и даже ритмически («За все, за все тебя благодарю я…» — «За все, за все спасибо. За войну, за революцию и за изгнанье»), и не попыткой оправдания участи изгнанника тем, что «никогда ты к небу не был ближе, чем здесь, устав скучать, устав дышать…». У Федора вышли стихи, в которых есть попытка оправдания самой жизни — как дара, и вовсе не напрасного, не случайного, пусть такие настроения порой овладевали даже боготворимым им Пушкиным. И один из даров жизни, тот, который изгнанье приучает ценить особенно высоко, — музыка отчизны, звучащая все настойчивее, яснее, потому что в изгнанье эта музыка «растет».
Вряд ли это славословие жизни в ее самоценности, как писали комментаторы, кажется, спутавшие «Дар» с незатейливой советской песней «Я люблю тебя, жизнь, что само по себе и не ново». Во всяком случае, это не прославление жизненосной стихии, которая напоминает нескончаемый праздник, и не восхваление изгнанья (о нем ведь говорится ясно: «злая даль») за то, что оно создает некую новую перспективу или новую оптику восприятия мира навеки родного, но насильственно отторгнутого и невозвратимого. Изгнанье и для Федора, как для остальных героев «Дара», остается болью и несчастьем. «Боже мой, — размышляет он, — я уже с трудом собираю части, уже забываю соотношение и связь еще в памяти здравствующих предметов, которые вследствие этого и обрекаю на отмирание», — а ведь среди «предметов» есть такие, что обладают для него сокровенно важным смыслом. И дальше, думая о том, «из-за чего, в сущности, стоило городить огород изгнания», Федор признается себе, что городить его было незачем, поскольку смысл таких усилий заключался бы единственно в возвращении детства, «оно же ушло вдаль, почище северо-русской».
Его, по собственному определению, «хорошие, теплые, парные стихи», собственно, лишь поэтически перелагают две мысли, которые по принципу соположения фигурируют в эпиграфе к роману, где они выражены намеренно сухим языком грамматики: «Россия — наше отечество. Смерть неизбежна». Подразумевается и отмирание еще хранящихся в памяти «предметов», и незаметное отмирание ее самой, России, удерживаемой памятью, которая порой провоцирует «слепые наплывания», воспринимаемые как непереносимая мука. Об этом уже от своего лица, не скрываясь за автобиографическим героем, Набоков скажет через год после окончания «Дара», в стихах, где он умоляет Россию отвязаться. И в них он выражает готовность навсегда затаиться, жить без имени, «отказаться от всяческих снов», «обескровить себя, искалечить», даже отречься от родного языка — жертва, невозможная для Федора. Отчизну он благодарит как раз за то, что, мучая его, остающегося в злой дали чужбины, она зато позволяет почувствовать, как растет ее музыка. А музыка — это для него, поэта, прежде всего, если не исключительно, русская речь.
Он знает это чувство растущей музыки давно, с первых своих литературных опытов. И оттого, задав себе вопрос, стоящий в заглавии романа, на котором воспиталось несколько поколений русских либералов, тут же и отвечает, что именно нужно делать: «Не следует ли раз навсегда отказаться от всякой тоски по родине, от всякой родины, кроме той, которая со мной, во мне, пристала, как серебро морского песка к коже подошв, живет в глазах, в крови, придает глубину и даль заднему плану каждой надежды?» Со мной, во мне — это, конечно, память, это родовое имение Годуновых-Чердынцевых Лешино в Ингрии (оно могло бы называться Батово, или Рождествено, или Выра), их особняк на Английской набережной, который мог бы стоять и на Морской, парк, «пышно подбитый жимолостью и жасмином… громадный, густой и многодорожный», полосы от велосипеда сестры на мягком красном песке, исподлобья глядящий гимназист, двоюродный брат: его в гражданскую убьют под Мелитополем, как был убит неподалеку от тех мест Юрик Рауш. Приставшее к коже серебро, которого не смоют нудные берлинские дожди, — это образ отца, «его живая мужественность, непреклонность и независимость его, холод и жар его личности» и, вопреки всем очевидностям, надежда, что он все-таки вернется откуда-то из Средней Азии, из Семиречья, из-под Лхасы. А живущее в глазах, в крови — это, прежде всего остального, русская литература, которая одна поддерживает Федора в «тяжкой, как головная боль, стране», делая «чудным» одиночество посреди «скучнейшей демократической мокроты», создавая чудный контраст между внутренним состоянием и «страшно холодным миром вокруг».
Чернышевский, автор с невозможным «умственным и словесным стилем», как показалось Федору при первом же знакомстве — он прочел несколько страничек из юношеского дневника, — не должен бы иметь никакого касательства к миру этих священных вдохновений. Но невозможно отрицать его влияние «на литературную судьбу России» — да если бы только литературную! И Федор, которого дразнит непостижимо громкий и долгий резонанс «долбящего, бубнящего звука», что издают писания былого властителя умов, погружается в его собрание сочинений.
Эти тома и сегодня можно взять в берлинской библиотеке, а на полях обнаружить пометки, которые, скорее всего, принадлежат Набокову (хотя пепла между страницами, найденного Кончеевым, когда, принявшись писать о книге Федора, он решил проверить контекст по первоисточнику, теперь не найти). Литературоведы, в частности Сергей Давыдов, установили, что полный Чернышевский был проработан Набоковым основательно, и кроме того, он использовал изданные к столетию своего героя три тома писем и дневников, а также двухтомную биографию, написанную марксистом Стекловым. Ссылки на Страннолюбского, «лучшего биографа», — розыгрыш: этот автор выдуман, и остается лишь оценить тонкость стилизации в цитатах из его несуществующей книги.
Возмущаясь посягательством на великую тень, из-за чего редакция настояла на изъятии главы, где «жизнь Чернышевского изображалась со столь натуралистическими — или физиологическими — подробностями, что художественность изображения становилась сомнительной» (так пишет по этому поводу один из соредакторов «Современных записок» М. Вишняк), никто и не подумал сопоставить рассказ Федора с источниками, на которых он основывается. И после того как появился полный текст «Дара», звучали те же ноты: книгу называли «злобно полемическим романом», в котором автор «выставил Чернышевского каким-то полуидиотом». Меж тем автор не выдумал почти ничего.
Однако давно известно, что можно, нигде не отступая от документальных свидетельств, все-таки подобрать их так, чтобы получилась достаточно односторонняя, тенденциозная картина. Все откликнувшиеся на книгу Федора, кроме Кончеева, говорили, что автор «всласть измывается над личностью одного из честнейших, доблестнейших сынов либеральной России», при этом не указав ни одной существенной фактологической неточности, если не считать изобретения Страннолюбского. Но их претензии нельзя назвать надуманными — книга в самом деле пристрастна, хотя и правдива. Впрочем, без труда находит контраргумент и Кончеев, взявший на себя защиту «этого сказочно остроумного сочинения»: разве оценка Чернышевского как светоча прогресса беспристрастна? Разве не превратился он стараниями передовой общественности, столько лет твердившей про «эпоху великой эмансипации» и про «лучшие заветы освободительного движения», в подобие портрета давно забытого родственника, для чего-то таскаемого за собою даже в периоды землетрясений и нашествий?
По-своему правы обе стороны, и обе, не исключая Кончеева, плохо считаются с самым главным обстоятельством: перед ними биография, составленная не историком, а писателем, но не того рода биографический роман, «где Байрону преспокойно подсовывается сон, извлеченный из его же поэмы», а скорее сама поэма, везде опирающаяся на факты. Везде балансирующая «на самом краю пародии», но так, «чтобы с другого края была пропасть серьезного».
Излагая Зине свой замысел, Федор характеризует будущую книгу точнее, чем это сделал даже Кончеев в рецензии, растрогавшей автора. Описав его метафору — «пробираться между своей правдой и карикатурой на нее» — языком более строгих определений, следует назвать эту «Жизнь Чернышевского» опровержением стереотипа, который еще при жизни героя книги так глубоко укоренился в сознании русских интеллигентов, что стало невозможным реальное суждение о любимце общественности, не мыслящей своего существования без оппозиции правительству и «царизму». Стереотип четко изложен устами однофамильца — Александра Яковлевича Чернышевского: «жажда знания, непреклонность духа, жертвенный героизм… громадный всесторонний ум, громадная творческая воля… ужасные мучения, которые он переносил ради идеи, ради человечества, ради России». Вот это устоявшееся, внедискуссионное мнение Федор и опровергает пункт за пунктом, стараясь неуклонно придерживаться документов, но все равно слегка их ретушируя, подпуская где иронию, где догадку, беря в союзники мифического Страннолюбского, а в итоге разбивая окаменевшую догму, на место которой, однако же, не является из-под его пера действительно полная и объективная истина.
Этого и не могло случиться, так как у Федора, принявшегося за описание жизненного пути Чернышевского, есть сверхзадача, откровенно продиктованная интересами полемики. Возмутившая профессора Анучина «эклектическая язвительность», о которой Федор читает в его рецензии, никак не результат шалостей пера, а сознательно выбранная установка. Единственное, что пражский профессор понял неверно, — это мнимое недоброжелательство биографа по отношению к своему персонажу. Стрелы авторской иронии поражают не столько Николая Гавриловича, при многих своих слабостях в общем скорее пробуждающего сочувствие под пером Федора, пусть оно порою становится уж очень насмешливым. Стрелы должны поразить, и по возможности насмерть, тенденцию, которая к Чернышевскому восходит и его именем клянется. Которая в его логике, его вере и страданиях черпает самые веские аргументы для доктрины общественного служения и конкретной социальной полезности как главного смысла любой деятельности, включая творческую, тоже ценимую лишь по утилитарным меркам идеологии и социологии, выдаваемых за эстетику.
Чернышевский неприемлем для Федора — и, конечно, для Набокова — не в силу особенностей его личности, а как поборник вульгарных трактовок, которые отменяют тайну искусства, производя подмену вдохновения или, как сказал бы Федор, «чувства звездного неба», плоскими требованиями озабоченности политикой. Или народным благом, как оно понималось людьми, считавшими, что сапоги выше Пушкина, поскольку разутому они нужнее, чем «Онегин».
Сквозной мотив этой биографии — близорукость ее героя, которую надо понимать расширительно. Чернышевский скверно ориентируется в философии, в эстетике, даже в простых житейских ситуациях. И, соединяясь с категоричностью суждений о том, чего он чаще всего попросту не знает, эта слепота приводит к смещению понятий и критериев, которое показалось бы выдумкой пародиста, если бы за приводимыми примерами не стояли конкретные факты его общественной и литературной биографии. Теперь выглядит неправдоподобным, что кто-то мог всерьез требовать замены Святого Духа здравым смыслом и ожидать от Христа деяния, которое «прежде всего покончит с нуждой вещественной». Однако именно об этом еще со своего «студентского дневника» думает будущий идол им же и описанных «новых людей», совершенно точно знающих, «что делать».
Делать надо было вот что: везде насаждать «вещественность», покончив с пустой болтовней об идеальном, духовном, непостижимом уму. Неуклонно следовать доктрине разумного эгоизма, оставив альтруистические мечтания как несообразные с практическими надобностями. Посвятить себя строгой систематике, основанной исключительно на эмпирике и достоверностях, чтобы явился на свет полный, неопровержимо доказательный «критический словарь идей и фактов» (создать его Чернышевский с его втайне лелеемым честолюбием мечтал сам, пока не убедился, что за него это сделано энциклопедией Брокгауза).
Надо было подчинить интеллектуальную деятельность пользе, твердо усвоив, что «прекрасное есть жизнь», и значит, смазливое личико какой-нибудь Надежды Егоровны, которую муж называл «милкой» и «куколкой», превосходит всех Рафаэлей. И, проникшись этими верованиями, пробудив в себе и усилив гражданские чувства, надо было постараться, чтобы скорее сбылся четвертый сон Веры Павловны, где показан близкий социалистический рай, который Герцену напомнил бордель.
Негодование профессора Анучина, писавшего в рецензии, что этот пасквиль находится «абсолютно вне гуманитарной традиции русской литературы», все-таки не отменяет того факта, что по части «трансцендентальных тонкостей» и понимания «вопросов поэзии» Чернышевский вправду не отличался прозорливостью. Но Анучин готов с легкостью все это извинить, нажимая на «мировоззрение передовых людей его эпохи, неразрывно к тому же связанное с развитием общественной мысли, с ее жаром и благотворной деятельной силой». Это отголосок споров, начавшихся задолго до того, как Набоков усадил своего героя изучать материалы о Чернышевском. Споры закипели еще с магистерской диссертации, где «эстетические отношения искусства к действительности» были истолкованы под знаком безусловного приоритета действительности, которую искусство должно было отражать и исправлять. Они с новой силой вспыхнули незадолго до революции, когда Айхенвальд в своих «Силуэтах русских писателей», вызвавших бурную полемику, камня на камне не оставил от этой доктрины, как и от двух романов, сочиненных ее творцом как бы в подтверждение собственных тезисов. Они продолжались в эмиграции, уже после того как Чернышевский был канонизирован советскими историками, ссылавшимися на Ленина, для которого он был самым великим русским писателем и мыслителем, почти дотянувшим до единственно верного учения. Как опыт разбора и критики наследия Чернышевского книга Федора не содержит решительно ничего нового, как не новы и доводы ее оппонентов. Они с некоторыми вариациями и поправками повторяют суждения, много раз высказанные «передовыми людьми», начиная с тех, кто составлял круг некрасовского «Современника». Федор — также кое-что изменяя, но не отступив от основной линии, — приводит аргументацию, последовательно и убедительно лет за шестьдесят до него изложенную в известной статье, называвшейся «Г-н — бов и вопрос об искусстве». Под обозначением «— бов» скрывался присутствующий и в сочинении Федора Добролюбов. А автором статьи был непризнаваемый Набоковым Достоевский.
Нападки на Федора (как и позиция «Современных записок», потребовавших изъятия главы) объяснялись вовсе не тем, что кто-то посмел скептически оценить идеи Чернышевского, — это делалось не впервые и делалось без претензий на оригинальность. Гнев был вызван другим — никто прежде с таким скепсисом не писал о типе личности, воплотившемся в этом трибуне с «полуслепыми, серыми глазами, жиденькой бородкой, длинными спутанными волосами»: таким он предстает по выходе из каторги. Этот портрет тоже основывается на мемуарных свидетельствах, причем принадлежащих людям, о которых никто бы не сказал, что к Чернышевскому они были настроены неприязненно. Однако штрих за штрихом возникает образ, способный пробудить в лучшем случае сострадание — и гражданская казнь, и каторга, и вилюйское житье, которое оказалось хуже острога, просто взывают к таким чувствам, — но никак не восторженность. Тем более что в «Даре» представлен и другой тип русского деятельного человека, интеллектуала, истинного, в отличие от разночинцев, аристократа духа, — в нем представлен Константин Кириллович Годунов-Чердынцев.
Своих американских читателей Набоков просил ни в коем случае не смешивать его с Федором и не воспринимать старшего Годунова-Чердынцева как Владимира Дмитриевича, перенесенного из жизни в литературу. Вероятно, с целью затруднить подобные отождествления он и сделал отца Федора натуралистом, автором шеститомного труда о чешуекрылых, исследователем Центральной Азии, погибшим — если он вправду погиб, хотя Федор, противясь очевидности, в это до конца не верит, — не от пуль черносотенцев, а скорее всего от руки какого-нибудь приверженца революционного правосознания, который расстрелял его без суда и следствия где-нибудь в туркестанских степях, на глухой станции, в огороде темной ночью.
Впрочем, дело не в беллетристическом камуфляже, который все равно не в состоянии скрыть автобиографичности эпизодов, связанных с отцом. Дело скорее в том, что вся эта линия сюжета опирается на литературную модель, которая прямо названа автором, заставившим Федора написать матери, что он думает о книге, посвященной отцу, и что замыслить ее «помог прозрачный ритм „Арзрума“». У Пушкина непосредственно в тексте упоминаются источники, откуда почерпнуты сведения по этнографии Кавказа и подробности военной кампании, которыми поэт не располагал из непосредственного наблюдения. Присутствие в рассказе личных впечатлений путешественника сообщает пушкинским описаниям особую достоверность, и кажется, что все рассказанное на самом деле увидено, испытано, пережито повествователем. Однако по большей части этот результат достигнут благодаря очень тонкому использованию чужих текстов — записок, реляций, отчетов.
Набоков в восемнадцать лет загорелся идеей сопровождать в очередной экспедиции известного путешественника и энтомолога Г. Е. Грум-Гржимайло, на которого Федор прямо сослался, повествуя об отце. Но время было неподходящее для таких затей, и план рухнул, а младшему Годунову-Чердынцеву пришлось писать, беря материал из книг. Он штудировал Пржевальского, великого князя Николая Михайловича, того же Грум-Гржимайло, описавшего свои странствия по Западному Китаю. Реконструкция воображаемых путешествий удалась настолько, что читателю, незнакомому с фактами жизни Набокова, его рассказ покажется основанным на впечатлениях, накопленных за многие азиатские поездки. На самом деле Набоков не знал даже Средней России.
Зато Пушкина он знал как никто из русских писателей ни до него, ни после, и Пушкин для него был не только эталоном поэта, он был олицетворением того духовного аристократизма, который, по убеждению Набокова, есть непременное и неподменное свойство истинной культуры. Имитация «Путешествия в Арзрум» на тех страницах, где воссоздаются отцовские путешествия, оказывалась больше чем литературным приемом: самого путешественника она как бы приобщала к пушкинской традиции, и этим существенно усиливался контраст, важный для развития одной из основных художественных идей «Дара». Являясь, по существу, младшим современником Чернышевского и, уж во всяком случае, постоянно соприкасаясь с его апологетами, которых среди естествоиспытателей было особенно много, Константин Кириллович предстает личностью иного духовного состава, иной крови. Впоследствии Набоков, касаясь в интервью своего «Дара», несколько раз оговорился: назвал Федора князем Годуновым-Чердынцевым. В романе у героя нет этого титула, однако суть дела не в генеалогии, а в том, что и Федор наделен, подобно отцу, чертами человека, в котором обретает продолжение традиция, ведущая к Пушкину. О Чернышевском пишет тот, кто, по всему своему воспитанию оставаясь человеком «с бескорыстными страстями, чистыми печалями… воспоминаниями, просвечивающими сквозь жизнь», — из тех, кого Федор почти не встречал среди своих учеников, — все-таки по дорогим ему понятиям, принципам, идеалам глубоко чужероден этому типу российского интеллигента-общественника, с обычной для таких людей узостью, неискоренимым духом оппозиционности любым начинаниям власти, равнодушием к искусству, об истинной сущности которого у них нет ни малейшего представления.
А для Федора искусство есть нечто «таинственнейшее и изысканнейшее», и это он понимает, как «один из десяти тысяч, ста тысяч, быть может даже миллиона людей». Оно такой же бесценный дар, как и жизнь, которая дана вовсе не напрасно. Оно «блаженный туман», и «сложный, счастливый, набожный труд», и поиски «чего-то нового, неизвестного, настоящего». Какое несоответствие тем подхваченным «акустикой века» банальностям, суть которых в наставлении поэту живописать «портреты жизни примерных людей в благоустроенных обществах».
Обдумывая замысел, и страшащий, и притягивающий все сильнее, — книгу об отце, которую предстоит создать из тьмы выписок и «хрупкой статики» сведений, — Федор чувствует, что она, эта «стройная, ясная книга», если он ее напишет, станет испытанием и подтверждением его дара. Он, собственно, и живет мыслями об этой медленно им в себе вынашиваемой книге, воспоминаниями детства, которые она пробуждает, ожиданием потрясающего мига, когда закончится «бесовское уныние белого листа» и по нему побегут первые строки. Даже в мгновения счастья, которые дарят ему свидания с Зиной, он, шагая к условленному месту поблизости от Груневальда, чувствует, как берлинская «улица кончается в Китае, а та звезда над Волгою висит». И его возлюбленной не случайно дано в романе имя Зина Мерц: в нем есть мерцанье, знакомое читателю поэзии Серебряного века, есть отзвук Мнемозины, богини памяти.
И это ей адресовано: «О поклянись, что веришь в небылицу, что будешь только вымыслу верна, что не запрешь души своей в темницу» — души, так редко упоминаемой на страницах Набокова. Но если жизнь действительно дар, а пушкинские гениальные строки все же должны быть восприняты главным образом как дань мрачной минуте (она, кстати, пришлась на день рождения), то воспринять ее так можно только вырываясь из темницы и преодолевая «стену», какой становятся для бездомных изгнанников берлинские будни, — только обретаясь (не физически, но в душе) там, где всевластны поэтический вымысел и память, а доверие к «небылице» сильнее всех житейских непреложностей. Где доминантами становятся «возмужание дара, предчувствие новых трудов и близость полного счастья». Где Федор, случается, отчетливо чувствовал, как «Пушкин входил в его кровь». И как «с голосом Пушкина сливался голос отца».
Всю меру своей чужеродности тем моральным и эстетическим нормам, которые сопрягаются с именем Чернышевского, Федор как раз и ощутит, дойдя в повествовании до самого уязвимого места литературной биографии шестидесятника, до его трактовки Пушкина. И тут перо Федора выведет фразу, особенно уязвившую будущих рецензентов (как и редакцию «Современных записок»), — фразу о критике, беспомощной, если отнять «социологические, религиозные, философские и прочие пособия, лишь помогающие бездарности уважать самое себя». Меж тем не время ли «покончить раз навсегда с соображениями идейного порядка», как поступил написавший о сочинении Федора Кончеев, и рассматривать книги «как произведение искусства, без каких бы то ни было привходящих обстоятельств».
Набоков слишком часто высказывал совершенно те же мысли впрямую от собственного имени, чтобы предполагать, что в данном случае он просто дополняет нужными оттенками портрет героя, чьи суждения вовсе не обязательно аналогичны авторским. Нет, как раз аналогичны, что ничуть и не скрывается. Полемический адрес этих обличений отнюдь не один Чернышевский и даже не столько он, а скорее давние литературные противники Набокова, которых он и от первого лица обвинял в том, что они готовы пренебречь искусством ради документа, или проповеди, или мистических откровений — различия не так важны, как сама готовность к этой жертве. И Кончеев, с которым у Федора под конец романа будет долгий воображаемый разговор, отметил в его книге «вещи, рассчитанные главным образом на то, чтобы уколоть ваших современников», добавив, что это недостаток, так как «настоящему писателю должно наплевать на всех читателей, кроме одного: будущего — который в свою очередь лишь отражение автора во времени».
Надо сказать, что Ходасевич, которого обычно считают основным прототипом Кончеева, ничего подобного в своих статьях не писал. Как и многое другое, назначение поэзии им понималось по-пушкински. В своем ответе Жуковскому, который интересовался, «какая цель у „Цыганов“», Пушкин заметил: «Вот на! цель поэзии — поэзия», тут же переведя весь разговор в шутку. Ходасевич не раз напоминал тем, для кого идейные или социологические контексты были интереснее, чем сам художественный текст, о том, что настоящая литература не нуждается в подпорках и что судить о ней необходимо по эстетическим законам, не производя подмены. Однако у него не найти ни строки в обоснование доктрин чистоты, «незаинтересованности» искусства, довольно модных уже и в ту эпоху. А высший комплимент, которым Федор, не говоря этого вслух, удостаивает выслушанные им стихи Кончеева (в них «вдруг возникало, лилось и ускользало, не утолив до конца жажды, какое-то непохожее на слова, не нуждающееся в словах своеродное совершенство»), при всей его лестности решительно неприложим к поэзии Ходасевича. И особенно к эмигрантской, сложившейся в книгу «Европейская ночь»: с ее стремлением воплотить свою эпоху в трагических, резких образах, с ее «заклятым» вдохновеньем, «измученными ангелами» и постоянно звучащим мотивом «волчьей жизни», который иной раз чуть ли не заставляет вспомнить строки петербургских стихотворений Некрасова. Призвав Ходасевича в союзники, Набоков, однако, создал собственного Ходасевича, придав Кончееву и свои черты, — для романа это естественно. Он потом сам удивлялся, что не замечают родства Кончеева с мелькнувшим в сцене заседания Союза русских литераторов — на нее Набоков израсходовал, кажется, весь свой яд — прозаиком Владимировым, имеющим даже портретное сходство с писателем Сириным, уж не говоря о мимоходом упомянутом оксфордском образовании этого романиста с умными и равнодушными глазами. Прообраз начинает теряться (это, как всегда в набоковских книгах, контаминация сразу нескольких фигур с добавками каких-то личных авторских черт), но существенно, что и Кончеев, и Владимиров, и скрытый за ними Набоков составляют, при некоторых отличиях друг от друга, несомненно, один литературный ряд: они пушкинские наследники. Даже невооруженным глазом видны прямые реминисценции из Пушкина, сопровождающие появления в романе Кончеева, этого «все понимающего человека», в присутствии которого у Федора такое чувство, что в литературе он кончеевский современник, и не больше.
Упоминания о Пушкине есть в первой же беседе Кончеева и Федора, когда они бегло перебирают историю русской литературы, устанавливая общность своих представлений о ней, основанных на признании безусловного пушкинского приоритета. Впрочем, не столь явные отсылки к «золотому фонду нашей литературы» в каком-то смысле даже более выразительны.
И Кончеев, и Федор вхожи в дом берлинских Чернышевских, трагедия Яши Чернышевского, страстного обожателя поэзии (особенно символистов и акмеистов — шкафчик в его спальне забит книгами Блока, Рильке, Гумилева), происходит на глазах у них обоих. Это типичная трагедия очень запоздавшего романтика, который строит свою реальную жизнь как литературный сюжет с резким преобладанием мотивов тоски, безверья, бесцельности и пустоты существованья. Для тех, кто был увезен из России детьми, в эмиграции ощутив себя, по слову одного будущего мемуариста, «незамеченным поколением», была в высшей степени характерна подобная жизнь по сюжету с катастрофической развязкой. Другого финала случиться не могло, поскольку духовной доминантой этих молодых людей оказывалась преследующая их уверенность, что они не нужны в мире. За историей Яши Чернышевского слышны отзвуки действительно происходивших событий, прежде всего истории Бориса Поплавского. Он погиб совсем молодым при загадочных обстоятельствах: не то самоубийство, не то опасно развившийся комплекс разрушительных настроений, которые влекли к наркотикам, к патологии, на дно.
Яша пишет слабые, подражательные стихи, где есть отблески есенинской осени и блоковских болот, «снежок на торцах акмеизма и тот невский гранит, на котором едва уж различим след пушкинского локтя», теряющийся среди «модных банальностей». Этот привкус банальности сопровождает и его отношения с возлюбленной, не по капризу автора носящей имя Ольга, а также с ближайшим из друзей, Рудольфом. Онегинской дуэли не будет, но будет такая типичная для «незамеченного поколения» страсть к литературной игре не самого высокого разбора, к «модной комбинационности» в границах тривиального любовного треугольника, к изощренному мучительству, которым оттеняется лелеемое всеми тремя ощущение собственной душевной неприкаянности. И будет все сильнее искушающая «мысль исчезнуть всем троим, дабы восстановился — уже в неземном плане — некий идеальный и непорочный круг».
Эту мысль доведет до логичного завершения один Яша, и как раз Кончеев, «неприятно тихий человек», у которого особый дар и привычка давать точные определения вещей, не считаясь с тем, что точность может оказаться травмирующей, поведает Федору эпилог — вполне отвечающий развязке той же сюжетной линии у Пушкина: «Ольга недавно вышла замуж за меховщика и уехала в Соединенные Штаты. Не совсем улан, но все-таки…» С позиций другой школы история несчастного Яши, конечно, оказывается тем «человеческим документом», который по силе воздействия превосходит любые стихи. Затронув, по случайному поводу, уже подзабытую тему, и Кончеев, и Федор в свою последнюю встречу (которой, как выясняется, не было) прекрасно знают, что разговор у них в действительности идет не о Яше, а о насущности или, напротив, невозможности поэзии в сумрачные времена, когда подобные темы становятся актуальными, и даже слишком. Беседа на скамье в парке — та самая, когда Федор признается, что более всего ему бы хотелось воспринимать время как бесконечно длящееся настоящее, — сразу вслед упоминанию о Яше, застрелившемся где-то поблизости, переходит на «Жизнь Чернышевского», а значит, и на появившиеся отклики, среди которых самый язвительный — и, надо признать, самый принципиальный — принадлежит Мортусу: Адамовичу, сконтаминированному с Гиппиус.
А пишет Мортус вот что: книга Годунова-Чердынцева, вероятно, не лишена художественных достоинств, однако велика ли их важность, если говорить «о настоящей, „несомненной“ литературе»? В такой литературе теперь все зависит не от писательских умений, не от «лиры», пусть даже она звучит божественно, но от присутствия человеческого элемента — «ценностей, необходимых душе». Сейчас особенно неизвинительны «праздная литература», «озорные изыскания», все «холодноватое, хлыщеватое, „безответственное“, что ощущалось… в некоторой части пушкинской поэзии». Пусть будет написано не очень умело, даже топорно, — это не главное, если произведением «задевается то значительное, горькое, трепетное, что зреет в катакомбах нашей эпохи». И, суммируя свои претензии, Мортус не без вызова возвещает, что Чернышевский, осмеянный в книге молодого автора, при всех пороках вкуса и смешных промахах в литературных оценках, владел некой истиной, востребованной «именно сегодня, именно сейчас». Эта истина проста — «одним „искусством“ сыт не будешь», нужна «польза», и теперь она даже нужнее, чем было в их время.
В итоге выясняется, что Мортус, то есть парижская критика (и поэзия), которая воспринимала себя как законную наследницу Серебряного века, представляет собой боковую ветку на стволе того самого дерева, что вырастили на русской культурной почве разночинцы, шестидесятники, примитивные вульгаризаторы с их требованиями говорить в романах о женской эмансипации или обличать взяточников и выбросить из литературы Фета, так как Фет — поборник чистой лирики, а она ничтожна и недопустима. Счастье Набокова, что Гиппиус либо не узнала себя в полуслепой — совсем как Чернышевский — матроне с пером, подобным жалу, либо не дочитала «Дар» до конца: легко вообразить, какой убийственной для автора была бы ее отповедь. Тем более что бросалась в глаза несостоятельность параллели между Чернышевским, судившим об искусстве с позиций агрессивного материализма, и приверженцами понимания искусства как мистического акта, какими были все причастные к кругу Гиппиус и Мережковского и допущенные в их парижский литературный салон, называвшийся (кстати, по-пушкински) «Зеленая лампа». Провоцирующие насмешки Мортуса «отвлеченно-певучие пьески о полусонных видениях» — так он характеризует кончеевские стихотворения — нашли бы в «Зеленой лампе» вполне доброжелательный отклик. Отвлекаясь от издевательского тона, из отзыва Мортуса можно заключить, что Кончеев (но не Ходасевич!) сохранил приверженность поэтике символизма, именно той, которую Гиппиус считала последним настоящим обретением русской художественной традиции. И уж само собой, напрасно было бы искать в ее критических статьях каких-то гимнов «бесхитростной и горестной исповеди», вылившейся «у иного советского писателя, пускай и не даровитого». Советских писателей она попросту не замечала. Даже самых одаренных.
Вхожий в «Зеленую лампу» Адамович, не в пример ей, знал советскую литературу превосходно (намного лучше, чем Набоков, об авторах метрополии осведомленный поверхностно: будучи профессором-русистом, он нигде, ни разу не упомянул ни о Булгакове, ни о Платонове, ни о Бабеле — можно подумать, и не подозревал, что они существуют). В еженедельных статьях Адамовича все стоящие внимания московские и ленинградские новинки получали оценку достаточно объективную, хотя, разумеется, отвечающую все более твердо им отстаиваемой мысли, что в эмиграции, этой «зияющей пустоте», где «за человеком нет народа», поэзия угасает, так как ей жизненно необходима «общая, животворящая, мутная, родная стихия», а приходится существовать в разреженной атмосфере, где выживают только одинокие титаны наподобие героев Ибсена («здесь воздух для Брандов»). Хотя Адамовича считали апологетом той школы, которую именуют «парижской нотой» (с нею, а особенно с Георгием Ивановым, Набоков враждовал непримиримо), при сопоставлении стихов молодых парижан и петербуржцев предпочтение (в статье «Петербургские сборники стихов», 1927) он отдал последним. И отметил, что у них есть что-то совершенно не свойственное мизантропически настроенной, пропитанной отчаянием поэзии эмигрантского «незамеченного поколения». Петербуржцы привлекают «легким дыханием, легким ощущением жизни, — да, легким, несмотря на цензуру, гнет и все остальное…».
С мертвенностью, которой тянет уже от самого псевдонима Мортус, это (и еще многие в таком же роде) высказывание явно не вяжется, и вызывает сомнение точность имени, выбранного Сириным для обозначения главенствующего качества своего антагониста в литературе. Еще сомнительнее реальная обоснованность тирады, вложенной в уста Мортуса, когда, изысканными приемами разгромив кончеевский сборник, он говорит об «отрадном облегчении», которое наступает, если вслед подобным стихам обратиться «к любому человеческому документу», желательно — советского изготовления. Этот пассаж давал бы ясное представление о безвкусице Мортуса, если бы можно было найти аналогичные места у Адамовича. Но их нет. Никогда Адамович не отрекался от требований искусства во имя высоко им ценимой подлинности свидетельства о переживаемом времени. И о советской литературе, оставаясь по отношению к ней максимально объективным, радуясь, когда появлялось что-то неподдельно значительное (в частности, и книгам Платонова, чей масштаб он ощутил раньше всех и первым указал на родственную связь этого писателя с Пушкиным), Адамович, однако, судил без всякой умиленности. Ужасался «медленному одичанию», которое в ней происходит. Говорил о трусости, о безграмотности духа, подмененного заносчивостью и невежеством.
Для знающих реальное положение дела несомненно, что по сравнению с прототипами Мортус фигура карикатурная, а значит, изображенная недостоверно. Важно понять, какие мотивы заставили Набокова произвести искажение, причем довольно грубое, вплоть до попытки показать единоверцами российских шестидесятников и парижан из «Зеленой лампы». Личная неприязнь и литературные счеты были, конечно, не последней причиной, однако и не самой важной. Намного серьезнее глубокое различие между Набоковым и его парижскими оппонентами в том, что касается понимания сущности литературы. Для Набокова литература, как будет через несколько лет сформулировано в его книжке о Гоголе, — «феномен языка, а не идей». Любая идеология, любая «тенденция», все, что выходит за область художества и образует, как сказано в рецензии Мортуса, ряд «ценностей, необходимых душе», для литературы, согласно убеждению, косвенно выраженному Кончеевым и открыто Федором, губительно. Пушкин призывается в обоснование заветной набоковской мысли о самоценности творчества, по самой своей природе чуждого каких бы то ни было внеэстетических интересов. Но княгиня Шаховская справедливо заметила, что этот Пушкин словно бы и не считал своей главной заслугой «чувства добрые», пробужденные его лирой, и никогда бы ее не заставил проповедовать милость к падшим, поскольку проповедь и поэзия несовместны.
Когда Набоков укрепится в своем безоговорочном неприятии каких угодно — утилитаристских ли, мистико-религиозных или всех прочих — идей, считая, что для искусства они не только ненужный довесок, но отрава и пагуба, откроется путь, ведущий к «Аде», где, по замечанию Шаховской, «оригинальность становится маньеризмом» и в итоге на свет является «самая скучная из набоковских книг». Автор, правда, был склонен к прямо противоположной оценке своего самого большого и, пожалуй, наиболее амбициозного романа. Давая этому роману заглавие, по краткости да и фонетически соотносимое с «Даром», он подчеркивал центральное положение «Ады» в своем творчестве американского периода (как «Дара» — русского). На самом деле эти книги не столько соприродны одна другой, сколько друг другу антагонистичны. В отличие от «Ады» о «Даре» никто, даже критики, в целом воспринимающие Набокова негативно, никогда не говорили, что он творческая неудача. И никому в голову не могло прийти, что это роман, обошедшийся без идей.
Неудачей оказался не «Дар», а попытки его продолжения.
Сохранились тетради и записные книжки с наметками сцен, которые должны были составить основные эпизоды рассказа по прошествии примерно пятнадцати лет после той счастливой ночи, когда Зина и Федор идут в дом, наконец-то принадлежащий им одним (и неизвестно, как туда попадут: ключей нет). Теперь у них квартира в Париже, однако она в последней главе опустеет. Зина погибла, сбитая машиной, как случилось с героиней рассказа «Катастрофа», тоже угодившей под колеса, когда она выходила из автобуса.
Есть разные мнения о том, к какому времени относятся эти наброски, но ясно, что все они сделаны Набоковым уже во Франции. Самый ранний, если исходить из хронологии действия, по своему содержанию ясно говорит, когда это писалось: в нем племянник Щеголева, отчима Зины, — некто Кострицкий — является к сводной кузине с целью перехватить денег и произносит длинные речи, пересыпанные пропагандистскими штампами из лексикона нацизма. Федору эти словечки буквально режут слух, он, мечтая выставить гостя за дверь, грубит, ссорится с Зиной и потом ему досадно на себя.
Похоже, из него не вышел большой писатель, как предрекал Кончеев. Однако одно осталось неизменным: верность Пушкину как высшему мерилу в литературе, которая для него и есть истинная жизнь. Федор занят окончанием «Русалки». Этим же через два-три года будет занят сам Набоков, испытывавший к утопленницам — наподобие той бросившейся в Сену незнакомки, которой посвящено его стихотворение с французским заглавием, — особый интерес, питаемый неослабевавшим стремлением заглянуть за роковую черту, в «потусторонность». Напечатанное Набоковым в 1942 году окончание пушкинской драматической поэмы — оно написано белым ямбом, как и «Русалка», — строится как разговор русалочки с князем, которого она убеждает, что он ее отец и поэтому должен воссоединиться с некогда им соблазненной дочерью мельника, тоже бросившись в Днепр. У Федора такая развязка представлена не как отмщение Царицы, а как самоубийство князя, изведенного муками совести, причем он не утопился, а повесился. И вот этот текст Федор под завывание сирен читает в последней главе Кончееву.
Когда в Париже стали выть сирены воздушной тревоги, Ходасевича уже не было в живых — его похоронили полутора месяцами ранее. Вероятно, сирены в этом отрывке понадобились только для того, чтобы вызвать ассоциации с мифическими морскими божествами. А вот Кончеев, слушающий повесть о днепровских сиренах, воспринимается как трудно объяснимая жестокость со стороны Набокова, только что напечатавшего проникновенную статью об умершем Ходасевиче. Ведь как раз с «Русалкой» связан, пожалуй, самый неприятный, конфузный эпизод за всю его литературную жизнь. Увлекшись биографическими трактовками художественных текстов, Ходасевич в книжке «Поэтическое хозяйство Пушкина», написанной еще в России, доказывал, что сюжет «Русалки» основан на реальном эпизоде молодости ее автора, а героиней была крестьянка, жертва барского сладострастия. Пушкинисты тут же подвергли эту версию сокрушительной критике, доказав полную ее фантастичность. Может быть, еще и память об этой неудаче заставила самолюбивого Ходасевича отказаться от много лет вынашиваемой мысли о пушкинской биографии, которой от него ждали к юбилею 1937 года.
По отношению к памяти Ходасевича подобное напоминание о «Русалке» было бы бестактностью, появись второй том «Дара» сразу вслед за окончанием неполной публикации первого — в ту первую военную осень. Однако сама тема, соотнесенная с поэмой Пушкина, вскоре Набоковым дописанной: русалка, «потусторонность», преодоленная или непреодолимая утрата — как раз в ту пору, когда создан набросок последней главы «Дара», стала обозначаться как доминирующая в его творчестве. Она присутствует и во фрагментах неоконченного русского романа, которые впоследствии будут использованы для «Bend Sinister», книги, созданной уже в Америке. Она существенна для «Истинной жизни Себастьяна Найта», первой его большой книги, написанной по-английски.
Видимо, приоритет именно этих мотивов каким-то образом связан у Набокова с его вызывающим отказом от идей — всяких идей, поскольку любая из них деформирует художественное переживание и воплощение мира, которое и самодостаточно, и самоценно. Этот эстетизм, кажется, самим Набоковым ощущался как несостоятельный, когда жизнь заставляла впрямую сталкиваться с катастрофическими ситуациями и с теми фундаментальными категориями человеческого существования, которые рано или поздно предстают перед каждым, — когда, говоря словами нелюбимого им Пастернака, происходила «гибель всерьез». И вот тут читатель Набокова, если, конечно, он внимательно следил за всеми зигзагами мысли этого автора, вдруг чувствовал, что осмеянная, отвергнутая им мистико-философская настроенность, которая царила в «Зеленой лампе», передалась самому насмешнику. Но только так его и не побудила сделать следующий логичный шаг: на языке Гиппиус этот шаг назывался неудовлетворенностью ни «формами страсти, ни формами жизни» и желанием Бога «не только в том, что есть, но в том, что будет».
Набоковское ощущение мира не создавало ни стимула, ни предпосылок для подобного желания. Хотя неудовлетворенность — та, о которой Гиппиус говорит в своих дневниках начала века, а потом опять, сорок лет спустя, — переживалась Набоковым ничуть не менее сильно. Оставаясь неутоленным, это чувство порождало состояние душевной пустоты, когда не способен был выручить и самый яркий художественный дар, то чувство, которое знакомо Федору из неосуществленного второго тома.
Довольно большой эпизод черновой рукописи представляет собою его рассказ о встречах с парижской проституткой по имени Ивонна (а он для нее — Иван). У них было два свидания, пока Зина находилась на Лазурном Берегу, — ее звонок оттуда сорвал третью встречу. Год спустя Федор приходит на тот же перекресток, где они познакомились. Разобраться в мотивах своих действий ему непросто: конечно, тут влечение, однако описываемая ситуация сродни пошлым романам о супружеских изменах и соскальзывает в порнографию, а против этого восстает его художественный вкус. И убедившись, что Зина перестала для него быть вдохновеньем, презирая себя за низость, но не в состоянии с собою справиться, Федор находит единственную защиту от чувства стыда в том, что эстетизирует свое более чем тривиальное поведение или старается смотреть на эту историю с ее непритязательными подробностями иронически: как будто дело происходит не с ним самим, а с кем-то из литературных героев, которому надо подобрать аналогию из того запаса, что накоплен русской классикой. Он даже произносит похвалу пародии, выручившей его в обстоятельствах, которые компрометировали Федора в собственных глазах.
Однако подобное развитие сюжета само воспринимается как пародия ценителями «Дара», которые должны быть благодарны Набокову и за то, что он не написал продолжения.
Правда, будь оно все же написано, очень проблематично, что книга увидела бы свет. К концу 1938 года положение русской культуры во Франции стало критическим.
До эмигрантов, в сущности, никому уже не было дела. Все, кроме политиков, понимали, что Мюнхен, где для умиротворения Гитлера согласились на оккупацию Чехословакии, — это только отсрочка, которая не будет длительной. Без труда предвидя ход ближайших событий, многие, не исключая Набоковых, делали все возможное, чтобы обзавестись выездной французской визой — это было очень трудно — и, если повезет, получить американскую. В США пытался как-то помочь академик Ростовцев. Писатель Марк Алданов с готовностью уступил Набокову предложенное ему место лектора по русской литературе, но речь шла только о летней школе в Калифорнии — два месяца, не больше, и то через год-другой. Историк Михаил Карпович, с которым Набоков познакомился в одно из своих посещений Праги, предпринимал энергичные усилия с целью организовать приглашение на работу — в провинции и хотя бы преподавателем французского языка. Из этого тоже ничего не вышло, но Карпович написал Александре Толстой, младшей дочери писателя, возглавившей в Америке Толстовский фонд, который помог тысячам русских перебраться за океан и освоиться в первые месяцы новой жизни. Александра Львовна обратилась к Сергею Кусевицкому, дирижеру Бостонского симфонического оркестра. Его поручительство сильно облегчило дело в переговорах с чиновниками американского ведомства иммиграции.
Эти переговоры необходимо было торопить (они увенчались получением въездных виз уже после того, как началась война). Существовать дальше во Франции на литературные заработки было немыслимо. Большие надежды возлагались на американское издание «Смеха во мраке», англоязычной версии романа «Камера обскура», появившееся весной 1938-го в Нью-Йорке, однако оно не принесло ни известности, ни денег. Не выручил и французский перевод «Отчаяния». Он обратил на себя внимание молодого, но уже очень модного писателя Жана Поля Сартра, в скором будущем — властителя умов европейской интеллигенции. Посвятив книге несколько страниц в своей постоянной рубрике во влиятельном журнале «Эроп», Сартр признал одаренность автора, однако роман оценил пренебрежительно, счел бледным подражанием «Подростку» Достоевского и пустился в рассуждения о том, как губительна оторванность от почвы: «жертвы войны и эмиграции» не чувствуют, подобно Набокову, озабоченности запросами общества, потому что никакому обществу не принадлежат, а оттого их произведения разъедены ядом непричастности и цинизма.
Были основания расценить эту критику как оскорбительную, и она не осталась без ответа. Ровно через десять лет Набоков написал статью о романе Сартра «Тошнота», которым публика зачитывалась как раз в ту пору, когда по-французски появилось его «Отчаяние». Он назвал этот роман довольно беспомощным с философской стороны, а со стороны литературной — просто несостоятельным, как обычно случается, когда авторы тянутся за корифеем слезливой мелодрамы Достоевским. Сартр через запятую упомянут и в послесловии к русскому переводу «Лолиты»: там сказано, что он и Фолкнер — «баловни западной буржуазии». Набоков к этому сонму не принадлежал никогда.
Французские друзья Набоковых Поль и Люси Леон зимой 39-го устроили обед, на который был приглашен и Джеймс Джойс. Это была уже вторая встреча Набокова с прославленным ирландцем, автором полузапретного «Улисса» — культового произведения для всей литературы европейского авангарда. Джойс давно жил в Париже (с началом войны он перебрался в Цюрих, где через два года умер) и полтора десятка лет был занят «Поминками по Финнегану»: герметическим текстом в многие сотни страниц, о котором Набоков, всегда подчеркивавший, что Джойса он считает великим писателем современности, тем не менее отзывался по меньшей мере со скепсисом — утомительный словесный маскарад, бесконечные и не всегда остроумные каламбуры, в которых тонет мысль, если она вообще присутствовала. Эта фраза из письма жене, датированного 1936 годом, не раз вспомнится читателям его собственной «Ады», завершенной три десятка лет спустя. «Поминки по Финнегану» Набоков в своей лекции о Джойсе назвал «одной из величайших неудач в литературе» (а вот «Аду» находил своим эпохальным свершением).
Джойс присутствовал на набоковском вечере в феврале 1937-го. Это вышло случайно, его уговорили прийти, поскольку должна была читать одна ярко дебютировавшая писательница венгерского происхождения, которая заболела и не появилась на эстраде. Зал был набит венграми: болельщиками футбольной команды и ее игроками, пришедшими поддержать соотечественницу. Джойс невозмутимо сидел во втором ряду, поблескивая очками. Рядом расположились Бунин, Керенский. Не зная русского, Джойс не понял из читаемого ничего.
Через два года за столом у Леонов разговора опять не вышло. Кроме Набоковых, присутствовал американский дадаист Юджин Джолас, известный своей приверженностью литературным провокациям и скандалам. Набоков держался скованно — хозяйка салона решила, что рядом с Джойсом он оробел. На самом деле у них просто не нашлось общей темы. Джойсу зачем-то надо было знать, как готовят русский мед — тот, что упомянут Пушкиным («мед-пиво пил»). На прощанье он подарил Набокову маленькую книгу, фрагмент «Поминок по Финнегану». Как назло, «Смех во мраке» Набоков с собой не захватил.
Впоследствии, прочитав в мемуарах Люси Леон о своей якобы робости перед Джойсом, он в интервью заметил, что это чепуха, потому что уже и тогда для него не было тайной, как много им сделано для литературы. «Улисс» был ему известен с кембриджских времен и, видимо, основательно перечитывался: композиционные особенности, архитектурное построение этого романа и некоторые его сквозные мотивы узнаваемо варьируются в произведениях самого Набокова, начиная с «Отчаяния». Лекция о Джойсе, вошедшая в посмертно опубликованный том лекций по западной литературе (1980), особенно большое внимание уделяет джойсовскому приему синхронизации: «пути персонажей пересекаются вновь и вновь в чрезвычайно замысловатом контрапункте», и сцены, разделенные десятками страниц, образуют перекличку, даже если в развитии действия они впрямую не соотнесены. Сам Набоков еще в 30-е годы изобрел понятие «космическая синхронизация» — оно особенно уместно, когда речь идет о «Соглядатае» и примыкающих к нему рассказах, где пути пересекаются в «потусторонности» и создаваемый контрапункт приобретает мистическую символичность. Сложно сказать, до какой степени эти произведения, написанные главным образом в начале 30-х годов, окрашены впечатлениями от Джойса. Скорее всего не следовало бы отыскивать синхронизацию в том, что книга «Соглядатай» была издана за четыре месяца до того обеда у Леонов, когда Джойс сидел за столом рядом с ее автором, — тут простое совпадение. Хотя фрагменты нового романа, которым Набоков был занят в ту пору, как раз заставляют постоянно вспоминать о «космической синхронизации» и о сборнике «Соглядатай», где впервые использован этот повествовательный ход.
Однако с этими фрагментами никто тогда не был знаком, а то, что Набоков публиковал (преимущественно в новом журнале «Русские записки», который продержался недолго, только два года), было литературой совсем другого характера. Он напечатал в «Русских записках» две пьесы — не миниатюры, как прежде, а большие трехактные пьесы, которые рассчитаны на десяток актеров и требуют изобретательного режиссерского решения, так как созданы не для чтения, а для театральной постановки. На сцену попала только одна из них, «Событие», включенная в репертуар парижского Русского театра, где 4 марта 1938 года состоялась премьера (спектакль в режиссуре Юрия Анненкова, известного художника, театрального деятеля, а также писателя, автора превосходной мемуарной книги «Дневник моих встреч», прошел четыре раза; были также постановки в Праге, Варшаве, Белграде, а потом и в США). Предполагалось, что тот же Анненков возьмется и за вторую пьесу — «Изобретение Вальса», но объявленная на 10 декабря 1938-го премьера не состоялась. Режиссер поссорился с дирекцией, а заменить его было некем.
Публика премьеры — в основном «обер-прокуроры», как выразился Фондаминский, как раз и уговоривший Набокова взяться за пьесу, — оказала «Событию» ледяной прием, а на следующий день в «Последних новостях» появилась разгромная рецензия. Однако потом дело пошло лучше. На втором спектакле уже были вызовы. Написавший об этом спектакле Адамович вспомнил провал «Чайки» в Александринском театре, надеясь, что история не повторится. Он же первым указал на литературные истоки этой «драматической комедии», как определил свой жанр автор, — на Гоголя. Прежде всего на «Ревизора».
Между этими двумя пьесами и правда немало общего: и там, и здесь ждут, что случится что-то ужасное, и в обоих случаях оказывается — ужас внушен некой фантасмагорией, помрачением ума. Комические ситуации, возникающие из этих ожиданий, и там, и здесь оттенены настолько сильным страхом героев, что сквозь бурлеск начинает ясно проступать трагедийность. У Гоголя финал — немая сцена при известии, что настоящий ревизор все-таки явился, а в «Событии» выясняется вздорность предчувствий катастрофы, которые преследовали героя, пошловатого художника-портретиста со смешной фамилией Трощейкин. Узнав, что из тюрьмы досрочно выпущен однажды в него уже стрелявший Барбашин, возлюбленный его жены, Трощейкин нанимает агента-охранника и думает только о том, как бы поскорее сбежать из города, где он неспокоен за свою жизнь. Но оказывается, что, запугав его до полусмерти, враг удовлетворился такой местью и сам навсегда уехал за границу. Жизнь возвращается в привычную колею: у жены любовник, которого она, впрочем, презирает, Трощейкин, хорошо обо всем осведомленный, делает вид, что в семье полное благополучие, и малюет холст за холстом. Теща-писательница вдохновенно творит какую-то декадентскую чепуху под заглавием «Озаренные Озера». Патетический возглас Трощейкина: «Наш последний день…» его жена завершает трезвой, точной констатацией — «обратился в фантастический фарс».
И Адамович, и Ходасевич, писавший о «Событии» дважды, отмечали, что сращение ужаса и фарса — гоголевский ход. Есть и еще один классический образец, с которым перекликается пьеса. Он указан в самом ее начале, когда Трощейкин констатирует, что «мы разлагаемся в захолустной обстановке, как три сестры». И дальше будут постоянно звучать чеховские отзвуки: действие происходит в день именин, на которые, как в первом акте «Трех сестер», собирается пестрая компания; пружина сюжета — приближающаяся кровавая драма, и причина ее та, что Барбашин чувствует себя оскорбленным, так как, отвергнув его, Любовь вышла за Трощейкина; о своей связи она говорит словами Чебутыкина про Наташу — «романчик»; даже упоминается семейство по фамилии Станиславские. В ту пору взгляд на Чехова — практически никем не оспаривавшийся, — был именно тот, который утверждал своими постановками Художественный театр: драма несостоявшихся судеб, лиризм, поэзия, полутона. Набоков ощутил и другое: присутствующий в чеховских пьесах элемент трагикомедии, тень гротеска, распознаваемую даже в тех эпизодах, когда близка драматическая кульминация. Для него между «Тремя сестрами» и «Ревизором» нет непреодолимого жанрового различия. Свое «Событие» он построил так, что в нем, по слову Ходасевича, должно было соблюдаться «равновесие между очень мрачным смыслом пьесы и ее подчеркнуто комедийным стилем».
Ходасевич считал, что это не вполне удалось, и был прав. Когда персонажи впрямую уподобляются, как у Гоголя, «свиным рылам», рушится, не выдержав такой степени фарсового заострения, чеховский сюжет, который отчетливо прослеживался в тех сценах, где говорилось об умершем в младенчестве ребенке, об эгоизме Трощейкина и о том, что Любовь считает свою жизнь погубленной. Постановщик «События» Ю. Анненков особо ценил в пьесе ее «жизненную правдивость», обусловленную тем, что она представляет собой переплетение «реальности с фантастикой», но это единство все-таки оказалось недостаточно органичным. Видимо, почувствовав, что сделать его по-настоящему естественным он не смог, Набоков во второй своей большой пьесе отказался от такой стилистики и предпочел беспримесный фантастический гротеск.
Такого решения требовал сам сюжет. В центре действия тут находится не то гениальный, не то безумный изобретатель по фамилии Вальс. Он придумал адскую машину, которая дает своему обладателю власть над всем миром: любое неповиновение — и лишь тучи пыли остаются от цветущих городов. Машинка называется телемор, и ею можно управлять по радио, с дистанции. Едва ли Набоков был в курсе новейших достижений военной техники, но сама тема к 1938 году приобрела острую злободневность. Деяния Вальса, казавшиеся сказочными, — взрывы, уничтожающие сотни тысяч людей, — вряд ли показались бы такой уж выдумкой тем, кому вскоре предстояло пережить ужасы Второй мировой войны.
Пьеса, где на протяжении всех трех актов звучат ультиматумы, подкрепляемые устрашающим воздействием, а герой из «маленького человека», обиженного жизнью, превращается в диктатора, чьим капризам приходится подчиняться, чтобы выжить, отчасти напоминает «Истребление тиранов», написанное чуть раньше. Несомненно, она тоже была отголоском политических событий конца 30-х годов. Однако актуальные проблемы плохо сочетались с особенностями дарования Набокова.
Он старался построить действие так, чтобы драма не напоминала памфлет, и с этой целью ввел персонажа по имени Сон. Это репортер и доверенное лицо Вальса, когда, изгнав президента и министров, тот забирает в свои руки всю власть над державой где-то в Европе. Но это и сон в метафорическом значении слова — мучительная греза, которая подменила собой более или менее благополучную реальность, скверная фантазия, ставшая будничностью.
В английском переводе этот персонаж носит имя Виола — прямое указание на «Двенадцатую ночь» Шекспира, где явь и сон неразличимы, а обыденность расцвечена яркой выдумкой и возникает ощущение праздничной феерии. В набоковской пьесе Сон берет на себя функции хитроумной Виолы, которая верит в неотвратимое торжество любви и энергично его приближает. Крах Вальса, под конец действия отправленного в сумасшедший дом (а гора, будто бы им взорванная, все так же красуется на горизонте), также неотвратим, поскольку неразделенной остается овладевшая им любовная страсть. Сон развеялся, завершение благополучно — по крайней мере, внешне. Однако финал слишком явно противоречит всей логике действия.
Адамович назвал эту пьесу поверхностным подражанием Блоку, автору «Балаганчика», и определил ее как «банально-утопическую». Это слишком суровый суд, хотя драма и впрямь оказалась не слишком удачной. Ее неуспех был воспринят автором как еще одно свидетельство, что больше ничто его не удерживает в Европе, где вероятность реальных подтверждений сюжета, использованного в «Изобретении Вальса», становилась все несомненнее буквально с каждым месяцем. В столе лежал роман, написанный Набоковым уже по-английски, — явный знак, что свое будущее он определил.
Поездка в Англию летом 1939 года закончилась ничем — работы не было. Все надежды отныне сопрягались с Америкой. Зима 40-го года прошла в хлопотах, которые стоили нервов, и немалых. Уже в Америке Набоков напишет новеллу, озаглавленную по строке из «Отелло» — «Что как-то раз в Алеппо…». Сюжет ее типично набоковский, построенный на обыгрывании реминисценций из классики — ревность, мучительные предположения и догадки, действительность, до мелочей точно повторяющая литературу, если литература творение гения. Но подробности, которыми уснащена эта история нежданного любовного увлечения, поспешного брака, а затем совместного бегства из Парижа, к которому приближаются «бойня и боль», — с надеждой добраться до «серого заокеанского рая», — достоверны, как не так уж часто бывает в прозе Набокова, особенно в англоязычной.
Описывается свадебное путешествие героев, когда неразбериха разлучает их, сводит и вновь разлучает, так что под конец у В. такое чувство, что вообще не было ни этого брака, ни той, кого он считал женой, а был только приступ горячки, и пусть теперь кто-то с сильным пером опишет весь этот кошмар, точно бы изгоняя бесов. Все словно обезумели, спасаясь от «засунутого в сапоги и перетянутого ремнем идиота», и, «раздавленные и смятые в свалке апокалиптического исхода», чувствовали, как наваливается на них «ком первородного ужаса», который В. все еще иной раз ощущает даже в зеленой пустоте Центрального парка посреди Манхэттена. Но больше всего из тогдашнего ужаса запомнились ему липкие пальцы консулов, сортирующих человеческие жизни, «мерзостное месиво из огрызающихся чиновников в крысиных бакенбардах и трухлявых связок архивных бумаг», которые перерывали часами, прежде чем объявить, что счастливчику выездная виза дана, а невезучему в ней отказано бесповоротно. Запомнились фиолетовые чернила, которые могли начертать спасение, а могли — и смертный приговор, и взятки, подсовываемые под промокательную бумагу цвета мертвечины, и переклеивание скверных фотографий с бланка на бланк.
Все это было пережито Набоковым последней его зимой в Париже. Он был вымотан, издерган, испытал отчаяние и до последней минуты не верил, что еврейские благотворительные организации, взявшие на себя заботы о переезде его семьи в США, — оказывается, не забылись выступления Владимира Дмитриевича, обличающие погромы, — смогут проломить бюрократическую стену. Но все-таки это удалось.
Писать в ту пору он мог лишь урывками. И тем не менее в чемодане, отправившемся со своим владельцем за океан, лежали две рукописи, одной из которых была суждена большая роль в американской судьбе Набокова. Она представляла собой что-то вроде раннего варианта «Лолиты» — книги, принесшей своему автору мировую славу.
Но воздушным мостом мое слово изогнуто
через мир, и чредой спицевидных теней
без конца по нему прохожу я инкогнито
в полыхающий сумрак отчизны моей.
На последней странице «Других берегов» из-за пляшущих на веревке голубых и розовых сорочек, из-за деревьев маленького сквера в Сен-Назере, напоминающего бесцветный геометрический рисунок или крестословицу, вдруг возникают «великолепные трубы парохода», которому предстоит унести в Америку направляющуюся к пристани счастливую семью — «тебя, и меня, и шестилетнего сына, идущего между нами». С дистанции в четырнадцать лет «чистый ритм Мнемозины» удерживает и повторяет тематический союз того чахлого припортового садика «с трансатлантическими садами и парками», изумленную радость мальчика, который впервые в жизни увидел громаду океанского корабля.
Ощущение безоблачной радости переполняет заключительный абзац автобиографии. Пусть немцы на подступах к Парижу, куда они войдут меньше чем через месяц, пусть полным ходом идет раздел Европы между двумя тиранами, берлинским и кремлевским, и от европейской цивилизации, похоже, в близком будущем не останется даже воспоминаний. Пусть никогда больше не увидеть траву двух несмежных могил, из которых одна в столице рейха, а другая в нынешнем протекторате Богемия. В конце концов все отступает перед главным — они вырвались. Наконец-то свершилось. Впереди Америка. На целом свете нет людей счастливее.
В свой следующий рейс пароход «Шамплен», у которого были великолепные трубы, пойдет ко дну, потопленный немецкой торпедой. Этого события капризница Мнемозина не сохранила.
Стараниями Набокова она и вообще ничего не сохранила из опыта пяти с лишним военных лет. Очень мало кто знал о том, что он пишет роман, действие которого развертывается в некой европейской стране, подчинившейся диктатору Падуку, лидеру Партии среднего человека. Впрочем, когда книга вышла в 1947 году, критик Эдмунд Уилсон, в ту пору самый близкий из американских друзей Набокова, без обиняков посоветовал ему не браться за темы с политическим подтекстом — одного отвращения к тирании мало, чтобы создать произведение с серьезной социальной проблематикой, а по его роману слишком видно, что к политике он совершенно равнодушен.
Он не ошибся: Набоков и правда строил жизнь так, словно был к ней безразличен. В толстом томе его писем американского периода война практически не упоминается, словно ее не было. Есть, правда, письмо Эдмунду Уилсону, датированное серединой июля 1941 года, и там немецкое вторжение в Россию названо «трагическим фарсом», так как победа России, хотя Набоков ее и желает, равносильна тому, что телега окажется впереди лошади, правда, слишком омерзительной (а уже идут бои за Смоленск, и скоро в вяземском котле погибнет цвет московской интеллигенции, ушедшей в ополчение). Еще есть частным поводом спровоцированный антинемецкий выпад в одном письме 1947 года, где говорится, что гиену не превратить в кошечку и что нынешняя Гретхен с восторгом примеряет платья, которые мобилизованный Фауст прислал в качестве трофеев из польского местечка, где больше нет жителей, — но это, кажется, и все. На следующий день после высадки в Нормандии Набоков отравился, завтракая в кафетерии, и для него — достаточно пробежать пространное письмо с подробнейшим описанием спазмов и рвоты — это событие посерьезнее, чем начавшееся освобождение Франции.
Одна из героинь романа Стейнбека «Заблудившийся автобус», вышедшего в 1947-м, жалуется на лишения, что пришлось вытерпеть американцам из-за тягот военного времени: в магазинах совсем нет мяса, только куры. Если судить по переписке и — за единственным исключением — по тому, что им тогда публиковалось, Набоков не заметил войны хотя бы из-за таких неудобств. Все эти годы он поглощен исключительно собственным обустройством на новой территории и чисто литературными интересами. Если в письме издателю Джеймсу Лафлину он упоминает об оккупации Парижа, то по той единственной причине, что из-за прискорбного развития событий «Дар» не появился книгой.
России грозит не только исчезновение с политической карты — сам русский этнос, сама русская речь должны исчезнуть. «Мы знаем, что ныне лежит на весах», — произнесено Ахматовой зимой 1942-го. У написавшей «Реквием» счет к сталинскому режиму был строже и страшнее, чем у любого из эмигрантов. Но в ту пору для нее выше всего остального «пречистое тело оскверненной врагами земли». И в эмиграции, не исключая той, что была настроена непримиримо антисоветски, возобладал тогда патриотический порыв. Бунин, отзывавшийся о большевизме убийственно («Я лично совершенно убежден, что низменней, лживей, злей и деспотичней этой деятельности еще не было в человеческой истории даже в самые подлые и кровавые времена»), нисколько не переменил своих мнений и после войны, однако чувство боли за родину и гордости за свой народ, победивший в войне, выражал открыто. И противоречия тут не было, пусть поползли распространяемые клеветниками слухи о готовности Бунина смириться и вернуться.
У Набокова все было по-другому.
Отмолчаться, сделать вид, что его абсолютно не задевают новости с русских фронтов и известия об ужасах блокады, он все-таки не смог, хотя, кажется, именно к этому стремился. Пришлось выйти на трибуну в колледже, где он преподавал зимой 1942-го, и, обходя неприятную тему, — речь шла об организации активной помощи России, ставшей союзницей, — поговорить о ценностях демократии, единых для англосаксов и для русских былых времен. Эти тактические хитрости, впрочем, не помогли, когда дело дошло до обсуждения кандидатуры Набокова на штатную вакансию. Уэлсли-колледж возглавляла дама, вероятно, не питавшая к советским союзникам особо пламенных чувств, но не понаслышке знакомая с политической корректностью. Она не желала принимать в состав преподавателей человека, который, вопреки преобладающему настроению, продолжал думать, что между Гитлером и Сталиным нет существенной разницы, а Сталин — это и есть сегодняшняя Россия, так что нет причин оплакивать ее страдания.
В ту пору такие взгляды и не могли встретить понимания. А Набоков, раздраженный общей слепотой перед лицом истины, казавшейся ему азбучной, в конце концов решил возвестить о своей позиции открыто. Существовал нью-йоркский журнал «Новоселье», тогда придерживавшийся просоветской ориентации. Редакторы, плохо осведомленные о настроениях Набокова, обратились к нему с просьбой о сотрудничестве. Был 1943 год, перелом обозначился, но немцы все еще стояли в Гатчине и на Сиверской, а на Морскую по-прежнему падали их бомбы. Набоков прислал в журнал восемь строк, отвергнутых редакцией. Эти стихи переписывали от руки те, кого растущие симпатии американцев к Советскому Союзу удручали больше, чем немецкое продвижение на Волге и на Кавказе. Кажется, Керенский, получив листок с двумя строфами, залился слезами.
Вот они, эти строфы:
Каким бы полотном батальным ни являлась
советская сусальнейшая Русь,
какой бы жалостью душа ни наполнялась,
не поклонюсь, не примирюсь
со всею мерзостью, жестокостью и скукой
немого рабства — нет, о нет,
еще я духом жив, еще не сыт разлукой,
увольте, я еще поэт.
Что до жалости, Набоков скрыл ее очень умело — читая публикуемое им в те годы, общаясь с ним, о ней не догадывался никто. Похоже, это была жалость лишь к самому себе. И настолько острая, что ею подавлялось даже врожденное у Набокова чувство художественного и морального такта. Надо быть очень зачерствелым (или сверх всякой меры озлобленным) человеком, чтобы, заговорив о стране, где каждый день выписывали тысячи похоронок, увидеть в происходящем не более чем батальное полотно, предъявив авторам этого пейзажа с солдатиками упрек в слащавости — кстати, явно несправедливый, даже не говоря о нравственной состоятельности подобных критериев суждения.
Ахматова, согласно таким критериям, уже не имела права отнести к себе заключительную строку приведенного восьмистишия. Она призывала к мужеству и победе (то есть, по набоковскому счету, поклонялась немому рабству). Клялась могилам, «что нас покориться никто не заставит» (по Набокову — примирялась с мерзостью). И верила, что в такие времена не дело поэта думать о пропорциях и тональности живописного образа, а нужно найти слово, которое услышат идущие на фронт, на смерть «незатейливые парнишки, Ваньки, Васьки, Алешки, Гришки»:
Чтоб вас оплакивать, мне жизнь сохранена.
Над вашей памятью не стыть плакучей ивой,
А крикнуть на весь мир все ваши имена!
Но ведь Ахматова была и осталась русским писателем.
А Набоков очень старался стать американским.
Что русский период его писательства окончен, было твердо решено еще во Франции, когда он взялся за «Себастьяна Найта», который теперь лежал без движения, не находя издателя. И когда убрал в долгий ящик главы последнего русского романа, который так и не будет дописан.
Стихи, правда, были по-прежнему почти сплошь русскими, но Набоков уже ясно чувствовал, что необходимо просто запретить себе родной язык, если он хочет чего-то добиться в литературном мире страны, с которой отныне связал жизнь. В письмах жене, в разговоре со старым приятелем Георгием Гессеном он время от времени мог помечтать, что хотя бы одна русская книга у него еще впереди, но, видимо, сам не очень в это верил. Судьба была к нему щедра: он выпустил целых две — «Другие берега» и автоперевод «Лолиты».
В послесловии к последнему своему русскому тому, к «Лолите», Набоков с иронией над самим собой говорит о «дребезжании моих ржавых русских струн»: от языка, некогда цветшего у него, словно сад весной, не осталось «ничего, кроме обугленных пней и осенней безнадежной дали». И за десять лет до того во вступлении к «Другим берегам» звучала та же нота: как это ужасно, когда надо отвыкать не от общего языка — он, язык Пушкина, Толстого и няни, как раз сохранился, — «а от индивидуального, кровного наречия», от своего стиля. На деле это не так, хотя перевод «Лолиты» относится к середине 60-х годов, когда русская стилистика, ритмы, интонации стали вправду забываться и из-под пера Набокова как бы непроизвольно выскакивали английские кальки: «Я делал постели» — или, о беременной героине: «В присутствии ребенка, которого несла», — и совсем уж невозможное по-русски: «Могу взять автобус».
В интервью той поры Набоков, слегка бравируя, говорил о своем слабеющем интересе к России: для него она политическое государство, система политического подавления, и ничего больше, — и о нежелании писать по-русски. О том, насколько Америка во всех отношениях превосходит бывшее отечество, которое сделалось ужасно провинциальным. И каким уютным домом стала для него страна, где он провел счастливейшие годы своей взрослой жизни.
Интервью, между прочим, брались в Швейцарии, куда он уехал, как только это позволили сделать принесенные «Лолитой» большие деньги. А в восхваляемый им американский дом за оставшиеся почти два десятка лет жизни Набоков наведался всего трижды, по совершенно конкретным деловым поводам. То есть на поверку он остался европейцем. Хотя, возможно, и не осознавал себя под старость русским — то есть не осознавал так отчетливо, как было в берлинские годы.
Смена языка, конечно, не прошла безболезненно. Первое время преследовала неуверенность, когда он писал по-английски. Набоков просил американцев, к которым испытывал расположение, проглядеть рукопись, исправляя возможные неточности лексики и грамматики. Сетовал на свою скованность, особенно когда дело касалось идиом или жаргона. Свою английскую прозу как-то назвал второсортной, имея в виду доступное ей богатство оттенков стиля, и сказал, что вынужденный отказ от русского был его «частной трагедией».
Об этой трагедии — без аффекта и надрыва, но с настоящей болью — написаны в первые американские годы два стихотворения: одно — по-английски («Нежнейший язык»), другое — по-русски («Слава»). Утверждая в поздних своих интервью, что ему, в сущности, все равно: читают его в России, не читают, — Набоков лукавил. Совсем безразлично ему это никогда не было, а особенно тягостно свой отрыв от отечественной аудитории он осознавал во времена, когда оставался практически безвестен за пределами очень узкого круга американских интеллектуалов с русскими интересами. При всех восторгах, которыми изобилуют его отзывы об Америке, ощущал он себя там поначалу не слишком уверенно, обоснованно считая унизительным свое положение преподавателя русского языка для начинающих, причем по контракту, который могли и не возобновить, так как предмет считался факультативным. «Подумай, — пишет он Эдмунду Уилсону, — я владею русским лучше всех, во всяком случае, лучше всех тут живущих, а английский знаю, как никто из русских американцев, и ни один университет не дает мне работы». Это было и вправду крайне несправедливо, тем более что русские кафедры (причем не где-нибудь, а, например, в Гарварде) занимали люди, которые на лекции по грамматике недрогнувшей рукой выводили на доске: «Он ударил меня с палкой».
Первая публикация в США, перевод «Картофельного эльфа», сделанный С. Бертельсоном (тем самым, который когда-то пробовал заинтересовать этой новеллой Голливуд), состоялась еще зимой 1939 года, а переехав, Набоков стал печататься в «Атлантик мансли», старом, престижном, хотя неважно платившем журнале. Но замечали Набокова по-прежнему лишь те, кто его оценил еще в русский период. Получалось, что он, для посвященных, — одно из первых имен в современной русской литературе, пишет, собственно, для одного себя и немногочисленной группы настоящих ценителей.
«Слава» — стихи, навеянные невеселыми настроениями, которые пробуждала эта ситуация. Некто — «разговорчивый прах», как обозначен в стихотворении этот гость, бодрый господин, он же «палач, и озноб, и последний рассвет», — резонно утверждает, что сочиненные автором «триста листов беллетристики праздной», как видно, пропадут втуне, потому что там, в России, не сыщется того, кто «на столе развернет образец твоей прозы, зачитается ею под шум дождевой». Можно с изысканным юмором отвергнуть «мысль о контакте с сознаньем читателя» — как несерьезную, но все-таки она вернется, как и ощущение, что стало совсем «далеко до лугов, где ребенком я плакал, упустив аполлона, и дальше еще до еловой аллеи с полосками мрака, меж которыми полдень сквозил горячо». Если подсчитывать потери и думать про обделенность славой или по крайней мере ее внешними знаками, не защититься от чувства, что итогом оказалось поражение того, кто назвал себя «безбожником с вольной душой в этом мире, кишащем богами».
Но у безбожника есть сильный контраргумент, и даже два. Первый — для него самый главный — тот, что ему ведомо счастье творчества, не нуждающегося ни в признании, ни в отзвуке, и посвящение в тайну творчества дает силы считать все остальное частностью: «даже разрыв между мной и отчизною». А второй выражен метафорой спицевидных теней и воздушных мостов, по которым, вопреки всем обстоятельствам, слово проходит в сумрак отчизны. И когда это свершается, на самом деле пустой становится мечта «о читателе, теле и славе».
Через двадцать два года после этого стихотворения Набоков в «Плейбое» скажет, что отсутствие читателей, подразумевая русских, его ничуть не печалит (что же касается «тела и славы»; за два десятка лет кое-что изменилось, и теперь это не только пустые мечты, — в «Плейбое» он печатался, зная, что журнал платит куда больше других и известного рода славу обеспечивает с гарантией). Как писатель он очень выиграл, оттого что эти перемены случились не в одночасье. Набоков бывал предвзят и узок в своем отношении к России, мог называть ее Зоорландией и, по наблюдению Зинаиды Шаховской, демонстративно отказывался от «соучастия к судьбе его родины и к судьбе его народа» (хотя в другом своем интервью утверждал, что все написанное им в Америке — дань России или, по меньшей мере, «волны на воде, вызванные потрясением от исчезновения России моего детства»). Все это не меняет главного: писатель Набоков оставался достойным своего таланта только до тех пор, пока сохранялась его причастность русской художественной традиции. А стало быть, и связь с русской интеллектуальной средой, куда извилистыми путями проникало и откуда теми же незримыми каналами подпитывалось его слово. Переход на английский в этом отношении на первых порах почти ничего не поколебал.
Двуязычие случалось в литературе и до Набокова. Гейне писал о Париже по-немецки для немцев, а о Германии для парижан по-французски. Зная, что на родине для таких произведений вряд ли найдутся читатели, Уайльд по-французски написал «Саломею» и самые изысканные свои стихи. По-французски написан один из главных романов шведского классика Августа Стриндберга «Слово безумца в свою защиту». Беспрецедентным случай Набокова не является, однако он действительно уникален: уже оттого, что ни Гейне, ни Уайльд, ни Стриндберг не сменили язык окончательно (а обе русские книги Набокова американского периода — все-таки лишь переводы с английских оригиналов, правда, творческие, с существенными корректировками — особенно «Другие берега», новая версия по сравнению с первым, английским вариантом автобиографии — и с третьим, тоже английским: «Память, говори»).
Сам он сначала воспринимал свое англоязычное творчество чуть ли не как принуждение — об этом его стихи «Нежнейший язык». И еще долго ему казалось, что по-английски он может, к примеру, сносно описать закат или анатомию насекомого, однако бедность синтаксиса и скованность в лексике сразу станут видны, как только придет нужда справиться с чем-то посложнее. Читать такие признания странно, ведь уже в начале 40-х годов Набоков начал переводить лирику Пушкина и Тютчева — неужели бы рискнул, не будучи уверен в своем английском? — а для своей книжки о Гоголе перевел и фрагмент такого немыслимо трудного для переложений текста, как «Записки сумасшедшего». Кончив книжку, он жаловался в письме издателю: попробуйте вообразить англичанина, которому пришлось бы писать о Шекспире для русских, по-русски, используя переводы, чаще всего не дающие и отдаленного представления об оригинале.
Георгий Гессен утверждает, что в тогдашнем разговоре с ним Набоков отозвался о своих английских текстах как о нудной игре, которую, будь его воля, он бы прекратил не задумываясь. Однако прекратить ее было нельзя: в Америку ехали, твердо зная, что насовсем. Сначала жили на Манхэттене в Нью-Йорке, сняв часть квартиры на Мэдисон-авеню, принадлежавшей чете Легович. Как выяснилось, госпожа Легович — племянница графини Паниной, той, в чьем крымском поместье Набоковы нашли приют, бежав из Петрограда.
Литературный агент, энергичная рыжеволосая американка (Набоков про себя называл ее «антилитературным агентом»), при встрече потребовала нескольких решительных акций: забыть о русском языке, усвоить, что американцам нравятся только книги с добродетельными героями и томительными любовными сюжетами. Изучить правила, по которым пишутся романы, имеющие спрос, — например, мистические истории.
Выбирать не приходилось: Набоков попробовал отнестись к этим рекомендациям всерьез. И понял, что они не для него.
В Америке было несколько русских с мировыми именами — Рахманинов, Добужинский, Алданов, Михаил Чехов, историк Георгий Вернадский. Был русский Литературный фонд, который оказывал содействие писателям и ученым — правда, скромное. Набоковым помогали кто чем мог, но с каждым месяцем необходимость найти постоянную работу становилась настоятельнее. Заманчиво было бы университетское преподавание русской литературы. Не имея опыта, не очень полагаясь на свой английский, Набоков засел за составление подробных конспектов будущих лекций — по сути, полного их текста. В этих занятиях прошел весь первый его год за океаном. Было написано почти две тысячи страниц.
В Калифорнию, в Стэнфордскую летнюю школу, куда он поехал преподавать вместо Алданова, который в его пользу отказался от выгодного приглашения, отправились в конце мая 1941-го. Дорога не оплачивалась; выручила одна из будущих студенток, предложившая места в машине, в которой она ехала через всю страну. Настоящее знакомство с Америкой началось в эту поездку с остановками на заправочных станциях и в мотелях, с длиннющим мостом через Миссисипи и величественным зрелищем Большого каньона в Аризоне, с воем койотов по ночам и столбами пыли на проселках, облюбованных ковбоями. Почти через пятнадцать лет яркие, надолго запомнившиеся впечатления двухнедельного путешествия отзовутся в «Лолите».
Занятия начались 24 июня. Всего двух студентов заинтересовал курс современной русской литературы, четырех — курс писательского мастерства. Обязанностью Набокова было обучить слушателей азам искусства драматурга. Ожидалось, что он привьет им практические навыки, однако сам преподаватель исходил из другого принципа: «Старайтесь написать не пьесу, которой сужден успех, а ту, какую ждет бессмертие». Студентам он объяснял, что считаться с запросами публики может только писатель, не уважающий ни себя, ни свое ремесло. Театр существует не для того, чтобы обслуживать толпу, он адресуется к личностям. К литературе это относится в такой же мере. Если не больше.
Читать о современном состоянии русской литературы Набокову не хотелось. В Нью-Йорке он просмотрел комплекты советских журналов за 40-й год — впечатление было, конечно, самое тягостное. Писатели-эмигранты никого не интересовали в американском академическом мире, где в те времена изучение литературы, а уж русской подавно, было непосредственно соотнесено с политическими приоритетами. Да и объективно то была пора завершения большого и по-настоящему плодотворного периода в культуре русского Зарубежья: он закончился с военным поражением Франции.
За советскими авторами Набоков следил не систематически, но с любопытством. Отмечал, что среди них есть одаренные — Олеша, Ильф и Петров, а также, с большими оговорками, Пастернак. Но многое упустил или понял неглубоко, только как доказательство напрашивающейся мысли о коренной враждебности режима всем попыткам свободного творчества. Во всяком случае, Набоков всегда старался избегать этой темы в своих курсах. И в Стэнфорде чаще говорил о «Пире во время чумы» (он тогда бился над английским переводом пушкинской трагедии) и о «Шинели».
Спустя много лет один из участников того летнего семинара вспоминал, что лекции и разборы Набокова оставляли феерическое впечатление — парад блестящих мыслей, неподражаемая писательская наблюдательность. И совершенно невозможно что-то записывать или систематизировать. «Это было бы все равно что пустить „роллс-ройс“ на жестяные банки под консервы».
Но праздник закончился, а в Нью-Йорке перспективы были безотрадные. Удерживал в этом городе Американский музей естественной истории с громадным отделом энтомологии, где Набоков работал, не получая ни цента, всю зиму. Но таким же притягательным был Музей сравнительной зоологии в Гарварде, под Бостоном, и там платили жалованье — правда, мизерное. Кроме того, неподалеку, в Уэлсли, куда можно было добраться трамваем, а затем автобусом, не исключалась вакансия преподавателя русского языка (если повезет, то и литературы) в местном колледже, частном женском учебном заведении с неплохой репутацией.
О возможности устроиться в этот колледж Набокову сказала тамошняя преподавательница истории Эми Келли, взявшая на себя переговоры с дирекцией. Русского отделения в Уэлсли не было, и свои пробные курсы — в программу они не входили — Набокову предстояло читать на английском. Нужное впечатление он произвел: была учреждена внештатная должность лектора по сравнительному литературоведении, и с ним подписали контракт на один учебный год —1941/42.
Нагрузка оказалась небольшой — шесть публичных лекций и время от времени семинары, посвященные отдельным авторам. Темы лекций говорят сами за себя: «Пушкин как западноевропейский писатель», затем — в том же ракурсе — Лермонтов, Гоголь, а по плану и дальше, вплоть до Чехова. С самого начала Набоков заявил, что русскую классику он намерен толковать не в границах отечественной традиции, а как раз наоборот, выходя за ее рамки. Пушкин для него в то время был прежде всего изгнанником, вынужденно не покинувшим родную страну, где такими же изгоями, внутренними эмигрантами ощущали себя и другие писатели с чертами гения. Для них российская действительность, это царство несвободы, была непереносимой. Они смогли себя творчески осуществить в меру того, насколько сумели стать в духовном отношении европейцами.
Потом, читая более углубленный и фундаментальный курс, Набоков трактовал эту проблему («люблю Россию я, но странною любовью») уже без прежней прямолинейности, однако его подход к ней, в сущности, не переменился. Неприязнь к Достоевскому, помимо остального, определялась и тем, что в эту концепцию невозможно было вместить автора «Зимних заметок о летних впечатлениях» с их ужасом перед европейским бездушием и прагматизмом. Входя в аудиторию, где перед ним сидело сто, а то и больше девиц или профессорских жен, имеющих самое расплывчатое понятие о русской истории и культуре, разворачивая листы с написанной лекцией и принимаясь доказывать, что российская самобытность чаще всего синоним тирании, Набоков, сам этого не замечая, повторял доводы тех неистовых шестидесятников, которым так досталось в «Даре» от Годунова-Чердынцева. Но для него это «своя правда», которая неповинна, если совпадает со «взятой бедняком напрокат».
Сомнительно, однако, чтобы тут была на самом деле правда, а не стремление — неважно, до какой степени осознанное, — как можно дальше дистанцироваться от прежней родины в желании обрести новую. Формально это обретение произойдет еще не скоро, в 1945 году, когда Набоковы получат американские паспорта. По существу — намного раньше.
Времени в тот первый год преподавания оставалось более чем достаточно. Была снята уютная небольшая квартира, а из чемодана извлечена русская рукопись, имевшая разные названия: сначала «Ultima Thule», потом, когда Набоков писал уже по-английски, — «Некто из Порлока» (то есть деревушки, известной почитателям английского романтика Сэмюэла Тейлора Колриджа, которому торговец, явившийся из этого местечка, помешал дописать поэму «Кубла Хан», а она могла стать откровением). На финальной стадии работы, в 1945-м, манускрипт назывался «Solus Rex», по окончании — «Bend Sinister» (это заглавие имеет отношение к геральдике, но и к незаконнорожденности. Сам автор протестовал, когда в переводах передавался только второй смысл, как и в русском переложении, озаглавленном «Под знаком незаконнорожденных»). К рукописи Набоков спорадически возвращался на протяжении почти пяти лет: все больше сил отнимало преподавание. А также сидение за микроскопом в зоологическом музее. Никакая война, никакие бытовые неустройства не могли его отлучить от любимого дела. «В мире нет благороднее спорта», — писал он Уилсону, рекомендуя обзавестись рампеткой.
До музея из Уэлсли надо было добираться долго, но с октября 1941-го поездка стала ежедневной. В кабинете 402 у него был свой рабочий стол, потом появилась ассистентка-школьница, работавшая безвозмездно. Коллеги посматривали на него косо. В конце концов, он ведь был, строго говоря, любителем, без ученой степени и необходимых познаний в общей биологии. Но это не смущало энтузиаста, придумавшего новый принцип классификации изучаемого им отряда бабочек и описавшего несколько новых образцов. Теперь они выставлены музеем в особой витрине.
Постоянным местом обитания семьи с 1944 года стал Кембридж, пригород Бостона, где расположен Гарвардский университет. Этот Кембридж, в отличие от английского, не мог похвалиться соборами и колледжами с многовековой историей, однако университет был основан еще в 1636 году, а для Америки это седая старина. Пятиэтажный кирпичный дом на Крейги-серкл, где жили Набоковы, находился в пятнадцати минутах ходьбы от музея. У Набокова была своя спальня — он часто работал допоздна, у жены и сына — своя. Хотя семья располагала очень скромными средствами, сын учился в дорогих частных школах. Потребности самого Набокова были минимальными, он только очень много курил, до четырех пачек в день, пока врачи не заставили бросить.
О распорядке жизни в этой квартире известно из письма Набокова сестре Елене, которую он после войны отыскал в Праге. Она бедствовала, и Набоков твердо решил, что необходимо, чтобы сестра перебралась в Америку. «Страну эту, — писал он, — я люблю. Мне страстно хочется перетащить вас сюда. Наряду с провалами в дикую пошлость, тут есть вершины, на которых можно устраивать прекрасные пикники с „понимающими“ друзьями». В Кембридже, однако, таких практически не было. Семья жила уединенно.
Без двадцати девять Дмитрия забирал школьный автобус, еще через сорок минут, прихватив пакет молока и два сэндвича, свой завтрак, отправлялся в музей его отец. К этому времени (осень 1945 года) уже приходилось пользоваться очками: сидение за микроскопом не прошло бесследно. Обедали в пять, потом Вера усаживалась с сыном за домашнее задание: латынь, математика. Кроме того, надо было занимания музыкой. Со временем Дмитрий станет певцом и будет выступать на итальянских оперных сценах. Но пока его больше всего интересовали самолеты. В доме всегда были свежие журналы со статьями про авиацию.
Дважды в неделю на целый день приходилось ездить в Уэлсли. Набоков жаловался: преподавание выматывает, на литературную работу остаются только выходные. Но все-таки, когда ему после войны наконец предложили (правда, тоже не на постоянной основе) преподавать не язык для начинающих, а литературу, это была удача. Одна из его учениц написала воспоминания о том времени: большая натопленная аудитория, лицо лектора, освещенное лампой, стоящей на кафедре, стихи — русские стихи, хотя их не понимал никто, кроме Веры, часто присутствовавшей на лекциях (а случалось, заменявшей мужа, — она тогда читала по его листкам). Высокий, полноватый, с обветренной кожей крупного, выразительного лица, Набоков сумел очаровать своих учениц — мальчиков почти всех послали на фронт, — и они были счастливы, заметив на дорожке, ведущей к учебному корпусу, его массивную фигуру в твидовом пиджаке и шерстяном шарфе вокруг шеи. Пальто он не надевал никогда.
До Уэлсли был лекционный тур осенью 1942-го. В штате Джорджия Набоков увидел много нового для себя и по-своему любопытного — читал о Пушкине в «черном» колледже, уделив, к восторгу аудитории, внимание абиссинскому предку (потом он напишет очерк о Ганнибалах, предпослав его своему изданию «Евгения Онегина»), выступил в женском клубе наподобие того, который в «Лолите» посещает мать юной героини. Но вернулся вымотанным до предела.
Предстояло каким-то образом устраивать свои писательские дела, пробиваться в солидные издательства и в журналы, более благоденствующие, чем «Атлантик». Самым притягательным из них был «Нью-Йоркер», куда с большим разбором допускались даже американские авторы, обладавшие громким именем. Уилсон, свой человек в этом издании, привел туда Набокова летом 1944-го. Заключили соглашение, по которому «Нью-Йоркер» приобрел право первого просмотра всего написанного Набоковым, выплачивая за это что-то вроде стипендии. Соглашение оставалось в силе более тридцати лет.
С Уилсоном в те годы Набокова связывали отношения не просто приятельства, а дружбы, хотя многое их разделяло уже и тогда. Начиная с 20-х годов Уилсон был на литературном небосклоне одной из самых заметных звезд. Обладая блестящим пером, он стал самым авторитетным критиком в своем поколении, написал роман, отчасти напоминающий книги таких прославленных современников, как Дос Пассос и Хемингуэй, — ведь он тоже прошел через Первую мировую войну, на которой был санитаром. Добился он признания и как серьезный историк, чья комментированная антология «Шок узнавания» долгие годы была настольной книгой для изучающих американскую литературу. Когда после мирового экономического кризиса в рост пошли социалистические идеи, увлекшие широкие круги западных интеллектуалов, Уилсон, получив в 1935 году грант для занятий в Москве, в Институте марксизма-ленинизма, несколько лет посвятил изучению истоков русской революции и выпустил нашумевшую документальную книгу «К Финляндскому вокзалу», одно из наиболее значительных, хотя и не вполне беспристрастных описаний процессов, приведших к октябрьскому перевороту. Пристрастность проявилась в стремлении если не оправдать, то каким-то образом обосновать неизбежность большевизма. Книга вышла в 1940-м, и сразу последовало резкое письмо Набокова.
Он писал, что прожекты Идеального государства слишком часто увенчиваются тиранией, чтобы заявить о неслучайности подобных метаморфоз. Что портрет ленинского семейства сделан с переизбытком лучезарных красок. Что сам Ленин под пером Уилсона до приторности умилителен и не имеет ничего общего с реальным Ильичом. И что — аргумент, слово в слово повторяющий мысли Достоевского, унижаемого Набоковым по любому поводу, — не может быть оправдания казням миллионов конкретных людей ради гипотетического счастья будущих десятков миллионов.
При встречах они старались не касаться политики, зная, что неизбежно начнутся споры. Намного больше, чем социальные взгляды, Набокова интересовала литературная позиция Уилсона, который всегда считался в Америке эталоном безупречного вкуса, сформировавшегося на чтении ранних европейских модернистов и русской классики. Их знакомство началось с того, что Николай Набоков, задумав писать оперу «Арап Петра Великого», обратился к жившему летом неподалеку, на Кейп-Код, Уилсону с предложением сделать либретто, а потом привлек к работе и только что прибывшего в Америку кузена. Уилсон неплохо знал русский язык, хотя как раз из-за его придирок к набоковскому Пушкину, будто бы неверно прочитанному, в итоге, четверть века спустя, произойдет их разрыв. Русская литература была ему знакома, как мало кому в Америке, и он ее искренне любил — обстоятельство, которое поначалу помогло быстрому сближению.
Поехав в Москву изучать стенограммы партийных пленумов, Уилсон вскоре охладел к этим занятиям, зато открыл Пушкина, и это для него было одно из главных событий за всю писательскую жизнь. Набокова в нем подкупала влюбленность в русскую классику, хотя оценки и трактовки Уилсона вызывали сильные возражения. Получив том Чехова с уилсоновской вступительной статьей, он недоумевает: неужели кто-то может всерьез полагать, будто самое интересное и ценное в чеховском наследии — картины возвышения кулаков и роста русской буржуазии? Появляется очередной сборник критической эссеистики Уилсона со статьями на русские темы, и Набоков подробно его разбирает в письме, отметив большие неточности, когда говорится о сцене дуэли Онегина с Ленским, а также заступившись за Серебряный век, названный временем упадка, — напротив, все лучшее в символизме и у Бунина относится к этому времени, и «я сам рожден той эпохой». А когда промелькнет знакомая нота сожалений о «ленинском пути» к демократии, с которого свернул Сталин, Набоков взрывается: как не видеть, что после переворота менялся лишь камуфляж, за которым скрыто непрекращающееся насилие?
В художественных вкусах они тоже не совпадали. Уилсон, стараясь приобщить друга к ценностям американской культуры, посылал книги Генри Джеймса, Фолкнера, возвращаемые Набоковым с презрительными комментариями: водянистые чернила, худосочие или, напротив, кричащая библейская символика, густой перегар Марлинского и Гюго в худших образцах. Что до Джеймса, он уже обрел статус бесспорного классика, любимца академического сообщества, оценившего особенно богатые возможности, которые его проза предоставляет для обоснования различных теорий романа современного (кстати, и набоковского) типа, то есть воссоздающего не столько мир реальности, сколько ее метаморфозы и странные преломления в сознании персонажей. А Фолкнер, остававшийся почти безвестным первые пятнадцать лет своей творческой жизни, когда были созданы все его главные книги, как раз после войны стал быстро обретать признание — и в Америке, и в мире, особенно вслед Нобелевской премии 1950 года. Этот успех, казавшийся Набокову абсолютно незаслуженным, раздражал его, склоняя к тенденциозным комментариям.
С Уилсоном они встречались не так уж часто, причем, как правило, ввязываясь в споры, становившиеся чрезмерно жаркими. Но долгие годы обменивались письмами, которые составили солидный том, где двое независимо мыслящих писателей ведут интеллектуальную дискуссию, почти не имеющую аналогов по разнообразию тем и аргументов. Дружеское участие Уилсона было неоценимой поддержкой. Его рекомендательное письмо стало веским доводом для комитета, присуждавшего годовые стипендии Гугенхейма для создания художественных произведений и научных трудов, — Набоков ее получил в 1943-м, не помешал даже возраст (правилами предусматривалось поощрение не достигших сорока лет). Уилсон прислал текст для суперобложки первого английского романа Набокова, расположив к «Истинной жизни Себастьяна Найта» молодых писателей и критиков, веривших его вкусу. Сам он, прочтя книгу в рукописи, нашел ее очаровательной, необычайно поэтичной и написанной великолепным, изысканным английским языком.
К этому времени у Набокова почти не осталось надежды увидеть свое произведение напечатанным. Издательства, куда он предлагал книгу, отказывались от нее одно за другим. Выпустить роман взялся Джеймс Лафлин, наследник крупного состояния, учредивший заведомо убыточное издательство «Нью дирекшнз» для того, чтобы публиковать новаторскую прозу и поэзию, отвергнутую коммерческими фирмами. Одним из его консультантов был крупный поэт Делмор Шварц. «Себастьян Найт» привел его в восторг. Книга, законченная еще в январе 1939-го, вышла почти два года спустя, перед Рождеством 1941-го.
Время было самое неблагоприятное для литературы, тем более такой далекой от злобы дня, как набоковский роман. Буквально неделей раньше США после японского налета на Перл-Харбор вступили во Вторую мировую войну. Начался бурный патриотический подъем. Никому не было дела до злоключений талантливого писателя с русскими корнями, который умер совсем молодым, не был по достоинству оценен и всегда оставался аутсайдером, как будто тревоги доставшегося ему бурного времени совершенно не воздействуют на его способ бытия. Безразличие героя к событиям, меняющим ход истории, особенно раздражало недалеких рецензентов. Глупая книга — написал один из них. Бессмысленное щегольство своими профессиональными умениями — откликнулся другой. Безделка, да и не занимательная, — суммировал третий. Между прочим, этот отклик поместил «Нью-Йоркер», журнал, который вскоре начнет пестовать Набокова как своего самого ценного автора.
Отзываясь на рекомендованную Уилсоном повесть Джеймса «Письма Асперна», где сюжет строится вокруг любовных посланий гениального романтического поэта, Набоков заметил, что следовало бы представить какие-то доказательства художественных дарований этого не появляющегося на сцене персонажа. Один из рецензентов, как бы того не ведая, вернул ему упрек, заявив, что по отрывкам из сочинений Найта, которые даются в романе, не догадаться об их творческой значительности. Из всего написанного про его книгу этот пассаж должен был уязвить Набокова всего сильнее. Ведь «Себастьян Найт» прежде всего роман о ярком художнике, о том, кто умел создавать прозу, которая «подхватывает и несет читателя, чтобы швырнуть его, потрясенного, в радостную бездну следующего необузданного абзаца». В каком-то смысле — о себе самом, о человеке, знающем магию творчества и доставляемые творчеством муки.
Автобиографические отзвуки в этом романе не настолько часты и самоочевидны, как в «Даре». Но тем не менее их несложно опознать, начиная с картин петербургского детства и той атмосферы, в которой рос Себастьян: она сочетает «духовную благодать русского дома с лучшим, что есть в европейской культуре». Описана дуэль, на которой погибает отец Себастьяна и повествователя, его сводного брата, скрывшего свое имя за литерой В. «Стрелялись в метель, у замерзшего ручья» — наверняка поблизости от Черной речки. И, совершенно вне сомнений, там, где Владимир Дмитриевич был намерен встретиться по делу чести с Михаилом Сувориным из «Нового времени».
Описано и бегство из Петрограда с красными патрулями, когда счастливая гармония сменилась ощущением будничного ада. В последней книге Себастьяна появляется эпизодический герой, бежавший из неназванной страны, где случилось «происшествие, именуемое революцией… мрачная страна, отвратительное место, господа». Впрочем, не обязательно Россия. Скорее некий «сплав тиранических гнусностей», а какая историческая реальность за ним стоит — не так уж важно. Потом, в романе «Бледный огонь», такая же страна будет называться Зембла.
Себастьян учится в Кембридже, причем автор отправил его в Тринити-колледж, прекрасно ему знакомый по студенческим дням. Овеянные романтической дымкой воспоминания о влюбленности и о героине юношеского увлечения. Себастьяна Наташе Розановой неизбежно заставят всех знающих биографию Набокова вспомнить Валентину Шульгину.
И постоянно распознается на этих страницах «чувство изгнанника, оплакивающего землю, где он родился… одно из самых чистых чувств». Так писал Себастьян в книге «Стол находок», которая больше, чем остальные его книги, могла бы считаться версией автобиографии. То же чувство отчетливо проступает на страницах автобиографии самого Набокова. Первый ее вариант появился в печати через десять лет после «Себастьяна Найта».
Но при всех этих совпадениях и перекличках главной целью Набокова было, воссоздавая жизнь своего героя, не просто наделить Найта многим из испытанного им самим, а понять и донести до читателя мысль о том, насколько сложна — да в общем-то, если судить по принятым критериям правдивости, едва ли и возможна — сама реконструкция, притязающая на достоверность. Вынесенное в заглавие слово «истинная» — ключевое для того, чтобы понять набоковский замысел. Истинная биография — или хотя бы близкая к истинности — в итоге оказывается возможной только при условии, что она результат усилий художника, который не может быть ни хроникером, ни нотариусом. Факты под пером художника неизбежно подвергаются деформации, самоочевидные связи между ними уже не кажутся естественными и достаточными. В лучшем произведении Себастьяна «Сомнительный асфодель» все время говорится о том, что только усилиями воображения, высвобождающего плененный дух, и напряжением внутреннего ока, разбирающего перевитые литеры, можно проникнуть в запутанный рисунок человеческой жизни. Он тогда предстанет чем-то вроде монограммы, потрясая простотой смысла, однако эта простота, которая, говоря редкостно точными словами Пастернака (какие бы негативные чувства ни питал Набоков к его прозе), вмещает «неслыханную содержательность, являющуюся к нам после долгой отвычки» и в силу отвычки обычно принимаемую «за претензии формы».
«Сомнительный асфодель» (само заглавие содержит образ потустороннего мира, потому что среди цветов, схожих с белыми лилиями, блуждают у Гомера души умерших) по своей композиции напоминает устройство китайского буя: «Волнение на море рождает в нем музыку… Важны не сами части, важно, как они сочетаются». О романе Набокова можно, по существу, сказать то же самое. Тут с самого начала обозначено несколько перекликающихся тем — шахматная партия, с которой соотносится биография заглавного героя, чья фамилия может по-английски означать и «рыцарь», и «шахматный конь» (тем же шахматным правилам подчинена композиция «Алисы в стране чудес», постоянно отзывающейся у Набокова, а потом ими будет контролироваться движение сюжета в «Бледном огне»); мотивы шекспировской «Двенадцатой ночи», где брат Виолы (повествователь не случайно — некто, чье имя пишется с В.), считающийся погибшим, зовется Себастьян; двойничество, заявленное и русско-английским происхождением главного персонажа, и его по ходу действия все более полной идентичностью со сводным братом. С тем, кто начинает писать о нем через два месяца после его смерти, на последней странице заявив, что он-то и есть Себастьян Найт, а оттого ему одному ведомы тайны, унесенные на асфоделевые луга автором «Стола находок», откуда щедрой рукой черпал, принимая творчество за протокол, фигляр Гудмэн, составивший «достоверную» биографию с обилием чудовищных ошибок даже на уровне фактологии.
Эти внутренние сюжеты постоянно пересекаются, накладываясь один на другой. В их взаимодействии рождается основная тема — сотворение жизни по канонам литературы, а не в соответствии с законами реальности. Принявшись за книгу, которая стала его шедевром, Себастьян сделал основной темой последние часы умирающего: мелькают какие-то разрозненные эпизоды, проносятся видения — профессор-швейцарец на рассвете убивает в гостинице свою молодую любовницу; бедолага обличает в пивной тиранию, не догадываясь, что его собеседник донесет. А вот старый шахматист показывает мальчику ход коня. В «Даре», думая о Чернышевском (и, надо полагать, о Шкловском тоже), его биограф поражался, как можно писать об искусстве и не чувствовать: «Всякое подлинно новое веяние есть ход коня, перемена теней, сдвиг, смещающий зеркало». В той «истинной жизни», которая мало-помалу открывается следящим за попытками В. понять мотивацию поступков Себастьяна, этот непрерывно происходящий сдвиг и образует основное действие.
Канва событий, составляющих внешнюю биографию героя, под конец романа восстановлена без заметных лакун. Он сын довольно взбалмошной англичанки, последний раз мимолетно с ним видевшейся в отеле на углу Невского и умчавшейся куда-то дальше в спальном вагоне экспресса, страсть к которым Себастьян от нее унаследовал. Ребенком он сочиняет романтические стихи, вместо подписи ставя внизу старательно нарисованную фигурку шахматного коня. В Кембридже он увлекается Киплингом, Рупертом Бруком — как увлекался ими кембриджский питомец Набоков, — а по выходе из колледжа изгибы его жизни кажутся простыми и понятными, но на самом деле предстают все более загадочными по мере того, как В. склеивает осколки, пробуя сложить их в цельный узор.
Одиночество становится лейтмотивом прожитых им лет, и появление Клер Бишоп существенно ничего не изменяет. Как и ее последующее исчезновение: рискованная, некорректная жертва слона (так переводится ее фамилия), с тем чтобы проникнуть в чужой для него лагерь. Там, в этом лагере, непринужденно себя чувствует ветреница Нина Речная (уж не Заречная ли, с подмостков дачного театра у озера попавшая на елецкую сцену, где никуда не деться было от купцов с любезностями, а потом выброшенная российским штормом на чужбину?). Эта чайка успела до умопомешательства довести своего простодушного супруга, который познакомился с нею где-то в притонах Остенде. Себастьян, конечно, не выдержал с нею и нескольких недель.
В. движется догадками, чувствуя, что в писаниях брата (или его самого — под конец действия разграничительная линия стерта полностью) зашифрован некий ответ на загадки его жизни. И цепляется за полупризнания только для того, чтобы ощутить себя потерянным среди «мерцающих огоньков вымысла». Перечитывая не имевший успеха роман Себастьяна «Успех», он догадывается, в чем причина неуспеха этой, книги у публики: не за что уцепиться, оттолкнувшись от этого пункта и выстраивая логическую цепочку. Вся книга — «блистательная игра обусловленностями». Или же «изучение причинных тайн беспричинных событий». А эти тайны осознаются как некие литературные приемы, но только ими пользуется не сочинитель, пишущий роман, а человеческая судьба.
Самим повествователем указано, в чем они состояли, из-за чего неприкаянность стала для Себастьяна обыденным состоянием. Пошляки, вроде биографа Гудмэна, рассуждают о трагедии поколения и «атмосфере послевоенной Европы», тогда как дело не в катастрофах истории и не в «безнравственном веке», но в том, что Себастьян прирожденный художник, и значит, «пульсы его внутреннего бытия куда наполненнее, чем у других». Любое время и пространство для него вечность. Он никогда ничему не принадлежит, просто оттого, что обладает свободой «осознанно поселяться в любой душе по выбору, в любом числе душ», и эта свобода становится житейским бременем, потому что она означает всегдашнюю неукорененность — существование постороннего среди притершихся друг к другу.
Издевки повествователя над гудмэновским пустословием (усталость души ввиду триумфа стандартизации, чувство тщеты, окрепшее после минувшей войны, и прочие броские банальности того же рода) очень понятны, если считаться с тем, что человек, о котором это говорится, художник, а для Набокова все остальное несущественно. Но напрасно те немногочисленные ценители, которые признавали роман — и совершенно справедливо — не безделкой, а творческой удачей, ощутили «Себастьяна Найта», как писала Мария Толстая в недавно организовавшемся нью-йоркском «Новом журнале», только как обычное для автора «выяснение отношений между творцом и его созданием» — как сюжет, который нисколько не корректируется материалом и временем действия, потому что он вечен.
На самом деле это книга изгнанника, не ради красного словца назвавшего изгнание необыкновенно чистым чувством. И в каком-то существенном смысле — книга об изгнании. Принимаясь за нее и решаясь писать по-английски, Набоков твердо знал, что для него изгнание — это навсегда. Что оно означает не только статус политического эмигранта, но особое жизненное состояние. Его нужно признать, принять, осмыслить как трудное по-человечески, но, быть может, выигрышное творчески, поскольку писатель-изгнанник — во всяком случае так казалось Набокову — остается наедине со своим искусством. И одно искусство дает ему шанс ощутить свою жизнь небесцельной, сколь бы печально ни складывались обстоятельства и через какие бы лихолетья ни проводила судьба.
Себастьян не преодолел ощущения неприкаянности, в конечном счете ставшее для него губительным. Не оттого ли, что его книги, при всей виртуозности пародирования чужих литературных манер и при бесспорной уникальности созданного им стиля, все-таки не были творениями такого уровня и качества, когда неприкаянность, житейская неукорененность перестают ощущаться как факторы, каким бы то ни было образом способные воздействовать на самосознание художника? Заканчивая эту книгу, Набоков ясно понимал, что сам он постарается не повторить судьбу героя, как он ему ни близок.
Выпустив «Себастьяна Найта», Лафлин выразил готовность печатать Набокова и дальше. Платил он более чем скудно, однако других предложений не было. О своем издателе Набоков в письме Уилсону отозвался так: в нем борются лендлорд с поэтом, причем первый побеждает за явным преимуществом. Но все-таки поэт еще о себе напоминал. Набокову были заказаны переводы из Пушкина, Лермонтова и Тютчева. А также книга о Гоголе.
Когда в 1943-м рукопись легла на его стол, Лафлин выразил неудовольствие. Он ожидал, что будет нечто наподобие «жизни и творчества»: с описанием литературных отношений мало кому знакомого русского автора, с пересказом сюжетов основных книг и списком рекомендуемых критических работ. Ничего этого у Набокова не оказалось. Гоголь вообще был не самым ему близким прозаиком, и писать о нем Набоков взялся, прельстившись главным образом возможностью на примере «Шинели» и «Мертвых душ» высказать свое понимание природы литературы. Узнав мнение Лафлина и точно бы стремясь плеснуть масла в огонь, он добавил в конце книги несколько страниц в виде беседы с издателем, которая завершается предложением поместить вместо портрета Гоголя рисунок его носа, заказав работу Добужинскому. С тех пор Лафлин не печатал набоковских книг.
Его обида была напрасной. Странно было предполагать, что Набоков, в сколь бы стесненных обстоятельствах он ни находился, возьмется за биографический очерк, сделанный по трафаретному образцу. Незачем приколачивать гвозди золотыми часами, заметил по этому поводу Георгий Федотов, философ, чей отзыв о «Николае Гоголе» по глубине и аналитичности намного превосходит все остальные. Федотов определил жанр книги как «заметки на полях» величайших созданий Гоголя, представляющие собой замечательно тонкий анализ творческого воображения и стиля этого художника.
Сразу же давая понять, чтобы от него не ждали обычной биографии с перечнем тем и художественных особенностей, Набоков начал книгу сообщением о дате смерти своего героя, а о дате его рождения оповестил, только приступая к последней главе. Этот непривычный ход был для него обоснован тем, что и творчество Гоголя, и его судьба решительно не выстраиваются в прямую линию. «Провалы и зияния в ткани гоголевского стиля, — писал Набоков, — соответствуют разрывам в ткани самой жизни». Никто из русских классиков не чувствовал эти разрывы так ясно, как Гоголь, никто не умел так достоверно их передавать. Тут «калейдоскопический кошмар», а говорят о какой-то панораме русской жизни и о реализме.
Говорят это люди, не чувствующие искусства и упрямо его сводящие к идеологии, философии, моральной или религиозной проповеди, словом, производящие подмену. Гоголь от них пострадал больше других, поскольку провоцировал рассуждения о бичующей сатире и о пламенном протесте против рабства. Толкования его творчества не как художественного факта, а как общественного события еще при жизни писателя стали считать чем-то само собой разумеющимся, убедив и самого Гоголя, что истинное его дело — разоблачать или назидать. Он поднялся на кафедру, где чувствовал себя неуверенно и неуютно, хотя старался это скрыть. Он уверовал в собственную миссию воспитателя душ и исправителя социальных порядков — вот в чем корни его трагедии.
Набоков писал все это убежденно, даже со страстностью, у него нечастой. Он защищал своего Гоголя, чьей любимой музой был абсурд, который вовсе не то же самое, что комическая странность или нелепость, примелькавшаяся и незамечаемая. Гоголевский мир — это мнимости, невероятные происшествия из тех, что случаются в тяжелых снах. Это кошмары, иррациональность, хаос, и оттого его абсурд близко соприкасается с трагизмом. При написании имя Николай Гоголь-Яновский дает четыре нуля, и тут видится нечто символическое, наперед предопределенный выбор пустоты. Причем лишь наивные люди могут предполагать, что этот выбор объяснялся перенесенными Гоголем страданиями, его страхом перед жизнью и прочими особенностями личного опыта, подробно описанными Вересаевым, чья книга «Гоголь в жизни» явилась для Набокова основным источником фактических сведений (собственно, кроме нее да растрепанного русского тома с повестями у него ничего и не было под рукой). Набоков давно, бесповоротно решил: «Внешние впечатления не создают хороших писателей; хорошие писатели сами выдумывают их в молодости, а потом используют так, будто они и в самом деле существовали». Вопрос исключительно в том, творчески ли и нешаблонно они используются, в богатстве художественного дара и его свободе, в широте изобразительного спектра, о которой нужно судить уж, разумеется, не по прогрессивным намерениям автора или его стараниям служить обществу, прогрессу, добру.
Писалось все это с запалом, точно бы никто до Набокова и не подозревал, что ожидать сходства гоголевских картин с «жизнью» — заведомо пустое дело. В действительности это хорошо знали задолго до Набокова, по меньшей мере, со времен символизма, а книга Андрея Белого «Мастерство Гоголя», вышедшая в 1934-м, в год смерти ее автора, содержит все до единого положения, которые старается обосновать автор «Николая Гоголя», очевидно, не знавший этой монографии (и еще другие идеи, гораздо более оригинальные). Георгий Федотов справедливо заметил, что Набокову доставляют специфическое наслаждение издевки над тупым читателем, который находит, будто заезжий враль мог вправду заморочить голову целому городу, а ловкий проходимец на самом деле сумел бы в тогдашней России провернуть аферу с ревизской сказкой. Таких простаков не разуверить, а споры с советскими толкователями, для которых Гоголь ценен исключительно тем, что он изобличил крепостников и вывел на чистую воду взяточников, все равно бесполезны.
Федотов не возражал, встречая у Набокова утверждения, что в литературе все решает «блистательное сочетание маловыразительных частностей», а вовсе не тема и что, например, «Шинель» — это гротеск, мрачный кошмар, но уж никак не обличение «ужасов русской бюрократии». Он не возражал против «хаоса мнимостей», который, по Набокову, составляет весь гоголевский универсум, он тоже находил плоской «наивно-моралистическую интерпретацию», хотя на ней, применительно к своим книгам, настаивал сам Гоголь. Однако Федотов решительно воспротивился попытке «отрицать… человечески-нравственное содержание Гоголя», считая, что это «обессмысливает и его искусство, и его судьбу». Причем это было расхождение не по частностям, а по самому существу дела. Очень далекий от постоянно обличаемых Набоковым «прогрессивных» критиков с их утилитарными представлениями о долге писателя и вовсе не считающий, как не считал и Набоков, что над литературой имеют власть «пространственные и временные законы», Федотов все же остался приверженцем русской традиции понимания искусства, которое «несводимо на нравственность», однако «почти всегда вырастает из той же глубины, что и нравственная жизнь». А Набоков говорил о «феномене идей», не нуждающемся в дополнениях из сферы философии, религии или морали и, напротив, противящемся им. Он оставил без внимания фразу Федотова, оказавшуюся во многом пророческой: «Засыхание личности неизбежно должно привести и к гибели искусства».
Но уже следующее его большое произведение, оконченный к лету 1946 года роман «Bend Sinister», заставляло задуматься о прозорливости федотовского вывода.
У этого романа была длинная предварительная история. Сам замысел определился не сразу. Поначалу — еще во Франции — была задумана русская книга, от которой остались два больших фрагмента с общим мотивом: смерть жены, соприкосновение с потусторонним. В намечаемом продолжении «Дара» героя тоже, после внезапной смерти жены, преследовало одиночество и искушала надежда, что какое-то общение между ними продолжается, пусть оно в реальности невозможно. Обе главы из оставшегося ненаписанным романа были напечатаны Набоковым как самостоятельные новеллы: одна, «Solus Rex», в последнем номере «Современных записок» (1940), другая, «Ultima Thule», через два года — в первой книжке «Нового журнала». Этот отрывок из русской рукописи, продолжение которой Набоков, по его словам, уничтожил, особенно любопытен, потому что в «Ultima Thule» рассказывается о воображаемой стране где-то на дальнем севере, — о территории, ставшей для героя, художника Синеусова, настолько привычной и обжитой, что он как бы и не замечает парижских будней, хотя начавшаяся война должна была бы часто о себе напоминать. Некто Адам Фальтер, когда-то обучавший Синеусова живописи в Петербурге, кажется, знает, как побеждать смерть, хотя очень вероятно, что этот Фальтер шарлатан. Синеусов магией искусства воскрешает покойную жену в облике королевы Белинды, однако это иллюзорное торжество: из пояснений автора известно, что ей снова предстоит погибнуть во время налета на Париж.
Объясняя собственный не осуществленный до конца замысел, Набоков признает, что его искаженные отголоски нетрудно отыскать в «Bend Sinister» (а потом в романе «Бледный огонь»): действие тоже начинается со смерти жены главного героя, которая не выдержала операции, и тоже развернуто в придуманной автором стране. Эти переклички были ему досадны, поскольку, сопоставляя рассказ и роман, в них отмечают схожие темы, тогда как автор был озабочен только «качеством расцветки и диапазоном стиля», необычным для русской прозы. Это, впрочем, пишется в 1973 году, когда Набоков начал оценивать свои старые вещи не так, как прежде, изменив сам принцип, по которому выносилось суждение: даже завуалированное присутствие в них актуальной проблематики, да еще с идейным оттенком, он теперь воспринимал как уступку скверной литературе и очень хотел, чтобы никому в голову не пришло считать его писателем, как-то отозвавшимся на политические события своей эпохи.
А в действительности и «Ultima Thule», где сюжет полностью замкнут частной драмой героя и его драматическими попытками вторгнуться в мир потустороннего, все же содержит отзвук страшного времени, когда писалась эта проза. Что до романа «Bend Sinister», то в нем конкретное историческое время опознается без большого усилия — особенно теми, кто знает вышедшую через два года антиутопию Джорджа Оруэлла «1984». Очевидность сходства двух этих книг больше всего удручала Набокова, и он сделал все, что было в его силах, чтобы опорочить идею подобного сопоставления. Помимо ожидаемого выпада в адрес английского прозаика, которому якобы не дано создать хоть что-то относительно нетривиальное, Набоков объяснил, что в его романе не следует искать ничего, кроме искусно переданных душевных мук человека, дошедшего до безумия из-за гибели сына, и — это даже важнее — не лишенных виртуозности метафор с различными отголосками фамилии героя, которого зовут Адам Круг, а также изобретательных анаграмм, каламбуров и намеренно неточных цитат с изрядной долей иронии или игры. Прочитавшие роман, а потом вернувшиеся к предисловию автора, с изумлением узнают оттуда, что книга лишена социального звучания, не описывает будни полицейского государства, не затрагивает никаких идей.
Если она о чем-то и свидетельствует, то лишь о безразличии к политике, экономике, атомным бомбам и будущему человечества — для автора это очень скучные материи.
Однако предисловие появилось только в третьем издании, в 1963 году. А шестнадцатью годами ранее именно политические подтексты романа воспринимались как совершенно очевидные его первыми читателями. Они были настолько очевидными, что из правительственного ведомства, созданного с целью денацификации побежденной Германии, пришло письмо, извещавшее, что, вероятно, роман будет в рамках специальной программы издан за казенный счет в немецком переводе, так как книга может способствовать перевоспитанию бывших приверженцев гитлеризма. Проект не осуществился — возможно, и по той причине, что сам Набоков счел его мертворожденным. По его поручению Вера написала полковнику, который вел переговоры с авторами: «Мой муж хотел бы надеяться, что его книга может способствовать начинаниям, осуществляемым правительством, однако, хорошо зная немцев, мы оба сомневаемся в том, чтобы они были способны усваивать новые понятия». Для тех, кто помнил рассказы Набокова с героями-немцами, написанные еще в берлинские годы (и знал, с каким презрением он отзывался о немецкой культуре, не исключая ее корифеев), ничего удивительного в этом снобистском отклике не было. Но характерно, что даже военные чиновники, которым вряд ли приходится читать эзотерические тексты наподобие «Bend Sinister», тем не менее сразу почувствовали политический подтекст набоковского романа.
Почувствовали его и читатели, привычные к самой изощренной прозе. В частности, Уилсон, которому была послана рукопись. Ему книга в общем не понравилась — как раз из-за того, что он счел неубедительной линию, связанную с изображением механизмов диктатуры и психологии обреченных жить в тоталитарном обществе. Картина Падукграда, где воцарился, попирая элементарные нормы цивилизации, бывший школьный товарищ Адама Круга (а ведь когда-то у Адама была привычка что ни день усаживаться Падуку на физиономию, сбив его ловкой подножкой, и кто бы тогда вообразил, что от этого бесцветного подростка, которого в школе прозвали Жабой, будет зависеть его жизнь), показалась Уилсону карикатурой или бурлеском, который сильно проигрывает при сопоставлении с реальной картиной жизни в нацистской Германии или в сталинской России.
Уилсон знал, о чем говорит, у него был некоторый опыт непосредственного наблюдения, накопленный в 1936-м в Москве. Правда, такой опыт был и у Набокова — берлинский, однако разница несущественна. От прозаика, написавшего «Облако, озеро, башню», можно было бы ждать более впечатляющей картины жизни под пятой тирании. Картина, предложенная в «Bend Sinister», уж слишком сильно напоминает голливудские фильмы «черной серии»: со зловещими фигурами на мосту, по которому запрещено ходить без пропуска, хотя этот мост никуда не ведет, потому что другой берег недостижим, с диктатором-монстром, похожим на выращенного в колбе Франкенштейна. С ребенком, который погибнет из-за того, что карательная система перепутала его с однофамильцем, с героем — мучеником режима, но и его потенциальным любимцем.
Все это, на взгляд Уилсона, было надуманным и недостоверным. Так считал не только он. Нина Берберова, взиравшая на Набокова как на современного гения, все-таки тоже отметила, что в его первых американских книгах чувствуются «некоторая напряженность тона и слабости сюжетной линии».
Отправляя роман Уилсону (который, несмотря на свою негативную оценку, пристроил его в крупном издательстве «Генри Холт»), Набоков написал, что за одно он, в любом случае, ручается: безупречно честная книга, он выразил в ней свои представления и взгляды, не оглядываясь на конъюнктуру. Это и в самом деле так. Держава диктатора Паду-ка, хотя она кое-где и напоминает Кощеево царство, задумывалась как симбиоз нацизма и большевизма, которые для Набокова были тождественны. Кажется, он тогда всерьез считал, что до него никто не догадался об этой идентичности. К своему роману он относился как к смелому поступку, думая, что им брошен вызов господствующим представлениям о сталинской диктатуре, которую на Западе идеализируют, поскольку с нею был заключен союз против Гитлера. Когда Оруэлл напечатал «1984» (и вспомнили, что «Скотный двор» появился еще в 1945-м, а написан был даже тремя годами раньше), от иллюзий насчет собственной роли целителя, борющегося с болезнью всеобщей слепоты, пришлось отказаться. И Набоков принялся уверять, что политика для его романа — третьестепенное дело.
В действительности все было, конечно, совсем не так. Пока немцы стояли на Волге и под Ленинградом, Набоков сдерживался, зная, что при тогдашнем преобладающем умонастроении и чувстве солидарности с союзником ему не простят аналогий, на которых построен роман. Однако замысел, неосуществимый без этих аналогий, вызрел в ту пору. А напечатали его произведение, когда уже вовсю шла «холодная война». И отвлечься при чтении книги от этого контекста было невозможно. Да автор такого и не хотел.
Другое дело, что уникальность и насущность своих прозрений он, во всяком случае, преувеличил. О том, сколько общего между фашизмом и коммунизмом, многие хорошо знали даже до советско-германского пакта 1939 года, сделавшего родственность очевидной. Есть запись в дневнике Ольги Берггольц за сентябрь 1941-го, когда пережидали бомбежку, сидя в дворницкой писательского дома, и Ахматова, забыв о слышащих стенах, кричала: «Я ненавижу, я ненавижу Гитлера, я ненавижу Сталина, я ненавижу тех, кто кидает бомбы на Ленинград и на Берлин, всех, кто ведет эту войну, позорную, страшную!» Но это Ахматовой сказано: «Мы знаем, что ныне лежит на весах…» И война, оставшись страшной, для нее была какой угодно, только не позорной. И неотличимость одного режима от другого никогда бы ее не заставила превратить трагедию в литературную игру, допустимую, поскольку чумы достойны оба дома.
Именно такое решение счел оптимальным Набоков.
Однако оно не было оптимальным, даже если считаться лишь с художественными требованиями. Рассказывая о насилии, которому подвергает героя общество, где, вопреки Декарту, существуют только потому, что не мыслят, Набоков еще более усиливал драматизм исходной ситуации тем, что самое острое страдание причиняет Кругу необходимость отрекаться от себя и раболепствовать перед режимом, так как иначе погибнет его малолетний сын. Но тут же спешил снять или хотя бы приглушить этот накал, как в сцене, когда Круг, охваченный ужасом при исчезновении сына, — тележка, на которой он его оставил перед зданием полиции, пуста, крестьяне угрюмо молчат, — успокаивается тем, что все это просто игра в жмурки, хождение по кругам точным числом девять, но без дантовской символики ада, — а мальчик и вправду находится, его просто заинтересовал сверстник, крутивший кульбиты поблизости, за углом.
Но зато погружение в ад для героя неминуемо после того, как он отказался произнести от имени профессуры клятву верности режиму. Соломенным тюфяком тюремной камеры дает себя почувствовать реальность. Давида — пусть это вышло только из-за тупой методичности карательного аппарата — убили в каком-то специальном детском загоне, который значится как исправительное заведение. На глазах читателя Круг теряет все, чем жил, каждый его шаг контролируют осведомители, он несвободен, вопреки всей своей славе мыслителя мирового значения, он такая же беспомощная жертва режима, как тысячи и тысячи других, которые ждут расстрела, не спрашивая — за что. И вот тут автор решает, что в его власти даровать герою спасение, даже минуту счастья: ведь в конце концов Круг только литературный персонаж, с которым его творец волен поступать по своему усмотрению. Перепад был слишком резкий. Это отмечали многие откликнувшиеся на роман.
Совсем юный Антоша Чехонте, написав юмореску «Тысяча одна страсть, или Страшная ночь», где ужасы громоздятся на ужасы, заканчивает ее успокоительно для читателя: «Ничего этого никогда не было… Спокойной ночи!» Набоков завершает свою книгу точно так же, только без тени юмора. Круг вырывается из темницы, попутно сокрушив тирана. Стены разваливаются, он на свободе, он бессмертен. А рассказчик тут же спешит объяснить: не вздумайте принимать это всерьез — все сплошной софизм, выдумка, игра в слова. Никакого Круга не было, значит, не было и трагедии (такой же фокус был проделан с Чичиковым в книжке о Гоголе: восторгаются птицей-тройкой в конце первого тома, а на самом деле это всего лишь «скороговорка фокусника, отвлекающего внимание зрителей, чтобы дать исчезнуть предмету», каковым в данном случае является плотная фигура Павла Ивановича). Странствия по мрачным лабиринтам закончены, автор повелел фантому исчезнуть вместе с населяющими Падукград человекообразными. Продолговатая лужа, где утонуло небо, — ее Круг наблюдал в первом абзаце, зная, что жена умирает в послеоперационной палате, — напомнив о себе лужицей молока, пролитой Падуком, когда он схватил со стола текст речи, славящей режим и отвергнутой героем, которому надлежало ее произнести, возвращается расплывающимся (что-то наподобие подошвы) контуром влажного углубления в асфальте на последней странице. Как знать, не контур ли это книги, которую Круг напишет, воплотив давно им лелеемую мысль о бесконечности сознания, в философском смысле свободного, даже когда внешний гнет непереносим? И не знаком ли свободы является мелькнувшая в самой последней фразе — на радость рассказчику, известному ценителю таких наслаждений, — бабочка, которую в такие ночи только и ловить, не смущаясь тем, что это занятие считают вполне бесполезным?
Кольцевая композиция с повторяющейся и варьирующейся неожиданной метафорой (лужа, нечто глубоко непоэтическое), с анаграммами и словами-гибридами, органична для «Bend Sinister», потому что весь роман построен на игровых приемах. Часто эти приемы на виду — как латинскими буквами написанные русские слова, которые дают эффект вроде знаменитой чеховской рениксы, что получилась из ерунды (Yer un dah — пишет Набоков, к недоумению, а то и раздражению американского читателя, не учившегося на кафедрах славянских языков, или предлагает какую-нибудь абракадабру из анекдота — domusta barbam kapusta). Но чаще приемы остаются скрытыми и сложными до изощренности.
Игра начинается уже с заглавия. Наклонная полоса на щите в геральдике означает, что его обладатель был незаконнорожденным отпрыском семейства, от которого унаследовал свой герб. Но столь буквальное толкование не находит опоры в романе. Предисловие автора к третьему изданию указывает, что заголовок надлежит понимать буквально: изгиб, наклон, кривизна — причем со зловещим оттенком. Фамилия героя — окружность, то есть законченность и логичность, — составляет контраст этой искривленности и изломанности. Хотя что-то губительное таит в себе и плавное круговое движение, потому что оно строго логично, а этой плавности не терпит вывернутый наизнанку мир.
В государстве Падука все и правда осмыслено под ложным знаком, искажено, как трактовка «Гамлета», где вместо безвольного принца главным действующим лицом стал рыцарь Фортинбрас, от природы наделенный целеустремленностью, а поэтому способный превратить прогнившее датское королевство в могучую державу. Такую державу строит и сам Падук, обещая подданным небывалое благоденствие, как только они раз и навсегда усвоят: личность ничто перед велениями организованных масс, которые подчинены воле правителя.
Философская доктрина, ставшая обязательной в этом обществе, именуется эквилизмом, то есть учением об абсолютном равенстве, когда один подданный решительно ничем не отличается от другого и нет даже почвы, на которой могло бы зародиться расхождение между индивидуумом и сплоченным коллективом (поскольку, за вычетом Круга да его приятеля Эмбера, толкователя «Гамлета», просто не осталось личностей). Тут каждый счастлив, осознавая себя не каплей, но частицей океана, и можно манипулировать гражданами, как рычагами, превратив общество в нехитро устроенную машину. Эквилизм изобрел некто Скотома, старый радикал и обличитель социальных несовершенств, додумавшийся — в свой поздний, маразматический период — до прославления всеобщего и неуклонного стандарта, как способа наконец-то покончить со всеми бедами человечества. Он рассуждал о мировом сознании, равно принадлежащем всем и каждому, так что необходимо только покончить с несправедливостью его распределения по отдельным хранилищам. Однако режим остался безразличен к выкладкам прогрессивного мыслителя, которому нашлось бы о чем задушевно потолковать с персонажем «Дара», тем, кто сочинял вдохновенные сны про социализм. Из трактата Скотомы извлекли рациональное зерно, состоящее в том, что это философия единообразия, то есть ею оправдано насильственное обезличивание. Государство Падука поднялось на этом фундаменте.
Разумеется, в государстве существует элита, составляющая опору власти, — Партия среднего человека. Члены партии, как правило, страдают какими-то физическими недостатками, но мелкие изъяны искупаются высотой и безупречностью исповедуемых ими идей. В сущности, есть лишь одна заветная идея — подавление человеческой уникальности или, во всяком случае, ее безусловное подчинение интересам и потребностям партии.
Круг (у него, в отличие от Скотомы, действительно большой философский престиж) необходим системе смирившимся, несмотря на все свои личные амбиции, и, вопреки своей прославленной независимости, признавшим систему непререкаемой. Этого от Круга добиваются, пуская в ход самое безотказное средство — насилие над его ребенком.
По прошествии шестнадцати лет, когда мир основательно переменился и для нового поколения слова «большевизм» или «гитлеризм» утратили свою однозначность, стало не так уж сложно утверждать, как сделано в авторском предисловии, что «Bend Sinister» — книга, доказавшая эфемерность всего земного, не исключая и смерть, которая тоже всего лишь вопрос стиля, если мы говорим о литературе, строго отделив ее от действительности. Но читателями, открывшими книгу в момент ее появления, в 1947-м, такие предположения были бы в лучшем случае восприняты как не слишком удачный розыгрыш. Ловкость, с какой творец Круга провел его по положенным девяти кругам, под конец вернув на исходную позицию литературного персонажа, к которому наивно и смешно прилагать критерии жизненной достоверности, умиляла самого творца, с годами все чаще и откровеннее принимавшегося восторгаться собственными умениями. Однако на самом деле как раз эти утомительные шалости со скрытыми реминисценциями и не всегда невинным подтруниванием над читателями, не обладающими авторской эрудицией, привели к тому, что творческий результат оказался сомнительным или, по меньшей мере, не бесспорным.
В «Истреблении тиранов» — рассказе, который был чем-то наподобие завязи, из которой выросла книга «Bend Sinister» (совпадают и подробности: герой тоже знал тирана еще в ранние свои годы, тоже, как Круг, обладал сходством с датским принцем, даже внешним: «Я вял и толст, как шекспировский Гамлет. Что я могу?»), спасением для ненавидящего и отчаявшегося стал смех. Это был смех поднявшегося на высоту и там понявшего, что казнить диктатора можно, сделав его смешным, — «именно этим, старым испытанным способом». В романе смех тоже мыслится как противоядие от эквилизма, опирающегося на насилие, но смех этот не превосходит уровень каламбура. И оттого он так часто кажется вымученным.
Набоков не сомневался, что кому-то доставит наслаждение, порывшись в «Гамлете», удостовериться: ему просто морочат голову, цитируя из трагедии несуществующие строки о неких pale skein-mates. Что кого-то развеселит словесный монстр с использованием французского homellette, звучащего, как Гамлет, да не просто омлет, но au lard — на сале. И что публика будет душевно веселиться, читая про полногрудую пятнадцатилетнюю девку Офелию, которая выучилась отменно готовить вегетарианские блюда.
Очень может быть, что он не ошибся. Но восторги тех, для кого литература, каких бы она ни касалась сюжетов, в обязательном порядке требует комизма и эскапад, не спасают «Bend Sinister», как и ссылки на то, что во времена, когда всеми владеет одна цель — в ту пору ею была военная победа над Гитлером, — нужно оценить смелость единственного, кто шагает не в ногу.
Набоков и правда шел другими путями, хотя к тому моменту, когда книга появилась на прилавках, об этом было бы сложно догадаться. Скорее его роман, не ставший бестселлером лишь по причине своей переусложненной стилистики, пришелся очень впору, отвечая массовому умонастроению. Противостояние советскому режиму стало государственной политикой, одобренной подавляющим большинством. Вскоре начнутся разбирательства по обвинениям в антиамериканской деятельности и по мотивам, впрямую связанным с политикой, приступы той же болезни, которая называется идеологической нетерпимостью. Просто в США течение болезни, конечно, никогда не принимало столь зловещего характера, как в тоталитарном мире.
Впрочем, соответствие времени или чужеродность ему почти ничего не решают, когда речь идет о реальной значительности явления искусства. Бывает так, что по внешним признакам оно очень далеко от всякой актуальности, и все равно в нем остро чувствуется что-то сегодняшнее, даже сиюминутное — как в лирических стихах, где не найти ни одной опознаваемой исторической приметы. С романом Набокова получилось скорее наоборот: свинцовые краски тогдашнего исторического пейзажа буквально бросаются в глаза, но и образ времени, и реальность описываемой драмы куда-то исчезают, причем с ведома и согласия автора. А в фокусе остаются миражи, изобретенные для героя, который, по авторским неустанным напоминаниям, и сам еще один мираж, повинующийся переменчивым настроениям своего создателя.
В письме, относящемся к ранней стадии работы над книгой, Набоков указывал, что ему трудно, даже невозможно в нескольких предложениях рассказать о замысле и сюжете будущего романа. Там самое существенное ритм, атмосфера, стиль, но никак не персонажи или коллизии, которые им уготовано пережить. Он заключал не без оттенка гордости собой: «Апофеоз (подобного в литературе еще не было) необычаен и, если угодно, олицетворяет божественную мощь. Я, Автор, прижимаю Круга к своей груди, и те ужасы, с которыми жизнь заставила его соприкоснуться, оказываются всего-навсего авторским изобретением». Кажется, Набокову нравилось ощущать себя цирковым магом, который взмахом жезла рассеивает зловещий туман, вызывая бешеные рукоплескания зала. И он предпочел не замечать, что подобные эффекты впечатляют только на арене.
«Bend Sinister» впервые позволил отчетливо почувствовать, что писатель Сирин закончил свое литературное существование. Писатель Набоков оказался во многом другим, причем дело не в том, что его интересовали другие темы. Существеннее, что со сменой имени на обложке иным стало и художественное качество прозы.
Книжка о Гоголе ясно предсказала, в какую сторону будут направлены эти перемены. «Великая литература, — писал Набоков, — идет по краю иррационального». В ней не бывает жизненной достоверности, она адресуется к человеку, обладающему творческим воображением. Он должен быть готов к тому, что придется иметь дело не с трехмерным, а, по меньшей мере, с четырехмерным, как у Гоголя, повествованием, где множество снов, сливающихся с явью, и странные, обманчивые зеркала, и фантомные персонажи взамен живых людей. В ней «тени, сцепляющие нашу форму бытия с другими формами и состояниями, которые мы смутно ощущаем в редкие минуты сверхсознательного восприятия».
Среди немногих действительно запоминающихся эпизодов «Bend Sinister» есть тот, что явился вариацией исходного мотива одного из последних сиринских произведений «Ultima Thule» — послание героя умершей жене. Круг снискал себе имя в науке, сочинив философский трактат, в котором, помимо остального, было опровержение всевластия и святости смерти. Пока он писал свою «Мироконцепцию», для него имели вес только аргументы логики, выстроившиеся в ладную систему мысли, которой доказывался нужный тезис, что смерть — отвратительное насилие над природой вещей в мире, и мир отказывается принять ее неотвратимость. После смерти Ольги ему предстоит новым жестоким опытом испытывать эту философию, возникшую, когда в автокатастрофе погибли его родители. Круг старательно ликвидирует напоминания о том, что еще недавно она была рядом: избавляется от ее вещей, снимает со стен фотографии. Но чувство пустоты не притупляется. И уже не собрать воедино мир, рухнувший с ее смертью.
Кругу начинает приоткрываться, что истинный строй бытия все-таки не идентичен представлениям, ассоциируемым с его фамилией. На самом деле бытие лишено завершенности, в нем есть и еще одно — мистическое, трансцендентное — измерение. «Как сумасшедший мнит себя Богом, так мы считаем себя смертными», — читается французский эпиграф к «Приглашению на казнь». Мысль отдана выдуманному философу и писателю Пьеру Делаланду — все то же самое пристрастие к игре. Однако она не просто принадлежит Набокову, а обозначает одну из его главных тем. В американский период творчества эта тема стала почти неотступной.
Таинственные связи явлений, «тени», протягивающиеся из сферы сверхсознательного, двойники, искаженные повторения, странные отзвуки и узоры, заставляющие почувствовать, что ничто не исчезает бесследно, — все это с годами сделалось ожидаемой приметой набоковского повествования. Как и преследующие героя мысли о том, обрывается ли жизнь с завершением земного бытия или есть некое потустороннее существование, причем вовсе не такое, к которому готовят себя люди, настроенные религиозно.
О том, чтобы его не приняли за писателя, разделяющего взгляд на мирскую жизнь как предуготовление к вечной, сам он позаботился и в художественных произведениях, не дающих повода относиться к их автору как религиозному художнику, и в своих комментариях к написанному. Его беспокоила даже вероятность сопоставлений с философией Платона, и в интервью он объяснял, что интересуется не сверхсущим, а лишь творческой интуицией: она и правда божественна, но исключительно в метафорическом смысле. Он много раз подчеркивал свою резкую неприязнь к «литературе больших идей», не суть важно, каких именно.
Такие высказывания помогли укрепиться распространенному взгляду на Набокова, в котором видят чистого художника, более всего на свете страшащегося, что его имя окажется связанным с «церковью — любой церковью». Опасения его были напрасными, этого не случилось. Однако мир высших проблем, ценностей и смыслов человеческого существования не остался для писателя Набокова неведомой землей. Это естественно, ведь иначе он просто не состоялся бы как выдающийся писатель.
Под самый конец 1947-го вышла книга «Девять рассказов» — пять из них были написаны уже в Америке, по-английски. Потом к этим пяти добавятся еще четыре, и в других сборниках они тоже будут перемежаться переведенными с русского. Даже если бы за американский период Набоков не написал ничего, кроме этих девяти новелл, их было бы достаточно, чтобы скептически отнестись к уверениям, будто его мало интересует находящееся за пределами искусства. Им бы не поверили, даже если бы рассказов было всего два — датированные маем 47-го «Знаки и символы», а также созданная тремя годами ранее новелла «Время и убыль» (в русском переводе она переименована в «Превратности времени» — без видимых причин).
В этой новелле рассказчику уже девяносто лет, и, доживая свой век (время действия 2024 год), он оглядывается на раннюю пору жизни, на Америку, какой она была в 1940-е. Это исчезнувший мир — по прошествии стольких десятилетий он кажется непостижимым, как будто не в Нью-Йорке, а где-то на другой планете у людей было обыкновение гулять по Центральному парку, ездить в такси и восторгаться самолетами новейшей конструкции, на которые, задрав голову, смотрят с тротуара, прислонив к стене велосипед. Все рухнуло куда-то в небытие, точно унесенное отливом, и сохранились только тронутые ностальгией образы далекой жизненной поры, пусть поверх них в сознании очень старого человека легли десятки впечатлений совсем другого характера и качества, сделав проблематичной саму возможность реконструкции времени. Оно неуловимо, а те ласковые зеркала, что должны его удержать для будущих поколений, — об этих зеркалах Набоков когда-то писал в «Путеводителе по Берлину» — оказываются только субъективными проекциями, метафорами, возникшими самопроизвольно, в силу каких-то сокровенных эмоциональных побуждений. О какой завершенности картины, о какой ее объективной истинности можно говорить, если на поверку существуют только версии, сложившиеся из отрывочных, случайно запомнившихся мгновений давно ушедшей жизни?
В «Знаках и символах» та же тема — философская, как бы ни стремился Набоков возвести непроницаемую стену между искусством и областью «больших идей», — приобрела отчетливые драматические оттенки. Двое стариков, навещающих в лечебнице своего психически больного сына, — люди, в чьей судьбе впрямую отразился катастрофический век, сделавший их беженцами сначала из еврейского гетто в Минске, куда добралась Гражданская война, а потом из Европы, где многим их сверстникам были уготованы газовые камеры. У сына необычное заболевание: ему кажется, что все происходящее в мире надлежит воспринимать как тайные знаки, которые указывают на истинную природу его собственного жизненного опыта. И чем более жестоким становится смысл, открывающийся ему за этим вселенским шифром, тем неодолимее искушает мысль о самоубийстве.
Произойдет ли оно и на самом деле в тот наполненный зловещими предзнаменованиями день, когда старики ездили к сыну последний раз? Случайно ли застрял в тоннеле поезд подземки, а ток дали только через четверть часа? Случайно ли попался им на глаза полумертвый птенец, барахтавшийся в луже рядом с автобусной остановкой? К сыну их не пустили, подарок — баночки с джемами — пришлось везти обратно, а дома начались странные телефонные звонки: спрашивали какого-то Чарли. Рассказ кончается, когда опять звонит телефон, внушающий старикам чувство ужаса.
Есть много интерпретаций этой новеллы, занимающей всего пять страниц. Ее называли экспериментом Набокова в необычном для него жанре мистического повествования с открытым финалом, который позволяет очень по-разному представить развязку событий. Говорили о еще одной попытке проникновения в потусторонность. Болезнь персонажа, так и не появившегося на сцене (врач сказал о нем, что у него «мания причастности» — своей причастности ко всему на свете и, наоборот, прямого вторжения всего происходящего в его частный мир), впрямую связывали с травмирующим опытом ранних лет, когда в окружающем мире бушевали волны варварства.
Набоковым предусмотрены все эти контексты. Но все же выделен тот, который сопрягается с мотивом иллюзии или мнимой достоверности, пытающейся узурпировать права бесспорной истины, однако никогда ей не тождественной. Окончательного смысла не придается ни одному знаку, ни один из символов не приобретает абсолютного значения. Вопреки напрашивающейся логике, рассказ завершается на неопределенной ноте.
Она для Набокова естественна, потому что согласуется с его представлениями о литературе, которая становится настоящей лишь при том условии, если выраженный ею смысл невозможно передать языком логических выкладок и формулами здравомыслия. Один из студентов, слушавших набоковские курсы в Корнелле, куда мэтр вскоре перебрался из Уэлсли, вспоминает, как они в классе разбирали роман Диккенса «Холодный дом». Набоков нарисовал на доске несколько стрелок, сложившихся в причудливого вида рисунок. Все это были «темы», такие, например, как нищета, ужасные экономические условия, интриги из-за наследства, общественное недовольство и еще кое-что в том же роде. Затем, из соединения этих стрелок, появлялась изогнутая линия, которая обозначала «тему искусства». И выходило, что эта зигзагами идущая кривая придает рисунку сюжетность: на доске была кошачья физиономия, украшенная улыбкой во всю пасть. Догадливым или начитанным не стоило труда догадаться о смысле и происхождении этого образа. Разумеется, «Алиса в стране чудес», Чеширский кот, который умел исчезать, так что в воздухе оставалась одна его бесплотная улыбка. Не то же ли самое происходит и с творениями истинного художника, когда их пробуют толковать так, словно это пособия по социальным вопросам или философские рассуждения в облегченной форме?
И все-таки в те первые годы после войны иной раз перо самого Набокова становилось бичующим — в самом прямом значении слова, — а злободневность выбираемых им сюжетов была самоочевидной. Видимо, это впрямую не относится к «Bend Sinister», хотя как раз в пору работы над романом о Падукграде Набоков писал сестре: «Душка моя, как ни хочется спрятаться в свою башенку из слоновой кости, есть вещи, которые язвят слишком глубоко, например, немецкие мерзости сжигания детей в печах, — детей, столь же упоительно забавных и любимых, как наши дети. Я ухожу к себе, но там нахожу такую ненависть к немцу, к концлагерю, ко всякому тиранству, что как убежище ее n’est pas grande chose… [не многого стоит. — франц.]» Случалось, однако, что подобные чувства прорывались открыто, как в написанном еще весной 1945-го рассказе «Отрывок из разговора» (русским переводчиком он зачем-то переименован в «Групповой портрет»).
Сначала рассказ назывался «Двойной счет». У него есть своя предыстория. В Нью-Йорк перебрался из Парижа Марк Слоним, критик и журналист, когда-то издававший пражскую «Волю России» с ее отчетливо левой, а порой почти «просоветской» ориентацией. Слоним приходился (по отцу) дальним родственником Веры, и когда в один из нечастых наездов Набоковых в Нью-Йорк за каким-то обедом произошла их встреча после шести лет скитаний по миру, присутствующие ожидали бурной радости с обеих сторон. Но со стороны Набокова ее не последовало. Как раз напротив, было ясно обозначено, что разговаривать им не о чем и незачем. Слоним за годы войны полевел еще больше и, как показалось Набокову, не прочь был восславить величие Сталина (в действительности до этого дело никогда не доходило). Сознание, что с таким человеком его соединяют какие-то узы, было непереносимым.
В рассказе у повествователя есть однофамилец, о котором не так сложно составить представление по косвенным свидетельствам и разрозненным деталям. Он фат и бабник, украсивший физиономию тщательно подбритыми усами, он монархист, квасной патриот и дремучий антисемит, усердный читатель липовых «Протоколов сионских мудрецов»: весь набор качеств, наиболее отвратительных Набокову. По ошибке, снова и снова повторяющейся многие годы, рассказчика приглашают на вечеринку в Бостоне, где ждали, конечно, его полного тезку. Вот он был бы тут в родной стихии.
Гостей потчуют политическим мыслителем германского происхождения, которому вскоре предстоит занять кафедру немецкого языка в колледже на Среднем Западе. Мыслитель озабочен историческими судьбами своего отечества, которое капитулировало, проиграв войну из-за безумств фюрера, страшно все запутавшего, а потому повинного в столь печальной развязке событий. Никакой неизбежности в том, чтобы Германия потерпела поражение, однако же, не было, а если логично рассудить, и сама немецкая катастрофа не должна восприниматься как возмездие за преступления перед человечеством. Их не было, этих преступлений, были лишь выходки фюрера и чистый энтузиазм германских юношей, которые, вступая в завоеванный польский или русский городок, верили, что утверждают порядок, справедливость, счастье. А евреи упорно не желали взять этого в толк, оказывали сопротивление, принуждавшее к ответным действиям. Что оставалось делать, как не заключить под стражу особенно озлобленных из их числа? Это разумное действие отнюдь не вызывалось расовыми предрассудками. И какое отношение имеют пресловутые лагеря смерти к обустройству побежденного рейха?
Среди слушателей профессора, очень советующего не доверять пропаганде, которая раздувает слухи про зверства оккупантов, — на самом деле они были истинные рыцари и намерения у них всегда оставались самые лучшие, — есть бывший царский полковник (впрочем, очень может быть, что просто какой-то авантюрист из тех, кто замечательно описан Набоковым в довоенном рассказе «Лик»), Такие, как Мельников, в войну, понизив голос, шептали по углам: «Я бы тех жидов Гитлеру оставил, нехай он их всех в землю закопает живыми» (услышав эту фразу в эшелоне с эвакуированными где-то под Семипалатинском, Ахматова отреагировала немедленно: «Таких надо убивать!»). Еще не началась антисемитская кампания, известная под названием «борьбы с космополитизмом», Сталин еще не во всех деталях продумал собственный план окончательного решения еврейского вопроса. Однако Мельников верно почувствовал, куда дует ветер. И от души радуется, что во главе России опять стоит настоящий патриот, заботливый хозяин, выдающийся державный ум.
В газете Набоков прочел о приеме в советском посольстве, на который были приглашены остатки русского Парижа. Первые послевоенные месяцы еще держались иллюзии в том роде, что сталинский режим обязательно переменится, смягчится, и что перед лицом пережитой смертельной опасности должны отступить идейные размежевания, создававшие непримиримость в отношениях эмиграции с метрополией. Многих заворожила зыбкая перспектива диалога после двадцати с лишним лет противостояния. Давний литературный противник Набокова Георгий Адамович написал по-французски книжку «Другая родина», воспринятую многими в русском Париже как явное капитулянтство.
Кремль сделал несколько сильных ходов: появился указ Верховного Совета о восстановлении в гражданстве СССР бывших подданных Российской империи (которые, конечно, должны были пройти негласную проверку), было налажено издание в Париже специальной газеты, агитирующей за покаяние и возвращение, организован Союз советских патриотов. «Везде волновались, — записывал в дневнике стареющий Бунин. — Во многих семьях произошел раздел». За ним самим велась настоящая охота по инструкциям, исходившим непосредственно от советского посла Богомолова. Появление в Москве русского нобелевского лауреата и хотя бы две-три его строки вроде умиленных высказываний, которые репортеры, собравшиеся на Белорусском вокзале, приписали впавшему в детство Куприну, — это на самом деле был бы крупный успех.
Его не добились, как ни старался посланный для этого в Париж писатель-лауреат Симонов и как ни агитировали Бунина люди из его близкого окружения, на которых симоновское благополучие — рассказы о машинах, дачах, секретаршах, доставленные к ужину в обшарпанную бунинскую квартиру водка и икра — произвело почти магическое действие. Но момент колебания был — об этом говорят дневниковые записи лета 1946 года. Затеяв большую игру, власть сама ее и испортила: 14 августа того же года появилось постановление, клеймящее Ахматову и Зощенко. После него прозрели и самые легковерные.
За этими маневрами Набоков наблюдал с растущим гневом и отвращением. Оба чувства останутся надолго, заставляя порывать с теми, кто, по его сведениям, запятнал себя компромиссами с большевизмом. «Отрывок из разговора» появился вслед сообщению о том, что на рю де Гренель, где располагалась советская миссия, Василий Маклаков, один из политических лидеров эмиграции, за завтраком произнес тост в честь победоносной Красной армии и ее генералиссимуса. В негодующем письме по этому поводу Набоков утверждает: среди эмиграции есть пять групп, из которых для него приемлема только последняя — наследники традиций русской интеллигенции, которые ни за что на свете не поступятся честью и свободой, если только речь не идет о спасении их близких (в той ситуации, перед которой в «Bend Sinister» оказывается Адам Круг). Он никогда не найдет общего языка ни с дураками, ни с пошлыми обывателями, которые отправились в изгнание словно по инерции, вовсе не думая ни о политических, ни о нравственных мотивах. И уж тем более ему не по пути с брюзжащими на большевиков лишь за реквизицию фамильных двенадцати стульев и с мечтателями о погромах, обрадованными тем, что в советской России погромы, похоже, станут еще ужаснее, чем были в царской.
Письмо адресовано Владимиру Зензинову, старому эсеру, который остался непримиримо враждебен большевикам даже в годы войны (в его руки попали письма, писавшиеся из дома солдатам в советско-финскую войну, и он их напечатал книжкой, дающей документально достоверную картину тогдашней российской жизни). Высказывать такие суждения публично Набоков, как правило, не хотел, хотя мосты между ним и эмиграцией уже тогда, в 1940-е, были практически сожжены. Как культурное единство эмиграция больше не существовала, от ее столпов, доживавших свой век в Париже, — от Бунина, Шмелева, Зайцева, Ремизова, Георгия Иванова — Набоков чувствовал себя бесконечно далеким да мало и знал о происходящем по другой берег Атлантики, а тем более в России, отгороженной от остального мира железным занавесом. Там, в «полыхающем сумраке отчизны», куда, как он надеялся, воздушным мостом пройдет его слово, поднялась новая волна террора, на этот раз оттеняемого откровенной антисемитской направленностью, там под запретом оказалась едва ли не вся европейская культура, которую объявили растленной. Там добивали чудом уцелевших в страшное предвоенное время и старались навеки искоренить память о жертвах. Это удавалось: в России страх парализовал даже самых отважных, а на Запад просачивались только крупицы достоверных сведений. В 1949 году большое нью-йоркское издательство решило выпустить «Историю русской литературы» князя Д. Святополка-Мирского, яркого критика и ученого, который, порвав с эмиграцией, написал книгу о Ленине и потом вернулся на родину. Обратились к Набокову с просьбой дать текст для суперобложки, а он отказался:
Схожее завершение эмигрантской судьбы Набоков воссоздал в своем первом по-английски написанном рассказе «Помощник режиссера». Если какой-нибудь бывший русский парижанин прочел его в майском номере «Атлантик мансли» за 1943 год, то сразу узнал события пятилетней давности: процесс певицы Надежды Плевицкой, обвиненной в активном содействии своему мужу, улизнувшему от французской полиции генералу Скоблину, который по заданию НКВД организовал похищение главы Общевойскового союза белогвардейцев генерала Миллера (его заманили в западню и бесчувственного доставили в Гавр, погрузив на советский пароход, — дальше были Лубянка и расстрел). Скоблин бежал, но его участь была предрешена, как и участь мужа Цветаевой Сергея Эфрона, тоже выполнившего задание чекистов по устранению их бывшего коллеги, который остался в Швейцарии: обоих казнили как нежелательных свидетелей. Плевицкая все отрицала и отправилась отбывать срок с высоко поднятой головой, но, отсидев во французской тюрьме три года, сочла за лучшее покаяться, выложив следователю красочные детали. Но в порабощенной стране было уже не до ее признаний.
У Набокова Плевицкая стала эстрадной дивой Ла Славской, а Скоблин превратился в Голубкова, однако без изменений дано само происшествие. Просто оно осмыслено как перенесенная в реальную жизнь сценка не то из спектакля в мюзик-холле, куда любит ходить публика, напрочь лишенная художественного вкуса, не то из скверного фильма, в котором все обесцвечено — пейзажи, и люди, и страсти. Та жизнь, которую ведет распутная и жадная певичка со своим ничтожным супругом — ради житейских выгод и смехотворных амбиций он готов на любую гнусность, — для Набокова не более чем сценарий примитивной картины с бывшими князьями да отставными генералами, вздыхающими по матушке России: тут идут в ход самые шаблонные приемы, а исполнителей, пленясь дешевизной и иллюзией подлинности, подбирают из числа тех русских, чьим достоянием остались одни лишь образы прошлого.
Когда-то в Берлине он знал Плевицкую, отдавая должное ее несомненному артистическому таланту, но не прощая вульгарности, которая не только бросалась в глаза на концертах, но и была свойственна всему ее стилю жизни. В рассказе налет вульгарности сгущается от эпизода к эпизоду, и в итоге описываемые события лишаются даже слабого оттенка драматизма. Они всего только канва для фильма, который автор смотрит с подчеркнутой непричастностью, то иронично, то брезгливо наблюдая за этим мельтешением низких расчетов, поддельных чувств, скотских инстинктов и предательств. Такое чувство, что в эмигрантской будничности всевластны аморальные или, говоря иначе, пошлые побуждения и что для автора это абсолютно чужой мир.
В Уэлсли, где других русских не было, ностальгия по обществу соотечественников, видимо, не посещала Набокова, но достаточно часто появлялось чувство своей неукорененности в этой новой почве, примерно такое же, как у героя новеллы, носящей заглавие, которое взято из «Отелло»: «Что как-то раз в Алеппо…» Этот рассказ тоже написан в 1943-м и опять по-английски, однако главный персонаж — русский, причем литератор и даже знакомец писателя В., вслед за которым он бежал в канун оккупации из Парижа и вот теперь слоняется по Центральному парку в Нью-Йорке, ощущая себя потерянным, одиноким, чем-то непоправимо виноватым перед женщиной, брошенной им в Марселе, где она, возможно, по сей день томится в ожидании на набережной неподалеку от порта. Хотя возможно и нечто в совсем ином роде: женщина эта просто ему пригрезилась или случайно промелькнула в суматохе великого исхода, затерявшись на какой-нибудь станции, мимо которой вне расписания и без назначения шли переполненные беженцами поезда. Возможно, она была таким же фантомом, как ее нью-йоркские родичи, чей адрес на деле оказался несуществующим, как живший у нее (и перед бегством из Парижа повешенный рассказчиком собственными руками) сеттер, которого никогда не заводили, как описанная ею — с очевидными или скрытыми отсылками к соответствующим сценам Шекспировой трагедии — история мнимой измены со встреченным в вагоне продавцом лосьонов для волос. Как весь этот обезумевший мир, где никому уже не понять, как и по чьей воле меняются начертания судеб и есть ли граница, разделившая эфемерность и достоверность.
Мотив границы постепенно станет одним из преобладающих в прозе Набокова и получит разнообразные интерпретации у ее исследователей, в том числе и чисто философские, вопреки всей неприязни писателя к подобным толкованиям и к текстам, которые предоставляют для них поводы. Если иметь в виду поздние его книги, такие, как «Бледный огонь», они сами напоминают доктрину, изложенную с помощью изысканных беллетристических приемов, но на новеллах, которые писал преподаватель из Уэлсли, еще не сказывается умозрительность. Наоборот, в них распознаваем живой отклик на свершившуюся жизненную перемену, которая тогда воспринималась автором этих рассказов со сложными чувствами. И с ощущением немыслимой удачи — легко вообразить, что сталось бы с Набоковыми, останься они в капитулировавшей Франции, — и с еще не притупившейся тоской из-за того, что русское теперь окончательно становилось прошлым. Даже с приступами страха, о котором поведало стихотворение 1947 года, описавшее нелегальную поездку в город детства: а что, если эти «заглушенные очертания», хранящиеся в душе, только кажимость и уже не восстановить «все подробности берез» вдоль шоссе со станции Сиверская, и только поэтической фантазией остаются «ромб лазури и крап ствола сквозь рябь листвы»?
Когда он насовсем уезжал из Кембриджа, среди рукописей были первые главы автобиографии, несколько лет помогавшей Набокову справиться с этими тревогами или по меньшей мере их заглушить, переносясь в Ингрию и уходя в воспоминания ранней поры своей жизни. Книга, названная «Убедительное свидетельство», появится в 1951-м, три года спустя будет переделана для русского издания, озаглавленного «Другие берега», и снова переписана по-английски зимой 1966-го. Иной раз кажется, что три эти версии, хотя и вышли из-под одного пера и воссоздают течение одной биографии, принадлежат разным авторам — настолько менялся взгляд Набокова на события, ставшие для него вехами. И только одно оставалось без изменения: то пронзительная, то смягченная юмором ностальгия по невозвратному — по России во времена его детства. Это чувство, каким бы приглушенным и неотчетливым оно ни становилось, не оставило Набокова до самого конца.
…Так над простором голым
Моих нелучших лет
Каким-то райским ореолом
Горит нерусский свет!
Сбреди американских интеллектуалов, заметивших и оценивших Набокова еще по его первым рассказам, напечатанным в «Атлантик мансли» в военные годы, был Морис Бишоп, филолог, специалист по романским литературам, работавший в Корнелле. Помимо ученых трудов, Бишоп сочинял шутливые стихи, время от времени печатая их в журнале «Нью-Йоркер», с которым и у Набокова были прочные деловые отношения. Когда выяснилось, что колледж Уэлсли не намерен предоставить своему преподавателю русской литературы штатную должность, ежегодно подвергая его неприятной процедуре возобновления контракта, Бишоп стал хлопотать о приглашении Набокова на руководимую им кафедру. 30 июня 1948 года Набоковы покинули свой бостонский пригород.
Корнелл, по американским меркам довольно старый университет — он был основан в 1865-м, располагался в городе Итака, штат Нью-Йорк, стоящем по крутым лесистым холмам на берегу озера Каюга. Небольшой, уютный городок сразу очаровал Набоковых. Библиотека была богатая, имелись энтомологические коллекции. Здесь Набокову предстояло провести одиннадцать лет.
Переезжали из одного освободившегося профессорского дома в другой, пока под конец не обосновались на Каюга Хайтс, рядом с университетскими корпусами, — это был лучший район. Бишопы с давних пор жили тут же, неподалеку. Время от времени соседи обменивались шутливыми стихотворными посланиями. Элисон Бишоп, одаренная художница, сумела придать непринужденность их частым встречам, когда, помимо факультетских дел, обсуждали литературные новинки и современные эстетические веяния.
На этих встречах бывал с 1951 года занимавший в Корнелле английскую кафедру Артур Майзнер, известный литературовед, автор канонической биографии Скотта Фицджеральда. Вспоминая тогдашние свои беседы с Набоковым, он говорил двадцать лет спустя, что ему никогда, больше не приходилось встречать человека настолько эрудированного и мыслящего настолько широко, хотя, надо признать, не отмеченного излишней скромностью. Впрочем, «даже тщеславие было в нем безобидным».
Студентов оно, во всяком случае, не отталкивало. Их было поначалу совсем немного: несколько человек, записавшихся на курс истории русской литературы от истоков до Пушкина, чуть больше — на семинар, где предполагалось чтение памятников в оригинале. От этой идеи вскоре пришлось отказаться. Русский язык в Корнелле преподавался отвратительно, по-настоящему им владел только один набоковский студент — Пол Робсон-младший, сын очень в ту пору известного чернокожего певца, пламенного приверженца коммунизма: несколько лет Робсоны прожили в СССР. Позднее, когда Набоков начнет читать общий курс русской литературы для не владеющих языком, его аудитория окажется переполнена. И единственным преподавателем Корнелла, который успешно с ним конкурировал по популярности, будет другой знаменитый певец — исполнитель народных песен Пит Сигер. Он тоже не раз ездил на гастроли в Россию.
Преподавание русского находилось в ведении лингвистической кафедры, которую возглавлял профессор Фербенкс, считавший, что знания теории достаточно, чтобы вести предмет, известный ему не многим лучше, чем тем, кто сидел в классе. Ни говорить, ни читать по-русски питомцы Фербенкса были не в состоянии — из-за этого срывалась предложенная Набоковым программа по литературе. Переводы чаще всего его не устраивали. Деятельность в Корнелле он был вынужден начать с того, что сам принялся для занятий переводить «Слово о полку Игореве», консультируясь с историком Шефтелом и со знаменитым лингвистом Романом Якобсоном (тот в молодости был среди ближайших друзей Маяковского). Эти контакты, как и следовало ожидать, кончились полным разрывом отношений: и на поэзию, и на перевод Якобсон смотрел иначе, чем Набоков. Была, впрочем, причина более существенная, чем несогласие в профессиональных проблемах. В 1956 году Якобсон принял приглашение на какую-то конференцию в Москве и не скрыл чувств, пробужденных первым приездом на родину после трех десятилетий вдали от России. Для Набокова самого этого факта было достаточно, чтобы заключить: Якобсон — коммунистический агент. Отказываясь от сотрудничества, он не скрыл от Якобсона, что не считает для себя возможным работать с человеком, «посещающим тоталитарный мир».
Ротапринтная версия «Слова» много лет служила корнеллским студентам незаменимым подспорьем: не отличаясь эстетическими красотами, переложение безупречно передавало смысл. Доработав, Набоков его напечатал в 1959-м, в последний американский год.
Отношения с профессором Фербенксом вскоре приняли форму прямой конфронтации. В свое оправдание Фербенкс мог бы сказать, что и в Гарварде, этой университетской Мекке, русскому языку учат примерно так же: привлекают иммигрантов, для которых он родной, а грамматику и стилистику поручают вести лингвистам. Но для Набокова это были неубедительные аргументы. Приглашенные для уроков устной речи чаще всего сами скверно говорили по-русски, поскольку были родом кто с Кавказа, кто из бывших польских областей. О литературных нормах у педагогов были самые смутные понятия, их теоретические выкладки оказывались смехотворными. Когда Фербенкс выпустил пособие, в котором с грубыми ошибками в языке описывались порядки и обычаи, принятые в советском обиходе (причем материал обычно брался из пропагандистских московских изданий), Набоков пожаловался администрации. Делать этого, конечно, не следовало. Был 1951 год, апогей «холодной войны». После такого заявления Фербенксу грозили неприятности с комиссией по расследованию антиамериканской деятельности.
Набоков, однако, не считал свои действия предосудительными. В Корнелле (тогда это само собой разумелось) работал агент ФБР, следивший за политическими взглядами преподавателей. Набоков был с ним хорошо знаком и как-то заметил, что не имел бы ничего против, если бы его сын тоже стал сотрудником этой организации.
К счастью, Коуэн, руководитель корнеллского департамента современных языков, не дал делу хода.
Есть довольно много свидетельств о том, каким был Набоков на кафедре. Среди сотен его студентов было не так уж много тех, кто потом оставит какой-то след в американской культуре, из всех них знаменитым стал один Томас Пинчон, крупный современный романист, столп постмодернизма. Но облагораживающее влияние своего преподавателя, который строил занятия вовсе не так, как делалось и до него, и после, видимо, ощутили все. Или почти все.
До Набокова русскую литературу читал в Корнелле Эрнест Симмонс, патриарх американской славистики, крупный специалист по Толстому. Он принадлежал к старой академической школе со всеми ее особенностями: владел огромным материалом, никогда не допускал фактологических неточностей, к литературе относился трепетно, считая ее серьезным, ответственным делом, как и подобало приверженцу либеральной традиции, любившему порассуждать про нетленные духовные ценности и передовые идеи. Набоков был с ним шапочно знаком — когда-то они предваряли радиопостановку по «Ревизору», беседуя о Гоголе перед микрофоном, — и теперь становился его преемником. Однако свои курсы он намеревался строить по-другому. Цель была та, чтобы студенты прежде всего выучились как следует читать.
Об этом он написал Кэтрин Уайт, своему редактору из журнала «Нью-Йоркер», с которой у Набокова были доверительные отношения: «Нужно мне одно — 150 моих студентов должны научиться читать книги, вместо того чтобы обходиться общими рассуждениями касательно „идей“, заключенных в этих книгах, равно как болтовней про „влияния“, „общий фон“, „человеческий аспект“ и прочее. То есть им предстоит поработать».
Так и было, хотя студенты не сразу понимали, что их ждет нелегкий труд. Марта Апдайк, жена современного романиста (в каком-то смысле тоже набоковского ученика) Джона Апдайка, так вспоминает об этих занятиях: они были в своем роде театром одного актера. Набоков никогда не импровизировал: каждая лекция существовала в письменном виде, листочки раскладывались незаметно для аудитории, и лектор, читая, потихоньку их переворачивал, — однако модуляции голоса были настолько неожиданными, ритм до того разнообразен, что возникало такое чувство, словно это не лекция, а непринужденный, живой разговор. И он еще жаловался на свою скованность и необщительность!
Сам Набоков тяготился тем, что из года в год вынужден произносить один и тот же текст. Даже предложил начальству записать лекции на магнитофон, а со студентами проводить только семинары и коллоквиумы. Но его идею отвергли. Смирившись с принятым порядком, Набоков решил выдерживать его неуклонно.
Войдя в лекционный зал, он объявлял, что у него запрещается «разговаривать, курить, вязать, читать газеты, спать». Парочкам нужно на полтора часа расстаться, заняв места за разными столами. На экзамене посещение туалета разрешено только по справке от врача, удостоверяющей желудочное расстройство. Без досконального знания разбираемых текстов экзамена не сдаст никто и никогда. Пусть не вздумают рассуждать о «литературных направлениях» или о затронутых автором «социальных проблемах», если не в состоянии сказать, какое впечатление произвел Родольф при первой встрече на Эмму Бовари, как произошло решающее объяснение Китти с Левиным, какие обои были в спальне Карениных и в какой сцене романа эта деталь приобретает большое значение. Пусть, читая «Холодный дом», подберут примеры, которые показывают, до чего острый глаз был у прозаика, сравнившего нагар на подсвечнике с капустным листом, а уж потом, если угодно, могут порассуждать о викторианских понятиях и вкусах Диккенса. Самого экзаменатора эти рассуждения не интересовали. Он с первых же лекций — и по русской литературе, и по европейской — дал ясно понять, что на его занятиях не будет разговоров вокруг литературы вместо постижения самой литературы.
Посмертно набоковские лекции были изданы: два больших тома и книжка с уничтожающим, крайне пристрастным разбором «Дон Кихота». Пристрастность была естественной, неизбежной — ведь и на кафедре Набоков оставался писателем. Случалось, его нападки на других авторов производили шокирующее впечатление. Доходило до прямых конфликтов. Студентка, собиравшаяся писать дипломную работу по германистике, посреди лекции вышла из аудитории, когда услышала, что Томас Манн рядом с Кафкой литературное ничтожество, как, впрочем, и Рильке. Другой студент не вынес издевательств над Достоевским. Это был одаренный мальчик, которого отличала недюжинная смелость, — он вслух предложил, что сам проведет семинар по Достоевскому, поскольку профессор явно не в состоянии это сделать. Набоков вскипел, кинулся к декану, требуя исключить наглеца из университета, и замять эту историю стоило немалых трудов.
Тем не менее зал на его лекциях был до отказа заполнен верившими каждому набоковскому суждению. Особенно привлекало умение Набокова продемонстрировать, как устроен мир, встающий со страниц великих писателей. До него о европейском романе читал старичок-алкоголик, больше всего на свете обожавший покопаться в грязном белье знаменитостей, — его курс получил у студентов кодовое название «Похаблит». С этим Набоков покончил раз и навсегда. Он тоже говорил о личных особенностях разбираемого автора и о важных событиях его частной жизни, но при этом не было ни грана вульгарности. Многие запомнили исключительно артистичное описание последних минут Гоголя, когда казалось, что трагедия его ухода развертывается прямо на глазах набоковских слушателей. Если Набоков вторгался в биографии тех, кому посвящались лекции, то исключительно с намерением высветлить нечто существенное для их творчества.
Он вновь и вновь повторял, что литература — та же магия, волшебство, хотя она может становиться еще и поучением. Не следует искать в ней жизненно достоверных картин. «Холодный дом» — не путеводитель по Лондону, каким город был в середине XIX века, а фантастический мир, сотворенный его автором. Лишь посредственность довольствуется тем, что описывает похоже. Гений не удовлетворится тем, что Набоков назвал «раскрашенными клише».
Из этого, однако, вовсе не следовало, что читатель вправе пренебречь реальными обстоятельствами или даже сравнительно мелкими подробностями картины, открывшейся перед ним в великом произведении. Ничего подобного. Необходимо «ясно представлять тот особый мир, который предоставлен в его распоряжение автором». От студентов это умение требовалось в обязательном порядке. Занятия строились так, чтобы развить его по возможности полно.
Посвятив лекцию «Превращению» Кафки, Набоков ни слова не сказал ни о модернизме, ни о социальной ситуации в Австро-Венгрии накануне мировой войны, но со знанием дела, как опытный энтомолог объяснил, к какому классу насекомых следует отнести ту покрытую жестким панцирем многоножку, какой вдруг стал скромный служащий Грегор Замза (и кстати, поиздевался над недогадливым переводчиком, решившим, что это гигантских размеров таракан). Не было даже упомянуто о пореформенной России, зато, разбирая «Анну Каренину», Набоков подробно объяснил, какие вагоны курсировали в ту пору по Николаевской железной дороге и где именно происходил разговор героини с Вронским. А когда дошли до «Улисса», Набоков одной пренебрежительной фразой покончил с мифами и с гомеровскими параллелями, попросив внимательно всмотреться в карту Дублина начала века: ведь надо ясно видеть, по каким улицам, мимо каких пансионов и пивных проходят маршруты персонажей, описанных у Джойса.
Но знать и видеть все это нужно было исключительно для того, чтобы верно ориентироваться на просторах творческого воображения, которое и создает шедевры. Лекции по европейской литературе начинались заявлением, что «великие романы — это великие сказки, а романы в нашем курсе — величайшие сказки», и нельзя поддаваться иллюзии правдоподобия, которую они внушают. Великий роман сам же и разрушит эту иллюзию, причем именно в тот момент, когда она грозит стать полной. По критериям Набокова, правдоподобной была «Хижина дяди Тома» и беллетристика такого же разбора, но уж никак не «Смерть Ивана Ильича» или «Мертвые души». Только очень недалекие люди (или вконец испорченные чтением Белинского, который с апломбом судил о литературе, ничего в ней не смысля) могли серьезно рассуждать о прозрениях и пророчествах в финале первого тома, где на самом деле лишь производится ловкий фокус, так как пришло время убрать со сцены Чичикова. Пока доверчивые читатели упиваются рапсодией о птице-тройке, происходит «превращение кругленького Чичикова в крутящийся волчок», а это кружение помогает автору погрузить героев, да и себя тоже, «в калейдоскопический кошмар». Только и всего, и оставьте навязшие в зубах разговоры про «панораму русской жизни» — Гоголь ее вовсе не знал, — про «пламенное обличение рабства» и все остальное, о чем написано в советских учебниках (впрочем, и в дореволюционных тоже).
Да, конечно, Гоголь страстно желал обличать, проповедовать, подчеркивать моральную подоплеку своего произведения. Всем известно, что он верил в собственную миссию духовного поводыря, а под конец жизни впал в экзальтированную религиозность. Но это просто означало, что изменилась его тональность и другим стал метод, а для Гоголя подобная метаморфоза губительна. Потому что истинный мир Гоголя составляли мнимости, «хаос мнимостей». И из этого хаоса — вот оно, истинное гоголевское своеобразие — им извлекалась «суть человечества». Такое происходило нечасто, но все-таки происходило, только нужно было, чтобы писатель занимался не изобличением пороков и прославлением добродетелей, а своим прямым делом. И не забывал, что «всякая великая литература — это феномен языка, а не идей».
Подхватив эффектную фразу, набоковские энтузиасты стали ее повторять по любому поводу и, похоже, не заметили, что их усердием сильно скомпрометирован выраженный в ней подход к литературе. Ведь понятно, что эта формула совершенно не годится, когда перед читателем книги, воспринимаемые, подобно романам Достоевского, именно как феномен идей, которыми впрямую определяется сам их язык, то есть изобразительный ряд, композиция, образы, стилистика. О существовании таких книг Набоков знал не хуже своих оппонентов и знал, что есть всего один способ парировать их возражения: сказать, что Достоевский не литература, а безжизненные умствования. Как и гоголевские «Выбранные места». И «Воскресение» высоко им ценимого Толстого. И весь Томас Манн. И многое, многое другое.
Доказательству этого достаточно абсурдного тезиса отданы титанические усилия, а в результате колоссы остались на своих местах, как бы Набоков ни уверял, что у них глиняные ноги. И выяснилось только одно: самому Набокову роман «с тенденцией» — философский, интеллектуальный, моралистический — органически чужд. Хотя впоследствии критики обнаружат у него пропасть идей и даже родственность древним гностическим доктринам, толкующим о единой сущности мира и об эманациях, придающих дуализм всем жизненным явлениям (можно представить, в какой ужас пришел бы Набоков, прочитав о себе что-нибудь в подобном роде!).
Дискредитировать Достоевского он, однако, так и не смог — ни своими уверениями, что это не проза, а набор банальностей, ни парадоксами, ни пародиями (чаще всего сомнительного качества). Ни желчным высокомерием эстета. Ни наигранным непониманием законов, которым подчинено действие в «Преступлении и наказании». Неприязнь ослепляла, и Набоков со своим прославленно безупречным вкусом мог утверждать, что с героями Достоевского, в сущности, ничего не происходит на протяжении всего романа: они под конец остаются теми же, что в начальных главах, в очистительный кризис, который пережит Раскольниковым, не веришь. Или что Сонечка — сентиментальная проститутка, ничего больше. Или что Мышкин — законный потомок Иванушки-дурачка и прародитель «бодрых дебилов» из рассказов Зощенко.
В итоге, потратив столько сил на дезавуацию мнимого гения, Набоков завершает свою баталию с Достоевским примерно так же, как библейский Иаков, который боролся с противником, именуемым Некто. Иаков вышел из схватки с порванной жилой на бедре: не одолев Бога, но, впрочем, и не уступив. Вероятно, среди студентов, наблюдавших ристалище, были такие, кто присудил победу своему педагогу (хотя можно понять и вышедшего из аудитории — нападки Набокова уж слишком однообразны и голословны). Их скорее всего не смущали и комически звучащие утверждения в том роде, что Достоевский неплох как автор детективов с блестками юмора, однако несостоятелен по реальным критериям оценки: как «явление мирового искусства», как настоящий талант. На самом деле писать он не умел, олицетворял претенциозность, пошлость под накидкой глубокомыслия, за которым, если вдуматься, нет ничего, кроме «бесконечного копания в душах людей с комплексами» — теми, что потом особенно интересовали «венского шарлатана», как Набоков раз за разом называет доктора Фрейда, об учении которого он почти ничего не знал.
Несостоятелен, разумеется, оказался не Достоевский, а Набоков в качестве его интерпретатора. Но и высказывая мнения, для любого добросовестного историка литературы совершенно некорректные, он хотя бы отчасти прав в том отношении, что защищает творческие установки, которые обязательны для него самого и для литературы, признающей примерно такие же художественные приоритеты. Для читателей Набокова его лекции, может быть, всего интереснее как раз там, где он особенно субъективен. Высказывая еретические мысли и яростно их защищая, он лишний раз убеждает, что собственные его произведения невозможно оценивать в согласии с теми нормами, что были ему полностью чужды. Невозможно и незачем искать у него философские глубины. Немыслимо и вообразить, что, как у Достоевского, его герои будут вести равноправный диалог с автором. Напрасны ожидания, что из-под его пера выйдут сцены, написанные, как говорится, кровью сердца.
Всего этого Набоков в литературе не признавал, ополчаясь, например, и на Диккенса, которого любил с детства. «Совершенно ясно, — пишет он, приступая к разбору „Холодного дома“, — что меня больше интересует чародей, нежели рассказчик историй или учитель». И дальше Диккенсу сильно достается за стремление превращать свои книги в обвинительные акты против тогдашнего английского общества. За приверженность реформам, откровенное морализаторство, пристрастие к «сентиментальной чуши». Какие-то из этих упреков справедливы, хотя несложно возразить: уберите чувствительность и пафос — перед вами окажется другой писатель, возможно, более совершенный, но другой. А значит, исчезнет и все то, что Набокова в нем восхищало: туман, безумие, канцлерский суд, «дети, их тревоги, незащищенность, их скромные радости».
Однако это реакция литературоведа, который изучает роман викторианской эпохи. А для осваивающих мир Набокова существенно, что он, медленно читая Диккенса, говорит о конструкции прозы и о концепции повествователя, которые нашли отзвук у него самого. Вряд ли хоть один исследователь Диккенса согласится с Набоковым в том, что английский чародей дает «урок стиля, а не сопереживания», но вот о набоковских книгах американского периода сказать это можно — не о всех, так о большинстве. И еще любопытно вот что: ненавистник всякого рода надрывных эффектов, Набоков к середине своей диккенсовской лекции превращается в страстного защитника «чувствительного» в литературе, только не сюсюканья, а «настоящего… направленного сочувствия, с переливами текучих нюансов, с безмерной жалостью выговоренных слов». Как и следовало думать, художественное чутье в конечном счете берет у него верх и над излюбленными теориями относительно сущности литературы.
Десятки раз с кафедры излагается незамысловатая суть этих теорий. Литература обязана быть искусством, и только. Надо «отложить вовсе… социологические, философские и прочие пособия, лишь помогающие бездарности уважать самое себя». Никаких «зеркал жизни»: созданное художником выражает только его уникальное миропостижение, какие бы общественные и моральные полезности ни пыталась извлечь из его наследия скудоумная критика. Повести Гоголя — отзвук его «ночных кошмаров, населенных выдуманными им, ни на что не похожими существами», и забудьте о Белинском. «Флобер занят тонким дифференцированием человеческой судьбы, а не арифметикой социальной обусловленности». Люди, которых зовут Эмма и Шарль Бовари, Родольф, Леон, та старуха, что получила из рук мэра медаль за многолетнюю беспорочную службу у своих хозяев, Набокову не интересны, хотя, при всей тривиальности их жизни, именно их истории раскрывают перед читателем постигнутую Флобером драму пустоты существования. Интересно Набокову другое — «структуры… тематические линии, стиль, поэзия». И он добавляет: так понимал творчество сам Флобер.
На самом деле последнее утверждение можно было бы оспорить. Мечтая создать «книгу ни о чем», которая держалась бы без всякой «внешней привязи», словно земной шар в атмосфере, Флобер прекрасно понимал, что не напишет ее никогда, потому что это невозможно. А когда таким же способом — структуры, стиль — Набоков пробовал анализировать «Смерть Ивана Ильича» или такую чеховскую повесть, как «В овраге», получалось уж совсем неубедительно. И даже разбор «Превращения», начатый в том же ключе, пришлось сильно корректировать.
Набоков говорил о композиции, о том, как Кафка строит гротескные ситуации, о внутреннем устройстве этого космоса — все как обычно. И вдруг прервал лекцию, чтобы рассказать случай из уголовной хроники (девица вместе с кавалером укокошила собственную мать). А рассказав, назидательно заключил: «В так называемой реальной жизни мы иногда находим большое сходство с ситуацией из рассказов Кафки». Кажется, он и не заметил, что им самим обозначена та «внешняя привязь», важность которой прежде отрицалась с предельной категоричностью.
Однако незачем ловить Набокова на противоречиях, потому что он и не притворялся ни теоретиком, ни историком, который располагает стройной, аргументированной картиной. Обязанности лектора, читавшего обзорный курс русской литературы, заставляли его касаться и тех явлений, которые были глубоко антипатичны Набокову, — вплоть до Горького, получившего ожидаемо жесткую характеристику, и даже до корифеев соцреализма: вот здесь юмор лектора становился убийственным. Обычно он просто приводил примеры, заставлявшие аудиторию изнемогать от хохота, — к примеру, открывал роман Гладкова и зачитывал любовную сцену, сопровождаемую описанием роста производственных показателей.
Что до европейского курса, Набоков был свободен подбирать материал по собственному усмотрению. И подобрал, разумеется, то, что наиболее полно отвечало его взглядам на искусство прозы. Порой довольно сложно объяснить его предпочтения: среди создателей шедевров у него, например, присутствует Джейн Остин, но нет Эмили Бронте. Порой объяснение самоочевидно — выбирается то, что творчески близко самому Набокову. Оттого к выдающимся прозаикам причислен Стивенсон как автор повести «Доктор Джекил и мистер Хайд», построенной на издавна интересовавшем Набокова мотиве двойничества. Но этой чести не удостоился Джозеф Конрад, хотя о его романах, ставших школой мастерства для многих английских и американских писателей от Фолкнера до Грэма Грина, обязательно говорится в академических историях литературы XX века.
Для Набокова, однако, последнее обстоятельство ничего не значило. Он находил такие истории не только недостоверными, а злонамеренно искажающими реальное положение вещей, поскольку возвеличиваются мнимые авторитеты, «колоссы на глиняных ногах», бездарности и мошенники, сумевшие обзавестись звучными именами, — Элиот, Хемингуэй, Сартр, тот же Фолкнер и еще многие. Как ниспровергатель лжекумиров Набоков порою выглядит комично (и гораздо реже — хотя бы в малой степени — убедительно). Когда он стал знаменит и в его честь начали устраивать пышные приемы, Вера Набокова больше всего опасалась, что опять неучтенными останутся его истинные мнения о тех, кто был знаменит не меньше. Скандалы не подобали крупному современному писателю.
И все-таки был свой выигрыш в откровенности, с какой Набоков демонстрировал свое представление об истинных или мнимых литературных ценностях. Его суждения обязательно были подкреплены аргументами, а они брались преимущественно из собственного творческого опыта. Услышав в лекции о Диккенсе, что «форма (структура и стиль) = содержание, почему и как = что», студенты, видимо, воспринимали этот пассаж как неоспоримую истину, хотя автор «Холодного дома» уж наверняка не формулировал бы так резко. В действительности это было твердо выраженное убеждение самого Набокова. Биограф Диккенса примется уточнять и возражать, однако читатель Набокова проникнется благодарностью английскому романисту, который помог ясно определить принцип, последовательно реализованный в таких набоковских книгах, как «Бледный огонь» и «Ада».
Это, в сущности, и составляло главный предмет внимания Набокова, когда он поднимался на кафедру: не авторские идеи и общественные взгляды, а «развитие некой истории, ее перипетии; выбор героев и то, как автор их использует; их взаимосвязь, различные темы, тематические линии и их пересечения; разные сюжетные пертурбации с целью произвести то или иное прямое или косвенное действие». И на самых разных примерах Набоков демонстрировал, как «рассчитанная схема произведения искусства» превращается в художественную ткань с неповторимым рисунком и цветом, когда она соткана действительно великим мастером. Их число было совсем не велико: Толстой, Флобер. И, прежде других, Пруст, с годами, кажется, становившийся особенно нужным Набокову, особенно ему близким. Ведь, говоря его словами, они оба превыше всего ценили в литературе умение «показать нам ту реальность, вдали от которой мы живем и от которой все дальше отходим по мере того, как плотнее и непроницаемее становится то привычное сознание, каким она для нас заменена».
Себя Набоков, естественно, видел в этом же ряду. Разбор написанного теми, кого он признавал корифеями прозы, был для него и размышлением над сделанным им самим. Корнелл сохранил о нем память как о самом ярком преподавателе литературы за всю историю этого университета. Для прочитавших лекции Набокова годы спустя после того, как он покинул Корнелл, они остались лучшим автокомментарием к его художественному наследию.
Но до прощания с Корнеллом было еще очень далеко. Да Набоков и не мечтал, что наступит день, когда он сможет без остатка посвятить себя тем двум занятиям, которые по-настоящему любил, — энтомологии и творчеству. Для бабочек оставались месяцы каникул, которые они с женой проводили всегда одинаково: садились в машину, чтобы добраться за тысячи миль куда-нибудь в Аризону, Вайоминг или Теллуриду, штат Колорадо, где была поймана никем прежде не описанная голубянка. После того как был закончен первый вариант автобиографии, изданной в 1951 году, творчество, если не считать двух-трех со скрипом написанных рассказов, кажется, прекратилось совсем.
Правда, Набоков работал над переводом «Евгения Онегина» и писал к пушкинскому роману пространнейшие комментарии — в конечном счете выяснится, что это одно из его главных свершений. Но, если иметь в виду художественное творчество, корнеллский период долгое время казался практически бесплодным. О том, что Набоков, кроме вымученных «Сцен из жизни двойного чудовища» и мало для него характерной новеллы «Ланс», был в эти годы занят романом, замысел которого относился еще к его европейской поре, знали всего несколько людей, внушавших ему достаточное доверие. Впрочем, и они затруднились бы хоть бегло охарактеризовать сюжет и художественную идею будущей книги.
В рабочей тетради 6 декабря 1953-го записано: «Окончил „Лолиту“, начатую ровно 5 лет тому назад».
На самом деле она была начата намного раньше. Есть письмо Уилсону от апреля 1947-го, где упоминается «небольшой роман о человеке, питающем страсть к маленьким девочкам, — „Княжество у моря“» (этот отзвук магического стихотворения Эдгара Аллана По «Аннабелль Ли», посвященного памяти Вирджинии, его совсем юной жены, останется на первой странице законченной книги). Долгое время рукопись и называлась по этой строке, в старом переводе К. Бальмонта звучащей чуть по-другому: «Королевство приморской земли». К концу 1953 года рукопись представляла собой 450 перепечатанных на машинке страниц. Можно было убрать со стола тысячи карточек с выписками довольно специфического свойства: научные наблюдения за физическим и психологическим развитием двенадцатилетних школьниц, подробности уголовной хроники, особенно связанные с насилием над детьми. Сюжеты тривиальных фильмов и три-четыре строчки из пошловатых песенок, которые пользуются популярностью у подростков. Правила, установленные для постояльцев мотелей в различных штатах. Химический состав сильнодействующих снотворных. Модификации пистолета системы «кольт».
12 ноября 1951 года Набоков сообщает Паскалю Ковичи, редактору крупного нью-йоркского издательства «Вайкинг»:
Однако «Лолита» состоялась вопреки всем помехам. Впереди была тяжелая — Набоков не строил на этот счет никаких иллюзий — борьба за то, чтобы роман, который ему казался лучшим из всего им написанного, нашел издателя. Ради «Лолиты» Набоков был готов на все, потому что она была его любимым детищем. Когда его спрашивали: допустим, из всего вами сделанного уцелеет всего одна книга, какую вы бы выбрали? — ответ был предсказуем.
Потом, когда борьба триумфально завершится, Набоков в послесловии к американской публикации «Лолиты» с горечью вспомнит не раз звучавший «идиотский упрек в безнравственности». Но ему с самого начала было ясно, что подобных упреков не избежать, как не избежать и той атмосферы скандала, которая сопутствовала «Лолите» все три года между окончанием рукописи и — после всех мытарств, страхов, отказов — ее легальным выходом в свет. Сама история, рассказанная в «Лолите», провоцировала негодующую реакцию пуристов и ханжей, которым и в голову не пришло поинтересоваться, каким образом, с какими творческими целями эта история описана. Довольно было того, что побуждения, в которых откровенно признается повествователь, он же главный герой, на самом деле содержат в себе нечто одиозное.
Вот они, эти мотивы, если отвлечься от поэзии, оставив голую фактологию. «Представьте себе такую историю, — смакуя носящиеся в его скудном воображении непристойные картинки, рассуждает в „Даре“ отчим Зины, пошляк Щеголев, — старый пес, — но еще в соку, с огнем, с жаждой счастья, — знакомится с вдовицей, а у нее дочка, совсем еще девочка, — знаете, когда еще ничего не оформилось, а уже ходит так, что с ума сойти. Бледненькая, легонькая, под глазами синева, — и конечно, на старого хрыча не смотрит. Что делать? И вот, недолго думая, он, видите ли, на вдовице женится. Хорошо-с. Вот, зажили втроем. Тут можно без конца описывать — соблазн, вечную пыточку, зуд, безумную надежду. И в общем — просчет».
Борис Иванович уверяет, что в такой переплет угодил один его приятель и, возможно, не выдумывает: для того круга, где он вращается, сальности привычное дело, хоть там и любят попутно порассуждать про «трагедию Достоевского». В «Даре» сюжет с дочкой вдовицы остался на периферии действия — просто деталь, дополняющая хронику воспитания Зины Мерц, пока судьба не подарила ей встречу с Федором. Но через два года по завершении «Дара» Набоков вспомнил тот мимолетно мелькнувший эпизод и, вернувшись к нему, написал не то большой рассказ, не то скромного размера повесть «Волшебник», последнее завершенное свое произведение по-русски.
Рукопись затерялась при переезде через океан, и в послесловии к «Лолите» Набоков вспоминает об этой вещи без большой уверенности: сочинена, кажется, осенью 1939-го, в Париже, при затемнениях, тогда же была прочитана двум-трем знакомым из эмигрантской среды. О печатании нечего было и думать. Просмотрев «Волшебника» несколько месяцев спустя, уже в Америке, Набоков остался им недоволен и уничтожил рукопись.
В действительности он ее сохранил. Но, видимо, впрямь о ней не вспоминал, увлеченный «Лолитой». Когда оглушительный успех книги сделал Набокова мировой знаменитостью и Библиотека Конгресса выразила желание приобрести его архив, полезли за старыми чемоданами и «Волшебник» вернулся из небытия. Хотя напечатан был только через девять лет после смерти автора, и сначала по-английски, в переводе его сына.
Предлагая повесть издателю, Набоков назвал ее «пре-Лолитой», однако тут нужны уточнения. Сходство, даже тождество исходной ситуации, которой определен ход действия, вне сомнений, но дальше между черновиком «Лолиты» и ею самой больше различий, чем общности. Повествование в «Волшебнике» ведет не герой, а автор, оставивший герою — «худощавому, сухогубому, со слегка лысеющей головой», словом, подчеркнуто заурядному господину — всего лишь попытки «добиться оправдания вины», которую он постоянно за собой чувствует из-за своей слабости к «маленьким любовницам» (впрочем, остающимся не более чем предметом сладострастных грез). Он все убеждает себя в том, что Гумберту, поведавшему свою одиссею читателю «Лолиты», ясно с самого начала: влечение к девочке (предшественник Гумберта, стареющий бонвиван, в первый раз увидел ее, сидя на скамье городского парка: чуть приоткрытый розовый рот, гладкие лисьи волоски по оголенным предплечьям) — «это не блуд», это пламя, причем единственное. Не похоть, не маномания, а «безнадежная жажда добиться чего-то от красоты, задержать ее, что-то с ней сделать, — все равно что, но только бы войти с нею в такое соприкосновение, которое как-нибудь, все равно как, жажду бы утолило».
В «Лолите» этот мотив станет одним из преобладающих, а «Волшебник» остался эскизом, и не слишком удавшимся. Только статисткой оказалась юная героиня, возбуждающая жаркие мысли о «ласковых правах будущего отчима», — она бесцветна, как ни старается ее оживить ценитель тонких полудетских ребер и кругленьких мышц пониже узкой спины. А сам этот гурман лишь раб «тайного побуждения, которое было талантливее рассудка», но не могло расколдовывать негу продуманной «эволюцией ласк».
Набоков вспоминал, еще не перечитав затерянную повесть: «Он у меня женился на больной матери девочки, скоро овдовел и после неудачной попытки приласкаться к сиротке в отельном номере бросился под колеса грузовика». События повести изложены точно, и говорят они о болезненной одержимости главного участника. Но кажется, ни о чем больше.
Многое сохранилось без существенных изменений, когда лет десять спустя начала литературную жизнь Ло — Долорес Гейз, та девочка, что «одевала свою уязвимость в броню дешевой наглости и нарочитой скуки». И доводила до настоящего безумия Гумберта, это чудовище пополам с поэтом, растлителя, узнавшего с нею, однако, «любовь с первого взгляда, с последнего взгляда, с извечного взгляда» — безупречно честного, когда он говорит о своем чувстве.
Сохранилась женитьба на матери, которую ласкают с мыслью о дочери (правда, в «Волшебнике» до брачных ласк не доходит ввиду того, что перезрелая невеста одной ногой в могиле). Сохранились увлекательные замыслы насильственного устранения основного препятствия: еще до того, как Гумберт загорится идеей убийства супруги, которое можно было бы выдать за смерть от сердечного приступа, настигшего ее на глади озерных вод, несостоявшийся волшебник со страстью разглядывает освещенную витрину аптеки, где, уж конечно, отыщется безотказный яд. Сохранились карамазовские упоения искусительной юной красотой, и не каким-то «изгибом», от которого, думая о Грушеньке — «и на ножке у ней отразился, даже в пальчике-мизинчике на левой ножке отозвался», — приторной истомой истекает Дмитрий Федорович, а проявлениями куда более наглядными: вспухшие грудки, угловатые сосцы, неясные линии нагого подросткового тела.
Книга о недостойной, о непристойной, но испепеляющей страсти — такой оказалась репутация «Лолиты» еще до того, как она стала доступна публике, взбудораженной ожиданием скверно попахивающей сенсации. Когда препятствия, чинимые цензурой и консервативным общественным мнением, остались позади, сделалось очевидным, что подобные предвкушения, по сути, несостоятельны. В печальной истории, рассказанной Гумбертом, пока он после ареста ожидает в тюрьме разбирательства и приговора за совершенное им убийство счастливого избранника Лолиты, было, разумеется, что-то напоминающее о «бесстыдном бешенстве желаний», которым думал понравиться юной красоте «потомок негров безобразный». Однако пушкинские побуждения, пусть даже сугубо чувственные, не сродни этому швейцарцу, сочиняющему учебник французской литературы для американских студентов. У Гумберта иные вожделения: их объектом являются девочки, еще не до конца сформировавшиеся, но с чувственностью, развитой не по годам: те, кого он обозначает неологизмом «нимфетки» (с легкой руки Набокова это слово вошло теперь во все сколько-нибудь полные словари). Гумберт, ощущающий «взрыв в чреслах» всякий раз, как на его пути появляется такой подросток в легкомысленной юбочке, сулящей «судорогу порочной услады», ищет для своей нимфолепсии оправдания, облеченные в формулы отцветающей романтической лирики. И перо выводит: невозможно противиться «той сказочно-странной грации, той неуловимой, переменчивой, душеубийственной, вкрадчивой прелести», что источает «маленький смертоносный демон», которого наметанный глаз сразу распознает в толпе детей — «по слегка кошачьему очерку скул, по тонкости и шелковистости членов, и еще по другим признакам».
Его исповедь не предназначена ни для чьих глаз, пока не умрут он сам и, многие десятилетия спустя, боготворимая им Лолита — в действительности она пережила своего мучителя всего на месяц. Но когда-нибудь ее прочтут; и, зная, что о нем подумают, Гумберт много раз повторяет, как твердо было его первоначальное решение «щадить чистоту», довольствуясь созерцанием прелестей усыпленного таблетками ребенка и искусственной стимуляцией, тоже — это ему известно по опыту — способной дарить сладостный мед телесного счастья. Он уверяет, что вправду «никогда не был и никогда не мог быть брутальным мерзавцем», но убедительно это доказать ему не удается. Или удается только отчасти: в глазах большинства Гумберт маньяк и садист, как бы ни облагораживал он побуждения, стоящие за его проступками.
«Ставрогин и Беатриче» — так называлась одна из первых действительно глубоких статей о «Лолите», написанная известным польским прозаиком-фантастом Станиславом Лемом. Оставив без внимания набоковские выпады против творчески несостоятельного сочинителя детективных романов с истеричными героями, Лем показал прямую родственность, существующую между «Лолитой» и по крайней мере двумя книгами Достоевского: «Преступлением и наказанием», где Свидригайлов накануне самоубийства видит во сне девочку, встреченную им в гостиничном коридоре и уложенную к себе в постель, а также «Бесами», вернее, исключенной, по требованию редактора «Русского вестника», главой «У Тихона». В этой главе Ставрогин рассказывает, как соблазнил девочку Матрешу, которая потом кончает с собой, и, выслушав наставление старца, призвавшего к покаянию, бежит из обители, ибо Тихон предрек ему новое, еще более страшное преступление. В лекциях, насмешливо разбирая и тот, и другой роман, Набоков, как и следовало ожидать, ни словом не обмолвился об этих двух эпизодах. Он был не из тех, кто признает свою зависимость от предшественников. Тем более таких, как Достоевский, поскольку простое сопоставление — в случаях, если обнаруживается схожий или созвучный мотив, — сразу выявляет истинную меру творческих возможностей Набокова: больших, но не настолько, чтобы решиться на соперничество с гениями.
Однако в «Лолите» (вероятно, сам не вполне сознавая) он в это соперничество втягивается. И достойно его выдерживает, потому что он смог найти новую аранжировку мотива, который прочно ассоциируется с Достоевским. Не забыв в послесловии к роману позлословить насчет «гипсовых кубов», в которых из века в век подается Литература Больших Идей, то есть дребедень с претензиями, Набоков косвенно признал то, что и прежде не составляло тайны ни для почитателей его, ни для критиков, тем более таких проницательных и злых, как Адамович: область идей, к которым, чувствуя их неисчерпаемое содержание, литература возвращается снова и снова, — явно не его область. У Достоевского тоска Дмитрия по Грушеньке с ее «изгибом» выплескивается мыслями о красоте Мадонны и красоте содомской, о том, что для огромного большинства людей в содоме-то и сидит красота, а сердца их — поле битвы дьявола и Бога. И Ставрогин завершает свой рассказ о Матреше пронзительным признанием, что верует в беса — «в личного, не в аллегорию» — и мучается истово, оттого что не в состоянии смириться с «лакейством мысли, лакейством среды, души, развития», которое олицетворяется этим демоном. Набоков мог сколько угодно язвить, характеризуя изображенных Достоевским психопатов, которым без внятных причин приписывал «постфрейдовские комплексы». Но, привыкнув, подобно Флоберу, очень точно рассчитывать любой ход в его последствиях для художественного целого, он безошибочно чувствовал, что попытки вторгнуться в область вечных философских вопросов или заняться аналитикой душевных порывов (по первому впечатлению, необъяснимых, как у Ставрогина, чьи поступки не перестают изумлять окружающих) у него привели бы к плачевным результатам. Зная, что он никак не философ и что ему опасно полагаться на свою способность воссоздания «диалектики души», Набоков пошел самым надежным путем, резко переосмыслив всю ситуацию, которая неотвратимо напоминает о страницах русского гения, так упорно и бессмысленно им дискредитируемого (даже и в тексте романа, где представившиеся Гумберту ласки, «которыми мог бы осыпать Лолиту муж ее матери», тут же вызывают на его губах «усмешечку из Достоевского», забрезжившую, «как далекая и ужасная заря»).
Лем назвал героя «Лолиты» извращенцем и мономаньяком в том смысле, что для него не существует предела ненасытимому наслаждению: в итоге на этом мрачном неистовом костре сжигает себя любовь, которой Гумберт действительно связан с Лолитой. Для Лема отчим, превративший падчерицу в малолетнюю наложницу, — это Ставрогин минус вся связанная с «принцем Гарри» этическая проблематика. Оставленный вне сферы глубочайших духовных вопросов, этот Ставрогин, вопреки всем минутам просветленности, никогда не превратится в Данте, чья душа озарилась светом очистительной и возвышающей любви после встречи с Беатриче, когда она была девятилетней.
Однако в роли Беатриче набоковская нимфетка состоятельна не больше, чем ее опекун в своих притязаниях на статус нового Ставрогина. Размышляя о «нимфолепии», ставшей его судьбой, Гумберт, конечно, вспомнит встречу на флорентийской улице в 1274-м, когда будущей госпоже Портинари действительно сравнялось лишь девять, вспомнит и пожизненную любовь Петрарки к Лауре, для своего успокоения подтасовав даты: в момент знакомства Лаура была не «белокурой нимфеткой двенадцати лет», а девушкой, достигшей восемнадцатилетнего рубежа. Но у Долорес Гейз есть только возрастная общность с великими прообразами. Да Гумберту вовсе и не нужно, чтобы предмет его обожания, безраздельно земного, обладал каким-то сходством с той, которая знаменовала для Данте новую жизнь — постижение бессмертной красоты и вечной истины христианства. Дело в том, что «Гумберт был вполне способен иметь сношения с Евой, но Лилит была той, о ком он мечтал». Лилит, согласно апокрифам (нашедшим отзвук и в набоковском «Бледном огне»), первая жена Адама, демон с огненным темпераментом. Такой ее видит и Марина Цветаева в стихах 1925 года «Попытка ревности»:
Как живется вам с стотысячной —
Вам, познавшему Лилит?
Познавшему свою Лилит (созвучие имени героини с библейским именем могло бы быть случайностью у любого писателя, но только не у Набокова) жизнь с «стотысячной», которую зовут Рита, была попыткой, предпринятой от отчаяния. Гумберт изначально знал, что из его затеи ничего не выйдет, и не оттого, что даже Валерия, давно им забытая бесцветная парижская жена, навеки отвратившая от всего, что именуется нормальной семейной жизнью, по сравнению с этой потасканной пьянчужкой, показалась бы венцом интеллекта, а жеманная госпожа Гейз, являвшая собой «слабый раствор Марлены Дитрих», и вовсе выглядела бы Гегелем в юбке. Дело не в самой Рите, даже не в том, что она уж никак не нимфетка, дело в Лолите, которую надо было потерять, чтобы с непреложностью открылось: «Я люблю ее больше всего, что когда-либо видел или мог вообразить на этом свете, или мечтал увидеть на том». Лолита стоит перед ним в дверях своей жалкой квартиры где-то на трущобной окраине: потрепанная, увядшая, хоть ей только семнадцать, она «откровенно и неимоверно брюхата», а у Гумберта такое чувство, словно его что-то ожгло, — не воспоминания, которые будоражат чувственность, не жалость, а сознание любви. Кажется, за всю его взрослую жизнь оно впервые настолько отчетливо.
Это кульминационный момент повествования — встреча после трех лет, прошедших вслед за бегством Лолиты, которая уже давно обманывала Гумберта, предпочтя пошлого Куильти с его ухватками законченного циника и человека богемы. Конец безумной мечты, что вовеки пребудет нимфетка, доводившая героя до исступления, а законы времени, превращающего девочку со скользкой кожей под легким платьем в женщину, у которой небритые подмышки и вспухшие жилы, будут на этот раз отменены. Катастрофа, которая непоправима не из-за того, что у Лолиты есть теперь муж, тупой добродушный парень, вернувшийся с войны полуоглохшим, не оттого, что ее интересы теперь ограничены обустройством своего убогого семейного благополучия (судьба, разумеется, не подарит ей даже этот суррогат счастья). Непоправима она из-за невозможности вернуться во времена, когда для Гумберта ничего не существовало, кроме «терпкой грации резвого подростка», и он обмирал от нежности, видя «четыре этих прозрачных, прелестных конечности, вроде как ноги сложенного жеребенка», и, целуя ее, совсем не думал о том, до чего шаблонен внутренний мир его юной богини, как ничтожны ее интересы — сплошь комиксы, да «знойная какофония джаза», да волнующие подробности любовных историй, приключившихся со звездами экрана.
Интеллектом Лолита едва ли хоть в чем-то превосходит свою давнюю предшественницу, юную билетершу берлинского кино из «Камеры обскуры», и все-таки между нею и Магдой есть явное различие. Лолита полностью лишена и жадности, и практической хватки, а оттого лишена вульгарности, которой пропитаны помыслы немецкой провинциалочки, явившейся завоевывать столицу. Мир Лолиты — киножурналы и музыкальные автоматы, предел ее мечтаний — мишурное роскошество, которое отличает стиль жизни ничтожества и извращенца Куильти. Но даже и во всем этом она дитя, ангел, ступающий не по небу, а по земле желтоватыми подошвами своих длиннопалых ножек, вечная невинность, каким бы ухищрениям похоти ни заставлял ее предаваться тот, кому в последнюю их встречу Лолита скажет: «Ты всего лишь разбил мою жизнь».
Во всяком случае, для Гумберта она остается «завороженной девочкой», даже когда он шокирован примитивностью запросов своей избранницы или чувствует, как через каждую ее пору сочится «нимфическое зло». Принуждая ее трижды в сутки выполнять основные обязанности, за которые полагается регулярно им увеличиваемое жалованье (пусть участие партнерши в любовном восторге крайне незначительно), Гумберт все равно воспринимает Лолиту — и совершенно искренне — как новое явление той, кого считает своей умершей невестой, дав ей имя Аннабелль Ли. Такое же, какое носит совсем юной оставившая этот мир Вирджиния у По, в стихотворении, гулко отзывающемся по всему роману Набокова (где, впрочем, есть отголоски и других прославленных творений «безумного Эдгара»: «Линор», «Ворон»).
Полное имя, под которым представлен в романе его главный персонаж и повествователь, — Гумберт Гумберт: это удвоение, или раздвоение, обладает существенным смыслом. Он олицетворенная перверсия, а в каких-то отношениях клинический случай, однако д-р философии Джон Рэй, который в предисловии к книге (где автор не упустил случая поиздеваться над высокоумными банальностями) рассуждает про нравственную проказу и дьявольскую изощренность этого «задыхающегося от похоти маньяка», не понял в романе ровным счетом ничего. Это, правда, не помешало д-ру Рэю стать предтечей особенно яростных ниспровергателей «Лолиты», которые на всех углах протрубили, как она омерзительна.
«Компетентный психопатолог», к которому, по мнению Рэя, следовало обратиться Гумберту, чтобы с ним не случилось никакой беды, тут бы никак не помог. Ведь вся суть в том, что, преследуемый низкими вожделениями, Гумберт, однако, стремится к цели по-своему высокой и, уж во всяком случае, абсолютно недостижимой. После того как остались в прошлом два бесцветных, сильно окрашенных пошлостью десятилетия, он хочет в союзе с Лолитой вернуть единственный раз посетившее его чувство, что жизнь способна заполниться поэзией, которая для Гумберта сливается с памятью о его Аннабелль Ли, не дожившей даже до юности. Если его история и правда пригодна как материал для психиатра, то при всем уродстве своих конкретных проявлений — механический постельный ритуал и приглушенные детские рыдания по ночам, — в этом заболевании есть нечто в высшей степени романтическое, пробуждаемое мечтой соединить две высшие точки жизненного опыта, зачеркнув пролегшие между ними двадцать четыре года, словно бы их не было вообще. Мечта неисполнима, но без нее не случилось бы так, что, вопреки всей извращенности, Гумберту все-таки дано услышать в себе «приглушенный стон человеческой (наконец!) нежности». Вот отчего отношения, где много гнусности и грязи, в итоге становятся своего рода апофеозом неистовой, хотя безответной любви. В Гумберте, перерывающем несвежее белье, чтобы насладиться едким запахом вдоль шва, рядом с извращенцем, как выясняется, живет истинный паладин любви.
Рассыпанные по роману отсылки к Эдгару По отчетливее всего выявляют двойную перспективу, двойное освещение основного конфликта. Эта, самая примечательная, особенность романа и сделала «Лолиту» произведением оригинальным, даже отмеченным творческой уникальностью — без необходимости в уточняющих оговорках. «Лолита началась с Аннабелль» — для Гумберта это очевидно. Девочка-жена поэта Вирджиния Клем (современные биографы, правда, сомневаются в том, что брак был во всех отношениях полноценным) соединила свою судьбу с По, который приходился ей кузеном, в тринадцать лет: еще три года пришлось, подкупив свидетелей, прибавить невесте, чтобы союз стал законным. Девочке смешанного англо-голландского происхождения, встреченной Гумбертом перед поступлением в гимназию, еще нет и тринадцати, она умрет, едва перейдя эту возрастную черту. Эпизод «княжества у моря», самый яркий в «страдальческом отрочестве» Гумберта, как бы предвещает тот «толчок страстного узнавания», который рано или поздно он обязательно переживет, встретив нимфетку, достойную прототипа или его превосходящую, как Лолита. Все должно повториться, вернув атмосферу незабываемого лета: чувство влюбленности, «неистовое стремление ко взаимному обладанию», абсолютная слиянность духовного и телесного.
В мире романтика По второе, телесное измерение невозможно. Эпизод на первых страницах «Лолиты», когда дети, из которых «каждый в самом деле впитал и усвоил каждую частицу тела и души другого», почти соединяются на пляже, — счастью помешало лишь грубое вмешательство некстати появившихся взрослых, — дал повод говорить о том, что отсылки к «Аннабелль Ли» и к «Линор» носят у Набокова травестийный характер. Отчасти это действительно так — Набокову чужда экзальтация, он со своим скептичным умом, конечно, не мог проникнуться ожиданием встречи за гробом. Но все-таки насмешка и передразнивание вовсе не главная цель этих заимствований из По. Для Гумберта, которого никто не обвинит в неподобающей сентиментальности, несомненно, что вся его жизнь разместилась в пространстве между двумя точками: «мимозовая заросль, туман звезд, озноб, огонь, медовая роса» того давнего лета и полуголая, на коленях, девочка в темных очках, смотрящая на него почти четверть века спустя с камышового коврика на веранде гейзовского дома. «Все, что произошло между этими двумя событиями, сводилось к череде слепых исканий и заблуждений и ложных зачатков радости». Потеря Лолиты для Гумберта значит бесконечно больше, чем расставание с вторгавшей его в исступление и способной подвергать танталовым мукам Долорес Гейз. Суть не в том, что кончились пиры чувственности. Истинный смысл истории, рассказанной арестантом, которому предстоит суд за убийство, — это признание краха всей его жизни, после бегства Лолиты лишившейся центра и смысла. Страсть к нимфеткам не пройдет, и можно даже вообразить какую-нибудь преемницу Лолиты из числа синеглазых брюнеточек в синих трусиках, которых обожал разглядывать из автомобиля старый павиан. Но стоило его спутнице исчезнуть, обманув бдительность опекуна, и стал слышен «рев черной вечности», который ворвался, «заглушив захлестом ветра крик одинокой гибели».
Влюбленному Данте «дочь праха» виделась столь прекрасной, «что в ней Господь нездешний мир являет». Ставрогин, обретаясь в царстве содомском, все-таки сохранял память об идеале Мадонны. Гумберту неведомы подобные чувства. Ему, собственно, неведомо и раскаяние в том, что жизнь Лолиты он действительно разбил (правда, как бы ни возбуждал в себе д-р Рэй «нежное сострадание» к жертве этого ненормального, героиня едва ли способна на самом деле сделать именно это чувство по отношению к себе преобладающим. А о Беатриче набоковская нимфетка, при всем своем гибельном очаровании, не напомнит даже любителям самых смелых сближений). Стреляя в Куильти, Гумберт мстит не за идиллию, которая рухнула, — на самом деле ее и не было — не за то, что каприз побудил пресыщенного эротомана воспользоваться ребяческим чувством, а потом он заставлял Лолиту позировать для порнографических лент. Гумберт мстит за крушение своей собственной невозможной мечты, которая, однако, для него значила все на свете, мстит за собственную гибель. Сколько бы ни произносилось по его адресу убийственных обличительных слов, его история, пользуясь метафорой Пастернака, — не актерская читка, но «полная гибель всерьез».
Поэтому и книга, о которой было высказано много суждений, резко принижающих ее статус и порочащих автора, на самом деле стала, по своему существу, современной трагедией. Это трагедия в полном значении понятия и невзирая на фарсовый оттенок, что присущ даже самым волнующим сценам: той, что происходит в «Привале Зачарованных Охотников», когда два главных героя впервые предоставлены друг другу, или разыгрывающейся под самый конец романа, в роскошном загородном доме Куильти, куда Гумберт приезжает с заряженным кольтом в кармане. Любое прочтение «Лолиты» должно начинаться с признания правоты ее автора, писавшего своему корнеллскому коллеге Морису Бишопу, что беспочвенны рассуждения о «неприличии» отдельных сцен или романа в целом, ибо «Лолита» — искусство, тогда как «порнография — это сценки, вырванные из контекста, это особый авторский настрой, особое намерение. Трагическое и непристойное исключают друг друга».
Однако американские издатели, хорошо знавшие свою публику, так не думали. Или, во всяком случае, были уверены, что рискнувшим опубликовать роман непременно придется выяснять отношения с законом. Эта перспектива никого не привлекала. Отказы шли один за другим.
Набоков предвидел подобное развитие событий. В письмах, относящихся к «Лолите», поначалу преобладает одна и та же нота — страх, что откроется его авторство. Издателям, которым он доверял, рукопись вручалась без титульного листа, с требованием не делиться впечатлениями от нее и никому не пересказывать ни общую идею, ни частности. Автор даже не доверял почте, специально съездив в город, чтобы собственноручно передать две толстые папки своей старой приятельнице Кэтрин Уайт из «Нью-Йоркера». Отправляясь в июне 1954-го на каникулы, Набоков счел за лучшее запереть экземпляр романа у себя в офисе, спрятав ключ от сейфа в потайное место, так что добраться без его ведома до «Лолиты» становилось абсолютно невозможно.
Он твердо намеревался напечатать книгу под псевдонимом. Вздорная мысль, отвечали ему знающие люди: скандал все равно разразится, а попытки автора укрыться под чужим именем только убеждали бы, что он сам сознает, какая непристойность у него получилась. Идею анонимной публикации тоже пришлось оставить, этого не разрешали законы. Предстояло либо забыть о рукописи, либо пойти ва-банк, если отыщется готовый на такие эксперименты издатель.
Но он не отыскивался. Одна крупная фирма вернула книгу с заключением своих экспертов: «чистая порнография». Другая сочла, что неизбежные судебные разбирательства погубят ее реноме, уж не говоря о добром имени автора. Третья была полна энтузиазма, но не настолько сильного, чтобы сломить сопротивление директоров. И почти все старались подсластить пилюлю, сообщая автору, что «Лолита» — первоклассная проза.
Из читателей, обладавших литературным авторитетом, по-другому думал, кажется, один Эдмунд Уилсон. Прочитав роман только до середины, он твердо решил, что это «отталкивающая книга» и что за свою писательскую жизнь Набоков ни разу не терпел столь чувствительной неудачи. Автор возражал, настаивая, что его произведение «в высшей степени морально». Уилсон не спорил, но остался при своем мнении. Отношения между ними стали портиться. Вскоре произойдет открытый конфликт, хотя «Лолита» тут ни при чем.
Постранствовав по издательствам и редакциям, рукопись вернулась в Итаку, и Набоков понял, что в Америке не отыщется возможности ее напечатать, если только обстоятельства каким-то радикальным образом не переменятся. Это произошло лишь через три года, когда «Лолита» появилась в свет — сначала большим отрывком на страницах скромного журнала «Энкор ревью», с авторским послесловием, где сформулированы мысли, существенные для понимания самого романа и странной его судьбы.
Естественно, что послесловие, затем воспроизведенное в отдельном издании, выпущенном нью-йоркским книжным домом «Патнемз», категорически отвергает обвинения в скабрезности и неприличии (они продолжали звучать и после грандиозного мирового успеха «Лолиты», которую по-прежнему пробовали не допускать к читателю, — например, отказались приобрести книгу для собрания публичной библиотеки высоконравственного города Цинциннати). Вспоминать об этих страхах и запретах смешно — «Лолита» теперь входит в школьные программы, с нею знаком любой мало-мальски начитанный подросток. Набоков и те, кто его поддерживали — а в их числе были крупные американские и английские писатели, критики, интеллектуалы, — выиграли битву за независимость художника, который не обязан считаться с принятыми представлениями о пристойном и непристойном, если творческая необходимость требует называть вещи своими именами. В том, что эта мысль рано или поздно станет бесспорной, не сомневался и сам Набоков, утверждавший: «В свободной стране ни один настоящий писатель не должен, конечно, заботиться о проведении пограничной черты там, где кончается чувство и начинается чувственность». Он упомянул фотографов, которые так снимают «хорошеньких молодых млекопитающих» для услаждения немощных гурманов, что «граница декольте приходится достаточно низко, чтобы осклабился филистер, и достаточно высоко, чтобы не нахмурился почтмейстер». Неужели серьезный художник должен прибегать к подобным ухищрениям?
С лицемерными требованиями благопристойности Набоков расправился беспощадно, объявив, что его «Лолита» — «вовсе не буксир, тащащий за собой барку морали». Она — факт искусства, а изготовителям порнографической продукции до искусства нет дела. У них «действие сводится к совокуплению шаблонов», только и всего: «Слог, структура, образность — ничто не должно отвлекать читателя от его уютного вожделения». Никто бы не взялся, а взявшись, не сумел бы доказать, что «Лолита» преследует эти цели.
Сложнее оказалось парировать другое обвинение — в неприязни к Америке. Сам Набоков говорил, что огорчен им гораздо больше, чем негодованием ханжей. И объяснял: декорации, в которых разворачивается действие, эти придорожные мотели, коттеджи Рамзделя и бульвары Брайсланда, школы и летние лагеря для подростков — все это не более чем «вдохновительная обстановка», которая на этот раз потребовала изрядной доли «мещанской вульгарности». Его американские картины ничуть не менее «прихотливы и субъективны», чем были русская или немецкая бутафория («макет») прежних книг.
Однако бутафории не было, а была пластично воссозданная реальность, как бы ни настаивал Набоков, что применительно к художественному творчеству это слово должно употребляться лишь в кавычках. И Лолита, какие бы она ни пробуждала чувства, была очень американским ребенком — по воспитанию, по своему кругу представлений, по характеру эмоций, даже по способам, которыми она их выражает. Набоков был, конечно, прав, утверждая, что наивно искать какие-то существенные различия между Старым и Новым Светом, когда дело касается проявлений вульгарности. И все же никто не поверил его разъяснениям, что та же самая история могла бы происходить не в мотелях, а, допустим, в швейцарских гостиницах.
Много лет спустя в интервью, которое взяла у него — как раз в Швейцарии — корреспондентка журнала «Вог», Набоков попробовал уточнить, отчего события «Лолиты» происходят все-таки главным образом в мотелях, а не в гостинице на Женевском озере. Он вспомнил свои ежегодные летние поездки из конца в конец Америки на видавших виды «бьюиках» и «плимутах» с Верой за рулем и сказал, что пристрастие к мотелям имело под собой утилитарные побуждения: они стоят на обочине где-нибудь среди осинового перелеска или на горном склоне, так что охоту на бабочек можно начинать прямо от порога. Но следовало бы добавить, что ту провинциальную Америку — одноэтажную, как сказали признаваемые им Ильф и Петров, — которая все время стоит перед глазами читателя «Лолиты», за эти поездки в годы, когда вызревал и осуществлялся замысел романа, Набоков изучил вдоль и поперек. Для «Лолиты» это очень существенный факт.
Нападки за «антиамериканизм» были и вправду абсурдны — Набоков в послесловии возмущался ими не понапрасну. Скорее наоборот, «Лолита» была в своем роде поэмой об Америке. Страна увидена глазами чужеземца, втайне гордящегося своей европейской — якобы уже в силу этого — высшего качества — культурой и не чуждого насмешливости, когда он сталкивается с американским навязчивым кичем, с подделками деревянных идолов, вывезенными из Мексики, чтобы вместе с безвкусной репродукцией Ван Гога украшать стандартные гостиные неотличимых один от другого рамздельских особняков, с восторгами перед каким-нибудь Куильти, который в этой среде сходит за выдающегося писателя. Но даже и не слишком доброжелательного Гумберта с его ни на чем не основанным высокомерием мало-помалу захватывает никем еще не востребованная романтическая красота американских пейзажей с широко расставленными деревьями на горизонте и засаженной клевером пустыней, со свиристящими цикадами на свежих, только что политых улицах тихого городка, с выцветшей от жары небесной лазурью, сияющей над «прекрасной, доверчивой, мечтательной, огромной страной».
Больше всего Гумберт с нею соприкасается на шоссе — с августа 1947 года, когда после гибели Шарлотты Гейз чаровница Гейзочка оказалась в его власти, на стареньком гейзовском седане они вдвоем проехали через всю страну, — и в мотелях. Малое Айсберговое Озеро в Колорадо и Парк Непорочного Зачатия в Нью-Мексико, Орегонский Путь, Медвежьи Затоны, Шипучие Источники — все сливается в его памяти, оставляя только образ вонючего мотеля с нагнетательной трубой вентилятора да смутный отзвук очередного скандала из-за того, что Лолита опять требовала невозможного вознаграждения за ежеутреннюю любовную зарядку. Но мотели, все эти «Закаты», «Просторы» и «Косогоры», крытые гонтом домики, где комнаты обставлены в плюшевом стиле и висят объявления с просьбой не бросать в унитаз ни жестянки из-под пива, ни выкидышей, остаются неотменимым аккомпанементом самых трепетных, самых пронзительных мгновений, которые ему подарила любовь. И как удвоение имени Гумберт дает ощутить, что тут невозможное, но прочнейшее сочетание похоти с нежностью, так мотели, «идеально подходящие для спанья, пререканий, примирений и ненасытной беззаконной любви», необходимы для той двойной перспективы изображения, которая была реализована в «Лолите», придав банальной, а в конкретных своих подробностях довольно рискованной истории и романтичность, и пронзительность, и ностальгию, хотя оттенок пошлости никуда не исчез (да и не должен был исчезнуть).
Эта двойная перспектива, симбиоз тривиальности и лирики, ставший самым необычным художественным ходом в «Лолите», даже сегодня озадачивает ее интерпретаторов. Первых читателей он смущал еще больше, побуждая их отыскивать в «Лолите» сатиру, которая там не ночевала, или по крайней мере некое моральное назидание («Старая Европа, развращающая молодую Америку», а то и напротив: молодая Америка, совратившая старушку Европу). Об этих усилиях Набоков с иронией вспоминал в послесловии к книге и в последующих интервью. Что правда, то правда: он никогда «не производил дидактической беллетристики». Но, уверяя себя и других, что его единственная забота — эстетическое наслаждение в чистом виде, он все-таки немножко лукавил. Те, кто не вполне ему поверил, были правы.
А не поверили ему в этом, по существу, все доброжелатели «Лолиты». В ней, вопреки авторским разъяснениям, отыскивали серьезную общественную и духовную проблематику. Писали о том, что Гумберт — человек большой, хотя и нездоровой страсти, а страсть — знак непримиренности с окружающим миром плоского здравомыслия, она синонимична стремлению из него вырваться. О «мелодии жалости, страдания, обожания, ревности, сладострастия, безумия и нежности». Распознав эту мелодию в партитуре «Лолиты», Нина Берберова, стойкая пропагандистка Набокова, без всяких оговорок соотнесла роман с русской классической традицией или, по меньшей мере, с «Петербургом» Андрея Белого, высоко ими обоими ценимым.
Писали о редком мастерстве, с каким у Набокова воссоздан «кич американской действительности», на фоне которого происходит история любви — именно любви, а не эротической одержимости, — и о том, что свершилось нечто непредсказуемое: в наше время всеобщего скепсиса появился романтический роман. И наоборот, писали о том, что забит последний гвоздь в гроб сентиментальной романтики: вместо любви — порочные наслаждения да постыдная система сделок или подкупов.
Писали об опыте «археологии эмоций», который предпринят Набоковым с целью дискредитировать разросшийся, как опухоль, рационализм. И о том, что им показана вся губительность слепой, глубоко эгоистичной жажды наслаждений. И о точном воссоздании социальной психологии, получившей особое развитие в Америке с ее культом юности, которая становится объектом обожания и вожделения.
Одна рецензентка утверждала, что «Набоков воспроизводит преступление Ставрогина в современных условиях», намекая, что Лолита — та же Матреша, только живущая в мире, где бесы уже одержали много побед. А другой критик уточнял: это мир, в котором стали невозможными по-настоящему сильные чувства, они заменены суррогатами и муляжами. И эта точка зрения стала преобладающей. Ален Роб-Грийе, французский писатель, которого Набоков, отзывавшийся о современной прозе крайне резко, выделял как едва ли не единственного крупного мастера, определил сюжет «Лолиты» как абсурдный круг по мотелям с их штампованным комфортом и рекламными призывами. Этот бредовый маршрут свершает одинокий и опустошенный одиночеством интеллектуал, а рядом на сиденье машины устроилась «несовершеннолетняя кукла, поглощенная своими комиксами и жвачкой».
Едва ли Набокову понравилось бы такое толкование его книги о «бедной девочке», заставившей мечтать о себе целый мир, — так он говорил в стихотворении, написанном под самый конец 1959 года, когда триумф «Лолиты» стал бесспорным и очевидным. Но пока до триумфов было далеко, и не только до триумфов, а и до публикации. И вот в эту трудную минуту на горизонте возникает парижский издатель Морис Жиродиа.
С ним познакомила Набокова давняя приятельница, которая выполняла необременительные функции его литературного агента во Франции. Жиродиа стоял во главе «Олимпии пресс», небольшого издательства с сомнительной репутацией: оно в основном выпускало написанные по-английски книги, которые из-за цензурных сложностей не могли появиться в Англии и США. Это было предприятие со своей историей: отец Жиродиа еще в 30-е годы прославился тем, что нелегально издал скандально знаменитую книгу Генри Миллера «Тропик Рака». Миллер остался одним из авторов «Олимпии пресс» и через двадцать лет там публиковались и другие видные писатели, представлявшие авангард: будущий нобелевский лауреат Сэмюэл Беккет, изысканный стилист и любитель пряных сюжетов Лоренс Даррел, автор «Голого завтрака», нашумевшего романа с очень откровенными сценами однополой любви, Уильям Берроуз. Не приходится гадать, какие чувства испытал бы Набоков, знай он наперед, в какую литературную компанию попадает, печатая у Жиродиа свою «Лолиту». Но выбирать ему не приходилось.
Впоследствии Жиродиа часто обвиняли, утверждая, что свои отношения с Набоковым он строил, руководствуясь исключительно соображениями коммерческой выгоды. Есть большая статья самого Набокова, появившаяся в печати через двенадцать лет после первого издания «Лолиты» и служившая ответом на статью Жиродиа, опубликованную чуть раньше. Жиродиа приписывал себе честь публикации романа, признанного современным шедевром, и не без самолюбования говорил о том, какой смелости это потребовало, с каким мужеством он потом боролся против решений о запрете книги, принимаемых даже на правительственном уровне. Тут многое достоверно: хотя публикации на иностранных языках не входили в компетенцию французской цензуры, в конце 1956 года по просьбе британского министерства внутренних дел, обеспокоенного тем, что экземпляры парижского издания проникают в Англию на дне туристских чемоданов (и продаются в Лондоне по неслыханно высокой цене в 10 фунтов), полиция арестовала всю продукцию «Олимпии пресс», не исключая «Лолиты». Жиродиа при активной поддержке парижской прессы добивался пересмотра этого судебного казуса, проявив выдержку и волю.
Для него, писал он, было делом принципа доказать «как всю бесплодность цензуры по моральным соображениям, так и право изображения страсти в литературе». Набоковский роман, с первого прочтения осознанный им как «невероятный феномен», предоставлял для этого самый подходящий повод.
Словно предчувствуя, что события развернутся именно в этом направлении, Набоков вместе с корректурой послал Жиродиа летом 1955-го письмо, подчеркнув, что ему крайне нежелательна атмосфера сенсации со скандальным оттенком: «Мы оба знаем, что „Лолита“ — серьезная книга, которая написана с серьезной целью». В статье против Жиродиа Набоков настойчиво повторяет, что именно эта сторона дела вовсе не интересовала его злокозненного издателя, который не думал ни о чем, кроме денег. Вряд ли это в самом деле так, хотя «дело Лолиты» основательно подорвало и без того невысокое реноме директора «Олимпии пресс». Утверждая, что Жиродиа, озабоченный только цифрами в коммерческих отчетах, не видит разницы между «Лолитой» и какой-нибудь похабщиной вроде «Дебби на биде» или «Нежных бедрышек», Набоков, конечно, перегнул палку, но определенные основания для таких выводов у него были. Список публикаций «Олимпии пресс» и правда включал, наряду с явлениями литературы, поделки явно порнографического свойства. А когда выяснилось, что американские издатели все же готовы, поборов страх, опубликовать манившую и смущавшую их книгу, Жиродиа торговался за свои проценты от доходов, как классический выжига. Он плохо кончил — в 1964 году, собрав достаточно фактов, чтобы предъявить обвинение в торговле порнографией, французские власти начали преследование его издательства, которое в итоге было закрыто. Жиродиа получил год тюрьмы да еще штраф и запрещение заниматься изданием книг в течение двадцати лет (суд следующей инстанции нашел, что это слишком мягкое решение, и исправил цифру двадцать на другую — восемьдесят). К этому времени фирма уже была объявлена банкротом, все ее договоры аннулировали. Набоков наконец-то ощутил себя свободным от тех пут, которыми его связал по рукам и ногам Жиродиа, составляя соглашение о «Лолите».
Дело в том, что, вопреки воле автора, он поставил на обороте титульного листа своего издания: права принадлежат В. Набокову и «Олимпии пресс» (потом Жиродиа видел свою заслугу в том, что именно он сломил нежелание Набокова печатать «Лолиту» под собственным именем). Права и стали причиной конфликта, который растянулся на долгие годы. Надо было сначала их выкупить, потом убедить Жиродиа, что продажа его издания в США после выхода книги в Нью-Йорке невозможна, наконец, охраняя престиж Набокова, добиться, чтобы «Олимпия пресс» прекратила использовать «Лолиту» для рекламы своих одиозных публикаций. На это ушло много лет. И сил.
Но, так или иначе, два темно-зеленых томика в бумажной обложке к октябрю 1955 года прибыли из Парижа в Итаку. Жиродиа очень хотел выпустить «Лолиту» раньше, еще летом, поскольку знал, что ее основными покупателями будут американские и английские туристы. Впрочем, их нашлось достаточно и осенью. И один из них, англичанин, чей экземпляр в итоге попал на глаза писателю Грэму Грину, сыграл в судьбе «Лолиты» не последнюю роль.
Грин в рождественском выпуске лондонской газеты «Санди таймс» назвал «Лолиту» лучшей книгой уходящего года, и тут же последовал негодующий отклик журналиста Джона Гордона с обвинениями в том, что почтенный романист пропагандирует заборную словесность. Не оставшись в долгу, Грин предложил учредить общество цензуры имени Джона Гордона, вменив ему в обязанность контроль над всей художественной продукцией, не исключая керамических изделий, которые тоже могут показаться неприличными. Состоялось даже заседание этого общества под председательством Грина.
Лучшей рекламы невозможно было придумать: весь тираж издания Жиродиа был раскуплен в считанные дни. Два экземпляра задержала американская таможня. По прочтении они, правда, были возвращены владельцам. Дело оставили без последствий.
Теперь только считанные месяцы да упрямство Жиродиа отделяли Набокова от мировой славы. Кое-кто из критиков еще твердил о претенциозности и о «порнографии для высоколобых», однако статус «Лолиты» как крупного события в литературе был установлен еще до легальной публикации романа. В Америке она состоялась летом 1958-го, в Англии — полгода спустя. Там события приняли драматический оттенок. Парламент рассматривал закон об отмене цензуры по соображениям благопристойности. Несколько экземпляров нью-йоркского издания были приобретены для членов палаты общин. Сверстанные гранки «Лолиты» лежали в новом лондонском издательстве «Вайденфелд и Николсон», чье будущее полностью зависело от публикации и успеха этой книги. Сообщение о том, что закон принят в очень либеральной формулировке, было встречено хлопками пробок от шампанского. Правда, Николсон поплатился за свою смелость политической карьерой: на выборах в парламент за него отказались голосовать консервативно настроенные моралисты.
И лондонская фирма, и «Патнемз» были сполна вознаграждены за то, что пошли на риск: спрос на «Лолиту» перекрыл самые смелые ожидания. Тираж следовал за тиражом, и целый год роман возглавлял в США список бестселлеров — случай беспрецедентный для произведения, принадлежащего литературе первого ряда. Был побит старый рекорд популярности, принадлежавший «Унесенным ветром» Маргарет Митчелл. Посыпались предложения от театральных продюсеров (в итоге инсценировку «Лолиты», и довольно удачную, сделал драматург Эдвард Олби), а затем от Голливуда. Издательства проявляли жадный интерес ко всему написанному Набоковым, хоть и по-русски, а также готовность выпустить любую его новую книгу без малейшего промедления. Деньги потекли рекой. Ах, если бы все это произошло лет тридцать назад, с печальной иронией писал Набоков своей сестре Елене.
Относительно экранизации он поначалу был настроен не только скептично, но довольно цинично, и сообщил редактору «Патнемз»: «Главный мой, а по совести говоря, единственный тут интерес деньги. Меня ничуть не волнует „искусство“ кинематографа. Помимо всего остального, я накладываю вето на идею снимать ребенка. Пусть ищут карлицу».
В конце концов нашли не карлицу, а актрису Сью Лайон. По фильму ей примерно восемнадцать лет. Выдержать на экране соблазнение нимфетки (или нимфетку, соблазняющую взрослого) американский обыватель не мог. Даже в середине 90-х годов, когда был сделан второй фильм по «Лолите», на этот раз с юной исполнительницей, картина трудно пробивалась в прокат, и все по тем же самым моральным соображениям, хотя она не переступает границ дозволенного — не то что тысячи коммерческих лент, отмеченных в видеокаталогах знаком «Для взрослых».
Начав переговоры с Набоковым, режиссер будущей картины Стэнли Кубрик и его помощник Джеймс Харрис добивались, в общем, невозможного: сохранить притягательность, какой «Лолита» обладала для массового читателя, больше всего привлеченного тем, что она затрагивает довольно пикантную тему, но и загодя обезопасить себя от обвинений в аморальности. Поначалу даже предполагалось, что в финале Гумберт и Лолита сочетаются законным браком под умиленные всхлипывания невесть откуда взявшихся родичей. На роль Гумберта думали пригласить кого-то из звезд высшего калибра — Лоренса Оливье или Марлона Брандо — и тем самым гарантировать сборы (выбранный в итоге Джеймс Мейсон, яркий, однако не такой знаменитый актер, сделать этого не смог). Параллельно были начаты демарши с целью предотвратить киноадаптации «Лолиты», которые хотели наспех сделать во Франции и в Италии — в обеих странах объявили, что запускается в производство картина «Нимфетки». В итальянских магазинах уже появились и смазливые на вид куколки, чей передник украшала надпись «Лолита». А один французский журнальчик бульварного толка предлагал хорошие деньги, если Набоков напишет портрет патентованной кинокрасавицы Брижит Бардо, покрасочнее изобразив ее интимную жизнь. На Таймс-сквер, куда Набоков в день премьеры фильма по «Лолите» прибыл в лимузине, толпа зевак глазела на него, точно он сам кинодива. Слава — в этом он быстро убедился — часто становится в тягость.
Отвергнув кубриковские наметки, Набоков, соблазненный очень высоким гонораром и преисполненный надежд, что главное в его романе уцелеет, если сценарий будет написан им самим, принялся перерабатывать книгу для экрана. На это ушло несколько весенних и летних месяцев 1960 года, проведенных им в Голливуде. Сценарий был потом напечатан: от романа он действительно отличается вовсе не так разительно, как фильм, премьера которого прошла в Нью-Йорке в июне 1962-го. О работе Кубрика как режиссера и об актерах Набоков отзывался, выдерживая дипломатический такт, но лента его разочаровала: по сравнению с романом это «все равно что разглядывать прелестный пейзаж через сетку от москитов». Сам Кубрик тоже считал, что его «Лолита» — неудача и что ему вряд ли следовало вообще браться за литературу такого высокого качества.
Прочитав сценарий, окончательно доработанный автором, и отправив ему письмо с реверансами, Кубрик и Харрис занялись, не ставя Набокова в известность, переделками, и такими основательными, что получилась в лучшем случае версия «Лолиты», но не экранизация, верная литературному первоисточнику (Эдриэн Лайн, сделавший в 1997 году вторую кино-«Лолиту», с формальной стороны более строго следовал за романом, но в действительности оскопил его еще больше, сведя дело к тривиальному сластолюбию стареющего ценителя эротических изысков). Самого Набокова смущала необходимость многое выбрасывать или прибегать к нажиму там, где в романе преобладал легкий пунктир. Но у кино свои законы, своя публика — с этим он готов был считаться. В Голливуде ему понравилось и сам он тоже понравился: Кубрик всем и каждому говорил, что сценариев такого уровня, как «Лолита», еще не бывало, а продюсер начал с Набоковым переговоры о его участии в намечавшейся экранизации цикла романов Пруста.
После просмотра картины Кубрика мысли о сотрудничестве с кинематографом Набоков оставил раз и навсегда. Понятно, что должно было в этой картине шокировать его всего сильнее, — та прямолинейность, которая пришла на смену его двойной перспективе, когда мотивы, внешне абсолютно разнородные, даже исключающие друг друга, оказываются тесно соединены, сплетены словесным узором, так что появляется возможность естественно и незаметно переходить от идиллии к сарказму и от фарса к драматическому напряжению. Вот эта многослойность, или полифония, набоковского рассказа и оказалась утраченной в фильме. Пропала и атмосфера неясности, романтической таинственности, которая в романе создана отзвуками биографического сюжета и поэтических шедевров Эдгара По, а также остроумным построением действия: все время чувствуется приближающаяся драматическая кульминация, но приходится гадать, кто окажется жертвой.
В фильме дело начинается с выстрелов Гумберта в Куильти и дальше сюжет строится как предыстория этого главного события. Из многочисленных и таких важных отголосков По картина сохранила всего один: есть превосходно сыгранный актерами крохотный эпизод, когда Гумберт пробует читать Лолите стихи и, оторвавшись от книжки, видит перед собой пустой, отсутствующий взгляд да шоколадку, застрявшую в зубах. Правда, это одна из лучших сцен, полно раскрывающая прочтение, которое предложено Кубриком. Для него «Лолита» — это драма человека, который все ищет и не находит оправданий своей страсти в изысканном и высоком мире культуры, оставаясь единственным из персонажей, кто, при всей болезненности, все-таки действительно принадлежит этому миру, а не паразитирует на культуре, как опустившийся Куильти. И оттого никакого духовного контакта не может у него возникнуть с Лолитой, олицетворяющей примитивный эротизм, вульгарность и убожество, скрытое за поэтичным флером юности.
Чтение стихов По увенчивается несколькими кадрами, которые особенно выразительно передают мысль, положенную в основу фильма: томик отброшен в сторону, и вот уже Лолита кормит Г. Г., словно щенка, колбасой, пальцами запихивая ломтики ему в рот. Никакого соединения эроса и культуры. Там, где на каждом шагу подстерегает пошлость, напоминая о себе то фарфоровыми собаками на каминной полке, то стандартными клумбами перед типовыми домиками, то жадным пережевыванием сплетен об эстрадных знаменитостях, попытки Гумберта облагородить свои болезненные отношения с падчерицей не имеют ни единого шанса на успех. В первом эпизоде картины, когда Гумберт с пистолетом в руках преследует пьяного Куильти по огромной, заваленной старьем квартире, пули одна за другой вонзаются в портрет прелестной юной женщины, на которой очень открытое платье — символика, обладающая прозрачным смыслом. Г. Г. стреляет не в Лолиту, которую — зрителям это неизвестно, но читатели уже знают — после разлуки увидел не нимфеткой, а домохозяйкой, неотличимой от тысяч других. Он расстреливает собственную обманувшую иллюзию, будто преступная страсть способна окутаться поэтическими реминисценциями и подняться над тривиальностью, которая растворяет в себе без остатка любые духовные порывы, тем более когда они сами с червоточинкой и уживаются со столь извращенными побуждениями, как неодолимая физическая тяга к нимфеткам.
У Кубрика культура и духовность, осознанные как фикции в показанном им мире, представлены метафорами исключительно пародийного или фарсового свойства. Гумберт заполняет дневник цветистыми записями, которые пересыпаны отсылками к великой литературе, но делает он это, сидя на стульчаке, и оттуда же, из уборной, ставшей единственным прибежищем его свободы, ведет с Гейзихой беседу о Боге, кончившуюся на смятой постели. Лолита лукаво смотрит с фотографии на стене, пока Г. Г., давя отвращение, выполняет супружеский долг, а камера все время показывает само ложе — необъятных размеров кровать, рядом с которой хранится урна с прахом почившего мистера Гейза. Весь образный ряд картины выстроен так, что набоковский спектр пересекающихся, друг на друга накладывающихся мотивов упрощен, переосмыслен, чтобы в итоге обозначилась мелодрама с экстравагантным сюжетом, или же рукою мастера сделанная история болезненной страсти, которая становится пошлой, потому что миру банальностей всецело принадлежит та, которая эту страсть пробудила. Но для Набокова, пусть лицемеры утверждали, что он «развратитель и злодей», его «Лолита» была искусством, волшебством, от которого мрут, «как от яда в полом изумруде». И никакие частные удачи, никакие выгоды, если речь шла о деньгах и славе, не могли притупить его горечь оттого, что это волшебство пропало.
Публика, еще до официального появления «Лолиты» наслушавшаяся пересудов о ней и ее авторе, набросилась на скромную книгу со странным для американского уха названием «Пнин» — этот роман вышел весной 1957-го, опередив «бедную девочку» на пять месяцев. Нежданный его успех впервые дал Набокову ощутить, что слава бывает и в радость. Ведь надеяться на сочувственное внимание именно к «Пнину» было трудно. Слишком специфичный материал, Набокову известный из первых рук, однако скучный для непосвященных: академическая среда, университетский мирок со своими мелкими интригами и заботами. И слишком специфичный герой: преподаватель русского языка в провинциальном колледже, неудачник, полностью лишенный способностей и навыков, без которых не выживают в исподволь ведущейся неистовой борьбе за должности, продвижения, повышения. Перебравшийся из Европы русский иммигрант с именем, которого не выговорить, — Тимофей Палыч.
Из всего, что было написано Набоковым за американские годы, «Пнин» самая лиричная его книга. В ней очень много от пережитого самим автором, хорошо знавшим, какие мытарства — по крайней мере на первых порах — были уготованы русским беженцам, которым пришлось за океаном менять многие свои понятия, привычки, жизненные установления и даже язык. Описанный в романе Уэйндельский колледж, где Пнин читает со студентами пушкинскую элегию, переводя им «Брожу ли я вдоль улиц шумных» с тем «отважным буквализмом», что составлял и принцип самого Набокова («И где же судьба будет посылать мне смерть — в борьбе, путешествии или в волнах?»), — это чуточку измененный Корнелл, причем совпадают и внешние приметы: тоже городок по берегам озера (правда, искусственного), серо-аспидные холмы вокруг, черные узоры сучьев в инее под серебристым сиянием зимнего солнца. Вереница кирпичных домов, бензоколонка, каток, магазин самообслуживания — как все это было знакомо Набокову и по местам, где он преподавал почти полтора десятка лет, и по его поездкам с лекциями во времена, когда такие выступления только и позволяли заработать на жизнь.
Автор — случай, не имеющий аналогов в им написанном, — сам появится в книге на правах персонажа. Сначала Сирин будет мимоходом упомянут в числе эмигрантских писателей, о которых за чаем на веранде любят потолковать посетители усадьбы «Сосны»: ее владелец Эл Кук, а на самом деле Колокольников, раз в два года собирает у себя в поместье цвет российской интеллигенции, волею судеб очутившейся в Америке. Потом будет разговор двух гостей Кука о не приехавшем в это лето Владимире Владимировиче с его энтомологическими увлечениями: напрасно некоторые находят, что это только поза. Еще раньше герою снится, будто он бежит, спасая свою жизнь, и рядом с ним покойный друг Илья Исидорович — так звали Фондаминского, одного из ближайших парижских друзей реального Владимира Владимировича. Фондаминский, соредактор «Современных записок», не вернулся из немецкого концлагеря.
А под конец романа повествователь выступит на сцену собственной персоной. Окажется, что колледж именно его решил пригласить на место Пнина, не продлевая контракт с чудаковатым ассистентом, уже девять лет напрасно надеющимся стать хотя бы адъюнктом, не мечтая о профессорстве. Смешная в его годы вакансия Пнина в результате сложной комбинации, где сталкиваются интересы могучих руководителей отделений, упраздняется, а в качестве лектора по сравнительной истории литератур привлекают небезызвестного романиста, который пользуется определенным весом и в научных кругах. К тому же, в отличие от Пнина, по-английски он говорит без ошибок и странностей, так забавлявших уэйндельское общество.
Новый лектор, оказывается, знает Пнина очень давно, а его семью — даже со своего канувшего в Лету петербургского детства. Из каких-то глубин выплывает плюшевая приемная знаменитого врача-офтальмолога, доктор Павел Пнин в пенсне на черной ленточке, как у покойного Чехова, и кажется, там показался вернувшийся из гимназии пухлый тринадцатилетний его сын в черной блузе, перетянутой сверкающим черным ремнем. Все это было бесконечно давно — в Петербурге, неподалеку от розовокаменного дома на Морской, воскресным днем 1911 года.
Сорок лет спустя тот выросший и прославившийся пациент доктора Пнина был бы счастлив предложить Тимофею Палычу сотрудничество в любой форме. Но эта мысль отвергнута с порога: услышав о приезде старшего коллеги, Пнин даже не стал дожидаться окончания семестра. Причины не названы впрямую, однако о них несложно догадаться и напрашивающееся объяснение — зависть к преуспевшему — самое неверное.
В комментариях к «Евгению Онегину», которыми Набоков занимался одновременно с романом (Пнин у него вынашивает примерно такую же научную идею — написать сжатую историю русской культуры, отобрав материал так, чтобы его книга стала и очерком общей истории, отразив Великую Взаимосвязь Событий), о Пушкине как о персонаже не менее важном, чем три основных героя, сказано: это стилизованный и, значит, выдуманный Пушкин, глупо интересоваться биографической подоплекой тех или иных эпизодов. Тем не менее, коснувшись того места пушкинского романа, где описаны сельские досуги Евгения — «порой беглянки черноокой младой и свежий поцалуй», — Набоков указывает, что тут отзвук истории поэта с крепостной девушкой Ольгой Калашниковой, подробно ее излагая. То же самое несложно сделать, говоря о присутствии Набокова на страницах «Дара». Как не догадаться, кто этот энтомолог Владимир Владимирович, который еще и преподает русскую литературу. А «Сосны» — разумеется, усадьба Михаила Карповича, историка, занимавшего русскую кафедру в Гарварде: он охотно приглашал к себе провести лето других русских ученых. Набоков с семьей тоже бывал у него в Вермонте, там в основном написана книга о Гоголе.
Однако повествователь, который под конец ведет свой рассказ от первого лица, — это один из героев, а не автор, исповедующийся перед читателем. Поиск автобиографических отголосков, став сверх меры настойчивым, и правда завел бы слишком далеко. Биография рассказчика, которую при желании можно восстановить, погружаясь в роман, и биография Набокова имеют не так уж много общего.
Так, чистая выдумка — вся история отношений рассказчика с женой героя Лизой Боголеповой, которую Пнин, не питая иллюзий относительно ее духовного уровня и человеческих качеств, тем не менее преданно любил всю жизнь. Когда-то, еще до войны, в Париже, Лиза показывала свои вздорные, сюсюкающие стихи одному из эмигрантских литературных мэтров, и мэтр (он-то теперь и ведет повествование в романе), не утаив, что стихи ее плохи, все-таки предложил как-нибудь их с нею перечесть в укромном, спокойном месте. Потом были различные переживания (лирика, прихоти, сентиментальность, истерическая нечистоплотность), окончившиеся попыткой самоубийства и решением очертя голову выйти за Пнина, хоть он решительно не отвечал запросам Лизиной трепетной натуры. Насколько его посвятили в эти перипетии, неясно, однако что-то Пнин, разумеется, знал. Оттого и отверг саму мысль, что ему предстоит работать под началом того, кто в былые дни обошелся с Лизой так, по его представлениям, непорядочно.
Первое свое утро в Уэйнделе невыспавшийся рассказчик проводит, гуляя по его невыразительным улицам. Мимо проезжает скромная легковушка, набитая чемоданами и узлами. За рулем Пнин в кепке с наушниками, сзади на сиденье маленькая белая собачонка. Для них обоих уэйндельская глава завершена.
Если впрямую отождествлять повествователя, остающегося в «Пнине» одним из персонажей, с автором этого романа, выводы могут оказаться достаточно компрометирующими для Набокова. Трудно сказать, до какой степени он сознавал, что ставит себя в щекотливую ситуацию. Может быть, не сознавал вовсе, и тем не менее ситуация была именно такой. Свидетельство — записки Лидии Чуковской об Ахматовой.
Через три года после выхода «Пнина» удалось достать экземпляр книги, не понравившейся им обеим. Чуковская уточняет: «Не по душе мне та душа, которая создает набоковские книги». Почти вне сомнения, что оттолкнул ёе портрет Лизы Боголеповой. Она, пожалуй, сочла, что Набоков сводит какие-то старые счеты, при этом поступая не по-джентльменски.
Грустно, что «Пнин» действительно давал какие-то поводы так думать. Речь, понятно, не шла о вымещении мнимых любовных обид. Однако Лиза, показанная как существо эгоистичное и зачерствелое, в романе не только неверная супруга, которая пользуется чувством героя, без стеснения свалив на него устройство своих запутанных житейских дел. И не только фрейдистка, которая с пылом неофита отстаивает нелепые теории и любуется своей подписью «доктор Винд» под анекдотическими статьями с претензией на научность. Она еще и поэтесса, автор книжки стихов «Сухие губы». Два образчика ее виршеплетства приведены в романе: смесь пошлостей, жеманства и бесстыдства. Ахматова сразу узнала, в кого метит эта пародия, и назвала роман — по отношению к себе — сочинением пасквилянтским.
Знай Набоков об этом отзыве, он, конечно, мог бы возразить, что имел в виду не Ахматову, а тех неумных обожательниц и подражательниц, которых терпеть не могла она сама. Однако это возражение вряд ли что-то меняло бы по существу дела. К концу 50-х годов, когда вышел в свет «Пнин», никаких «ахматовок» не было видно на литературном горизонте, да и не стал бы Набоков палить из своих тяжелых орудий по мелким целям вроде какой-нибудь Марии Моравской, утверждавшей, что поэтесса «не может жить без ломанья, в этом ее призванье», — и осуществившей свое призванье в нескольких претенциозных книжках: из них особенно известна в 1910-е годы была «Золушка думает» («Золушка совсем не думает», — саркастически отозвался злой рецензент).
С «рифмующими кроликами», с богемной окололитературной публикой он покончил еще в «Подвиге», процитировав куплет про красивые тела, сочиненный Аллой Черносвитовой. В «Пнине» походя упомянут модный у русских парижан критик по фамилии Уранский, но с именем таким же, как у Адамовича в кругу его единомышленников, — Жоржик, и этот Жоржик спешит возложить на Лизины каштановые кудряшки «корону Анны Ахматовой», отчего Лизу сотрясают счастливые рыдания. Ее поэтические упражнения — огни небывалых оргий, обжигающее забытье на холодной постели, над которой распятие слоновой кости, выяснение градуса обольстительности очей, сердца и той розы, что «еще нежней розовых губ моих», — это, вне сомнения, выпад прямо против «Четок», «Белой стаи» и «Подорожника».
Замечательна его практически полная смысловая идентичность с оценками того же явления в погромном докладе сталинского эмиссара Жданова, в результате которого после августа 1946 года, ознаменованного партийным постановлением о ленинградских журналах, Ахматова (как и Зощенко) была на полтора десятка лет отлучена от литературы. Жданов клеймил «полу-монахиню, полу-блудницу», которая «мечется между будуаром и молельней»: пародия Набокова основывается на точно таком же представлении о той, чей образ раскрывается в ахматовской лирике. Совпадения иной раз так красноречивы, что комментарий только бы их испортил.
Пародии на Ахматову не раз появлялись и прежде — это естественно. Но никому, даже советским чиновникам при литературе, не пришло на ум добивать отверженную, если их к этому не принуждали полученные сверху указания. После 1946 года пародия в «Пнине» остается, кажется, единственной. А те, которые писались прежде, может быть, лишены такой поэтической язвительности, но в том, что касается меры и такта, в них дело обстояло намного благополучнее. Кстати, среди них одна из лучших принадлежит презрительно помянутому Набоковым — прославившимся, очень благополучным Набоковым — в интервью 1964 года критику и немного поэту Константину Мочульскому. Пародия напечатана в парижском журнале «Звено» в 1923 году, последовала за двумя тонкими критическими статьями о ранней Ахматовой (и мадригалом, шестью годами ранее вписанным в ее альбом), а цель — только способствовать освобождению от «нервно-импрессионистического стиля», который и она стремилась в «Anno Domini» преодолеть:
Я спросила: «Хотите чаю?»
Помолчав, он сказал: «Хочу».
Отчего, я сама не знаю,
По ночам я криком кричу.
В комментариях к «Евгению Онегину» Набоков упомянул об оскорбительных для Пушкина «ядовитых стихах», которые сочинил Федор Толстой («Американец»), и написал: «Непостижимо, как Пушкин, не забывающий обид Пушкин, с его обостренным чувством чести и „amour-propre“ („самолюбием“), смог простить это оскорбление». Видимо, ему диким показалось бы допущение, что Ахматова может испытывать примерно такие же чувства, как Пушкин, готовившийся к дуэли с «Американцем» все свои годы в ссылке и даже носивший особенно тяжелую трость, чтобы укрепить мышцы руки, которая не должна была дрогнуть. Однако, написав в том же комментарии, что современная Россия почти растратила понятие о чести — вот отчего не понимают мотивов вызова, посланного Ленским, — Набоков заблуждался. Звание пасквилянта, которым Ахматова почтила сочинителя «Пнина», не пропало бесследно для его русского реноме. Слишком высок был ее авторитет — и не только поэтический, а нравственный.
В самом романе, по счастью, не произошло смещения акцентов, которое могло принести убийственный результат, если бы такого рода литературные счеты (причем сводимые такого рода приемами) сделались основной авторской заботой. О своей главной цели ясно сказал сам Набоков в письме Паскалю Ковичи, редактору «Вайкинг пресс», куда была послана рукопись романа, который фрагментами шел в журнале «Нью-Йоркер»: этой целью был яркий и необычный характер, «комический святой», как напишет в рецензии коллега Набокова по Корнеллу Виктор Ланге. Сам Набоков так представил своего героя: «Смешной, физически не привлекательный, если угодно, гротескный… однако рядом с теми, кого считают „нормальными“, намного более человечный, более содержательный и превосходящий их в моральном плане. Кем бы ни казался Пнин, он, во всяком случае, не комедиант». И, закончив это описание, он без лишней скромности заключал, что таких персонажей еще не знала литература.
В действительности это не совсем так, поскольку Пнин наделен чертами, хорошо знакомыми всем читавшим романы Диккенса и прозу Чехова, уж не говоря о том, как много в нем от Дон Кихота. Почти несомненно, что размышления над книгой Сервантеса, которой в своих лекциях Набоков давал уничижительные оценки, как раз и подсказали замысел «Пнина». Для Набокова самым обычным делом было, камня на камне не оставив от произведения кого-то из тех, кто почитается великими, затем перенять из этого произведения и отдельные мотивы, и даже художественную идею, которая, конечно, у него получала совершенно самостоятельную трактовку. Подобное сплошь и рядом происходило у него с Достоевским. И с «Дон Кихотом», кажется, произошло то же самое.
«Комическая внешность», за которой «нежное, любящее сердце», — его распознает не каждый, но только человек с действительно тонким пониманием вещей и чуждый всякой предвзятости, — сам этот человеческий тип не был набоковским открытием. Пнин то и дело заставляет вспомнить о прославленном идальго, а те, кто его окружает, — о герцогской чете, измывавшейся над благородным безумцем (и даже отношения с Лизой отчасти повторяют сюжет с грязной скотницей, которую воображение Кихота превращает в Дульсинею). Однако «Пнину» вовсе не свойствен тот привкус жестокости, который так отталкивал лектора Набокова, когда он разбирал творение Сервантеса, напрасно обрушивая на этот первый великий европейский роман молнии негодования и презрения. В собственном его романе главенствующая интонация — ностальгия и сострадание. Ностальгия была обычна для прозы Набокова и прежде, сострадание — уникальная особенность «Пнина».
И сам герой тоже стал уникальным воплощением современного Дон Кихота, потому что в нем непритупленная набоковская тоска по навеки исчезнувшему раю детства соединена с оставленной в наследство русской классикой (прежде всего Достоевским, что бы по этому поводу ни думал автор) совестливостью, с ощущением невозможности существовать в мире, где героиня его юношеского увлечения погибает только из-за того, что эмиграция забросила ее в Германию, а нацисты ввели расистские законы. Этот Пнин как бы постоянно обретается в двух, даже трех временных измерениях и психологических состояниях. Вот Пнин в аудитории, с усилием читающий по написанному тексту лекции, которые редактирует молодой ассистент германского отделения, или в снимаемой им преподавательской квартире, каких было много, — чужие книги на стеллажах, чужие фотографии в рамочках, неуют, уже близкая старость. А вот Пнин, каким он был бесконечно давно, точно бы время не переломилось, и Петербург все тот же Петербург, а не Ленинград, и все сидят друг против друга в своей маленькой гостиной на Галерной его родители, с головой уйдя в какую-то захватывающую журнальную статью, а Мира Белочкина, после переворота очутившаяся в Швеции, еще не вышла за меховщика русского происхождения, обосновавшегося в Берлине, откуда ее препроводят в Бухенвальд. И наконец, еще один Пнин, которого страстная, хотя не афишируемая любовь к русской литературе увела в пушкинские времена и так с ними сроднила, что «В бою ли, в странствии, в волнах» естественно дополняется: «Или в уэйндельском кампусе». Пнин, в чьем сознании невольно путается календарь, и он отождествляет с днем смерти Пушкина дату, когда самому Тимофею Палычу исполняется пятьдесят пять, пусть на самом деле он родился не 10 февраля, а 15-го.
«Святым» его как раз и делает эта старомодная, смешная для уэйндельских прагматиков и абсолютно бескорыстная верность идеалу, который он, конечно, сам не смог бы ясно сформулировать, но каким-то образом выразил бы пушкинскими реминисценциями — прежде всего вспомнив «рыцаря бедного», чьей жизнью движут чистая любовь, сладостная мечта и «виденье, непостижное уму». Поначалу предполагалось, что история Пнина окончится так же, как завершилась судьба героя, о котором поет Франц в «Сценах из рыцарских времен»: «Всё безмолвный, всё печальный, Как безумец умер он». Но Набоков нашел ход, более естественный для описанной им ситуации. Последняя страница книги — эта заваленная убогим скарбом легковушка, водитель в зимнем плаще, собака, составляющая все его общество, пронзительно перекликаются и с вдохновенной декламацией в классе («Брожу ли я вдоль улиц шумных…»), и с той сценой после визита Лизы (в очередной раз обременившей своими заботами бывшего супруга), когда Пнин, всхлипывая, бьет по столу кулаком, а в промежутках слышится: «У меня не есть ништо… Ништо не оставался, ништо, ништо!»
Из написанного через несколько лет «Бледного огня» можно узнать, что он несколько драматизировал свою ситуацию: там мельком сказано, что профессор Пнин возглавляет русскую кафедру в другом университете, что у него теперь постоянная должность, что его загорелую лысину можно часто увидеть в читальном зале и даже собачка его раздобрела от довольства жизнью. Но благополучный исход, оставшись за рамками действия того романа, где имя Пнина вынесено на обложку, не ослабляет стойкого чувства, что в судьбе заглавного героя слышны отзвуки трагической хроники XX века. Искусство Набокова не допускает трагедийных кульминаций, в нем всегда присутствует ирония, оттененная то насмешливостью, то лиризмом. И все-таки не кто иной, как Пнин с его комическими чудачествами, заговорит — спьяна, в миг эмоционального шока, когда рухнули скромные надежды, что в Уэйнделе он наконец зацепится и доведет до конца свой труд о русской культурной истории, — не вполне владея собой, но заговорит «о Тирании. О Сапоге… Об армянской резне, о пытках, которые изобрел Тибет, о колонизаторах в Африке». И подведет итоги: «История человека — это история боли!»
Сам он, во всяком случае, наделен способностью выносить эту боль достойно — дар, которого за ним не отрицает никто. Даже столько его мучившая Лиза, чья душа — Пнин это знает — всего лишь «ссохшаяся, беспомощная, увечная тварь», или тупица Гаген, который предал самого преданного и надежного своего сотрудника. Фамилия героя фигурирует в подробных историях русской поэзии — ее носил, в усеченном виде унаследовав от фельдмаршала князя Репнина, чьим незаконнорожденным сыном он был, малоизвестный стихотворец павловского времени. Реальный Пнин общался с теми, кто потом оставит след в биографии Пушкина: с генералом Инзовым, своим соучеником по пансиону, с отцом декабристов Бестужевых, с Батюшковым, с Гнедичем. Жизнь этого Пнина складывалась несчастливо. Он тяготился положением внебрачного отпрыска прославленного вельможи. А когда князь не упомянул его в своем завещании, пустив прахом ожидания устроенного будущего, из-под пнинского пера вышло сочинение, выразительно названное «Вопль невинности, отвергаемой законами».
Герой Набокова после того, как Гаген бросил его на произвол судьбы, имел причины написать что-нибудь в такой же стилистике. Но его и в катастрофе поддерживает никогда не изменяющая вера, что, пока вьется нить, «есть что-то такое во мне и в самой жизни» — не поддающееся формулировкам, но обязывающее «в бою ли, в странствиях, в волнах» оставаться человеком, который выпестован русской культурой и пушкинской эпохой (а возможно, и памятью об однофамильце, о котором Батюшков, отзываясь на раннюю его, в тридцать два года, кончину, писал: «Пнин чувствам дружества с восторгом предавался; Несчастным не одно он золото дарил» — уж не говоря о том, сколь «был согражданам полезен»). После той неудавшейся вечеринки, когда празднованье новоселья закончилось для хозяина известием, что его работе в Уэйнделе приходит конец, Пнин — старый, беззубый, с пеленой слез на глазах — моет посуду и в пенную раковину падают щипцы для орехов, производя звон разбившегося стекла. Кажется, погибла та чаша с изумительным рисунком, которую Пнину подарил Виктор Винд, гостивший у него сын Лизы, — чужой мальчик, занявший такое важное место в его одинокой жизни. Разбившаяся чаша была бы кричащим, безвкусным олицетворением полного краха, который ему уготовано пережить, но Пнин, уколовшись до крови об осколок стакана, извлекает ее из-под мыльной пены в сохранности. И, все перетерев досуха, усаживается за кухонный стол писать доктору Гагену письмо, где, можно не сомневаться, будет отказ от всех благодеяний, которыми старший коллега пытался утешить его, смягчив нежданный удар.
Пушкинские интересы и ориентации Пнина должны были особенно расположить к нему Набокова, тем более что его герой, читая со своим крохотным семинаром лирику Пушкина, толкует ее с неукоснительной заботой о смысловой точности, которой принесено в жертву все остальное. Набоков был тогда занят тем же самым, и уже не первый год. Он готовил к публикации свое переложение «Евгения Онегина» на английский. И писал к нему комментарий, по своей полноте и дотошности все еще не знающий себе равных.
Эту работу он начал прежде всего из-за того, что изучать Пушкина со студентами, не знающими русский язык, находил невозможным, то и дело обнаруживая чудовищные, по его понятиям, промахи и натяжки в имевшихся стихотворных переводах романа. Таких переводов было пять. Ранний, принадлежащий Г. Сполдингу, появился еще в 1881-м, а три новых, приуроченных к столетию гибели Пушкина, ни в чем не превзошли тот скромный образец. Все они, как и труд У. Арндта, что вышел за полгода до набоковского (и был удостоен престижной переводческой премии), подвергнуты в комментариях и в статье, специально посвященной арндтовской версии, такой критике, которая нередко переходит все границы благовоспитанности и приличия.
Испуганные резкостями и издевательствами, которые Набоков обрушил на предшественников (и на Арндта, который посмел с ним соперничать), издатели просили кое-что снять или смягчить, однако наткнулись на категорический отказ. Набоков успокоил редакторов «Пантеона», написав, что из тех, кто им жестоко обруган, трое давно покинули этот мир и, значит, не будет иска, а четвертая не осмелится его подать. Кажется, еще не бывало случаев, чтобы полемика из-за принципов перевода велась с оглядкой на вероятность или невозможность юридического преследования.
Дело, разумеется, не зашло бы так далеко, если бы за те четырнадцать лет, что отделяют начало работы над «Евгением Онегиным» от публикации четырех роскошно отпечатанных томов, статус Набокова как литератора не претерпел очень существенных изменений. Они, помимо многого другого, резко усилили и прежде ему присущее чувство своей исключительности и непогрешимости. Он был непоколебимо убежден, что никто до него не сумел толком перевести «Онегина» или как следует прочесть роман. И что сделанное им сделано на века — новых английских версий не будет (Арндт, однако, думал иначе, а в 1977-м появился еще один стихотворный перевод — сэра Чарлза Джонстона).
К тому времени, как в 1964 году Набоков последний раз рукой мастера прошелся по своей необъятной рукописи, после долгих проволочек отправлявшейся в типографию, это убеждение приняло у него характер некой обсессии. С Пушкиным он чувствовал себя, как известный герой, «на дружеской ноге», и просматривая свой труд в последний раз, уже в 1970-м, удовлетворенно писал редактору: «Я для него сделал по меньшей мере столько же, сколько он для меня».
Но и до этого давал себя ощутить комплекс единственного достойного интерпретатора Пушкина, склонявший к некорректным действиям — вроде разгромной статьи о переводе Арндта, когда вот-вот должен был появиться его собственный. Что же касается прежних переводчиков, им достается поминутно, да еще в каких выражениях! «Зарифмованные глупости… смехотворные ошибки… нелепость» — и это не самое худшее.
Комментарий, занимающий основное место в его издании (где был факсимильно воспроизведен петербургский «Евгений Онегин» 1837 года, последний вышедший при жизни Пушкина, а также давались история рода Ганнибалов, очерк различий между русской и английской системой стихосложения, подробнейший указатель), расцвечен такого рода комплиментами. Почти так же часто ими Набоков удостаивает и толкователей романа, работавших до него. Его любимая мишень — официозное советское литературоведение, которое все норовило увидеть в герое почти декабриста, а в авторе обличителя дикостей крепостного права. Однако нелестных упоминаний удостоены и старые русские «журналисты типа Белинского — Достоевского — Сидорова»: они уродовали роман своими «страстными патриотическими восхвалениями добродетельности, воплотившейся в Татьяне», хотя на самом деле в последней сцене с Онегиным она, уверяет Набоков, дала прозрачное обещание, «от которого должно было радостно забиться сердце искушенного Евгения». И Набоков поддается соблазну пофантазировать о том, как именно протекал бы их беззаконный роман, заодно издеваясь над «идейной критикой», особенно — этого следовало ожидать — над знаменитой Пушкинской речью Достоевского. «Сверх всякой меры захваленный автор сентиментальных и готических романов», Достоевский не вполне точно сформулировал какие-то подробности (не учел, например, что маршрут путешествия Онегина пролегал не по чужбине, а, скорей, по России, зря аттестовал мужа Татьяны «честным стариком» — тот был еще не стар годами). Стало быть, с ликованием заключает Набоков, готовясь к своей «трескучей политико-патриотической речи», Достоевский даже не перечел роман.
Без малого полторы тысячи страниц набоковских примечаний к Пушкину густо пересыпаны такого рода нападками. То на интерпретаторов, видевших в романе панораму действительности или «энциклопедию русской жизни», как сказано Белинским. То на почтенного гарвардского профессора Чижевского, чей комментарий, написанный много лет назад, оценен как бездарная компиляция. То на ничтожного Вольтера — и зачем только перечитывал его и хвалил «наш поэт»! А случается — ни с того ни с сего — и на Фолкнера и прочих не по заслугам возвеличенных нобелевских лауреатов. Рецензенты, заподозрившие, что главным образом ради подобных сарказмов и дезавуаций Набоков затеял свой неподъемный труд, хватили через край, но поводы считать, что в этом «Онегине» преобладает полемическая установка, и правда были.
Особенно вескими они становятся, если вникнуть в саму идею, на которой основано набоковское переложение. Когда-то, в свою раннюю берлинскую пору, Набоков немало переводил стихами: Ронсар, Бодлер, Рембо, Шекспир, Теннисон. Его «Николка Персик» и «Аня в стране чудес» представляли собой образцы очень вольной творческой обработки, в которой переданы лишь основные мотивы и стилистический ключ оригинала — Роллана, Кэрролла. Теперь все это было забыто, а сама практика таких переводов сурово осуждена. Уже в 1952 году, когда работа только начиналась и Набоков хлопотал о стипендии, необходимость новой версии «Онегина» он обосновал тем, что «нет возможности воссоздать сложную русскую структуру английскими стихами», а поэтому предпринимавшиеся попытки сделать это привели к удручающим результатам. Два года спустя им было задумано (и в 1959-м — напечатано) эссе «Тропа подобострастия», основная мысль которого сформулирована так: «Самый неуклюжий буквальный перевод в тысячу раз полезнее, „чем прехорошенькая парафраза“». Непосредственно в комментарии к «Онегину» эта идея повторяется и варьируется десятки раз. «Единственной заботой должна быть текстуальная точность, — утверждает Набоков, — а музыка допустима лишь в той мере, насколько она не ослабляет ясности смысла» (то есть чаще всего вообще не допустима). Или: «Использование рифмы, автоматически исключающее возможность точно передать смысл, попросту помогает тем, кто к ней прибегает, скрыть то, что сразу обнаружило бы честное прозаическое переложение, а именно, неспособность достоверно воссоздать сложности оригинала». И наконец: «В моем представлении термин „буквальный перевод“ — тавтология, так как лишь буквальное воссоздание текста и является, строго говоря, его переводом».
Тут целая теория, по которой существуют три разновидности перевода: «парафрастический» (то есть притязающий передать богатство поэтической образности, музыку, интонацию, оттенки стиха — и никогда этого не достигающий, меж тем как смысловые потери неизбежны и ужасающи), «лексический» (приблизительный и в смысловом отношении, и по достоверности воссоздаваемого поэтического рисунка), наконец, буквальный. Лишь он один и приемлем, если выполнен добросовестно. А добросовестность требует, чтобы был передан «не только прямой смысл слова или фразы, но и подразумеваемый», иначе говоря, чтобы были сохранены контекст и синтаксическая конструкция, в которой находится слово.
Никаких ссылок на предшественников у Набокова нет, и можно подумать, что подобный «буквализм» — его изобретение. Однако в действительности это не так. Отцом и апологетом «буквализма» при переводе поэзии был в России Брюсов. Незримое его присутствие, не так уж редко о себе напоминавшее и в стихах Набокова, намного отчетливее ощутимо в этом английском «Онегине», послушно следующем за брюсовской неудобочитаемой «Энеидой» Вергилия («вялого», уточняет комментатор, спешащий проехаться по поводу вергилиевых «бледных педерастов»). Эта «Энеида» не знает аналогов по близости словесного соответствия переложения оригиналу, и даже набоковский «Онегин», где применен в точности такой же принцип, рядом с тяжело ступающими брюсовскими гекзаметрами может показаться шедевром поэзии, особенно если не сопоставлять с Пушкиным. Но в роли перелагателя романа в стихах, превращенного им в ритмизированную прозу с непоследовательно выдерживаемой схемой ямба, — без рифм, без музыки, с разрушенной композицией строфы, которую стиховеды так и называют — онегинская, Набоков предстал как верный ученик Брюсова.
Трудно сомневаться в том, что, обдумывая свой подход к переводу, он перечел или припомнил старую брюсовскую статью «Овидий по-русски», где было обосновано требование максимально сохранять смысл, образы, стиль, расположение слов, их грамматическую форму, синтаксис, созвучия, короче, уподобить художественный перевод подстрочнику. По Брюсову, эта деятельность помогала обогащению репертуара приемов: некоторые можно перенять у чужеземного автора, если он представлен не в тех приблизительных вариантах, когда стараются донести поэтическое обаяние оригинала и «общие свойства души» его творца, но пробуют строго и точно, вплоть до самых мелких особенностей, передать своеобразие композиции и поэтики. Как раз в мелочах, которыми так часто пренебрегают, считал Брюсов, наиболее отчетливо проявлена уникальная манера поэта. Есть, писал он, перевод для ценителей красот — как «Горные вершины», которые считаются стихотворением Гёте, хотя из восьми строк русского текста пять сочинены Лермонтовым, старавшимся воплотить образы немецкого поэта конгениально подлиннику. Это самый распространенный случай, но даже имя Лермонтова не должно затемнять суть дела: тут не перевод, а подражание, или, еще точнее, впечатление одного прославленного лирика от миниатюры другого. Как бы ни восторгались этими стихами, они что угодно, но не Гёте. Потому что истинный Гёте получится, если переводят для «производителей», то есть для других стихотворцев.
Им не нужны перлы — они нуждаются в точном слепке, ибо хотят понять, как устроен поэтический мир перелагаемого автора и в чем его несхожесть с другими. Если этот автор растворен в той художественной среде, которой принадлежит переводчик, если стихотворение станет фактом русской поэзии (как произошло с «Горными вершинами»: о немецком их происхождении почти и не вспоминают), искусство стиха, в сущности, ничего не выиграет. Необходим «эффект отдаленности». В переводе текст должен звучать непривычно для русского уха: пусть он изобилует диковинными словами (Брюсов обожал латинские речения, широко ими пользуясь не только в «Энеиде», но и в своей русской прозе), пусть удивляет странностями синтаксиса, в общем, пусть не позволит забыть, что это произведение, принадлежащее чужой культуре и подчиняющееся ее нормам. Между читателем и поэтом должна остаться непреодолимая дистанция. И это хорошо, что чтение превращается в адский труд.
Набоков пункт за пунктом перенял эту логику, доведя ее до напрашивающегося конечного вывода: перевод поэзии стихами принципиально невозможен. Лучшие в мире переводы, если иметь в виду современность, — для него французские, так как «французы используют свою удивительно точную и всемогущую прозу для передачи иностранных стихов вместо сковывания их тесными рамками тривиальной и обманчивой рифмы». Объяснять, отчего рифма в переводных стихах непременно должна быть тривиальной и обманчивой, Набоков не стал, не снизошел до профанов, которым трудно уразуметь столь очевидные вещи. В его «Евгении Онегине» и намека на рифму не было. Как не было еще многого, без чего читатель, которому незнание русского языка закрывает доступ к оригиналу, никогда не почувствует магию пушкинской поэзии. И не поверит, что магия правда одушевляет неуклюже рассказанную по-английски повесть, где масса слов, режущих слух устарелостью и явной книжностью, а фразы часто построены так, точно их писал иностранец, то и дело заглядывая в самоучитель. А еще даны пояснения насчет свойств пушкинского стиха, его неповторимой мелодичности, уникального построения строфы — «полуода и полусонет», — словом, приведено много полезных сведений, как будто Набокову вздумалось, вместо воспроизведения мелодии, раздать листки с нотами людям, никогда не бравшим уроки музыки.
Отклики были разнородные, в том числе — иронические и порой ехидные. Набокова они лишь ожесточили, заставили, не прислушиваясь и не вникая в аргументы, отметать все замечания как сущий вздор, какого следовало ожидать от неучей. Свою задачу он считал образцово выполненной, поскольку им передан, строка за строкой и слово за словом, «смысл» романа, тогда как предшественники, ставя невыполнимую задачу воссоздать всю поэтическую структуру, громоздили глупость на глупость (к примеру, передавая «шпор незапный звон» в главе восьмой, ради рифмы и размера заставляли мужа Татьяны звонить в дверь: видано ли что-нибудь курьезнее?). У него, уверенно утверждал Набоков, прочтут именно то, что сказал Пушкин. Если у Пушкина написано:
«Не спится, няня: здесь так душно!
Открой окно да сядь ко мне».
— Что, Таня, что с тобой? — «Мне скучно,
Поговорим о старине», —
то набоковский читатель найдет то же самое:
«Я не могу спать, няня: большая тут духота.
Открой окно и посиди со мной рядом».
«Полно, Таня, что с тобой такое?»
«Я скучаю», —
и, одолев переложенные этой бесцветной прозой восемь глав с «Путешествием Онегина», проникнется верой, что теперь-то уж он имеет о сочинителе, которого русские почитают, как англичане Шекспира, достоверное представление.
Похоже, Набоков ни секунды не сомневался, что именно такого результата он сумел достичь. В тогдашних учебниках литературы для советских школ было заведено делать упор на «содержание», оставляя под конец все прочее — «художественные особенности», выражаясь канцелярским языком этой педагогики. При своем громогласном эстетизме Набоков, кажется, принял тот же самый подход, позволяющий жертвовать «художественными особенностями» без больших сожалений — так, как никогда себе не позволял никто из «идейных критиков», даже Писарев. И не просто жертвовать, а похваляться тем, что они истреблены беспощадно, бесповоротно. Чем более его текст будет нечитабелен, говорил Набоков, начиная готовить второе издание, которое считал усовершенствованным, тем неукоснительнее выдержан буквалистский метод, а значит, тем больше оснований расценивать представленный английским читателям вариант как непревзойденный по смысловой точности. Сам он сожалел об одном: зачем его перевод «не вполне уродлив. В будущих изданиях я еще решительнее с корнем выдеру все цветы. Он, хочу думать, превратится в утилитарную прозу… не будет никаких уступок буржуазным понятиям о поэтичности и стараний передать ритм». К счастью, эта программа осталась практически нереализованной.
Если отвлечься от того, что в стихах смысл создается не просто цепочкой слов, а метрикой, строфикой, интонацией, ритмом и еще очень многим, что составляет мир поэзии, по своей точности набоковское переложение и правда безупречно. Беда та, что это лексическая, но никак не эстетическая точность: стало быть, даже и с большими натяжками невозможно говорить о том, что Набоков позволил читателям своего «Онегина» хотя бы приблизиться к художественной истине Пушкина. Абсолютно верно передавая, что значит любая строка, Набоков сильно облегчил жизнь американским студентам, которые «проходят» Пушкина и «сдают» его на экзамене — чтобы потом забыть об этом нелепом «Онегине» раз и навсегда. Педагоги отзывались о труде Набокова в том духе, что его никто никогда не прочтет по доброй воле — просто из-за того, что прочесть его нельзя, можно только проработать, — но зато каждый, кто ведет курсы русской литературы, не сумеет обойтись без этого издания. Почему-то Набоков думал, что это большая похвала.
Те, кто позволил себе критику, хотя бы и в очень мягкой форме, или декларировал свою приверженность презренному «парафрастическому» (вольному или же в полном значении слова художественному) переводу, тут же получали от Набокова жесткую отповедь. Особенно не повезло известному поэту Роберту Лоуэллу. Он по подстрочникам не раз переводил самых разных поэтов, включая русских, и, не скрывая, что у него получаются скорее подражания или стихи «по мотивам», а не переводы, назвал книгу таких своих опытов «Имитации». О набоковском «Онегине» он отозвался как о явлении довольно экстравагантном, даже навеявшем ему мысль о пародии. И сразу последовал резкий ответный выпад, завершавшийся просьбой к Лоуэллу, чтобы он «перестал терзать беззащитных мертвых поэтов — Мандельштама, Рембо и других». Набоков как-то не подумал, что к тому времени, когда он взялся переписать «Евгения Онегина» по-английски, автор этого романа тоже был мертв и беззащитен.
Скверному переводчику Лоуэллу, который, объединив в себе Лоуэлла и другого прославленного поэта — Одена, стал Лоуденом, Набоков адресовал несколько обидных строк и годы спустя, в романе «Ада». Там есть еще один литературный монстр — славист Гершчижевский, получившийся из Чижевского и А. Гершенкрона, ученого, который написал самую объективную статью об «Онегине». В ней признавались бесспорные достоинства набоковского труда, где нет отсебятины и подмены пушкинских мыслей банальностями, которые легко рифмуются и хорошо вписываются в ямбическую строку. Были отмечены и потери, из которых самая невосполнимая — погибшее «пушкинское изящество, и ясность, и благозвучие».
Соглашаясь с набоковской критикой стихотворных переводов, часто требующих прибегать к приблизительной смысловой замене, чтобы сохранились размер и рифма, Гершенкрон писал, что и сам Набоков то и дело использует слова или грамматические формы, которые давно вышли из употребления, жертвует воздушностью и остроумием, особенно подкупающими при чтении оригинала, вводит невозможные синтаксические построения, — короче говоря, убеждает в том, что и так ясно: великая поэзия, по существу, просто не поддается переводу. А если в какой-то мере поддается, то не посредством буквального построчного воспроизведения на другом языке (косвенно это признал и сам Набоков, в нескольких местах комментария указав, что он не в состоянии подобрать английский аналог тому или другому обороту речи, встреченному у Пушкина, и что ему пришлось, допустим, использовать слово «парк» вместо пушкинского «дуброва», так как о «дуброве» ныне никто не знает).
Комментарий, который потребовал титанических многолетних усилий, этот критик по справедливости оценил как выдающееся культурное событие. Другие рецензенты шли еще дальше, утверждая, что составлять новый комментарий после Набокова никто не рискнет. Пророчество не оправдалось: через полтора десятка лет вышел образцовый комментарий к «Евгению Онегину», подготовленный Ю. М. Лотманом. Это преимущественно историко-литературный комментарий, хотя в нем уделено должное внимание исторической жизни и культуре в эпоху Пушкина. Выполнив свою основную функцию, комментарий Лотмана оказался также удачной попыткой интерпретации романа в богатстве его духовного содержания и в его значении для русской литературы после Пушкина.
Набоков такой цели не преследовал. Нападая на «идейную критику», он, собственно, вообще ставил под сомнение возможность толкований «Евгения Онегина», которые шли бы чуть дальше его собственных очень расплывчатых высказываний в том роде, что читателю Пушкина предстает «характер, заимствованный из книг, но блистательно преображенный фантазией великого поэта… помещенный им в блистательно воссозданное окружение и обыгранный в целом ряде творческих образцов — лирических воплощений, гениальных чудачеств, литературных пародий и т. д.».
Набокову до того претила почти вековая традиция, которая толковала роман как «социологический и исторический феномен», что он предпочел вообще игнорировать реальное содержание, каким для пушкинского времени обладали такие понятия, как хандра или тоска («Недуг, которому причину / Давно бы отыскать пора»), решив, что это не более чем тогдашние модные клише при описании характера, и занявшись их литературной предысторией — Шатобриан, Байрон, Бенжамен Констан. Рассуждения о «лишнем человеке» казались ему смехотворными. В конце концов, молодые люди, страдающие от скуки и куда-то устремляющиеся без ясной цели, — главным образом, «удобный способ побудить героя к постоянному передвижению», то есть внешне обосновать новый подход к композиции рассказа.
По этому поводу резонно замечали, что столь просто отделываясь от «лишних людей», комментатор убеждает не больше, чем тогда, когда превращает Татьяну — назло Достоевскому — из нравственного образца в светскую даму, которой присущи понятия своего времени, не отличавшегося особой щепетильностью в делах сердца. Набоков, разумеется, оставил эту критику без внимания, хотя как раз ее он мог парировать просто и убедительно: сказав, что его комментарий принадлежит не историку литературы, а писателю, обладающему очень широкими познаниями в области литературной истории.
Эрудиция Набокова и правда необыкновенно велика. Задумав свой труд, он перечел абсолютно всех авторов, которые хотя бы мельком упомянуты у Пушкина, причем читал их по возможности в тех изданиях, что были под рукой у поэта. В университетской библиотеке Базеля обнаружился тот самый сонник, который был хорошо известен Татьяне, и Набокову прислали микрофильм этой очень редкой книги. Была проштудирована необъятная пушкиниана, прежде всего русская, и, хотя Набоков не любил упоминать о сделанном до него, отсылки к Томашевскому, Лернеру, Щеголеву, Тынянову, Цявловскому, Винокуру часты, причем, как правило, даются без всякой полемичности.
Он, правда, не отказывает себе в удовольствии ущипнуть прежних комментаторов, обнаружив фактологическую неточность, — напрасно, потому что неточности, даже довольно грубые ошибки попадаются и у него самого. Он заставил поэта Веневитинова наложить на себя руки, хотя тот умер, простудившись после бала. Назвал Очаков молдавским городом, лежащим не на восток, а на запад от Одессы. Уложил свояченицу в постель поэта, тогда как никто из серьезных пушкинистов не сомневался (а Ахматова, чья работа тогда еще лежала у нее в столе, доказала), что сплетню об Александрине пустили в ход клеветники. Описал дуэль Пушкина с Рылеевым в Батове, которой не было, несмотря на убедительность приводимых обоснований ее неизбежности.
При том объеме сведений, который сообщает комментарий, такого рода промахи были неизбежны. Их с лихвой искупила свежесть многих сопоставлений и наблюдений, для которых нужен был именно глаз художника. Не так существенно, что набоковские представления о романтизме вряд ли выдержат серьезную проверку (и что он спокойно пользуется терминами вроде «романтической игры» или «романтического томления», тут же объявив романтизм чахлым детищем академиков, которые прячут за такими терминами свое непонимание уникальности истинного гения). Обо всем этом сразу забывает читатель, добравшийся хотя бы до примечания к XXX строфе главы первой, где начинается знаменитое отступление о «ножках» — ничего общего с «fusschen», как, возмущая Федора, полагал выведенный в «Даре» Чернышевский, — а сам Набоков слагает гимн изяществу и оригинальности этого определения, равного которому нет ни у Овидия, ни у Казановы, ни у Байрона, великих ценителей и певцов женской красоты. Или, с помощью Набокова, живо себе представивший, как Онегин говорит Ленскому о своем петербургском приятеле по фамилии Пушкин. А потом, в феврале 1825-го, приобретает напечатанную первую главу, где, улыбаясь, он прочел «о себе, Каверине, Чаадаеве, Катенине и Истоминой», о безалаберной юной жизни хорошо ему известного пушкинского круга, когда — в 1819-м, в 1820 году — круг еще не поредел.
Такие картины, вкупе с блестящими этюдами, посвященными Баратынскому, Жуковскому, Карамзину, семейству Осиповых-Вульфов и Анне Керн, стоили несопоставимо больше, чем старательные, но так и не ставшие убедительными попытки доказать, что английских авторов Пушкин мог читать только по-французски (и тем не менее в главе седьмой почти повторил ритмический рисунок поэмы Вордсворта, тогда еще не переведенной). Или порой ненужные поиски западных соответствий буквально любому отрывку пушкинского романа (вплоть до отсылок к чувствительному Руссо, когда дается комментарий знаменитых слов Татьяны: «Но я другому отдана…»). Или тяжеловатый юмор по части советской литературы, которая выбрала в свои образцовые героини пышущую здоровьем Ольгу, и та раскрывает саботаж, помешавший фабрике выйти в передовики. Или направо и налево раздаваемые презрительные характеристики писателей, чьи имена не звук пустой для каждого, кто смотрит на эволюцию литературы без предвзятости, без того досадного снобизма, который побуждает Набокова отзываться о некрасовских «Русских женщинах» как об «ужасающе посредственной поэме», поскольку ей присуща социальная направленность. И провоцирует его с утомительным постоянством твердить про глупости, которые «наплела русская идейная критика». Вина ее та, что она всюду отыскивает у Пушкина отзвуки не литературы, как делает он сам, но истории, хотя история всегда чужеродна поэзии (забавно, что при этом ему приходится очень подробно рассуждать именно об истории, о «метафизическом культе Наполеона» в то время, что воссоздано в «Онегине», да и о декабристских обществах).
Набокову выговаривали за частые отступления от своей темы. Пушкинский текст для него, случается, только повод, чтобы, по отрывкам из «Путешествия Онегина» представив возможную встречу героя с автором осенью 1823 года в Одессе, пофантазировать, какой у них мог поручиться разговор, или, уцепившись за красочную деталь, повспоминать о ледоходах на Неве, виденных им самим в далекие годы. Подобные вольности оттолкнут педантов, но читателя они привлекают даже больше, чем подробнейшие пояснения, которые касаются давно забытых французских литераторов, чьи имена во времена Пушкина были у всех на устах, или остроумная и хорошо обоснованная догадка Набокова относительно композиционных кругов, определяющих ритм развития основных мотивов и тем.
Семь лет, с 1950-го по 1957-й, «Онегин» оставался для Набокова главным литературным делом, хотя за те же годы были написаны и «Лолита», и «Пнин». Но именно комментарий служил живой нитью, тянущейся к тому миру, который вместил в себя все самое насущное для Набокова, олицетворяя ценности, признанные им неподдельными и незаменимыми: творческий гений и духовный аристократизм. Вероятно, оттого он и воспринимал критические отзывы о своем «Онегине» так болезненно, ввязываясь в полемику с рецензентами, которую запретил себе еще в бытность Сириным.
Полемика сохранила интерес только для тех, кто изучает литературную биографию Набокова, «Онегин» — во всяком случае, комментарий — значителен как творческое свершение, а еще больше — как живое свидетельство пожизненной набоковской приверженности миру русской культуры, создавшей Пушкина. Может быть, как последнее яркое свидетельство такого рода.
Успех «Лолиты» означал для Набокова свободу от докуки житейских тревог и забот. Можно было наконец осуществить давнюю мечту, которая повелевала полностью отдаться литературе и энтомологии: в равной мере тому и другому. С Корнеллом пора было расстаться — после десяти лет скорее любви, чем размолвки. Последнюю лекцию Набоков прочел 19 января 1959-го.
Пока «бедная девочка» вела полулегальное существование, ее создатель серьезно опасался за свое профессорское благоденствие. Меру ханжества, скрываемого за либеральными речами, которые обожает американский обыватель, он представлял себе достаточно хорошо и даже коллег по Корнеллу, внушавших ему доверие, долго предпочитал держать в неведении относительно основного сюжетного хода, придуманного очень давно, еще перед войной, когда был написан «Волшебник». Однако две зеленые книжки издания Жиродиа появились и в Итаке. Прослышав о сенсации, на них набросились с неуемной жадностью. Набокову докучали просьбами об автографе. Тем, кто блистал в его семинаре — Альфреду Аппелу, Дику Баксбауму, — он подписывал титульный лист, внизу рисуя бабочку. Считалось, что бабочка в качестве подписи — его отличительный знак, но на самом деле это было заимствование, хотя, возможно, неосознанное: за полвека до Набокова бабочку рисовал в конце своих писем английский художник Джеймс Уистлер, приятель Оскара Уайльда.
Скандала не последовало. Никто из попечителей не требовал отставки Набокова. В архивах отыскалось всего одно возмущенное родительское письмо. Его стоит привести: «Мы запретили своим детям записываться на все курсы, которые ведет этот Нобков (sic!). Ужас подумать, а вдруг юной студентке придется идти к нему на консультацию, когда он один в своем офисе, или они повстречаются вечером на кампусе, если никого нет рядом».
Ужасались напрасно. Семинары шли обычным порядком, а студентов (преимущественно молоденьких студенток) в аудитории только прибавилось. К тому же Набоков уже подыскивал себе заместителя — пока временного, на год. Выяснилось, что он покидает кафедру навсегда. Сменил его известный романист Герберт Голд, убежденный его приверженец, стремившийся стать и литературным последователем мэтра.
Слава обрушилась лавиной — контракты, интервью, толпы глазеющих. «Лолита» уверенно заняла первую строку в списке бестселлеров и не намеревалась ее уступать. Но тут случилось непредвиденное: в Италии был издан «Доктор Живаго», а осенью 1958-го Нобелевский комитет объявил о присуждении премии Борису Пастернаку. Травля, поднявшаяся в советской печати, вынужденный отказ поэта от оказанной ему чести, политический бедлам, слежка за переделкинской дачей — все это так подогрело интерес — не к книге, а к событию, — что наспех сделанный перевод романа, малопонятного массовой американской публике, шел нарасхват. «Лолита» стала в списке второй, потом четвертой и месяца через полтора вовсе из него исчезла.
Этого Набоков спокойно пережить не мог (похоже, рокового решения шведских академиков — тоже). Его отзывы о книге Пастернака пропитаны искусственно нагнетаемым отвращением. Чего бы он ни дал, чтобы публично «уничтожить эту ничтожную, мелодраматическую, фальшивую, неумелую книжонку, которой, по моим понятиям, место только в куче отбросов, что бы там ни говорили про пейзажи и про политику». Он не находил в романе ровном счетом ничего: одни лишь «избитые ситуации и мелкие герои», одни «банальности и провинциальность, столь типичная для советской литературы все последние сорок лет». Глеба Струве, чей авторитет в этой области заслуженно высок, он упрекал за хвалебный отклик, которого недостойна жалкая пастернаковская поделка, пропитанная не только антилиберальны-ми, но даже просоветскими настроениями. И долго еще, вплоть до «Ады», где фигурирует чувствительный романчик «Страсти доктора Мертваго», любое сочувственное упоминание о романе Пастернака вызывало у Набокова негодующий отклик.
Он, конечно, понимал, что публичное выступление с резким критическим разбором этой книги прискорбным образом сказалось бы на его репутации. О гонениях на Пастернака, которого власти заставили отречься от самого дорогого ему произведения и доживать свои последние полтора года с таким чувством, что он «пропал, как зверь в загоне», на Западе было известно. Перепечатали речь комсомольского вождя и будущего шефа госбезопасности, который отдал свинье предпочтение перед поэтом: свинья не гадит рядом со своей кормушкой. Опубликовали стенограмму митинга, где писатели требовали безотлагательной и смертельной расправы. Допустить, чтобы его имя появилось в этом контексте, Набоков не мог.
Но руки буквально чесались. В частных разговорах, быстро становившихся достоянием общественности, да и в интервью Набоков давал ясно понять, что он думает по поводу книги и всей связанной с нею истории. Кое в чем он перещеголял и тех проинструктированных патриотов, которые громили Пастернака на московском писательском собрании. Они обвиняли поэта в измене делу партии, Набоков — в том, что роман специально написан с целью способствовать этому делу. Кончилась валюта, нужная для подрывной работы партии за рубежом, вот и решили, наняв Пастернака, состряпать это варево и угостить им западный мир, а гонорары пустить на пропаганду. Простодушный Запад попался на приманку. Глупцы вроде Эдмунда Уилсона трубят, что только великий писатель и человек необычайного мужества мог создать подобную книгу, живя в тоталитарном обществе.
После смерти Пастернака Набоков счел, что моральные препоны исчезли, и стал открыто повторять свою версию, рожденную фантазией, которая распалилась от ненависти. Голд нашел в бывшем его кабинете экземпляр романа, исчерканный такими комментариями: «вздор», «пошлость», «провинция». При этом убеждении Набоков останется до конца своих дней.
Не он один оценивал роман отрицательно (хотя до таких резкостей не доходил, кажется, никто из людей с дарованием и литературным опытом). Лидия Чуковская приводит несколько отзывов Ахматовой, которые не порадовали бы дружившего с нею автора: попадаются страницы, вызывающие желание перечеркнуть их крест-накрест, герой какой-то картонный, местами скороговорка, непростительная Пастернаку. Правда, все это рядом с пейзажами, каких никогда не бывало в русской литературе, даже у Толстого, рядом с замечательно написанным девятьсот пятым годом. Оценки Ахматовой говорят прежде всего о ее вкусе. И мнение Набокова тоже во многом определено тем, что ему совсем чужда традиция, которой принадлежит книга Пастернака — историософская, проникнутая мыслями об обновленном христианстве.
Но все-таки у двух писателей, которые восприняли «Доктора Живаго» как неудачу, совершенно разный счет к роману, и дело не в том, что Ахматова, помимо провалов, видит свершения, тогда как Набоков пытается дискредитировать его безоговорочно. Тут важен нравственный, а не только собственно эстетический счет. Сколь бы серьезные доводы ни находила Ахматова, считая, что у Пастернака получился «неудавшийся шедевр», она, безусловно, никогда не допустила бы, чтобы ее отзыв помог увериться в некоторой своей правоте тем, кто запретил печатание «Доктора Живаго» в России, обрушив на автора преследования. Набоков — вряд ли он мог оставаться в полном неведении об этом — объективно подал голос в поддержку тех, кто травил Пастернака, скрывая истинные свои побуждения за разговорами о творческом срыве. Если, как он уверял, все дело было исключительно в том, что роман слаб с художественной стороны, а прочее не имеет никакого значения, то в тогдашних обстоятельствах подобная эстетическая разборчивость слишком уж явно отдавала сальеризмом, как понимал это слово Ходасевич: не зависть, а нетерпимость к чужому опыту, и настолько болезненная, что она побуждает к нравственно неприемлемым поступкам. Когда через десять лет Набоков прочел Солженицына, впечатление было бледным и в общем отрицательным, однако нигде он и полсловом не обмолвился, как оценивает эту прозу. Наоборот, словно бы вопреки собственным правилам, объявил, что полон сочувствия героическому автору, не касаясь литературных качеств его произведений. Но ведь эти произведения и не вытесняли набоковские из списков бестселлеров. А в 1969 году Нобелевскую премию, которой обошли Набокова, ожидавшего ее после «Ады» (крупные нью-йоркские издания даже оставили место на первых полосах для телеграмм о триумфе соотечественника в Стокгольме), получил не Солженицын, удостоенный ее год спустя, но другой писатель — Беккет. Не было причин считаться с Солженицыным литературной славой, оттого не было и психологических препятствий, чтобы достойно оценить его мужество. Много раз повторявшиеся Набоковым слова о том, что в литературе для него важен только художественный счет, — слова, и не больше.
С сальеризма и надо начинать, вникая в мотивацию Набокова, когда он обрушивается на роман Пастернака, и пытаясь понять, откуда эта одержимость. Суждения Ахматовой могли быть спорными, пристрастными, однако невозможно представить ее бросающей камень в унижаемого и растоптанного. С Набоковым подобное уже бывало, ведь перо его не дрогнуло, когда в «Пнине» ему вздумалось сочинить пародию на ошельмованную и униженную Ахматову. История с «Доктором Живаго» оказалась не такой уж неожиданностью для знавших, что, в отличие от героини хорошо ему известного романа, Набокову случалось «быть чувства мелкого рабом». Напрасно поверили бы его искренности прочитавшие письмо 1964 года корреспондентке журнала «Лайф», которая собиралась интервьюировать классика: «Не заставляйте меня критически высказываться о современных писателях. Довольно — я и так уж слишком донимал бедного Живаго». В действительности еще будет «Ада» с выпадом против «доктора Мертваго». Будут озлобленные отзывы о переводах Пастернака из Шекспира — как он посмел переводить, если Набоков раз навсегда установил, что допускается только подстрочник. Будет письмо 1968 года слависту Л. Лейтону, повторяющее версию, что роман Пастернака — завуалированная большевистская проповедь.
Так вымещал Набоков ничтожные свои обиды, когда уже не было на земле поэта, в тот трагический для него 1958 год напомнившего себе и другим о простой, вечной истине:
Не потрясенья и перевороты
Для новой жизни очищают путь,
А откровенья, бури и щедроты
Души воспламененной чьей-нибудь.
«… присутствие мельчайших черт невольно читателю внушено порядочностью и надежностью таланта, ручающегося за соблюдение автором всех пунктов художественного договора».
Французский лайнер «Либерте» отправился из Нью-Йорка в Гавр 29 сентября 1959-го. Прогуливающиеся по палубе Набоковы притягивали взгляды: поклонники, а особенно поклонницы тут же узнали, что этим рейсом едет знаменитость. Капитан, пригласив Набокова на коктейль, деликатно выведывал, какие личные причины могли пробудить интерес писателя к теме, разработанной в его «Лолите». Саму «Лолиту» он, по-видимому, не читал, но достаточно был про нее наслышан.
Набоковы возвращались в Европу, безвыездно проведя за океаном девятнадцать с лишним лет.
Окончательное возвращение тогда не планировалось. Думали, что проведут в знакомых местах несколько месяцев, заплатят легкую дань ностальгии по молодости, побудут с сыном, который готовился к карьере оперного певца в Италии. Повидаются с Кириллом Набоковым и с Еленой, которая стала Сикорской — по мужу. Посетят издателей и агентов.
Набоков и впоследствии не упускал повода с гордостью возвестить, что он американец. Работа над сценарием «Лолиты» потребовала несколько месяцев спустя пересечь океан в обратном направлении, а в 1962-м Набоков съездил в Нью-Йорк на премьеру фильма. Он приехал и через два года, на презентацию «Евгения Онегина», посетил в тот раз Гарвард и Итаку. Но больше он в Америке не бывал.
Жизнь в Европе не явилась следствием сознательного выбора, скорее тут было стечение обстоятельств. Во всяком случае, Набоков, любивший поговорить о том, каким прозорливцем был он, решив принять эмигрантскую судьбу как благо, никогда не утверждал, что Америка его чем-то тяготила, а Европа искушала и влекла. Та Европа, которая предстала после перерыва в два десятилетия, показалась ему малознакомым ландшафтом. Париж опустел: русская колония стала намного меньше, писателей не осталось почти никого, только Борис Зайцев, к которому Набоков никогда не испытывал ни интереса, ни симпатии, доживал свой долгий век на авеню де Шале. Кембридж, куда Набокова позвали с лекцией о цензуре в России, выглядел в его глазах обветшалым, а по сравнению с громадными американскими университетами — еще и провинциальным: удивительно, как он этого совсем не замечал прежде.
Тема лекции была выбрана не без причины. Предстояли парламентские слушания о границах морально допустимого в книгах и фильмах. Все понимали, что решается английская судьба девочки, своей невыразимой прелестью заставившей о себе «мечтать мир целый» и давшей ему почувствовать волшебство искусства. Стихи об этой девочке и о посвященной ей книге — «Какое сделал я дурное дело» — написаны Набоковым под самый конец 1959 года, уже в Италии. Они кончаются бесконечно цитируемыми строчками про «тень русской ветки», которую, вопреки веку и корректору, читающему текст по-английски, увидят в конце набоковского абзаца. Надо было бы добавить, что желающие ее распознать должны обращаться к текстам, написанным в Америке, но не в последний, европейский период набоковского творчества. К текстам, появившимся позже «Пнина».
В Европе вкус славы стал для Набокова еще отчетливее, чем дома. Кембридж приветствовал своего питомца торжеством с речами за банкетным столом. Издательство «Гали-мар», выпустившее «Лолиту», закатило прием, пригласив весь цвет парижского артистического мира и журналистов. Незадолго до этого в крупном журнале появилась статья о романе и его авторе, написанная Зинаидой Шаховской, той самой, с которой до войны Набоков был на «ты» и которую считал одним из своих ближайших друзей. Книга ей в общем не нравилась, хотя статья была корректной по тону, отдающей должное таланту и мастерству прозаика, которого Шаховская по-прежнему ценила как крупнейшую фигуру в современной литературе.
Свою последнюю встречу с Набоковым — они не виделись с 39-го года — Шаховская описывает в мемуарной книжке, на которую уже приходилось ссылаться. Описывает с горечью, потому что в тот октябрьский день она «потеряла друга». Перед нею был неузнаваемо изменившийся Набоков, олимпиец, который «ожидал неограниченного себе поклонения». О том, что статью Шаховской он прочел и был задет, ее предупредили, но и представить было нельзя, до какой степени статья его уязвила. Позволявший себе откровенные издевки над писателями, чей престиж не менее высок, а реноме по праву безупречно, этот новый Набоков не выносил критики, когда дело касалось его самого. Сдержанность Шаховской, которая не поверила, что Лолита — «персонаж из тела и крови», он счел оскорбительной, отомстив ей тем, что сделал вид, будто они никогда прежде не встречались. Убийственно холодное «Бонжур, мадам», сопровождаемое вялым рукопожатием, не на шутку обидело Шаховскую, и это почти наверняка сказалось на том портрете Набокова в старости, который ею набросан. Однако портрету не отказать в выразительности: «В. обрюзг, в горечи складки у рта было выражение не так надменности, как брезгливости, было и некое омертвление живого, подвижного в моей памяти лица».
Мелькнули еще две-три тени из предвоенного парижского прошлого, было две-три встречи в кафе, в том числе с кузеном Николаем, который потом напишет книгу воспоминаний «Багаж», ценную для изучающих набоковский семейный круг. Говорить, видимо, было особенно не о чем, к Парижу ничто не привязывало, и, закончив дела, Набоковы двинулись на юг, в Италию. Английская «Лолита» появилась беспрепятственно — решение парламента оказалось более чем либеральным, — ее успех был гарантирован и в Лондоне, как повсюду в мире, даже в арабских странах, несмотря на все магометанские строгости. Последние месяцы того триумфального года прошли в разъездах: Рим, Таормина, Генуя, Милан. Зиму 59/60-го провели на Ривьере, в Ментоне, следующую — в Ницце, сняв квартиру на роскошной Променад дез Англе.
Набоков чувствовал, что ему нужна творческая пауза. Первые заметки к будущей новой книге были сделаны еще в итальянскую поездку. Был извлечен на свет номер русского «Нового журнала» с «Ultima Thule», отрывком, напечатанным еще в 1942 году, — он, как и связанный с ним фрагмент «Solus Rex», опять, после «Bend Sinister», понадобился для романа, замысел которого прояснялся у Набокова все отчетливее. Роман, опубликованный весной 1962-го, назывался «Бледный огонь».
Но пока много времени отнимал сценарий по «Лолите». В Голливуд Набоков ехал, уже обдумав общую идею, которой, как ему казалось, будет подчинена киноверсия, и набросав несколько новых эпизодов, чтобы как-то компенсировать неизбежные смысловые купюры. Зима в ментонском отеле «Астория», где преследовало ощущение неуюта, прошла в этих трудах. Они были напрасными, как могли бы предсказать люди, лучше знающие мир кинематографа.
Судя по письмам, Европа наводила унынье: «Такое чувство, что тут я никому не нужен, и оттого тоска, — жалуется Набоков Бишопу. — … Время не пощадило места, которые я помню. А впечатления от новых мест не настолько сильные, чтобы их хранить».
Следующая зима в Ницце прошла в работе над романом, для которого надо было сочинить большое стихотворение со сложной композицией, целую поэму. Как только она была закончена, Набоков написал своему издателю в Нью-Йорк, что роман продуман им до последней запятой, нужно несколько месяцев, чтобы перенести его на бумагу. Не скромничая, добавил: «Фантастически прекрасная вещь».
Весной 1961-го в присутствии родителей состоялся оперный дебют Дмитрия, вместе с ним дебютировал тенор Лучано Паваротти, будущая звезда. А летом, отправившись ловить бабочек в Швейцарию, добрались через Симплонский перевал до небольшого города на берегу Женевского озера и сняли номер в местной гостинице «Бельмон». Это был Монтрё. Набоков проживет здесь свои последние пятнадцать лет.
Городок чаровал: тихий, солнечный, живописный. Оказалось, тут давно обосновался английский киноактер и писатель русского происхождения Питер Устинов. Он порекомендовал Набоковым переменить «Бельмон» на гостиницу «Палас»: там апартаменты для желающих жить постоянно, целое крыло, с провинциальным шиком называвшееся «Ле Синь» (Лебедь). Сдвоенная квартира в этом крыле стоила не таких уж сумасшедших денег и предоставляла большие преимущества: было где расставить книги и ящики с коллекциями, устроить кабинет окнами на Гранд рю, зимой почти безлюдную, а летом запруженную туристами. Но лето Набоковы проводили в разъездах — Австрия, Франция, Италия.
Высокие горы обступали озеро, которое когда-то было свидетелем страданий Шильонского узника из байроновой поэмы и драматической любви Юлии и учителя Сен-Пре. Знал бы Набоков, иронически пересказывая «Новую Элоизу» в комментарии к главе восьмой, что ему предстоит провести остаток дней при незримом присутствии Руссо! Монтрё был укрыт от ветров и снегопадов: даже поздней осенью в теннис играли на открытом корте. Гостиницу окружал большой парк с экзотическими деревьями и уединенными скамьями. Есть фотография Набокова, сидящего на одной из них и что-то пишущего на карточке, которая будет потом положена в ящик вроде тех, какие используются библиотеками для каталога, только поменьше. Другая фотография писателя по случаю его столетия была повешена на этаже, где много лет жили Набоковы. Там же открыта мемориальная доска.
Отель, построенный в середине XIX века, а в начале XX усовершенствованный, должно быть, напоминал Набокову красивые петербургские интерьеры времен его детства. Те же высокие потолки и просторные салоны, благородная позолота, шандалы на десять электрических свечей. Обстановка была довольно эклектичной — все скопившееся за многие десятки лет и еще пригодное, — но в этом беспорядке с привкусом старомодности чувствовался свой шарм. Да Набоковы вовсе и не стремились к роскоши. Им нужны были покой, чтобы работать, не отвлекаясь, и ощущение стабильности. «Палас» давал и то и другое.
Конечно, они могли позволить себе приобретение поместья, как со временем сделали Устиновы, однако это не фигурировало и в самых далеких планах. Набоков сказал одному из интервьюеров, что и в Америке он никогда не думал о покупке дома, потому что для него дом в целом мире был только один — он остался далеко, в Ингрии, стране детства. Точно воссоздать батовскую усадьбу, может быть, и не представило бы таких уж сложностей, однако невозможно воссоздать эмоциональную память. Для нее даже самая тщательная копия всегда останется подделкой. Будет «безнадежная приблизительность», только и всего. А жизнь в отеле — это свобода от очень многого, в том числе от забот о «креслах, лампах, коврах, вещах». Ко всему этому Набоков оставался безразличен с юных лет.
Довольно быстро Монтрё превратился в место литературного паломничества, а от журналистов, добивавшихся интервью, не было отбоя. Что до интервьюеров, Набоковым был установлен жесткий порядок: вопросы следовало прислать загодя, и если они получались интересными, готовились письменные ответы, а сам разговор при встрече только уточнял мелкие детали. Никаких импровизаций, никакой спонтанности. Набокову не нравилось, как он говорит, а небеспочвенные опасения, что, пустив в ход приемы газетчика, его выставят человеком недалеким и пошловатым, заставили проверять каждую интонацию перед тем, как он ставил подпись на последней странице текста.
Круг людей из литературного мира, с которыми он готов был встречаться, оставался довольно узким. Журналы заваливали Набокова современной беллетристикой, выпрашивая хоть два-три слова для рекламного объявления. Он добросовестно просматривал роман за романом, и чаще всего они ему не нравились. Тогда его тон становился раздраженным, нетерпимым. Вера садилась за машинку и отстукивала что-нибудь такое: господин Набоков поставил себе правилом воздерживаться от оценок творчества коллег, но в данном случае готов сделать исключение и сообщает, Что присланную ему книгу воспринял как совершеннейшую чепуху — подобное мог бы сочинить и робот. Он просит не сообщать его мнение ни автору, ни издательству. Речь шла о Джозефе Геллере, одном из самых известных послевоенных американских прозаиков, и о его лучшем романе «Поправка 22».
Гостей поражало, до чего скромную жизнь ведут он и Вера, и приводила в восхищение их трогательная забота друг о друге. День был организован очень строго. С утра несколько часов, когда слово за словом заполняются карточки, на которых, стирая карандашные строки и заменяя новыми, Набоков писал свой новый роман (причем предварительно он продумал книгу до того тщательно, что мог приступить к ней или ее продолжить с любого места — с середины, с последней страницы, с первого эпизода). Потом прогулка вдоль озера, чтение газет — он хотел оставаться в курсе событий (и, часто толкуя о своей полной аполитичности, тем не менее телеграфировал президенту Джонсону, что поддерживает американскую военную операцию во Вьетнаме, осужденную всей интеллигенцией. А от одного французского журнала, решившего посвятить ему целый номер, потребовал, чтобы было указано, как ему отвратителен Кастро, вызывающий симпатии этой редакции — как оказалось, мнимые).
Вечером опять была работа: обычно сверка переводов его русских книг на английский, чаще всего сделанных Дмитрием, либо английских на французский, либо (с помощью Веры, свободно владевшей немецким) корректур изданий, выходивших в Германии, у Ровольта, который стал в эти годы одним из его близких друзей. У изголовья всегда лежало несколько книг на разных языках: поэзия, энтомология — был неосуществленный замысел роскошного альбома «Бабочки Европы» с набоковским текстом примерно в двести страниц, — мемуары. Реже — какой-нибудь новый роман.
Свой собственный роман, первый после отъезда в Европу, он закончил в начале декабря 1961-го. Строго говоря, «Бледный огонь» не обозначил перелома в творчестве, — во многих отношениях эта книга схожа с «Bend Sinister», напечатанным четырнадцатью годами раньше. Но тех, кто ожидал от Набокова чего-то схожего, по духу и по стилистике, с «Лолитой», новая книга явно обманула.
Ее художественная идея родилась, когда Набоков был занят «Онегиным», к каждой строфе составляя примечания — иной раз в десяток страниц. «Бледный огонь» построен точно так же: сначала поэма, сочиненная старым поэтом по фамилии Шейд, то есть «тень», затем огромный — вчетверо больше по объему, двести двадцать восемь страниц печатного текста — Комментарий к ней, который составил некто Кинбот, он же (переставьте слоги) Боткин, живущий по соседству с поэтом в небольшом университетском городе Нью-Уае, сильно напоминающем Корнелл. Есть еще обширное Предисловие этого Кинбота и им же сделанный Указатель, куда почему-то не включены имена некоторых действующих лиц романа, и напротив, включены те, кто там не упомянут. О том, что читателя просто разыгрывают, мороча ему голову напускной ученостью, догадаться можно, не идя дальше этого Предисловия.
Сложнее понять, для чего это делается и кем — автором или комментатором. А уж разобраться в чрезвычайно запутанных отношениях комментатора с поэтом или установить, кто он на самом деле такой, этот Чарлз Кинбот, дело почти безнадежное. Во всяком случае, толкователи Набокова по сей день, через сорок лет после выхода романа, не сошлись во мнении, существует ли поэт Джон Шейд, или его выдумал комментатор, оснастив примечаниями собственный текст в рифмованных двустишиях (а может, наоборот — существует только Шейд, придумавший маску Кинбота, чтобы любовно, слово за словом объяснять собственное творение, попутно ведя рассказ о разного рода происшествиях в Нью-Уае и не только). Чаще, однако, предполагают, что не Кинбот выдумка Шейда, а как раз наоборот. Пусть так. Но тогда правда или нет, что комментатор — Кинбот ли, Боткин, — как он постоянно намекает, в прошлом был королем далекой северной страны Земблы, откуда ему пришлось бежать после революции, начавшейся беспорядками на каких-то Стеклянных заводах? И что нынешний его статус скромного преподавателя вовсе не соответствует королевскому достоинству, которого он не утратил.
Первый эскиз будущего романа — он изложен в 57-м году — в качестве основного сюжетного хода намечал именно бунт, или дворцовые интриги, в королевстве Ultima Thule и бегство правителя после того, как вмешивается находящееся по соседству государство Нова Зембла. Попав в Америку, этот Solus Rex, одинокий король, которому явно грозит мат на шахматной доске, поселяется на реке Гудзон, отчего-то текущей вместо Атлантического океана в штат Колорадо, и в обществе возлюбленной вкушает сельскую идиллию, пока, после многих злоключений, сюда не явится агент, посланный новыми властями с целью убить низложенного венценосца, — а в конце читателя ожидал какой-то ошеломительный сюрприз.
Многое из этого плана уцелело и в книге, выпущенной пять лет спустя. Там Кинбот (или все-таки скорее Боткин — по крайней мере, в этом своем качестве) объявляет, что он и есть низложенный король Земблы Карл-Ксаверий, или же Карл Любимый, который правил двадцать два года, с 36-го по 58-й. Потом бунтовщики его вышвырнули, заставили скрываться, терпя унижения и опасности, выслеживали в Европе, а вот теперь намерены прикончить даже в этой глуши, в Нью-Уае. Поскольку же Зембла, хотя это имя и позаимствовано из одной старой английской поэмы, явно созвучна — во всяком случае, для русского слуха — с Новой Землей, то и отрывочные сведения об истории этой державы возвращают к мыслям о русской истории (о советской и подавно). Оттого перестановка в фамилии Кинбот просто напрашивается: при таком развитии сюжета ключевой фигурой должен стать кто-то из русских. Фамилия Боткин, которую носит в романе озлобившийся старый извращенец, сразу создает русские коннотации: образованным людям вспомнится литератор Боткин, тургеневский современник (или же его батюшка, знаменитый московский чаеторговец). И как же не предположить, что все относящееся к Зембле, к случившейся там революции и прибывшему оттуда убийце выдумал этот Всеслав Боткин, не примирившийся со своей судьбою эмигрант, который теперь преподает на русском отделении Вордсмит-колледжа. В своем безумии он отождествил бывшую родину с мифической Земблой, а себя воображает королем, чудесным образом спасшимся. Пусть все это только фантазия, но она дает какую-то психологическую компенсацию за перенесенные страдания.
Этот Боткин как истинный главный герой, изобретающий Шейда и прячущийся за Кинботом, был бы и правда совершенно на месте, если бы Набоков не предусмотрел еще одну версию. Как становится более или менее ясным под самый конец, она-то и была наиболее правдоподобной. Согласно ей, на кампусе действительно обитал некто, укрывшийся за фамилией Кинбот, однако его роль в описываемых событиях была не так уж велика: он лишь протоколист, записавший признания истинного виновника разыгравшейся трагедии с пальбой и трупом. А виновник — попросту сумасшедший; он улизнул из местной лечебницы, чтобы свести счеты с судьей, который поломал ему жизнь. Судьи, кажется, и правда тогда не было в Нью-Уае, пуля угодила в другого, не исключено, что это на самом деле был поэт и преподаватель колледжа Джон Шейд. Но одинокого короля и дальней Фулы, она же Зембла, не существовало иначе, как в бредовых фантазиях маньяка.
Впрочем, и это лишь вариант, пусть самый правдоподобный. Меж тем выяснить, кто же все-таки скрывается под маской Чарлза Кинбота, довольно существенно. Иначе остается расплывчатой основная линия развития сюжета. Событие, к которому стянуты все нити, — выстрел не то безумца, не то подосланного убийцы, гибель на месте того, кто, по заверению составителя Комментария, сочинил поэму «Бледный огонь» и носил имя Джон Шейд. Если автором поэмы на поверку был сам Кинбот, не мог же он, насмерть раненный, описать всю ту сцену перед домом, занимаемым Шейдом, которого он выдумал, и затем продолжить комментирование, дойдя до последней, 999-й строки. Но, с другой стороны, предположившие, что Шейд существовал не просто как персонаж поэмы, сочиненной Кинботом, но сам по себе и что поэма написана все-таки им, а не Кинботом, наталкиваются на препятствие, которое невозможно преодолеть: каким образом у комментатора уже имеется толкование того места поэмы, что еще не вышло из-под пера ее (надо все-таки заключить, что мнимого) автора? Сам же Кинбот в Комментарии сообщает, что строка 181-я шейдовской поэмы (и далее, до 230-й) писалась 5 июля 1959 года, однако его примечания к ним, следуя хронологии романа, составлены раньше, чем появился текст, который они комментируют. И выходит, Кинбот прекрасно знал, что и как ему надлежит объяснять, поскольку поэма, над примечаниями к которой он трудится, — плод его, а не шейдовского вдохновения.
Но в таком случае для чего маскарад с Джоном Шейдом? И к чему, еще больше усиливая путаницу, намекать, что Кинбот, или, если угодно, Боткин — очень вероятно, тоже выдумка, а история с поэмой и примечаниями затеяна только ради камуфляжа, к которому прибег на удивление изобретательный безумец, чтобы никому в голову не могли прийти истинные мотивы его действий? Согласно Кинботу-Боткину, целью преступника, который погожим летним днем произвел несколько выстрелов, потрясших сонный Нью-Уай, был именно он, комментатор, который вовсе не филолог, а бывший король Земблы. Получив задание карательных органов, оттуда, из этой тиранической державы, прибыл с целью ликвидации бывшего монарха палач-профессионал. Шейд, по этой версии, просто пал жертвой случайного промаха, а еще точнее — скверной профессиональной выучки убийцы, который и прежде делал азбучные ошибки, а в конце концов отправил на небеса вовсе не того, кто был заказан. Однако, если версию Кинбота подвергнуть сомнению, заподозрив, что он всего лишь морочит простаков, выяснится заблуждение как раз тех, кто находил, будто убийца, фигурирующий под именами Градус, Жак Дегре, Джек Грей и описанный с явным отвращением, — отталкивающий тип с угрями по всему лицу, — к тому же был неумехой в своем гнусном ремесле. Ничего подобного, ремесло он знал. И укокошил Шейда вовсе не по неразумию, ибо в него и метил, веря, что никакой это не Шейд, а бывший судья, ныне преподаватель юридического факультета Голдсворт. Судья, если довериться Кинботу, отправился в положенный ему годовой отпуск и сдал комментатору свой дом. Хотя — как знать? Возможно, никуда он не отправлялся, никого в свой дом не пускал — и зря: не свалился бы тогда у собственного порога с пулей в сердце.
Пробежав «Бледный огонь», видный английский романист Ивлин Во заметил, что это «изобретательный литературный трюк», ничего больше. Его правота может показаться бесспорной, но на самом деле это слишком упрощенный взгляд. Набоков строит повествование как своего рода детектив, искусно переплетая две линии рассказа: как раз в тот день, когда поэма дописана и осталось лишь повторить в самом конце строчку, которой открывается произведение Шейда (или все-таки Кинбота? а как же Боткин?), в Нью-Уай прибывает убийца, едва оправившийся от жуткого расстройства кишечника, которое с ним приключилось в Нью-Йорке из-за жадности к чипсам, и палит в Кинбота, наповал сражая Шейда (или все-таки судью, до этой кульминации ни разу не появившегося на сцене?). Трюков, изобретательности тут и правда вдосталь, однако сами по себе они не представляют для Набокова большого интереса. Если автор постоянно запутывает читателя, так и оставляя его не вполне уверенным, что найден верный ключ, без которого немыслима разгадка описанной истории, то это делается не ради остроумного — даже с оттенком щегольства — плетения интриги, которая становится лишь все более сложной от эпизода к эпизоду. И не с целью продемонстрировать блестящее владение правилами жанра.
Сделано это с философским намерением, а оно знакомо давним читателям Набокова. В комментариях к «Онегину» по разным поводам мелькало: «реальность искусства и нереальность истории». В «Бледном огне» это центральная мысль.
Те, кто ломает голову над истинным или кажущимся торжеством Шейда или Кинбота и пытается установить, кто такой в действительности Джек Грей, он же Градус, напрасно тратят интеллектуальную энергию: окончательного ответа не может быть по самому существу набоковского замысла. «Бледный огонь» был написан для того, чтобы еще раз возвестить веру его автора в истинность и волшебство художественного постижения реальности, которое заведомо исключает любого рода единообразное, логически безупречное ее толкование. Как раз в связи с публикацией книги Набоков в интервью для Би-би-си, которое он дал через три месяца после выхода романа, высказался на этот счет с решительностью и определенностью: подобраться к реальности настолько близко, что она откроется в своей истине, невозможно уже по той причине, что «реальность — это бесконечная последовательность ступеней, уровней восприятия, двойных донышек, и поэтому она неиссякаема и недостижима. Вы можете узнавать все больше об отдельной вещи, но вы никогда не сможете узнать о ней всего».
В поэме, которую, наверное, следует, при всей зыбкости этого предположения, считать написанной не кем иным, как Шейдом (ибо Кинбот-Боткин слишком поглощен земным и суетным, чтобы подниматься до подобных мыслей), тот же взгляд на реальность — просвечивающую, но не поддающуюся рациональным толкованиям, — выражен вполне отчетливо. Жизнь таит в себе некую паутину смысла, однако лишь простодушные могут питать надежду, что из этой паутины, или текстуры, когда-то возникнет ясное логическое построение. В действительности же человек до самого конца занят тем, что ищет ключ к «Соотнесенным странностям игры. / Узор художества, которым до поры / Мы тешимся» — это вот и есть все наше знание о мире. И уже само собой следует, что приблизиться хотя бы к этому, всегда не вполне надежному знанию можно только посредством искусства — как сказано у Шейда: «Жизнь человека — комментарий к темной / Поэме без конца. Использовать. Запомни».
Если усвоить такой взгляд, каждое событие начнет приобретать бесконечно новые значения и смыслы в зависимости от того, в какой перспективе оно интерпретируется. Факт или то, что им считается, получит очень разные трактовки в зависимости от предложенной художником системы зеркал, через которые он пропущен. Вот о чем, собственно, и написана первая книга, созданная Набоковым после Америки (хотя роман дает поводы увидеть в нем саркастическое описание американской университетской среды, сатиру на деспотию и многое другое). Вспоминается давняя статья Ходасевича о Сирине, для которой произведения Набокова (в особенности — созданные под конец творческого пути) предоставили бы новые неоспоримые подтверждения: главная сиринская тема — «жизнь художника и жизнь приема в сознании художника».
Если «Бледный огонь» при всей насыщенности острыми поворотами фабулы, которые подобают настоящему детективу, и обилии достаточно ясных политических отголосков все-таки произведение, где главенствует мотив магичности искусства, то центральное положение занимает в нем, разумеется, Шейд. Не суть важно, является ли он самостоятельным лицом, или же это только одна из масок Кинбота, как не представляет такого уж большого значения, он или судья был в последней сцене убит маньяком или агентом. Намного существеннее другое: он поэт. Это им (или Кинботом в своей второй, лучшей ипостаси) создан — как акт преодоления травмирующей реальности — стихотворный текст, который дал заглавие всему роману. И это он причастен тайнам творчества — как стихотворец, как знаток и ценитель литературы, как биограф одного из корифеев английской поэзии Александра Поупа, о котором он написал книгу, выразительно ее озаглавив: «Благословенный».
Кстати, Зембла — тоже из Поупа, из его «Опыта о человеке» (1733–1734), где упомянут мифический северный край, что-то вроде Гренландии, — причем упомянут в связи с рассуждением о пороке, который (так уж устроены люди) всегда где-то вдалеке, а не в них самих. Шейд, кажется, единственный из всех персонажей романа, для кого ужасная Зембла не просто территория Икс, которая находится бесконечно далеко от тихого, скучноватого Нью-Уая, а, скорее, некая провиденциальная возможность: она способна реализоваться и без политических встрясок вроде той, что была пережита беженцем из России, ныне преподавателем Кинботом.
В жизни Шейда была настоящая драма — самоубийство дочери. Мысль о поэме зародилась после этого трагического события, которое найдет в ней и непосредственный отклик. Текст в 999 рифмованных строк для Шейда становится формой душевной терапии (не такой уж действенной, хотя бы оттого, что вслед за дочерью насильственной смертью умрет он сам) и попыткой приближения к смыслу «темной поэмы без конца», которой, в его представлении, оказывается реальность. Эта поэма действительно «бледный огонь», потому что отзвук никогда не бывает соразмерен обжигающему огню самой жизни. Но не существует иных форм постижения жизни, помимо искусства, пусть оно всего лишь «тень», если вспомнить буквальное значение слова, служащего именем сочинителя поэмы. Пусть оно только «бледный огонь».
Сама эта метафора позаимствована у Шекспира, из «Тимона Афинского», одной из самых загадочных его пьес: видимо, она и привлекла Набокова тем, что провоцирует почти несовместимые интерпретации. Воровка-луна похищает свой свет у солнца, хотя это блеклый отблеск, не больше. Впрочем, и солнце крадет свою могучую энергию у океана. Как чистая субстанция огонь существует лишь абстрактно. Набоков продолжил бы: значит, вся действительность — «ступени» и «двойные донышки». Это аксиома и для Шейда. Его поэму открывает трагический образ птицы, которая погибла, обманувшись отражением неба в стекле (дочь, которую звали Гэзл, утопилась в пруду, тоже метнувшись навстречу своему отражению, или тени, или отблеску, бледному, как тот шекспировский лунный свет).
Даже если Зембла только ужасающий фантом, который родился в сознании Боткина, изводимого манией преследования, все равно жестокость, смерть, насилие, пропитавшие зембланскую повседневность, для Шейда абсолютно и травмирующе реальны. Его поэма, стилистически далекая от «поэзии отчаяния» с ее изломами и акцентированными мотивами непереносимой боли, кажется намеренно старомодной по характеру поэтического языка: строго выдержанный размер, точные рифмы, органика ритма, что-то родственное романтикам с их лиризмом и тягой к философским темам. Или такому современному архаисту, как Роберт Фрост, американский поэт, по собственным его словам, избравший «старый способ быть новым»: за счет мысли, а не посредством ломки традиционных форм.
Как поэт Шейд тоже традиционен, а его музыка вызывающе не нова, но никто его не обвинит в том, что он только предлагает вариации заезженных тем и поэтических приемов. Поэма «Бледный огонь» проникнута мыслями о хрупкости жизни, которая вечно под угрозой, исходит ли эта угроза от посланцев Земблы, реальной и метафорической, или создается нами самими, из-за собственных наших комплексов, фобий и страхов. Такие темы вечны, как сама поэзия, а для Шейда они к тому же обладают сокровенным — жестоко актуальным, травмирующим — смыслом.
Местами это чувствуется в поэме, но ведь поэма — лишь малая часть текста-кентавра, имеющего заглавие «Бледный огонь». А Комментарий, который вчетверо больше поэмы, представляет собой в лучшем случае тот «узор художества», который нанесен на повествовательную ткань рукой настоящего виртуоза. Но еще чаще он превращается просто в игру со смыслами, точно подобное занятие не предполагало иных целей, помимо разуверения тех простодушных, кто не теряет надежд отыскать некую бесспорную логику и правду в хаосе событий и с уверенностью в собственных силах карабкается по «уровням восприятия». Это занятие увенчивает предсказуемый результат: не то что логики, но даже элементарной последовательности невозможно обнаружить, распутывая цепь событий. Бледное сияние вечности совершенно неразличимо на куполах цветного стекла, которым уподоблена жизнь в стихах Шелли (возможно, вспомнившихся автору — наряду с «Тимоном Афинским» и сценой Гамлета с призраком, — когда он искал заглавие). А добравшись до Указателя, составленного так, чтобы усиливалось ощущение лабиринта, откуда не выбраться, энтузиаст, полагавший, будто он непременно разберется в хитросплетениях и установит, кто именно и зачем прикончил на лужайке между коттеджами старого джентльмена, который как раз в эту минуту залюбовался красивой бабочкой, окончательно решит, что вместо романа ему предложили словесную головоломку наподобие картонных паззлов, забавы малолетних. То есть мысленно согласится с суждением Ивлина Во, по существу некорректным, но не таким уж голословным.
Набокова привела в восторг статья американской романистки Мери Маккарти, давней его знакомой, потому что в 40-е годы она была женой Эдмунда Уилсона. В ней «Бледный огонь» назван одним из величайших художественных творений современности (через тридцать лет другой критик прямо начнет свой разбор книги с заявления, что «по чистой красоте своей формы это, очень может быть, самый совершенный роман за всю историю литературы»). Ощущая себя бесспорно первым номером в литературной табели о рангах (и не раз говоря это почти что впрямую), Набоков, конечно, не оставался равнодушен к комплиментам, и похоже, его не смущало, что они звучат совсем по-хлестаковски. Но все-таки следует предположить, что статья Маккарти привлекла его не только пышными похвалами, но корректностью прочтения. А оно сводилось к тому, что книга, где присутствуют и ностальгия, и любовь, и юмор, все-таки замечательна прежде всего своим сходством с изысканным шахматным этюдом, где оригинальность композиции и симметрия ходов оказываются самодостаточными ценностями. Отныне исключается любого рода «мистика», «метафизика», муки ада, Святая Троица и прочий устаревший реквизит, при помощи которого литература прежде пыталась выяснять «отношения человека с космосом», не ведая того, что постиг и выразил Набоков: эти отношения, не знающие ни начала, ни конца, — «обмен световыми сигналами», только и всего.
Другой рецензент, отнесшийся к книге без восторженности, предположил, что «Бледный огонь» был отповедью автора тем, кто после «Лолиты» решил: отныне Набоков будет писать бестселлеры. Создавая свой крайне запутанный, усложненный текст, Набоков и вправду был, кажется, вовсе не озабочен тем, что его книга может отпугнуть читателей, поскольку она слишком хитроумно построена. Самое занятное, что в список бестселлеров «Бледный огонь» все-таки попал. Правда, ненадолго и, видимо, скорее по инерции: за пять лет, разделяющих комментатора-поэта-короля-безумца и «бедную девочку», имя Набокова еще не изгладилось из памяти тех, кто наведывается в книжные лавки.
Потом они начнут относиться к Набокову сдержаннее. А он, недовольный данными о раскупаемости «Бледного огня» и третьего варианта автобиографии — «Память, говори» (1966), обвинит в этом нерасторопное издательство «Патнемз», оправдав свой уход в другое, «Макгроу-Хилл» тем, что там о нем больше пекутся. В каком-то смысле так оно и было: подписанный им с новыми издателями контракт содержал условия, каких прежде не предлагали никому из американских писателей, включая самых популярных и знаменитых. Правда, и требовали за это сполна: Набоков обязывался выпустить в «Макгроу-Хилл» за шесть лет одиннадцать нигде прежде не выходивших своих книг — задача, которая едва ли была по силам человеку, готовившемуся разменять восьмой десяток. Но он поставил свою подпись и принялся честно выполнять соглашение. А фирма, поняв, что ее ожидания не оправдываются, с каждым годом охладевала к Набокову все заметнее. Да и вообще 70-е годы оказались не его временем.
Смена издательства состоится через пять лет после «Бледного огня». К этой поре — и во многом благодаря этой книге — вполне определился новый статус Набокова: современный классик, создатель книги, которая, по словам Маккарти, доказала вздорность опасений, будто роман умер, и открыла новую страницу в истории литературы. Отныне это был автор, которого надлежит изучать, посвящая ему монографии и специальные выпуски научных журналов. Герой ученых трудов, которые составят особую область литературоведения или, в своем роде, отрасль интеллектуальной индустрии.
Блок некогда приходил в ужас от мысли (еще вовсе не принявшей в ту пору реальных очертаний), что «Снежной маске» и «Балаганчику» предназначено «стать достояньем доцента и критиков тощих кормить».
Набокова эта перспектива, ясно обозначившаяся к середине 60-х, во всяком случае не страшила.
Появление из печати четырех книг с ритмизированным подстрочником «Евгения Онегина» и комментарием к нему во многом упрочило его положение как литератора с серьезным академическим престижем. И этому только помогла — тем, что так нашумела, — полемика, завязавшаяся у Набокова по поводу «Онегина» с Эдмундом Уилсоном.
В Комментарии Уилсон упомянут вполне доброжелательно: он в своей статье «Памяти Пушкина» хорошо перевел описание наступающей зимы из главы четвертой. Большого доверия к нему Набоков, правда, не испытывал и несколько лет спустя, когда «Онегин» готовился к печати, резко воспротивился намерению издателей послать Уилсону корректурные листы с целью привести на суперобложке его отзыв — никто не сомневался, что похвальный. Но в последнюю их личную встречу, когда Уилсон со своей новой женой Еленой в январе 1964-го три дня гостил в Монтрё, ничто не предвещало грозы, разразившейся через полтора года, когда в «Нью-Йорк ревью оф букс», любимом издании интеллектуалов, он напечатал статью «Странная история с Пушкиным и Набоковым». Полгода спустя английский журнал «Энкаунтер» поместил набоковский «Ответ критикам». Для приличия отозвавшись на несколько комплиментарных статей о его «Онегине» и даже признав, что две-три мелочи, указанные их авторами, на самом деле стоит поправить, Набоков дальше приступил к главной задаче: задетый за живое перелагатель уничтожал своего критика, да так, словно ему нанесли личную обиду.
Возмущение Набокова, считавшего поступок Уилсона чуть ли не подлостью, легко понять, зная его непомерное самолюбие. Однако он ведь и сам не выбирал выражений, полемизируя с литературными противниками. Собственную статью с яростными нападками на перевод Уолтера Арндта он не обинуясь озаглавил «Кулаком по клавикордам». Чего же было ожидать в ответ, если не колкостей Уилсона, иронизирующего по поводу высказываний Набокова в том духе, «что он бесподобен и неповторим, а любой обращавшийся к тому же предмету — глупец и невежда». Ядовитые обличения предшественников, которыми пересыпан Комментарий, лишь сделали ироническое замечание Уилсона особенно точным.
Сам его разбор, однако, не отличался убедительностью, так как он затеял заведомо безнадежную дискуссию с Набоковым насчет смысловых оттенков тех или иных русских фраз или особенностей произношения отдельных слов. Набокову не стоило труда показать некомпетентность оппонента, попутно высмеяв его поучительный тон. В самом деле, человеку, который со своим самобытным русским выговором не мог добиться от продавца в книжной лавке, чтобы ему принесли «Мертвые души», — приказчик его просто не понял, — рискованно было объяснять, как русские произносят «ё» и существует ли разница между словами «чуя» и «почуяв». Напрасно он пытался растолковать Набокову, что означает пушкинский «гусей крикливых караван»: ограничиваясь лексическим смыслом, это словосочетание (как следующее за ним — «тянулся к югу») передано в набоковском «Онегине» с образцовой точностью.
Однако, когда дело доходило до общих установок, которым Набоков следовал, принимаясь за переложение, и до его теорий необходимого буквализма в переводе, парировать возражения Уилсона становилось намного труднее. Конечно, недопустимы были утверждения, что Набоков испытывает ликованье садомазохиста, калеча пушкинские стихи, и что подобные версии сравнимы с опытом машинного перевода, которым как раз в ту пору многие начали увлекаться. Но Уилсон имел основания констатировать, что этот «Онегин» нечитабелен, — Набоков сам не без гордости повторял, что читать его текст нельзя, зато он точен по смыслу, — и был недалек от истины, назвав переложение неудачей, если судить по критериям литературы. Собственно, он только напомнил, что литература обязана оставаться литературой, даже если она переводная. А Набоков упрямо отстаивал принцип неукоснительной точности, требующей абсолютных лексических аналогов, какие бы это ни означало потери, если говорить о художественности. И своим принципом он не поступился ни на йоту, работая над «Онегиным» или оценивая сделанное другими. В больнице, когда жить ему оставалось меньше двух лет, Набоков проштудировал шесть томов нового американского переложения «Божественной комедии» — поэтический перевод был сделан Лонгфелло еще в середине XIX века — и написал издателю: «Какая огромная радость видеть, что свет честного буквализма опять восторжествовал после долгой эпохи растленного поэтизирования!» Итальянского языка Набоков не знал и судить о том, насколько честен буквализм перелагателя Синглтона, предложившего читателю диетическую подстрочную прозу, не мог, но ему было довольно того, что верна методология.
Еще за семь лет до публикации «Онегина» Набоков в «Новом журнале» напечатал «Заметки переводчика», которые открываются апологией перевода «предельно точного, подстрочного, дословного» и пояснением, что «этой точности я рад бы все принести в жертву — „гладкость“ (она от дьявола), изящество, идиоматическую ясность число стоп в строке и даже в крайних случаях синтаксис» (таких случаев в итоге набралось с большим избытком). Отвечая Уилсону, он ни на миллиметр не отступил от этой позиции — твердость, заслуживающая уважения. Однако по существу она означала уход от полемики относительно главной претензии, высказанной Уилсоном и другими: Пушкин, оставленный без поэзии, — уже не Пушкин, какой бы верностью ни отличался текст, переложенный английскими словами. В согласии с собственными взглядами Набоков действовал бы корректнее, заявив, что Пушкин и вся настоящая поэзия принципиально непереводимы и желающие составить понятие об «Онегине» должны озаботиться изучением русского языка, а его версия может при этом использоваться как подсобный материал на занятиях. Однако он не колеблясь назвал эту версию переводом, то есть фактом литературы. И сразу же преимущество перешло к Уилсону, поскольку этот стерилизованный «Онегин» литературой не является.
Задолго до «битвы титанов», как окрестили их спор в литературной среде, Набоков в письме нью-йоркскому издателю Дж. Эпстайну высказался об Уилсоне без дипломатии: не надо его просить об отзыве на суперобложку «Пнина», потому что он «ни разу обо мне не написал ничего путного, вообще ничего не написал, кроме рецензии на „Себастьяна Найта“, от которой он в восторге, хоть книгу понял неверно. Мы очень близкие друзья, я его люблю и питаю к нему большое уважение, но дружба наша основывается не на сходстве мнений и подходов». Теперь ни о каком уважении не приходилось говорить, и дружба кончилась.
Впоследствии Уилсону придет на ум напечатать кое-что из своих дневников того времени, когда у них с Набоковым были довольно короткие отношения. Затеял он это не ко времени: как раз в ту пору Набоков перечитывал их переписку и счел возможным ее возобновить, прощая Уилсону его «непостижимое непостижение пушкинского и набоковского „Онегина“» (разницы между двумя этими текстами создатель второго из них, кажется, уже не удавливал). Уилсона (он был неизлечимо болен, и жить ему оставалось меньше года) взорвал этот снисходительный тон. Дневники в отрывках были напечатаны. Тут же из Монтрё последовало гневное письмо в газету: как посмел Уилсон обнародовать свои вульгарные домыслы, представив Набокова вовсе не таким, каким себя видит сам Набоков? Какое низкое коварство — делать в дневнике подобные записи, будучи набоковским гостем в Итаке.
Еще до «Ответа критикам» Набоков напечатал открытое письмо там же, где была помещена статья Уилсона, в «Нью-Йорк ревью оф букс», завершив отповедь бывшему приятелю словами о его «напыщенном апломбе и брюзгливом невежестве». Уилсон не позволял себе высказываться в схожем тоне (хотя фразу об «апломбе» мог бы вернуть не задумываясь). Он даже сделал примирительный жест, прислав в Монтрё рождественскую открытку с сожалением о том, что дискуссия уже закончилась, ведь она доставляла ему большое удовольствие. Набоков ответил вежливо и холодно. Для Уилсона отныне не было места в его жизни. Совсем как у советского поэта: кто поет не с нами — тот против нас.
За два года до этого поединка один американский филолог, изучавший Джойса, написал Набокову с просьбой высказаться об ирландском прозаике (лекции еще оставались неопубликованными). На такие просьбы обычно отвечала, передавая слова мужа, Вера Набокова. Обратившийся получил от нее такое письмо: «Муж просил сообщить, что, по его мнению, «Улисс» намного превосходит все другие романы, написанные в этом веке по-английски, однако ему совсем не нравятся «Поминки по Финнегану», «где непристойности, когда вникаешь в суть дела, не могут быть оправданы тем, что за ними обнаруживаются тщательно закамуфлированные пошлые поверья и глупые анекдоты». В кавычках, очевидно, приведены собственные слова Набокова. Их стоит запомнить, потому что они имеют непосредственное отношение к роману, которым вскоре будет несколько лет занят он сам, — к «Аде».
Как «Бледный огонь» требовал сначала сочинить поэму, ибо с нею соотносился весь ход действия, так «Ада» заставила, прежде чем на сцене появятся персонажи, продумать и начерно написать своего рода пространное научное эссе о природе времени; в окончательном тексте он станет четвертой частью этого самого большого и наиболее амбициозного набоковского романа. «Ткань времени» — так озаглавлено произведение, которое не один год пишет главный герой «Ады» Ван Вин; скверный философ, он тщетно пытается закамуфлировать каламбурами хилость своей мысли и спрятать за софизмами собственный ужас перед тем, что время никогда не возвращается, как бы старательно ни уверять себя, будто памяти дано его останавливать и поворачивать вспять.
Имя Джойса возникло уже в первых откликах после того, как весной 1969 года роман Набокова вышел в свет после публикации восьми глав в «Плейбое» (самом подходящем для него журнале) и мощной рекламной кампании с восторгами критики еще до того, как читатель получил возможность взглянуть на книгу. Причем вспоминали не автора «Улисса», а именно творца «Поминок по Финнегану», произведения, беспрецедентного по степени своей «непрозрачности», зашифрованности и той самой нечитабельности, которой старательно добивался Набоков, переписывая «Онегина» топорщащейся английской прозой. Сочинение Джойса, хотя это и не стихи, едва ли когда-нибудь удастся переложить даже подобным способом.
Там нет ни сюжета, ни характеров, ни конфликтов, ни чувств, ни структуры, которая придавала бы целостность рассказу (пусть только относительную). В сущности, нет и повествования. Дублинский кабатчик и его семейство — жена, дочь, двое сыновей — укладываются спать, а через шестьсот страниц просыпаются, вот и вся история. А посередине произвольно несется поток сознания этих, условно говоря, действующих лиц и обозначается бесконечно разбухающий контекст: исторический, мифологический, психологический, но главным образом лингвистический. Джойс буквально одержим каламбурами, звуковой схожестью далековатых понятий, фонетическими перекличками, изобретением монструозных неологизмов и машинообразной разрушительной работой с целью подавить естественные связи между словами, как и традиционные их значения. Семнадцать лет он посвятил этой деятельности, увенчанной гигантским томом, который сделался невыносимой пыткой для корректоров, вынужденных проходить его насквозь.
Осилившим первые два-три десятка страниц в этом книжном левиафане дальнейшее продвижение начинали все больше осложнять те самые «непристойности», которые оттолкнули даже такого ценителя Джойса, каким, судя по его лекции, где разбирается «Улисс», был Набоков. Начиная с 30-х годов, с той их единственной встречи, когда полулегендарный революционер в литературе вдруг оказался на парижском чтении Набокова, а потом подарил русскому писателю, о котором ничего не знал, книжку с очередным выпуском своего загадочного (и, как шептались по углам, неслыханно новаторского, неподражаемого, величайшего) текста — «Поминки по Финнегану» печатались серией под временным заглавием «Книга пишется», — этот корифей высокого модернизма постоянно притягивал внимание и профессора Корнеллского университета, и сочинителя «Бледного огня».
Что-то из сделанного Джойсом было близко прозаику Набокову. Правда, он насмешливо относился к мифологическим параллелям, а поток сознания не слишком его привлекал, даже когда к нему прибег — первым в литературе — Толстой на последних страницах «Анны Карениной». Однако джойсовская склонность выдвигать в центр повествования персонажей-изгоев, виртуозно сделанные монтажные стыки, неожиданность и яркость ассоциативных переходов — все это не осталось невостребованным, особенно в набоковской английской прозе.
Однако «Поминки по Финнегану» он действительно считал провалом. И никому бы в голову не могло прийти, что Набоков сам двинется по этой же дороге. Но «Ада» заставила судить иначе.
Там с первых же страниц начались самозабвенные игры со словами изысканного толка, выисканными в самом обширном английском лексиконе и помещенными в подчеркнуто странный контекст, где они соседствуют то с французскими реченьями, то с русскими, а то и с неологизмами-уродцами, по части которых Джойс, сочиняющий «Поминки по Финнегану», оставил далеко позади себя всех футуристов на свете. Там сразу же, и все более густым слоем, пошли исторические отсылки и культурные реалии, которые волей автора, в этом отношении тоже старательного джойсовского ученика, перетасованы, чтобы образовать невозможные сочетания, так что читателя не из самых искушенных преследует чувство, словно все описываемое не то сон, не то бред.
Хотя повествование идет не от первого, а от третьего лица, оно, как выясняется в последней, пятой части, представляет собой нечто вроде мемуаров главного героя. Перешагнув за девяносто, герой припоминает счастливое событие своей ранней юности, когда ему было всего четырнадцать с небольшим, а героиня и вовсе не вышла из отроческого возраста. Установив реальную хронологию, как не заподозрить, что разум Ван Вина порядком помутился. Ведь только потерявший представление о времени и о мире станет уверять, что роман предполагаемой матери мемуариста, относящийся к ее студенческим временам, то есть к середине XIX века, происходил в трейлере, прицепленном ее любовником к «форду». Что вскоре после этого произошла вселенская катастрофа, вынудившая ввести запрет на электричество, из-за чего вместо дверного звонка стали караулить урчание в унитазе, возвещающее о приходе гостя. Что бывшая Америка, она же Эстотия, и прежняя Россия, то бишь Татария, теперь единая Канадия, где говорят по-французски, что Луга та же Калуга, а возможно, Лугано, причем располагающийся в Новом Свете, а не в Швейцарии, не в Ингрии, не в верховьях Оки. И так далее, все пятьсот с лишним страниц.
Правда, читателю сообщается, что в обществе персонажей он очутился на Антитерре, в своего рода Стране чудес, условном, сказочном мире (тогда как Терра, о которой Ван написал нечто вроде романа с философскими потугами, предстает как планета, откуда вечно исходит угроза и где идиллии никогда не случаются — как и на реальной планете Земля). Антитерра — магический мир, где все может быть устроено совсем не так, как мы привыкли. Однако контуры этой необыкновенной вселенной остаются в романе очень расплывчатыми, и не по недосмотру автора, а оттого что Набоков вовсе не вдохновлялся фантазией, подобно Льюису Кэрроллу, когда-то в юности им переведенному. И опыт в жанре чтимого им Уэллса, отца научной фантастики, его тоже не увлекал.
Роман, полное заглавие которого «Ада, или Жар», в общем и целом отвечает своему подзаголовку «Семейная хроника». В нем на самом деле описана растянувшаяся на столетие история одного необычного семейства (правда, история эта страдает лакунами во времени — десятки лет выпущены). Не следует относиться к ней ни как к сказке, ни как к притче, тем более что об аллегориях и притчах Набоков всегда высказывался презрительно: «литература идей», то есть, по его системе критериев, вообще не литература. Нет, это все-таки своего рода семейная хроника — во всяком случае, если судить по тому, как построено действие. А определяя еще точнее, это история любви: часто душещипательная, отдающая умилением, а случается, брутальностью и садизмом, но все равно любовная проза.
Представив, что любовной истории не было бы, можно с уверенностью сказать, что тут же развалилась бы вся замысловатая постройка. Как читатель Джойса Набоков, разумеется, очень хорошо видел, что повествование невозможно вести, если в нем отсутствует движение какого-то жизненного сюжета. Альбер Камю, для него, разумеется, неприемлемый, поскольку в литературе он наследник Достоевского, констатировал: художник, замкнувшийся в утонченной искусственности, «обрубает собственные корни и лишает себя жизни» — тезис, никем не опровергнутый ни до статьи Камю об Уайльде (1952), ни после. Литература перестает быть собой, если фундамент, обязанный держать здание монументального объема, состоит только из искаженных, перепутанных реминисценций, к которым щедро добавлены каламбуры, криптограммы, перевернутые значения слов, близкие или приблизительные фонетические созвучия. Предполагается, что так возникают и смысловые связи, но на самом деле все кончается либо авторским самолюбованием, либо иронией ни над чем — просто так, без цели.
Всего этого более чем достаточно и в «Аде». Есть во Франции местность Камарг, где сплошь болота, а русские называют обитателей болот комарами, которые по-французски «moustiques», значит, почти «московиты», — какой богатый содержательный пласт! Между быком и колоколом не так много общего, но, постаравшись, удается перебросить мостик от одного к другому, благо в словах «bull» и «bell» совпадают три буквы, и первое из них тянет за собой Джона Буля, символ англичанина, а второе — Либерти Белл, колокол в Филадельфии, возвестивший о начале восстания колонистов против английской монархии (к тому же дальняя родственница героев, словно специально, носила фамилию Трамбелл — еще бы лучше Беллбуль, но такого по-английски не бывает).
Подобными играми и репризами «Ада» заполнена так плотно, что с нею не сравнится ни одно произведение Набокова. Для тощих критиков и доцентов она настоящий пиршественный стол, на который они накинулись, из каждого абзаца стараясь выудить «текст-адресат», то есть подразумеваемую и непременно зашифрованную отсылку к какому-то знаменитому или никому не ведомому автору (его Набоков мог, впрочем, и выдумать), к событию, прославленному или известному лишь историкам с узкой специализацией. Если выяснялось, что «текст-адресат» вдобавок «полигенетичен», то есть фраза подразумевает несколько параллелей одновременно, радости дешифровщиков не было предела. Можно было, ощущая, что долг выполнен, поставить точку, перед этим с уверенностью заключив, что у Набокова, как и у Джойса, «структура текста воспроизводит структуру кроссворда».
К счастью, обычно это все-таки не так. И не совсем так даже в «Аде», хотя тут жонглирование «текстами-адресатами» или сходно звучащими именами — от ловкости захватывает дух — начинается уже с заглавия: непременно два очень коротких рифмующихся слова да еще с прямой отсылкой к третьему, русскому. К слову «дар». Главный русский роман Набокова и тот, который он считал своим главным английским, обязаны вступить в перекличку.
На самом деле ее почти не возникает, за вычетом одного мотива, который, бесспорно, очень важен для обеих книг. Основное действие «Ады» начинается летом 1884 года в поместье Ардис, где будет отпраздновано двенадцатилетие главной героини, которую в канун этого события герой, ощущая острое желание, видит синим утром завтракающей на балконе тартинками с медом. По прошествии восьмидесяти лет та словно застывшая картина — солнце, клеенка в синих с белым квадратах, слетевшиеся осы, темные волосы, оттеняющие бледность девической шеи, — стоит перед глазами очень старого мемуариста так, словно бы все это происходило только вчера. Крошки, утонувшие в желтом нектаре, полосатая маечка, цветок в хрустальном бокале, понадобившийся для урока рисования… По ощущению Вана, это зримый образ рая, который будет пробуждать нежность и ностальгию всю взрослую жизнь. И будет с неизбежностью отдаляться, становясь недостижимым, пусть героем приложено столько усилий с целью доказать власть человека над тканью времени.
Знакомый звук: в «Даре» мысли Федора и его самые острые переживания тоже сопрягались с образами, глубоко запавшими в душу ребенка. Но тут сходство кончается. История Федора и Зины (даже если принять во внимание неосуществленные планы ее продолжения, в которых лирическая тональность резко ослаблена), история Вана и Ады — это совершенно разные сюжеты.
Ностальгия, всевластная в «Даре», для «Ады» лишь исходная точка. Чувственное наслаждение, о котором «Дар» говорил так целомудренно, напротив, становится в «Аде» самой устойчивой темой или, во всяком случае, основным стимулом, определяющим поведение ее героев. Пытались даже отыскивать скрытые отзвуки русского понятия «ад», которые существенны для того, чтобы правильно воспринять героиню (которую, вкупе с героем, назвал в письме «довольно отвратной» сам автор). Но это явная натяжка. Исчадьем ада набоковская Ада, прямая родственница Лолиты, какой первый раз увидел ее в доме Гейзихи Г. Г., не является — во всяком случае, для вспоминающего их жаркую страсть В. В. И если В. В. Набоков, который его выдумал, дистанцируется от своего персонажа, то не на тех страницах, где Ван Вин снедаем любовным томлением.
Это томление показано не только как неодолимый зов плоти, для которой обладают демонической притягательностью гурманским пером описанные припухлости, округлости, холмики, волосики и прочие очарования периода подступившей половой зрелости. Жар и в дальнейшем будет все накаляться: достигши преклонных лет, Ван с необычайной живостью деталей вспоминает ощущение облегчившихся чресел, а также изыски, перед которыми блекнут самые пикантные гравюры из альбома «Яп. и Инд. Эрот.» — его у Винов прятали от детей. И постельный тройственный союз, который, правда, завершился так драматически, и радости мастурбации, и вопли слуги, вздумавшего подсматривать за господами в спальне, — Ван распорядился выколоть ему глаза.
Года через два после выхода «Ады» один известный английский критик попросил у Набокова разрешения воспроизвести два-три особенно красочных пассажа в подготавливаемой им антологии, куда войдут порнографические страницы знаменитых писателей. Набоков, нечего и говорить, отказал, был возмущен. Но ведь обращение напрашивалось, как и поиски всевозможной эротической символики, которыми, разбирая его старые романы, занялся У. Роу, автор книги «Набоковский обманчивый мир». Роу писал глупости вроде того, что заглавие «Глаз», как по-английски зовется «Соглядатай», провоцирует ассоциации с совершенно другим органом, и прочее в духе вульгарно понятого доктора Фройта, как в «Аде» именуется ненавистный автору «венский шаман», сочинения которого он знал скорее всего понаслышке (не смущаясь тем, что нацистская оккупация вынудила Фрейда бежать из Австрии и окончить свои дни под Лондоном бедствующим стариком, Набоков дает одному единомышленнику этого доктора фамилию Зиг Хайлер).
Придя в сильное раздражение, Набоков, вопреки собственному правилу никогда не вступать в споры с критиками, написал резкое письмо в «Нью-Йорк ревью оф букс», и чувства его нельзя не разделить, хотя во многом он сам и спровоцировал подобное отношение к им написанному — «Адой» в первую очередь. На фоне откровений В. В. герой «Лолиты» Г. Г., при всей его одержимости нимфетками, был само пуританство в своих рассказах о регулярном выполняемом ритуале.
Самое пикантное, конечно, в том, что героиня его сполна осуществившихся грез приходится В. В. сестрой, и не двоюродной, не сводной, но сестрой в полном значении слова. Правда, от них обоих это пытались скрывать папа (Демон) и мама (Марина) Вин, родившая потом, уже от законного мужа, Люсетту, несчастную третью участницу того постельного союза. Вникшие в сложную систему отзвуков и отсылок, которыми пестрит «Ада», вспомнят, что сестру французского писателя-романтика Шатобриана, постоянно о себе напоминающего в набоковском тексте, звали Люсиль. И что у нее были не вполне обычные отношения со своим знаменитым братом.
По возрасту и по незнанию Ван не задумывался об инцесте, когда в четырнадцать с небольшим ощутил, как его сводят с ума шелка раннего девичества, к которым был шанс прикоснуться, заодно удостоверившись, что их обладательница летом обходится без панталончиков. Но уже вскоре реальное положение не составляло для него тайны. Они с возлюбленной, которая не по годам искушена в науке вожделения, грешат осознанно — переступают один из самых непререкаемых запретов, выработанных культурой человеческого общения.
Годунов-Чердынцев сокрушался, думая о том, что вынужден жить в стране, где «роман о кровосмешении считается венцом литературы». По прошествии тридцати лет Набокову подобные чувства стали непонятны и смешны: «Ада», которую он, нисколько этого не скрывая, считал произведением выдающихся эстетических достоинств, — тоже «венцом литературы» — именно роман о кровосмешении, каким бы поэтическим флером оно ни окутывалось. И хотя в нем стихия пародии постоянно дает о себе знать то чудесами на географической карте — что сталось бы, прочти он «Аду», с тем несчастным чеховским учителем, который лишился ума, не обнаружив Берингова пролива там, где ему полагается быть! — то отсылками к авторам, никогда не существовавшим на свете, то мистификациями, то издевками над читательским простодушием, — как раз отношения Ады и Вана изображены без всякой насмешки хотя бы над тем, что подобного рода преступные страсти еще в годы берлинской литературной молодости Набокова были избитым сюжетом беллетристики бульварного толка.
Как раз наоборот, инцест — важное добавление к тому мифу о непреходящем очаровании детства, который, в сущности, и стал доминирующей темой «Ады». Ее герои, у которых все идентично, вплоть до расположения родинок на запястье, точно предназначены принадлежать исключительно друг другу и в целом мире не считаться ни с кем больше, только друг с другом. Потому что — такова воля автора — они, наперекор всем злоключениям, пакостям, пошлостям, подстерегавшим обоих во взрослой жизни, душевно остались в цветущем, согретом солнцем, прекрасном, как сон, Ардисе эпохи их отрочества. В том единственном на земле эдеме, где отменены любые моральные табу, если им сопротивляется естественное чувство.
Этот прорыв за черту, после которой их ждет недозволенное упоение, описан в первой части, занявшей более половины романа. Последующие события можно изложить двумя-тремя фразами, почерпнув их из аннотации к «Аде», которую составил сам мемуарист и поместил на последней странице своей хроники, как сам он находит, изумительной. События предсказуемы и неинтересны. Случай время от времени дарит любовникам возможность натешить плоть, но даже на Антитерре еще не настолько раскрепостились, чтобы брак очень близких родственников считался в порядке вещей. Вдобавок эротические аппетиты Ады ненасытимы — в ее постели находится место то для мозгляка, служившего в их доме учителем музыки, то для толстошкурого Перси де Прея, — а Ван ревнует и пресерьезно обдумывает дуэль. Он, конечно, тоже пускается во все тяжкие, пытаясь себя утешить покупной любовью. Украденное счастье недолгих — с перерывом иной раз в двенадцать лет — встреч омрачено подозрениями и упреками. Все это тянется, пока Ада (ей уже пятьдесят и она довольно известная киноактриса) не проводит в последний путь своего мужа Андрея, тут же устремившись к суженому в Европу. Отныне А плюс В равняется не только любовь, но супружеская жизнь, хотя официально о ней не объявлено.
Аннотация, которую, не дожидаясь похвал со стороны, В. В. сочинил сам, сулит читателям наслаждение идиллией, какой в мировой литературе не бывало, исключая (и то необязательно) детские воспоминания Толстого. В пятой части Вану девяносто семь лет. Как и положено по законам старинных семейных хроник, герои жили долго и счастливо.
Из скучной адюльтерной летописи и еще более тоскливого благолепия, наступившего во вторую половину отпущенного Аде с В. В. срока, контрастной нотой выделяется история бедняжки Люсетты. Она прониклась к сводному (на этот раз действительно сводному) брату неодолимой страстью, ради которой готова была удовлетворять даже эротические потребности своей жизнелюбивой сестры (тоже сводной, хотя этого Люсетта не знает). Ее испепеляют страхи и жаркими укорами изводит совесть, хотя, возможно, это просто обида на А и на В, которые сначала ее третировали как мелюзгу, а затем использовали как пряную добавку, предаваясь своим огненным утехам. Кончилось тем, что в двадцать пять лет Люсетта предпочла этим несуразностям и несправедливостям холодную океанскую купель, прыгнув за борт парохода. И заставив восхищенных толкователей пролить чувствительную слезу.
Однако аргументы, доказывающие, что катастрофа, которая ожидает Люсетту, перевела поэму жаркой страсти в иное, этическое измерение, слишком шатки, чтобы их принимать всерьез. «Ада» — это прежде всего игра ее автора с типичными сюжетными ходами и обязательными мотивами того жанра, который им избран. Поэтому каждый персонаж соответствует функции, отводимой ему в условно вычисленной схеме стандартной семейной хроники, где какие-то представители семейства, одолев все сложности, обретают счастье, а другие, напротив, обездолены и обречены. Герои Набокова вписываются в эту же абстрактную схему. Автора они интересуют главным образом тем, насколько справляются с намеченными для всех них литературными ролями, а отнюдь не как персонажи с индивидуальным обликом и неповторимой судьбой. Собственно, они марионетки в руках кукловода, а тот более всего увлечен пародией с целью демонтировать жанр, который ему представляется отжившим свой век.
На развалинах этого жанра Набоков намерен создать нечто принципиально новое для литературы, влив в старые мехи совсем молодое вино. Такая операция много раз производилась в литературе и прежде: всего успешнее Сервантесом в «Дон Кихоте». Там герой пытается неуклонно следовать сюжетам пленивших его рыцарских романов, а в итоге возникает повествование, по новизне сюжета не имеющее аналогов в истории прозы. Набоков потратил много яда, стараясь принизить или вовсе отрицать эту новизну в лекциях, — и, само собой, исподволь присвоил художественный ход Сервантеса для собственных творческих целей.
Традиционный семейный роман, каких много писалось и в Англии, и в Германии, и в России еще лет за пятьдесят до «Ады», постоянно маячит перед глазами читателя этой монументальной набоковской книги, и очень скоро читатель начинает догадываться, что перед ним не имитация, а пародия. Жанровая традиция требовала пространной экспозиции, где героев представляли публике, сообщая основные факты их биографии, — в «Аде» эти сведения ограничены самым минимумом, практически касаясь лишь сексуальных прихотей, которыми издавна отличались Вины. Семейная хроника предполагает нравственный урок — «Ада» начинается с намеренно перевранного афоризма, который предварял «Анну Каренину», и по сравнению с Толстым сентенция становится смысловым перевертышем. Обычный мотив семейных историй — насильственная разлука любящих, в частности, из-за того, что они слишком близкие родственники по крови. Так построена и цитируемая в «Аде» то прямо, то намеками повесть Шатобриана «Рене»: там герой, поняв, что их с сестрою чувства становятся больше, чем родственными, отшатывается в ужасе. Ада и В. В., точно установив, кем они друг другу приходятся по степени родства, не только не сокрушены, но торопятся еще раз вкусить нежностей, которые ввиду открывшихся обстоятельств приобретают особую утонченность.
Молодой человек, вернувшийся под родной кров, в сельскую Аркадию; именины будущей наследницы поместья, которая пока представляет собой совсем юное прелестное создание; приступы ревности, доведшей до дуэли; распутство из-за того, что возлюбленная недостижима, а в самом конце — вознагражденная верность великому чувству, которое осталось незапятнанным и в борделях, — весь этот набор сюжетных ходов, которые и вправду порядком обветшали от усиленного использования, представлен и у Набокова. И все они даются с нескрываемой авторской насмешкой над романами, писавшимися встарь, когда столько сил тратили на изображение перипетий зарождающейся страсти, более всего заботясь, чтобы все осталось в границах приличия, и медленно вели дело к стыдливому поцелую, которого у Набокова, разумеется, не будет. Совершенно точно определив, к чему они стремятся, А и В разойдутся по своим спальням, так как — сомнения исключены для обоих — впереди радости, обходимые молчанием на более ранней стадии истории романа. Это у Шатобриана персонажи испытывали невыносимый трепет при мысли, куда их влечет рок событий, и Амели уходила в монастырь, и смерть подстерегала их обоих. А в «Аде» с берега реки, текущей поблизости от поместья Ардис, открывается чудный вид на красующийся неподалеку аристократический дом, истинный шато, который, конечно, носит имя Бриан. Однако поведением и страстями герои никак не напомнят шатобриановских. Ада и Ван обретаются — детьми — в таком же райском саду, как поддавшиеся кружению сердца Амели и Рене, однако А и В очень продвинутые дети. И прежде всего из-за того, что они явились на другом, очень продвинутом этапе литературной эволюции.
Большой вопрос, явилось ли преобразование жанра, произведенное Набоковым, настоящим творческим обретением. Во всяком случае, если он думал, что жанр, подвергшийся его пародии, отныне стал мертвой историей, это было заблуждением. Семейные хроники писали и после Набокова (одну из последних создал Булат Окуджава, чей «Упраздненный театр» снабжен тем же подзаголовком: «Семейная хроника»), Несложно понять, отчего литература старается сохранить эту повествовательную форму. В ней есть много притягательного, если жанр честно выполняет свое назначение, о котором когда-то с образцовой точностью написал Петр Бицилли: «Семейная хроника… разрастается в историю общества, нации, режима. Разнообразие проблем, заданий, положений, интересов, убеждений соответствует разнообразию тонко нюансированных характеров».
Ничего этого в «Аде» нет и не могло быть, потому что решались совершенно другие задачи. Оттачивалось, доходя до совершенства, искусство игры метафорами, мастерство аллитераций и каламбуров. Пародия приобретала изысканность и местами неподдельную тонкость. Но характеры отсутствовали. Они были заменены масками или иллюстрациями, которые понадобились для доказательства, что кончилось время старой литературы, где были углубленно разработанные персонажи, существовавшие в детально воссозданных исторических обстоятельствах. Тот же П. Бицилли в свое время писал о «сиринской Правде», не убоявшись заглавной буквы. Правдой было «удивление, смешанное с ужасом перед тем, что обычно воспринимается как само собой разумеющееся», — качество, совсем не свойственное «Аде», где вместо удивления торжествует бесспорная для автора истина (сколь бы азбучной или, напротив, шокирующей — а может быть, и то и другое вместе, — она кому-то ни показалась); где преобладает стихия иронии или игры, в которой семейная хроника, описанная ее героем, составившим резюме, как повесть о жаркой любви, длящейся восемь десятков лет, растворилась почти без осадка.
Вот отчего оказалась мертворожденной идея экранизации «Ады», одно время носившаяся в воздухе. Ожидая новой «Лолиты», руководители сразу нескольких студий оспаривали друг у друга авторские права, подыскали режиссера с именем — Романа Поланского, выплатили автору большие деньги. А затем поняли, что из такой книги невозможно сделать картину с живыми людьми, которым ведомы, пусть не вполне обычные, но все же узнаваемые, доступные пониманию чувства. Придать что-то человеческое фигуркам из папье-маше, которые, когда автор нажмет на пружинку, произносят слова про одолевающий их жар и пыл, — этого не могли и все на свете умеющие голливудские актеры. А два часа показывать на экране инцестуальные блаженства было рискованно даже в наступившие бесцензурные времена.
После «Ады» в кругу тех, кто ею восторгался, стало не то чтобы недопустимым, однако непрестижным употреблять слово «роман». Следовало говорить по-другому: «метаповествование» или, еще лучше, «метатекст». Не зная этой терминологии, рецензенты по старинке писали про «манерность» или «избыточность» (а один, самый злой) — про «онанистические каскады»).) Но, какие бы они ни вынесли впечатления и какие бы ни прозвучали оценки, становилось понятно, что «Адой» в самом деле — на счастье ли, на беду литературы — обозначен некий рубеж.
Были забыты предостерегающие статьи расположенных к писателю критиков из среды эмиграции, которые после знакомства с ранними набоковскими книгами писали, как Вейдле про «Соглядатая», о «ненужных зигзагах изобретения» и о том, что этот художник «видит только себя, склоненного над миром», тогда как литература быстро тускнеет без способности видеть сам мир. Словцо «полигенетичность» стало кочевать из одной посвященной Набокову работы в другую. Говорилось (и не понапрасну — если держать в поле зрения главным образом «Аду»), что в этой прозе все время происходит пересечение или же наслоение, а чаще всего ироничное обыгрывание других художественных произведений, так или иначе (обычно — под знаком пародии) втягиваемых в ее поле. «Метатекст», в сущности, и представлял собой такого рода синтез, заставляющий забыть, что цель литературы, как писал в том же своем отклике Вейдле, — «прорваться к бытию», и ужасно, когда художник остается «прикованным к сознанию».
Теперь, после Джойса и благодаря англоязычному Набокову, а также аргентинцу Борхесу, самостоятельно нашедшему схожий путь, ничего ужасного в том положении, которое описал Вейдле, не видели. Скорее наоборот, считали, что для искусства оно естественно. Пожалуй, всего изящнее характеризовал ситуацию, когда «эффект реальности» становится в повествовании, по меньшей мере, не самоочевидным и проблематичным, французский культуролог и теоретик литературы Ролан Барт, как раз тогда, к концу 60-х, являвшийся для западных интеллектуалов истинным властителем умов. «Литературу можно сравнить с Орфеем, возвращающимся из преисподней, — писал он, — пока она твердо идет вперед, зная при этом, что за ней следуют, — тогда за спиной у нее реальность, и литература понемногу вытягивает ее из тьмы неназванного, заставляет ее дышать, двигаться, жить, направляясь к ясности смысла; но стоит ей оглянуться на предмет своей любви, как в руках у нее остается названный, то есть мертвый смысл».
Но при этом Барту все-таки было понятно, что невозможно закармливать читателя одним лишь «драгоценным веществом символики». Это вещество следовало, по меньшей мере, разбавить, иначе оно переставало усваиваться. Речь не шла о том, чтобы насытить прозу достоверными подробностями или узнаваемыми деталями описания. В литературе описание — образ, а не фотография. Только люди, не понимающие творческих законов, могут всерьез считать, что в середине XIX века город Руан был на самом деле, или хотя бы примерно, таким, как он изображен Флобером в «Госпоже Бовари». Но если бы вовсе не чувствовалась атмосфера тогдашней французской провинции, переданная не посредством фактографически точных реалий, а скорее «жемчужинами редких метафор», роман Флобера, где имеется подзаголовок «Провинциальные нравы», представлял бы собой явление другой художественной природы.
В полемике вокруг «Ады» тоже (правда, без ссылок на Барта) говорилось об «эффекте реальности»: способ, при помощи которого он был — или не был — достигнут Набоковым, интересовал буквально всех писавших об этом произведении. Правда, вначале сколько-нибудь серьезной дискуссии не было, был неуемный восторг. Бывший набоковский студент Аппел предварил появление «Ады» статьей на первой полосе книжного приложения к «Нью-Йорк таймс», уверявшей, что создано «великое произведение искусства», а его автор стоит в одном ряду с Кафкой, Прустом и Джойсом, тремя корифеями современной литературы. Там же другой критик требовал для Набокова Нобелевской премии, утверждая, что не получить ее он может по единственной причине: она его недостойна. Эта примитивная лесть выглядела в лучшем случае анекдотически, но все равно, до таких высот критического признания не поднимался никто и никогда.
Дождь похвал с непременным использованием превосходной степени лился месяца полтора, и книга добралась до четвертой строки в списке бестселлеров. Ее опережали лишь крутой и сентиментальный «Крестный отец», чувственная «Машина для любви», полупорнографическое сочинение Жаклин Сьюзен, и роман Филипа Рота «Исповедь Портного», который спровоцировал скандал со скоропалительными обвинениями автора в антисемитизме. Не было причин сомневаться, что рейтинг «Ады» — и у критики, и у читателей — исключительно высок.
Однако продержался он недолго. Читатели, как и надо было ожидать, не справлялись с изощренной манерой повествования, и книга стала расходиться все хуже. Критики из числа тех, кого не заворожили благоговейные интонации набоковских апологетов, старавшихся друг друга перещеголять в искусстве пересахаренных комплиментов, принялись высказываться об «Аде» все скептичнее. Словесная пиротехника, непомерная амбициозность на шатком фундаменте, парад приемов, за которыми нет ни следа серьезного содержания, «Улисс» для невежественных, самолюбование полиглота, неспособного сказать ничего интересного ни на одном из языков, — подобное говорилось об «Аде» все чаще. Быстро выдвигавшийся культуролог Морис Дикстайн, любимец радикально настроенных интеллектуалов левой ориентации, подытожил: «Ада», самый перехваленный роман десятилетия, демонстрирует нищету эстетского снобизма, только и всего. Еще один критик добавил: никакой писательский престиж не оправдывает выказанную Набоковым «готовность использовать чувство боли, счастья, извращенности ради бездушного литературного эффекта».
Хотя Набоков не раз повторял, что у него нет ни времени, ни охоты отвечать на глупости критиков, заодно демонстрируя их невежество, этот афронт он пережил болезненно. Но и не подумал вносить какие-то исправления, готовя «Аду» к переизданиям и сверяя французский перевод. Лондонская книжка в мягком переплете — она появилась в 1970-м — вышла, словно дразня тех, кто, как Эдмунд Уилсон, сетовал на усложненность композиции, с добавленными примечаниями, которые принадлежат уже не мемуаристу, а читателю рукописи, назвавшемуся Вивиан Даркблоом. Это, конечно, фамилия самого автора, только переиначенная, как подобает по стилистике самого повествования.
Примечания мало сказать ничего не объясняют — еще больше сбивают с толку вздумавших с ними справляться. Такие приемы не новость в литературе: лет за двести до Набокова ими великолепно пользовался Лоренс Стерн, автор «Тристрама Шенди», уникального жизнеописания, герой которого очень старается поведать о себе всю истину, сбивается, начинает сначала и совсем теряет нить рассказа. Джойс, приступая к «Поминкам по Финнегану», проштудировал эту книгу. А издавна Набокову знакомый Шкловский, изучив опус английского писателя, построил на основе наблюдений над ним свою теорию прозы. Стерн, кстати, первым использовал и еще один художественный ход, понадобившийся через два века для «Ады»: введенные прямо в текст комментарии типографщика, который рекомендует поменять местами главы или что-то опустить совсем — как Ада, первая читательница, и некто, скрывшийся под аббревиатурой Изд., настойчиво советуют Ван Вину.
Закончив свой монументальный труд, Набоков ощутил себя выжатым. Требовалась передышка. Новых замыслов не было. Пока не забрезжила идея следующего романа, — а что-то предстояло придумать, не слишком затягивая, этого требовало соглашение с «Макгроу-Хилл», — на свет были извлечены старые шахматные задачи, составлением которых Набоков увлекался с давних пор, и около сорока русских стихотворений, которые он решил вместе с этими этюдами напечатать двуязычным изданием: справа давался английский текст, слева — оригинал. Книгу он назвал без затей — «Стихи и этюды». Вошли в нее и стихотворения, написанные по-английски.
Нового в этой книге не было ничего. Поэтическое творчество уже стало для Набокова перевернутой страницей. Книга затевалась прежде всего для того, чтобы исправно выполнить условия контракта. Отзывов на нее почти не было. Правда, гроссмейстер Спасский, тогдашний чемпион мира, похвалил одну из композиций.
Жизнь в Монтрё текла спокойно и однообразно. Интервьюеров стало поменьше, зато теперь они приезжали с телекамерой. Следовали ожидаемые вопросы: насколько книги Набокова автобиографичны (таким попыткам заглянуть в его жизнь писатель давал жесткий отпор после фрейдистских экскурсов Роу и рецензии Апдайка, который, превознося «Аду», вдруг ни с того ни с сего объявил, что героиня явно списана автором с собственной жены)? Что он думает по поводу ярких событий Новейшей истории (от каких-то — например от высадки американских астронавтов на Луне, он в восхищении, от других, происходящих за «железным занавесом», в ужасе)? Считает ли себя русским или американским писателем? Тут был заготовлен типовой ответ: американским, поскольку его лучшие книги написаны в США и по-английски. Несомненно, он так и думал. Писателям труднее, чем всем остальным, корректно оценивать ими сделанное.
Идея новой книги была осуществлена только к весне 1972-го. Эта идея преследовала Набокова еще с той поры, как в затемненном Париже он писал главы так и не оконченного русского романа, где герой-художник не в состоянии вынести смерть жены и живет только надеждой — фанатической и фантастичной — установить с ней какое-то общение. С героем романа, получившего заглавие «Просвечивающие предметы», — Набоков, раздраженный непонятливостью рецензентов, вынужден был объяснять, для чего было сочинено якобы не напечатанное одной нью-йоркской газетой интервью, которое он включил в свою следующую книгу «Твердые мнения», — происходит примерно то же самое. Только беда его еще и в том, что жена погибла по его собственной вине — непроизвольной. И вот, просидев восемь лет то под следствием, то в лечебнице для душевнобольных, Хью Персон («персона», а по-английски — синоним слова «некто») приезжает в Швейцарию, где они с Армандой когда-то познакомились. Он хочет непременно остановиться в номере отеля, с которым у него связаны воспоминания и травмирующие, и нежные.
Тут давние набоковские читатели, конечно, вспомнят «Возвращение Чорба», где использован точно такой же сюжет. Номер, однако, занят, и планам Персона как будто не судьба осуществиться. Дальше все развивается с фаталистической предопределенностью: жившая в номере дама, супруга владельца пансиона для собак, хозяева которых уехали в отпуск (у ней и у самой шпиц, такой же, как был у героини «Дамы с собачкой», чеховского рассказа, который при большом желании можно прочесть как новеллу о супружеской измене), из-за срочных дел вынуждена уехать, номер освободился, и Персон в него вселяется. А потом обретает реальность постоянно его преследовавший кошмар: кто-то — как выяснится, официант, обидевшийся на метрдотеля, — поджег гостиницу. И постоялец номера 313 гибнет, задохнувшись в дыму.
Из той ранней новеллы в «Просвечивающие предметы», вероятно, перешла и сцена с проституткой, которую Персон нанимает, потому что, как и Чорбу, ему не по силам переносить одиночество. Правда, с Персоном это случилось еще в юности, но тоже из-за эмоционального шока, вызванного утратой: в тот день скоропостижно умер его отец. Проститутку звали Джулия Ромео. Она, однако, явно не походила на шекспировскую героиню, да и Персон выглядел бы белой вороной в доме Монтекки. Тем не менее, сохраняя окрепшую после «Ады» веру в пародию как самый надежный способ достичь оригинальности, Набоков опять дразнит классиков: «за кадром» маячит незабываемая шекспировская сцена прощания тайных супругов на рассвете-. В романе Набокова все сводится к нежеланию приведенной с улицы профессионалки тратить лишнее время, обслуживая неумелого и скуповатого клиента. Ее услуги, вероятно, и не понадобились бы, если бы папаша Персон вспомнил о своей комплекции, когда в примерочной натягивал брюки и слишком резко нагнулся. Даже смерть может у Набокова выглядеть смешно.
И сам Персон, хотя его преследуют несчастья, не вызывает, в отличие от Чорба, никаких чувств, кроме насмешки. В молодости у него находили какие-то задатки, он даже сочинил стихи с неплохим зачином, а одно его письмо, посланное редактору газеты, попало в антологию самых занимательных читательских откликов. Но на том его творческая жизнь и закончилась. Он стал чем-то наподобие корректора и делопроизводителя в издательстве, среди авторов которого был живущий в Швейцарии известный романист R. (есть там, в Швейцарии, и еще один известный литератор, пишущий на английском, — не сам ли Набоков?). С падчерицей этого R. — у того, похоже, такие же пристрастия, что у ценителя нимфеток Г. Г., и в брак он вступал с мечтами о совсем юной Джулии, еще одной подменной Джульетте, — Персон в Америке пережил свой, кажется, единственный более или менее полноценный любовный опыт. Во всяком случае, более полноценный, чем с Армандой, которая умудряется сочетать в себе эротическую анемию и холодное распутство.
За Персона она вышла, рассчитывая насладиться в Америке светской жизнью, — он был ей вполне безразличен. Странный этот брак, похоже, усугубил с малолетства присущую герою душевную нестабильность. Подавленные комплексы, потаенные страхи скорее всего и привели к трагедии: был ужасный сон, а проснувшись, Персон увидел жену лежащей на полу рядом с брачным ложем. Он ее, оказывается, ненароком задушил.
Тюремные психиатры объяснят случившееся своевременно не распознанными стрессами, а критики подведут под их диагноз фрейдовские обоснования, прямолинейно расшифровав название книги: для писателя во всем явном просвечивает тайный смысл, которого люди, как правило, стыдятся. Эти комментарии повергли автора в настоящий шок. Было отчего: те, кому они принадлежат, как будто не заметили, что истории Персона, которая сама по себе и правда похожа всего лишь на клинический случай, предшествует внешне с нею никак не связанная вступительная глава, где даются размышления о будущем, лишенном распознаваемых контуров — «речевая фигура, мыслительный призрак», не больше. И о сиянии прошлого, наполняющем мистические «просвечивающие предметы». И о «тонком покрове непосредственной реальности», натянутом, как пленка, между «сейчас» и «вчера».
Кому они принадлежат, эти мысли, и кто в кратком абзаце, которым открывается роман, приветствует Персона — персону, персонажа, хотя прежде всего он «некто», человек, как остальные? Кто сетует, что персона не слышит обращенного к ней призыва? А на последней странице, самой последней фразой ободряет Персона, вознесшегося очень высоко, в иные миры: «Спокойно, сынок, спокойно, все устроится».
Бестолковым критикам Набоков в том интервью с самим собой прямо объяснил механику фокуса, который им назван немудреным: повествует, разумеется, писатель R. Ведь «сынком» называл Персона только он один. И уверяя, что незачем напрягаться, переносясь в иные миры, этот R. говорит дело, потому что уже переступил невидимую черту. Последнее время у него было совсем скверно с печенью. И теперь он просвечивающая сущность, как, впрочем, и еще очень многие из упомянутых в этой небольшой книге.
Всем им, кто бы они ни были в свою земную пору, известно, что будущее ни для кого не существует в проявленной, определенной форме, а оттого взор всегда прикован к прошлому — с надеждой хотя бы в нем различить какой-то ясный и логичный узор. Но, по крайней мере, для живущих, для тех, кто еще не вознесся туда, где все невесомо и только просвечивает, не материализуясь, эти упования тоже остаются только химерой. Нет ни логики, ни ясности, ни какой-то последовательности причин и следствий: от имени R., но, может быть, и непосредственно от автора, который предупредил, что сейчас произойдет его «прямое вмешательство в жизнь персонажа», такие поиски квалифицированы как «стрельба в молоко». И ничем другим они быть не могут, потому что понятия «вероятное» и «действительное» взаимозаменяемы, а еще скорее — первым из них отменено второе. «Жизнь можно сравнить с человеком, танцующим в различных масках вокруг своей собственной личности», — заключает R. или, возможно, напрямую Набоков). Никто никогда не обретет свою личность как нечто выстроенное и целостное.
Был писатель, буквально одержимый той же идеей, что на поверку прошлое всегда вариативно и что «история, состоящая из ограниченного количества элементов, неизбежно повторяется, но мы никогда не помним предшествующих рядов событий — то есть мы их варьируем всякий раз, не изменяя (не в силах изменить) по существу». Это слова Борхеса, родившегося с Набоковым в один год и довольно часто с ним перекликающегося в своих книгах. Совпадения случались, разумеется, самопроизвольно, и напрасно Набоков, ощутив, что проведут напрашивающиеся параллели, кинулся принижать потенциального соперника: им Борхес никогда себя не чувствовал по отношению к кому угодно во всей мировой литературе, известной ему с неправдоподобной полнотой. Зная, что Борхеса привлекает аллегория (какой, по мнению Бицилли, было и «Приглашение на казнь»), Набоков публично назвал великого аргентинца только наследником Анатоля Франса, писателя вправду легковесного. А в письме одному французскому литератору выразил недовольство из-за того, что тот сопоставляет его шедевры с борхесовскими «эфемерными маленькими притчами».
В действительности такие сопоставления скорее невыгодны для Набокова. Борхес не только разработал намного более тонкую, чем в «Просвечивающих предметах», систему соответствий, неполных совпадений и аналогий, которые стали поэтической метафорой, доносящей мысль «о повторяемости мира в пространстве и во времени». Он воплотил эту мысль в миниатюрах, отмеченных реальным драматизмом, потому что в них речь идет о том, насколько тяжело человеку примириться со своим положением «скорее зрителя, нежели героя или жертвы на сцене». Набоков, с годами все презрительнее судивший о литературе, старающейся пробуждать «человеческий интерес», отзываясь на реальные события и драмы, построил свой сюжет с эфемерностью определенного будущего и проблематичностью прошлого как сугубо философский по внешним контурам. А по существу — как игру, для которой важна идентичность Персона персоне и персонажу. Автор, кем бы он ни был, озабочен исключительно доказательствами своего права и умения обходиться с этим персонажем/персоной по собственному усмотрению, не оглядываясь на бытующие понятия о литературном герое и вообще о литературе как некоем свидетельстве. Иначе говоря, автор — R. или непосредственно Набоков — практически осуществляет ту программу романа будущего, которую лет за десять до «Просвечивающих предметов» возвестил Ален Роб-Грийе, обладавший, по набоковской системе критериев, определенным литературным значением. Роман будущего, согласно Роб-Грийе, покончит с «миром „значений“ (психологических, социальных, функциональных)», он превратится в описание предметов, даваемых «в их присутствии», без попыток объяснения «в некой системе координат — социологической, фрейдистской, метафизической, навеянной чувствами, любой иной». Предметы останутся, однако они будут «как бы насмехаться над своим собственным смыслом».
«Просвечивающие предметы» явились, пожалуй, даже более последовательным осуществлением этого пророчества насчет романа будущего, чем тексты самого Роб-Грийе, зачем-то названные им романами, — такие, как «Проект революции в Нью-Йорке» или «Типология города-призрака». Тогда, в начале 70-х годов, подобные упражнения еще не сделались массовым занятием литераторов, которым ужасно хотелось быть ультрасовременными по языку, и поэтому предпоследний роман Набокова многие просто не поняли, включая такого незакоснелого прозаика, как Апдайк, чья рецензия начиналась с честного признания: книги, написанные так, как эта, для него недоступны. Однако кое-что он уловил верно: новая книга Набокова повторяет ходы, которые усиленно использовались и в «Бледном огне», и в «Аде», а ее философия не идет дальше общих мест. Их и прежде сотни раз пытались обосновать — с тем же сомнительным успехом.
Все главным образом сводится к утверждению: реально лишь открывшееся по ту сторону, однако очень вероятно, что там не открывается ничего, — только пустота, невесомость, тени без самого предмета, абсолютный вакуум. В «Приглашении на казнь» герой был осужден за сохраненную им непрозрачность, когда всё вокруг — идеи, люди, их отношения — стало нереальным, отрицающим мысль об укорененности в мире, а значит, и о некоторой ответственности за его состояние. Теперь прозрачность сделалась универсальной и всеобщей. Нет притяжения земной жизни, есть лишь свечения — эфемерности, миражи, обманная мудрость. Нет никаких опор и ограничений для автора, он распоряжается судьбой придуманного персонажа без оглядки на обстоятельства реального мира. А затем, в свою очередь, исчезает, растворясь в собственном тексте, из которого не протягивается ни ниточки к «правде повседневности», отвергнутой и осмеянной, хотя без нее — у Камю были все основания так считать — «искусство утрачивает жизнь».
К тому времени, как Набоков закончил свой роман, была подготовлена к печати достаточно полная библиография его произведений, включая газетные статьи и шахматные этюды. Ее составил Эндрю Филд, пятью годами раньше уже выпустивший и первую биографию Набокова, имевшую подзаголовок «Жизнь в искусстве». Потом он приступит к переработке этой своей книги 1967 года, поддерживая постоянный контакт с ее героем и для бесед с ним время от времени наезжая в Монтрё. Австралиец с пышной черной бородой (Набокову отчего-то везло на биографов довольно экзотического происхождения: следующим после Филда будет новозеландец Брайан Бойд, — оба, правда, учились в Америке и в итоге туда перебрались насовсем) сумел расположить к себе старого писателя. И в письмах, и в печати Набоков долгое время отзывался о нем не иначе как о «моем славном друге… человеке образованном и талантливом».
Первый вариант биографии, который в 1966 году Набоков читал по рукописи, показался ему очень удачным. Подкупала внимание Филда к русскому периоду его творчества и смелость, с какой биограф игнорировал концепции, принятые среди тогдашних американских русистов как аксиомы: Набоков сам сталкивался с этими мнимыми непреложностями и пытался им противодействовать во времена своего профессорства. Подкупал и тот нескрываемый восторг, который вызывал у Филда писатель Набоков, особенно американский. Конечно, попадались фактологические ошибки — много, и среди них довольно грубые, — но Набоков для того и читал книгу перед печатью, чтобы их выправить.
Они, однако, почему-то попали и в выпущенный том, так что оставалось уповать на переиздание. Было решено, что по существу Филд напишет новую книгу, теперь в тесном контакте с Набоковым, который предоставлял в его распоряжение свой архив, а также бумаги, отданные на хранение в Библиотеку Конгресса в Вашингтоне и на пятьдесят лет недоступные без особых указаний дарителя или ближайшего наследника. Они остаются недоступными (без разрешения Дмитрия Набокова) и по сей день.
Кроме того, Набоков был готов отвечать на любые вопросы биографа и согласился на несколько пространных интервью с ним. Филд отпраздновал с Набоковыми новый 1971 год и оставался в Монтрё еще целый месяц. Дальше они в основном обменивались письмами. А потом начались и объяснения через адвокатов.
Было несколько условий, жестко оговоренных Набоковым, прежде чем Филд получил права официального биографа. Главное из них заключалось в том, что Набоков прочтет рукопись и все, что расценит как нежелательное для публикации, будет выброшено. Набоков оставлял за собой возможность вообще запретить издание книги, если окажутся нарушены его требования не касаться каких-то эпизодов или освещать их не так, как они им самим освещены в последнем, английском варианте автобиографии — «Память, говори». Книга эта вышла в «Патнемз» в 1966-м. Она стала жестом прощания с издательством, которому Набоков был очень обязан нынешним своим статусом литературного патриарха и законодателя.
На полном соответствии этой книге, которое биограф должен выдерживать не только в том, что касается отбора фактов, но также их изложения, Набоков настаивал категорически, и Филд дал требуемые заверения. Этого, впрочем, было мало, так как Набоков добивался, чтобы практически всю информацию биограф черпал из материалов, полученных им в Монтрё и вашингтонском архиве, а не из иных источников. По сути, это означало запрет на встречи и беседы с людьми, знавшими Набокова в его европейские годы или работавшими с ним в Уэлсли и в Корнелле. Писатель считал, что многие из них питают против него предубеждение.
Такие строгости делали задачу Филда фактически неисполнимой и не удивительно, что он сразу стал нарушать договоренность. Он читал не только то, что было ему указано Набоковым, и записывал свидетельства не только тех, кто был Набокову приятен. Слухи об этом быстро достигли Монтрё. Пошли претензии, размолвки, а там и настоящая война с обеих сторон, которая не прекращалась вплоть до выхода второй филдовской биографии Набокова — весной 1977-го, за несколько недель до смерти писателя.
Причиной их конфликта были не только личные особенности Набокова и Филда, хотя они, конечно, оставили очень ясный след в этой скандальной истории. Когда дошло до конфронтации, Филд отправил в Монтрё письмо с угрозами в духе шантажа и сказал, что Набокову нужна лесть под видом жизнеописания. Это было грубо и несправедливо: лести Набоков не добивался, она и без Филда звучала в его адрес со всех сторон. Отвечая, Набоков еще раз подчеркнул, что от биографа добивается исключительно истины фактов, и он не кривил душой. Но только выходило так, что в набоковском понимании истина каждый раз выявляла его правоту и безупречность, посрамляя тех, кто смотрел на те же самые события и факты чуть иначе. И на самом деле стараясь не вмешиваться в суждения и оценки Филда, даже пропуская в его рукописи те страницы, на которых давались с. разборы произведений и общие характеристики литературной или общественной позиции писателя, Набоков тем не менее делал все, чтобы биография превратилась в сплошной панегирик.
У Филда были причины взбунтоваться, однако его требование некоторой авторской свободы в трактовке материала, само по себе законное, не подкреплялось скрупулезным знанием фактов, которое составляет необходимое условие любой биографии, написанной не ради дешевых сенсаций, а с серьезными целями. Помимо работ о Набокове, Филд писал и романы — обстоятельство, прискорбным образом сказавшееся на качестве его биографических книг, особенно второй и третьей, изданной в 1986 году. Вторую Набоков еще успел прочесть до набора, составил очень длинный список ошибок, решительно потребовал устранить беллетристические домыслы. Они бывали и впрямь оскорбительными — вроде навязчивых подозрений Филда, что Владимир Дмитриевич был незаконным сыном если не Александра II, то великого князя. Что у Набокова были подавленные влечения насильника, в детстве желавшего близости с собственной бабушкой. Что в 30-е годы писатель фактически порвал с семьей. И еще много такого же.
Не говоря о вздорности этих занимательных историй и о том, в каком свете выставляют они Филда, угрожавшего страшными разоблачениями, если Набоков, вздумавший от него скрывать свою истинную природу, на самом деле попробует запретить книгу, такие приемы, взятые напрокат у беллетристики очень среднего качества, в биографическом жанре производят действие смертельного яда. После долгих тяжб и нервных переговоров Набокова и Филда книга все-таки вышла в свет, но выяснилось, что она несостоятельна в качестве биографии. Она подтвердила истину, известную из литературного опыта: рядом с действительными фактами ухищрения беллетристики сразу обнаруживают свою искусственность, легковесность, а читатель, чувствуя это, перестает верить и достоверным сведениям. «Биограф — не романист, — писал Ходасевич во вступлении к своему „Державину“. — Ему дано изъяснять и освещать, а отнюдь не выдумывать».
Настоящая биография Набокова была создана только через тринадцать лет после его смерти и написал ее Брайан Бойд. Это монументальный, в полторы тысячи страниц двухтомный труд, где с образцовой фактологической тщательностью и полнотой показан весь жизненный путь Набокова. Работая в сотрудничестве с семьей писателя, имея доступ ко всем материалам, включая те, что оставались закрытыми для Филда, Бойд сполна использовал эти преимущества. Его книга, может быть, и потребует небольших корректировок, когда архивы откроются для всех, однако, без сомнения, останется и после этого необходимой каждому, кто изучает Набокова.
Как свод информации и документов она безупречна. Встав на точку зрения самого Набокова, который считал, что дело биографа — дать полную летопись событий, выверив даты, можно было бы заключить, что книга Бойда выполнила эту задачу раз и навсегда. Впрочем, она тоже не вполне соответствует набоковской версии идеальной биографии. По разным поводам Набоков не раз говорил, что биография заключена в написанных им книгах и что он не выносит попыток заглядывать в его частную жизнь. Лекции о русской литературе содержат целую тираду против тех, кто «подсматривает через забор за чужой жизнью» и жадным ухом ловит «шелест юбок да подавленные смешки в коридорах времени». Но именно Бойд сделал достоянием гласности единственный эпизод биографии Набокова, который можно было бы описать посредством этих выразительных метафор, — эпизод с Ириной Гваданини. И когда вышел первый том его работы, в откликах больше всего говорилось как раз об этих страницах с душком сенсации.
Главное же, и Бойд, вопреки стремлению Набокова железной стеной отгородить биографию от интерпретации, все-таки свою интерпретацию предлагает. Она носит откровенно дифирамбический характер. Так пишут приветственные адреса к круглым датам, когда положено только умиляться свершениям юбиляра. И этот Набоков тоже безукоризнен всегда, во всем, абсолютно. Его путь ведет неуклонно вверх. На вершине, которая могла покориться лишь его гению, ослепительно сверкает «Ада».
Понятно, что тут определенная концепция, и понятно, что она не бесспорна. Но ничего бесспорного, когда дело касается столь сложных личностей, как Набоков, появиться и не может. «Истинной биографией творческого человека, — писал в свое время Вейдле, — будет та, что и самую его жизнь покажет как творчество, а в творчестве увидит преображенной его жизнь». Если так (а пожалуй, более точного определения биографического жанра нет), никогда не будет создана дефинитивная биография Набокова, потому что каждый его биограф отыщет, говоря словами Вейдле, собственную «формулу совместного выражения жизни и творчества». А биографу Филду набоковские почитатели должны быть признательны уже за то, что своими фантастическими выкладками он спровоцировал появление последнего романа мастера — «Посмотри на арлекинов!».
Эта книга была написана быстро, примерно за год, причем с перерывами (главным образом из-за необходимости проверять Филда). Герой романа — писатель, его зовут Вадим Вадимыч N., почти Владимир Владимирович Н., список его произведений, русских, равно как английских, дается на титульном листе, — вспоминает старую свою книгу (из написанных по-английски она была первой), которая в изложении ее автора очень схожа с «Истинной жизнью Себастьяна Найта», где использован тот же повествовательный ход. Пишущий о Себастьяне взялся за перо, потому что был возмущен стряпней некого Гудмэна, выдаваемой за биографию. На самом деле, помимо многочисленных фактографических погрешностей, Гудмэн до неузнаваемости исказил реальный облик того, чью жизнь он воссоздает. Герой книги Вадим Вадимыча, как В. в «Себастьяне», тоже брат умершего замечательного романиста, и его привела в ярость биография этого романиста, наспех изготовленная каким-то пошляком с оксфордским дипломом. Сначала были негодующие замечания на полях, потом комментарии, постепенно ужимавшие основной текст и совсем его вытеснившие. Комментатор стал авторитетом в области современной литературы, читает о ней лекции в одном американском университете. Однако истинная личность покойного писателя, надо полагать, лишь еще более деформировалась под тяжелой массой заметок, уточняющих и корректирующих чужой недостоверный труд.
Автор, Вадим Вадимыч, характеризует ту свою книгу как произведение сатирическое и в общем неглубокое. Но, кажется, его тревожит, что операция, какой в его романе подвергся блистательный художник, за которого посмертно сочиняют не прожитую им жизнь, может когда-нибудь стать и его уделом. И он принимается, пока не поздно, сам описывать оставшиеся позади семьдесят с лишним лет, стараясь распознать в своем опыте доминирующие темы.
Они, впрочем, и так на виду: женщины, книги. Спорадически возникающий интерес к своей генеалогии — родословная В. В. крайне запутана, тут одни догадки. Подавляемое, но стойкое влечение к нимфеткам. Страх перед слабоумием, усиливающийся от года к году.
При этом у В. В. все время такое чувство, точно его биография, реконструированная как будто бы с наивозможной полнотой (вплоть до кое-каких довольно отталкивающих подробностей) и включающая минуты триумфальных свершений, тем не менее представляет собой некий фантом, пародийную версию или приниженный, тривиальный вариант жизни другого человека — действительно яркого и в искусстве достигшего и вправду многого. Он, В. В., тоже немалого добился, вплоть до серьезных притязаний на самую престижную в мире литературную награду, которая, увы, в итоге досталась какому-то плешивому албанцу, сочинителю необъятных эпических романов (в случае с Набоковым это был не албанец, а бывший секретарь Джойса драматург Сэмюел Беккет, который опередил его при голосовании 1969 года). Но и припоминая свои триумфы, В. В. все равно испытывает чувство, что он лишь бледная копия своего незримого двойника. Что он кого-то довольно бездарно имитирует и, конечно, выглядит жалко.
Другой — фигура во всех отношениях более значительная и бесконечно более привлекательная. Он, в отличие от В. В., состоялся как личность с выстроенным, внутренне не противоречивым душевным миром. И, пройдя, вероятно, через те же испытания и бури, которые судьба послала поколению родившихся, как они оба, в 1899 году в России, сумел сохранить в себе творческую энергию, почти угасавшую у В. В., пока после множества потерь он не обрел ту, кто так и не назван в его рассказе по имени, но составляет центр и смысл его старческого существования.
Не приходится гадать о том, кто он, этот незримый другой. Набоков отдал Вадим Вадимычу едва ли не все основные факты своей личной и писательской биографии. Однако они, все до одного, предстают в искаженной перспективе: за узнаванием тут же приходит понимание, что это либо пародия, либо ироничная игра. Словечко «деконструкция» тогда еще не стерлось от чрезмерной эксплуатации, и критики, писавшие о последнем романе Набокова как об автобиографии, подвергнутой деконструкции, не просто предъявляли доказательство, что они посвящены в модную методологию. Они, кажется, попали в самую точку.
Суть метода деконструкции, разработанного во Франции стараниями таких очень признанных философов и культурологов, как Жак Деррида, Мишель Фуко и другие, заключена в том, что демонстрируется несостоятельность или, во всяком случае, неполнота всех истин, которые заявляют претензии на неоспоримость. На деле, считают приверженцы этой концепции, любая истина носит частный характер и даже с неизбежностью заключает в себе долю ошибки, не зависящей от субъективной искренности и вообще от личных побуждений того, кто эту истину формулирует. Тут заявляют о себе многие обстоятельства: время, социальная среда, культурная традиция, принятые этические нормы — все это непременно сказывается на формулировках, какими бы непогрешимо верными и неукоснительно объективными они ни выглядели. Рано или поздно мы убеждаемся, что эта верность, объективность чисто мнимые, и вот тогда следует разобрать всю конструкцию с надеждой увидеть, где произошло непроизвольное смещение. То есть заняться как раз тем, что предпринял Набоков, когда после трех вариантов своей автобиографии, вроде бы раз и навсегда установивших истину относительно его жизненного опыта, он принялся ее переписывать, введя персонажа, на которого мог смотреть не изнутри, как было в лирическом повествовании о самом себе, а извне, именно как на персонажа в галерее других.
Тут, правда, можно было бы сразу возразить, что автобиография рассказывает главным образом о детстве (а дальше, с большими пропусками, конспективно — о европейской жизни, завершающейся бегством за океан), тогда как «Посмотри на арлекинов!» — полотно, где уместилась вся жизнь В. В., и американскому периоду даже уделяется основное внимание. Но это сущая мелочь при том обилии явных или косвенных совпадений с биографией автора, которые обращают на себя внимание читателей романа, задуманного В. В. как повествование о своей жизни. Правда, критики резонно замечали, что в полной мере оценить эти совпадения или отличия, а также воздать должное набоковскому искусству пародии может лишь тот, кому известны все тридцать с лишним книг, которые к моменту появления «Арлекинов» составляли послужной список их автора, и что такого можно ожидать лишь от эрудитов, ни от кого больше. Именно по этой причине последний роман Набокова был обречен на неуспех у публики, а обвинения в том, что у автора болезнь самолюбования — «нарциссизм», — сделались дежурными.
Нельзя их просто отмести как беспочвенные, однако Набокова подобные обвинения не смущали. Он твердо решил, что будет присутствовать в тексте мемуаров (или автобиографии, или исповеди) В. В. и что присутствовать он там будет на правах художника, чей уровень — творческий и нравственный — недостижим для героя, мучающегося своей неспособностью соответствовать великому образцу. Это присутствие объясняет, отчего в нарочито замутненном, искажающем отражении проступают те же самые реалии, которые прекрасно известны читавшим «Другие берега» и следившим за литературной судьбой их автора.
Итак, оба, Н. и N., петербуржцы, хотя дом первого был на Морской, а особняк второго стоял в более не существующем проезде у Фонтанки. Оба на всю жизнь запомнили счастливые летние месяцы в своих поместьях, однако Ингрию в романе заменили заволжские степи (невозможные, так как имение N. находилось под Кинешмой, где сплошь леса, — впрочем, Н. там никогда не бывал). Оба бежали из России после октябрьского переворота, причем N. героически, при переходе границы прикончив — в точности так же поступил бы Юрик Рауш — лопуха-красноармейца, объедавшегося черникой. Оба получили образование в Кембридже, в Тринити-колледже, и обоим случалось видеть поэта Хаусмана в тамошней библиотеке. Оба посвятили себя литературе (N. целиком, не отвлекаясь на бабочек), оба бравируют равнодушием к политике и социальным проблемам. Первая книга N., который явно читал «Другие берега», называлась «Тамара», но знакомые путали и говорили «Машенька» (ему тоже случалось в лекции вместо Шелли помянуть Шиллера). Первым его большим успехом стал роман про человека, которому отрубают голову. А своею славой он обязан пикантной любовной истории с очень юной героиней и героем солидного возраста. Книга называлась «Королевство у моря», по строке из тех стихов Эдгара По, что все время отзываются в «Лолите».
Для чего весь этот маскарад, к концу которого приготовлена еще поездка В. В. в Ленинград, описанная стилистикой памфлета вроде советских сочинений про «город желтого дьявола»? Всего лишь с целью осмеять и дискредитировать собственного биографа, которого Набоков к этому времени презирал и ненавидел? С намерением деконструировать собственную автобиографию, отделаться от сделавшихся тягостными — из-за их навязчивости — воспоминаний и затем предпринять опыт нового жизнеописания? Какие-то планы такого рода у Набокова в самом деле были. Переписывать уже трижды изданную книгу он, правда, не хотел, но думал ее продолжить томом «Память, говори еще».
Видимо, нужно помнить про оба эти стимула, особенно про первый, про загодя производимую дискредитацию Филда. Но все-таки, принимаясь за роман, Набоков руководствовался главным образом не ими. Истинная тема книги обозначена метафорой, подсказавшей ее заглавие. Арлекин — прелестная бабочка, вечный набоковский символ красоты мира и магии искусства. Знаменательно, что В. В. совсем не энтомолог: лишь однажды, гуляя за городом в обществе той, кто станет второю из четырех его жен, он замечает арлекина, сидящего на садовой ограде, и тут же спутница, опуская его с небес на землю, констатирует: это обыкновенная капустница из тех, которым дети с младенческой жестокостью обрывают крылья.
Наделенный, по его собственным уверениям, способностью создавать дивные словесные узоры, — она и сделала ему имя в литературе, — В. В., однако, лишен самого главного: умения видеть арлекинов, когда вокруг обыкновенные деревья и звучат обыкновенные слова. У него нет дара так соединять иронию и образ, чтобы получился «тройной арлекин», а не тот изысканный каламбур, которым не удовольствовалась бы старая родственница, в раннем детстве внушавшая ему: арлекины повсюду, смотри на них, играй. «Изобретай мир! Сотвори реальность!»
«Я так и поступил, — доканчивает рассказ об этом эпизоде своего младенчества В. В. — Так и поступил, клянусь Юпитером. Я изобрел свою двоюродную бабку, чтобы увековечить те мои первые сны наяву». Но горячность не повышает доверия к этим клятвам. Собственно, ощущение, что он только чей-то не очень удавшийся двойник, то, которое неотступно преследует В. В., больше остального порождается тайным пониманием, что арлекин не пропорхнул над написанными им страницами. Что тень арлекина не распознать, когда герой вспоминает прожитую жизнь, удостоверяясь, что он всего лишь «неведомый близнец, ухудшенное издание чужого бытия».
Для Набокова арлекин должен был служить и метафорой, которая обладает сокровенным личным значением. Это одна из самых знаменитых масок, созданных человеческой фантазией, а когда в 1923-м произошла первая встреча начинающего писателя Сирина и Веры Слоним, будущая спутница Набокова — они познакомились на костюмированном балу — была в маске. «Другой писатель», которого В. В. вспоминает с нескрываемой завистью, смог, увидев арлекина, сделать его ручным и превратить в свою музу. В. В., чей узор жизни сплетается из жен, измен, комплекса своей безродности и всегдашнего ощущения, что его по-настоящему не оценили, лишь уверяет себя, будто завету той двоюродной бабки — она, кстати, была из Толстых — он следовал неуклонно и всегда.
В действительности Вадим Вадимыч существо не слишком привлекательное, и только в последней части романа автор вдруг начинает щедро его осыпать свидетельствами своей любви. Действие этой части начинается в тот день, когда, насовсем покидая колледж, где он преподавал, пока не прославился «Королевством у моря», В. В. роняет папку с рукописями, и пленительная особа, ровесница, а когда-то одноклассница его дочери, бросается собирать разлетевшиеся по газону листки. Эта встреча и все последующее — особе суждено стать четвертой миссис N. — изображено не без слащавости и заставляет вспомнить описание спальни молодых супругов, которую обставляли тесть и теща Чорба, не позабывшие ни о перине, ни о коврике в изножье, с надписью «Мы вместе до гроба». Однако умиленность не в состоянии оживить кукольную фигуру героини, оставленной без имени, так как В. В. не описывает ее, а непрерывно воспевает, пользуясь восторженным «ты». Не помогли и прямые цитаты из «Других берегов», из последней, предельно лиричной главы, где супруги Набоковы направляются в порт к американскому пароходу и ведут за руки сына. Сердитый рецензент последнего романа Набокова написал, что его идеальная героиня напоминает статистку в оперетте, и выразил недоумение, каким образом можно было дойти до такой художественной стерильности. Но странно было и ожидать, что после «Ады», где страницы о любви непременно подкрашены тем особенным оттенком, который Толстой, говоря о французской фривольной прозе, точно назвал гадостностью, принимаемой за истинное чувство, Набоков будет в состоянии вернуться к лиричности в полном значении этого понятия.
Прозвучали и суждения, каких до «Арлекинов» никто себе не позволял, считаясь с магией имени их автора. Впрочем, по духу они были вполне набоковские, если вспомнить хотя бы полемику с другими перелагателями «Онегина». Стоило ли удивляться, что теперь не упустили случая заметить: похоже, самого автора постиг паралич — творческий, а не физический, который в романе был уготован его двойнику.
Откликов в подобном духе следовало ожидать непременно. Достаточный повод для них предоставил бы даже один эпизод с поездкой В. В. в Ленинград на поиски дочери, вышедшей за американского поборника коммунистической идеи, который потом сгинул в советских трудовых лагерях. Ленинград с конца 60-х годов регулярно посещала сестра писателя Елена Сикорская, там бывали знакомые Набокову филологи-русисты, так что не составляло труда подобрать, не покидая Монтрё, две-три выразительные детали вроде расцветки занавесок на окнах советских авиалайнеров или вида памятника Пушкину на площади перед Русским музеем. Все остальное было почерпнуто либо из фельетонов, либо из комиксов: сопровождающий В. В. от самого Парижа чекист с растрепанной бородой и цепким взглядом из-под очков, изготовление подложного паспорта, несъедобная котлета в ресторане «Астория». И запах пережаренного лука, которым тянет на каждой улице. И матерно переругивающиеся бабы-лифтерши в гостинице с претензиями на европейский сервис.
Критику, включая ту, что была расположена к Набокову, больше всего поразила блеклость, стилистическая невыразительность этих страниц да и почти всей книги. Неужели это Набоков, чародей языка, самый изобретательный и непредсказуемый из современных авторов, пишущих по-английски? «Вне стиля» — назвал свою рецензию входивший в моду английский прозаик Мартин Эмис, чей вердикт: «скверно написанная книга» — был самым огорчительным для Набокова. Другой англичанин, Питер Акройд, которого вскоре начнут воспринимать как новую литературную звезду, судил еще резче: Набоков — посредственность, раздувшаяся от самомнения, и ничего больше.
Это была предсказуемая расплата за нетерпимость и порой откровенную грубость, которую в отзывах о современниках да и о классиках не раз позволял себе сам Набоков. Человеку, который сказал в интервью, что сообщение о битком набитом, охваченном восторгом зале какого-то колледжа, где читал лекцию поэт Эзра Паунд, заставляет думать, как много в академическом мире кретинов и сумасшедших, следовало быть готовым к ответным выпадам, едва представится возможность. Последний роман Набокова подарил такой шанс, и критика его не упустила: кинулась на ослабевшего льва, как-то сразу позабыв, что еще не так давно мэтр умел писать книги, по уровню, по значительности несравнимые ни с «Адой», ни с «Арлекинами».
Неуспех романа окончательно охладил энтузиазм издателей, вероятно, пожалевших о том, что их с Набоковым связывает новое соглашение: шесть книг в ближайшие четыре года, включая такие неперспективные в коммерческом отношении, как сборник пьес и том переводов из русской поэзии. Мог бы пожалеть о том, что подписал этот контракт, и сам Набоков. Возраст начинал о себе напоминать. 22 апреля 1974-го писатель отметил свой семьдесят пятый день рождения.
Приезжавшим в Монтрё он по-прежнему казался полным энергии, пышущим творческим энтузиазмом. Но в действительности все было не совсем так. И даже совсем не так.
Набоков чувствовал, что его время уходит. Его не хватало, чтобы осуществить давние замыслы и, главное, окончить новую книгу, которую следовало в 1976-м, по заключенному договору, представлять в издательство. Роман был тщательно обдуман, уже написан в отрывках — на перебеленных или оставшихся первыми вариантами карточках; текст относился к разным главам и не составлял целостного фрагмента. Было заглавие — «Оригинал Лауры», было стилистическое решение. В дневнике сказано: «Роман, где не будет „я“, не будет „он“, а будет повествователь, чей взгляд как бы скользит, ни на чем не останавливаясь, но все время о себе напоминая в книге». Набоков интенсивно работал над этим романом зимой 1975/76 года, в апреле сообщив издателю, что готово около ста страниц — примерно половина книги. Но дописать ее было не суждено.
Он понимал, что может не успеть. К ящичку, куда складывались готовые карточки, еще когда писались «Арлекины», был приклеен листок с разъяснением, что рукопись не должна публиковаться, если она не будет доведена до конца автором. С «Оригиналом Лауры» это и произошло.
Работа остановилась летом 1976-го, когда пошли болезни. Началось с неудачного падения на горном склоне во время охоты на бабочек. Потом появились неприятности с легкими. Несколько раз приходилось ложиться в больницу — лучшие были неподалеку, в Лозанне.
Там, в Лозанне, в больничной палате Набоков и умер 2 июля 1977 года. Была кремация в присутствии родных и двух-трех друзей, особенно близких семье. Урну захоронили на кладбище Кларанса, городка минутах в двадцати ходьбы от Монтрё. Четырнадцать лет спустя могила — на ней мраморная плита, даты жизни и надпись по-французски: «Владимир Набоков, писатель» — приняла Веру. Ее останки легли в ту же урну.
Последние годы Набокова не были временем старческой деградации. Беллу Ахмадулину, приезжавшую в Монтрё ранней весной 77-го, — она была первым и единственным литератором из послевоенного СССР, кто видел живого Набокова, — поразила интеллектуальная да и физическая бодрость уже очень немолодого писателя. Видела бы она Набокова хотя бы полугодом раньше! В мае 75-го он еще смог приехать в Париж для телеинтервью с Бернаром Пиво, популярным ведущим престижной литературной программы «Апострофы». Она была приурочена к выходу французского перевода «Ады».
Над этим переводом Набоков просидел, сверяя и правя очень путаный текст, всю зиму. Работал по десять — двенадцать часов в день, забросив собственный новый роман. Серьезно обдумывал, не сделать ли ему самому и важнейшее для него переложение, пока его любимая «Ада» не появилась, вместо «романтического и точного русского», на «сов-жаргоне». Но понял, что сил для этого нет. Они, видимо, как раз и были подорваны, когда он изнемогал над французским текстом. Наградой стали комплиментарные отзывы парижской критики и вторая строка в списке бестселлеров.
Наивно сожалеть о том, что достижению слишком мизерной цели отдано так много выматывающего труда. Набокову был необходим серьезный литературный успех. Реакция на «Арлекинов» да и быстрое охлаждение к «Аде» после неумеренных славословий переживались им болезненно. А его политические мнения, которые были обнародованы в появившемся перед «Арлекинами» сборнике интервью, пришлись очень не ко времени.
Набоков формулировал их жестко, без оговорок, и заглавием этого сборника — «Твердые мнения» — еще раз подчеркнул свою бескомпромиссность. Реакция была ожидаемой: одни насмешки. Да и не только тогда, в начале 70-х годов, которые ознаменовались мощным антивоенным движением и кампанией за гражданское равноправие, но в любой другой период не могли бы расположить к себе интеллектуальную и молодежную среду заявления в том роде, что Набоков испытывает чувство счастья каждый раз, когда ему приходится извлекать на свет свой американский паспорт, что во Вьетнаме его страна занята бескорыстной помощью страдающим от коммунизма, что вашингтонские политические ястребы на самом деле благородные люди, и так далее. Нападки на Фрейда прискучили постоянным читателям Набокова, а его полемика относительно природы времени не с кем-нибудь, а с Эйнштейном, выглядела действительно комично. Провал «Твердых мнений» был полным и очевидным.
Едва ли французская «Ада» была способна в полной мере послужить исцеляющим пластырем, и все-таки именно она стала для Набокова последним литературным торжеством. Беседуя перед телекамерой с Бернаром Пиво, писатель говорил о «мирных лучах идеальной старости», которые на склоне лет согрели героев этого романа. И давал понять, что в этом отношении они похожи на самого автора.
Чистый домысел — все рассуждения на тему, в самом ли деле это было так.
Во всяком случае, Набокова, в отличие от его двойника В. В. из «Арлекинов», не изводил страх перед угрозой умственного одряхления — ее просто не существовало, — и не тревожили мысли о том, что он лишь невыразительная имитация какой-то другой, намного более сильной творческой личности. Окружающие были убеждены, что он, безусловно, крупнейший художник своего времени. Сам он, не высказываясь в таком же духе, тем не менее умел напомнить о своем значении и величии. Редактор воскресного приложения к «Нью-Йорк таймс», предложивший летом 1975 года, чтобы Набоков провел интервью с самим собой, суммировав все основные темы своего творчества, получил ответное письмо такого содержания: это возможно, если гонорар будет доллар за слово, «а не пролетарские полдоллара», как платили остальным. Дело было, конечно, не только в деньгах, а в престиже: Набоков уникален, это должно проявляться всегда и во всем.
С начала 70-х в Монтрё стали появляться бывшие советские писатели, высланные или выжитые из России. Приезжал Виктор Некрасов — беседа не удалась, они были людьми со слишком разным жизненным опытом и душевным складом. Потом Набокова посетил (и понравился ему гораздо больше) Владимир Максимов. Ждали Солженицына. Перелистав «Архипелаг ГУЛАГ», Набоков отметил в дневнике, что с художественной стороны это уровень журналистики, но автор не лишен дарований пламенного оратора и необходимо отдать должное его исторической прозорливости. Солженицын приехал в Монтрё осенью 74-го, но встреча не состоялась из-за чистого недоразумения.
Два набоковских выступления в защиту преследуемых советских диссидентов (к этому его очень склоняли молодые друзья, чета Профферов, американских русистов, в чьем издательстве вышли перепечатки почти всех русских книг Набокова) не произвели серьезного эффекта. Его общественная позиция, только недавно возвещенная «Твердыми мнениями», была слишком откровенно реакционной, и поэтому считалось за благо не воспринимать всерьез любые политические комментарии Набокова и относиться к нему как к чистому художнику. Да как-то и не верилось, что Набоков серьезно обеспокоен судьбами страны, некогда являвшейся его отечеством.
Косвенно обоснованность этих сомнений подтвердил он сам в том же майском телеинтервью 1975 года, когда в ответ на ожидаемый вопрос об изгнании и чувстве потерянности сказал, что потерянным он себя чувствует везде, что это никак не связано «с географической, физической, политической Россией». И, без тени иронии или розыгрыша, подытожил: эмигрантские критики, «так же как и мои школьные учителя в Санкт-Петербурге, были правы, жалуясь на то, что я недостаточно русский».
Тут остается только вспомнить пушкинское, в знаменитом письме Чаадаеву высказанное: «Клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам Бог ее дал».
Знающие Набокова согласятся, что это не о нем.
Смерть В. Рукавишникова, оставившего в наследство племяннику свое огромное состояние.
Вышел поэтический сборник «Горний путь».
Напряженные поиски работы за пределами рейха.
Собрание сочинений русского периода. Т. 1–5. СПб., Симпозиум, 1999–2000.
Собрание сочинений американского периода. Т.1–5. СПб., Симпозиум, 1997–1999. (С. Ильин, которому принадлежат практически все русские версии, вошедшие в этот пятитомник, был охарактеризован в аннотации к первому изданию его «Ады» как «наиболее чувственный переводчик Набокова, вдохновенный и раскованный». Читателю следует помнить об этой раскованности, существенно повлиявшей на достоверность воссоздания набоковских текстов.)
Набоков В. Романы (Истинная жизнь Себастьяна Найта. Пнин. Просвечивающие предметы. Пер. А. Горянина, А. Долинина, М. Мейлаха, Б. Носика). М., Художеств, лит., 1991.
Набоков В. Рассказы. Приглашение на казнь. Эссе. Интервью. Рецензии. М., Книга, 1989.
Набоков В. Лекции по русской литературе. М., Независимая газета, 1996.
Набоков В. Лекции по зарубежной литературе. М., Независимая газета, 1998.
Набоков В. Комментарии к «Евгению Онегину» Александра Пушкина. М., Интелвак, 1999.
Набоков В. Стихотворения и поэмы. Харьков, Фолио. М., ACT, 1997.
Nabokov Vladimir. Selected Letters 1940–1977. Ed. by D. Nabokov and M. J. Bruccoli. N.Y. — Ld, 1989.
Владимир Набоков. Pro et Contra. Личность и творчество Владимира Набокова в оценке русских и зарубежных мыслителей и исследователей. Антология. СПб., Издательство РХГИ, 1997.
Классик без ретуши. Литературный мир о творчестве Владимира Набокова. М., Новое литературное обозрение, 2000.
Набоковский вестник. Вып. 2. Набоков в родственном окружении. СПб., 1998.
Набоковский вестник. Вып. 3. Набоковские родовые гнезда. СПб., 1999.
Анастасьев Н. Феномен Набокова. М., Советский писатель, 1992.
Александров В. Е. Набоков и потусторонность: метафизика, этика, эстетика. СПб., Алетейя, 1999.
Букс Н. Эшафот в хрустальном дворце. О русских романах Владимира Набокова. М., Новое литературное обозрение, 1998.
Гессен И. В. Годы изгнания. Париж, ИМКА-пресс, 1979.
Гурболикова О. А. Тайна Владимира Набокова. Процесс осмысления. Библиографические очерки. М., 1995.
Звезда. 1996. № 11. Специальный номер — Владимир Набоков. Неизданное в России.
Звезда. 1999. № 4. Специальный номер — Владимир Набоков. К 100-летию со дня рождения.
Носик Б. Мир и дар Владимира Набокова. М., Пенаты, 1995.
Проффер К. Ключи к «Лолите». СПб., Симпозиум, 2000.
Шаховская 3. А. В поисках Набокова. Отражения. М., Книга, 1991.
The Garland Companion to Vladimir Nabokov. Ed. by V. Alexandrov. N.Y., 1995.
Barton Johnson D. Worlds in Regression: Some Novels of Vladimir Nabokov. Ann Arbor, 1985.
Boyd B. Vladimir Nabokov: The Russian Years. Princeton, 1990.
Boyd B. Vladimir Nabokov: The American Years. Princeton, 1991.
Field A. Nabokov: His Life in Part. N.Y., 1977.
Parker S. J. Understanding Vladimir Nabokov. University of South Carolina, 1987.