Станислав Зарницкий
Чичерин
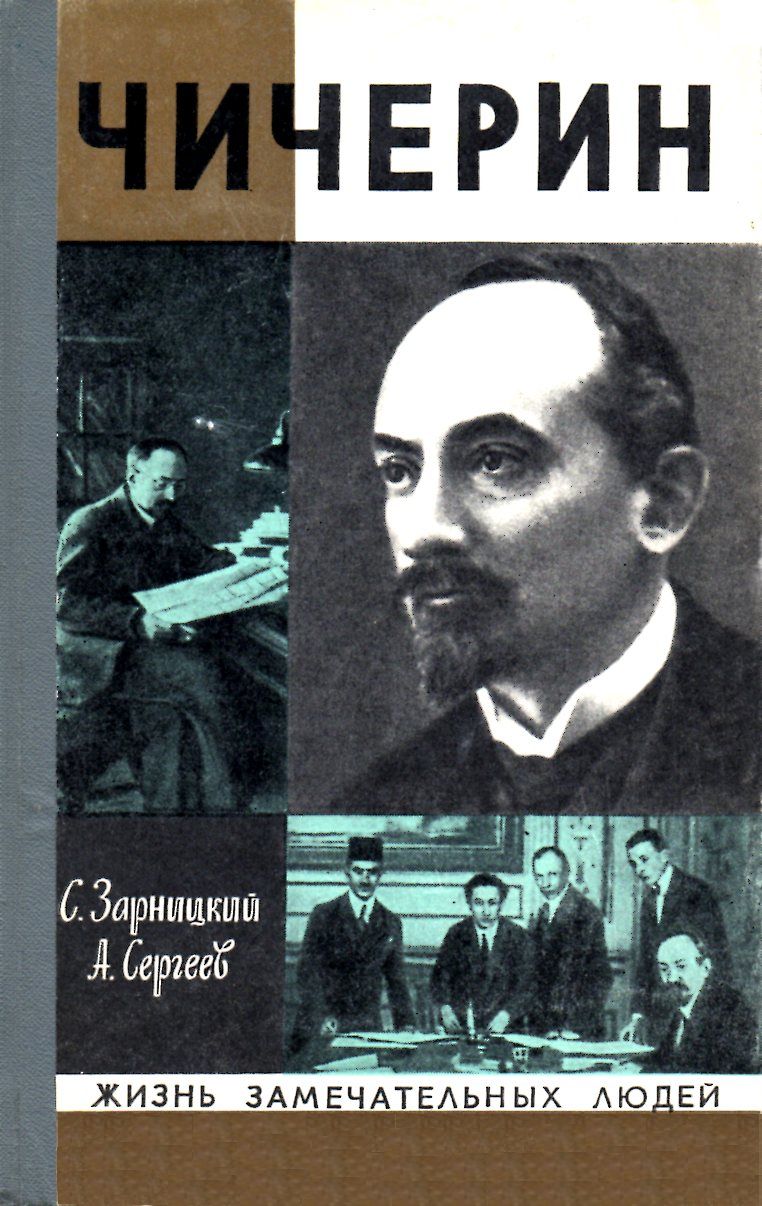
Авторы приносят глубокую благодарность родственникам Георгия Васильевича Чичерина: |Н. Д. Чичериной| и А. В. Чичерину, его ближайшим помощникам и сотрудникам НКИД СССР |С. И. Аралову|, |И. И. Левину|, |Б. И. Короткину|, Б. И. Козловскому, Я. Ю. Клявиню, А. Г. Умблия, а также заместителю начальника Историко-дипломатического управления МИД СССР А. А. Маслакову и сотруднице управления Л. И. Трофимовой за их неоценимую помощь в работе над книгой о народном комиссаре иностранных дел СССР Георгии Васильевиче Чичерине.
«Родившись в отличной буржуазной семье, — уверяла 18 апреля 1922 года французская газета «Либерте», — Грегуар Чичерин с самых ранних лет увлекся коммунизмом и даже совершил в сопровождении верного слуги паломничество в Сибирь. Возвратившись оттуда, он поступил в министерство иностранных дел, где уже работал его родной брат Баба. Царь весьма заинтересовался пылким молодым Чичериным и сделал его государственным советником. Вскоре Чичерин перевелся в Лондон, где подал в отставку. Это событие было в свое время горячо обсуждаемо в Санкт-Петербурге. Говорили, что Чичерин продал одной иностранной державе секретные документы. Справедливость требует отметить, что это была неправда и что Чичерин был вынужден уйти, ибо полиция царя открыла, что он раздавал политическим эмигрантам свои доходы. Отсюда видно, какого опасного противника мы имеем в лице Чичерина».
И не такие еще сочинения гуляли по свету об этом человеке. В них редкие слова правды затмевала преднамеренная ложь. Кем же в действительности был он?
Род Чичериных — старинный дворянский, не захудалый, предки не размотали его богатства.
Некий игумен Воейков собрал достоверные известия об «историческом родословии благородных дворян Чичериных» и поведал миру об их деяниях.
«Афанасий Чичерин природою итальянец, — писал игумен, — в 1472 году выехал с Греческою Царевною Софиею Фоминишною, дщерию Фомы Палеолога Деспота Морейского, племянницею родною Царям Греческому Иоанну и последнему Константину Мануиловичам Палеологам, которая была в супружестве с Великим Князем Иоанном Васильевичем Всероссийским». И чем дальше, тем больше сливалась история Чичериных с историей дворянской России. Из их среды вышли многие известят генералы, дипломаты, губернаторы. Династия Романовых утвердилась не без их участия: в 1611 году думный дьяк Иван Иванович Чичерин в числе прочих подписался под грамотой об избрании на российский престол Михаила Романова.
Петр I, жалуя Федору Чичерину новую вотчину, приказал «на ту вотчину… ему дати сию НАШУ Царскую жалованную Грамоту за НАШЕЮ Царскою красной печатию, на память в предбудущим рода его, что он за мужественное свое и храброе в воинских делах стояние сию НАШУ Царскую милость получил, и чтобы впредь, на его службы смотря дети его, внучата и правнучата и кто по нем его роду будет, также за веру Христианскую, и за Святыя Божия Церкви, и за всех Великих Государей, и за свое отечество стояли крепко и мужественно…»
Дед Георгия — тамбовский помещик Николай Васильевич Чичерин в 1837 году купил имение — село Караул в Кирсановском уезде, в живописной местности на берегах реки Вороны; здесь несколько позже собиралась тамбовская знать; с Караулом тесно связана судьба Георгия Чичерина.
Широкую популярность Чичериным принесла деятельность дяди Георгия — Бориса Николаевича. Это его историк В. Соловьев назвал наиболее образованным человеком не только среди русских, но, может быть, и среди многих европейцев.
Борис Николаевич прославился своими либерально-монархическими взглядами. Приверженец Шеллинга и Гегеля, он вместе с Шевыревым, Катковым и Давыдовым возвеличивал царскую монархию и оправдывал привилегии дворянства. Позже его наследие стало идейным оружием кадетов и черносотенцев. Как сотни раз до этого в истории, эпигоны и здесь разрушили «рациональное зерно» учения, превратив многие его основные положения в прямую противоположность.
Они постарались забыть, что Б. Н. Чичерин позволял себе выражать недовольство, а в ряде случаев и несогласие с дворянскими консервативными порядками. Он даже проявил огромную для того времени смелость: в 1858 году приехал в Лондон к Герцену. Правда, эта встреча привела лишь к тому, что после нее идейные противники стали личными врагами.
Б. Н. Чичерин не был революционером ни по слову, ни по духу, однако среди либералов, верноподданных его величества, он пользовался репутацией преследуемого и гонимого. Гром аплодисментов раздался в 1868 году, когда он хлопнул дверью Московского университета, заявив, что совесть и честь не позволяют ему оставаться долее в стенах учебного заведения, где главней добродетелью считается лишь слепое почитание властей. Разгневанный профессор покинул Москву и уединился в своем родовом имении.
Вскоре сюда прибыл вместе с семьей и его брат Василий Николаевич.
Жизнь обошлась с ним весьма круто. Этот светский лев, блистательный дипломат неплохо начал свою карьеру. Когда его брат встречался в Лондоне с Герценом, Василий Николаевич уже был секретарем русской дипломатической миссии в Пьемонте.
В 1859 году на борту русского корабля, прибывшего в генуэзский порт, он обвенчался с Жоржиной Егоровной Мейендорф, внучкой графа Штакельберга, участника Венского конгресса. Жена не только принесла дому приданое, на и способствовала установлению важных связей с петербургским светом. Прошло немного времени, и Василий Николаевич Чичерин уже советник русского посольства в Париже. Началось многообещающее восхождение на вершины дипломатической службы.
Увы, вскоре все неожиданно изменилось.
В Париже Чичерин свел знакомство с издателем газеты «Ля Насьон» Дюпоном. Тот обязался за известную мзду публиковать русскую информацию. Но сотрудничество длилось недолго. Дюпон прогорел. Конкуренты разорили его, и тогда он решил отыграться на столь легкомысленно положившемся на него русском советнике.
Напрасно посольство пыталось отмежеваться от ловкого газетчика, замять неприятный для него инцидент. Суд департамента Сены, куда обратился Дюпон, признал Чичерина совладельцем газеты, а следовательно, и соответчиком. С Дюпоном нужно было разделить не только долги, но и позор. Парижские аристократы, прежние друзья были шокированы, они с презрением отвернулись от Чичерина, теперь его избегали. Дипломат без связей — это уже не дипломат.
И именно в эти дни происходит ссора с двоюродным братом жены, окончившаяся грубым оскорблением Василия Николаевича. Дворянская честь требовала смыть позор кровью, но — ужас! — Чичерин, сославшись на свои религиозные и моральные принципы, отказался от дуэли. Через несколько дней он подал прошение об отставке.
Отставка была принята незамедлительно, министерство иностранных дел Российской империи не нуждалось в людях, «запятнавших свою дворянскую репутацию».
Василий Николаевич вместе с женой и старшим сыном Николаем, родившимся в Париже в 1865 году, уехал в Россию.
Летом 1872 года Василий Николаевич со всей семьей гостил у брата в родовом имении Караул. Здесь и родился Георгий Чичерин.
Однажды, уже будучи наркомом иностранных дел, Чичерин полуиронически, полусерьезно заметил:
— С самого рождения я начал отделять официальную сторону от фактической…
Для этого замечания имелось веское основание. При крещении полуграмотный, к тому же еще глуховатый священник, вконец растерявшийся оттого, что ему приходится иметь дело с отпрыском знатнейшей дворянской фамилии, не расслышал день рождения младенца. Переспросить побоялся и после недолгого замешательства записал: 20 ноября (по старому стилю), а не 12-го, как это было на самом деле, у дворянина Василия Николаевича Чичерина и его супруги Жоржины Егоровны родился сын, нареченный Георгием. Позже ошибку заметили, но решили не исправлять, сочтя ее малозначащей.
С малых лет Георгий был предоставлен самому себе, часто бывал в обществе взрослых, жадно прислушивался к их разговорам, многое запоминал. «Я рос среди всевозможных воспоминаний из дипломатического мира… — писал он в своей автобиографии. — Политические настроения в семейной среде были либерально-оппозиционные, и я с детства привык к тому, что правительство надо ругать».
В тот период в России все более и более ощущалось наступление новой эпохи: на смену крепостничеству неотвратимо шел капитализм. Его вторжение невозможно было остановить ни речами об особом славянском пути развития России, ни феодально-изуверскими мерами правящей верхушки. Рушился старорусский патриархальный уклад. В соломенном краю заблестели железные крыши на хоромах лавочников и деревенских богатеев, гудки заводов заглушали перезвон церковных колоколов, ложились в российские дали стальные рельсы железных дорог.
А в тамбовском доме Чичериных пытались этого не замечать. Здесь жили прошлыми, обветшалыми понятиями либералов. Жоржина Егоровна ходила «в народ», проповедовала мистическое учение сектантов-пашковцев, раздавала беднякам деньги, брошюрки с немудрящими проповедями о спасении заблудших душ.
Чичерины были настолько ревностными участниками секты, что удостоились персонального осуждения со стороны официального мракобеса Феофана Затворника.
В памяти Георгия надолго сохранились сцены встреч пашковцев в доме родителей. Они буйно ругали попов, злорадно смеялись над иконами, громко распевали свои стихи, горячо молились и произносили длинные, непонятные для Георгия проповеди. Приходили и священники. Они призывали забыть ересь и вернуться в лоно православной церкви.
Родители Георгия слыли филантропами. В селе Покровском они открыли сельскую школу и пункт врачебной помощи. В школе несколько позже начала работать молодая учительница Наталья Дмитриевна. Со временем она стала женой и верный другом старшего сына Чичериных. Георгий всю жизнь относился к ней с большим уважением. И брат Николай, и она были для него самыми близкими людьми, которым он доверял сокровенные свои мысли, особенно в последние годы жизни.
Мрачная обстановка в семье внесла в душу мальчика много грустного. Он рос застенчивым, замкнутым, мечтательным.
— В детстве у меня было детство, — сказал однажды советский дипломат Боровский.
— В детстве у меня не было детства, — мог бы сказать Георгий Чичерин.
Георгий мог часами перебирать старые дипломатические документы, которые его мать хранила как семейные реликвии. И когда он научился читать, то с увлечением перечитывал всевозможные мирные трактаты. Они не казались ему скучными чиновничьими творениями, его богатое воображение рисовало сочные картины дипломатических сражений. Он рылся в энциклопедиях, упивался книгами.
В них ему открывался чудесный, новый мир. Георгий любая мечтать, и порой вымысел так переплетался с правдой, что он сам начинал верить в свои фантазии, А еще Георгий полюбил музыку, ставшую верной спутницей всей его жизни.
Скучно зимой в Тамбове. Пустынные улицы утопали в сугробах. Георгий с нетерпением ожидал наступления весны. Лето семья Чичериных проводила в селе Покровском Козловского уезда. Часто бывали и в Карауле у дяди Бориса, и в богатом имении Нарышкиных. (Сестра Василия Николаевича была замужем за потомком, древнего боярского рода Э. Д. Нарышкиным.) Их хорошо принимали, но Василий Николаевич тяготился родственниками: ему казалось, что своим гостеприимством они подчеркивают жалость к нему и унижают его.
Жоржина Егоровна часто ходила в соседние деревни, иногда брала с собою Георгия. И везде «благодетельнице» жаловались на свои нужды, ее произведи слушали рассеянно, из одного почтения. В 1877 году Александр II запретил пашковцам проповедовать их учение, но они, в том числе и Жоржина Егоровна, тайно продолжали свою, деятельность. Георгий знал, что мать занимается чем-то запретным, и поэтому путешествия с ней приобретала таинственный, привлекательный характер.
Георгий внимательно прислушивайся к разговорам. Жалобы, мужиков надолго сохранились в его отзывчивом сердце. Он рано стал понимать, что на земле много горя и страданий, что беды бывают не только в книгах.
Русско-турецкая война заставила забыть пашковскую филантропию. Газеты захлебывались от верноподданнических чувств, славили царя-батюшку. Купцы и дворяне жертвовали деньги; русские солдаты просто, буднично проявляли неподдельный героизм. Герои Шипки и Плевны — рабы его величества императора всероссийского — вызволяли из турецкого рабства своих братьев — болгар.
Василий Николаевич в эти дни совсем преобразился, он готовился идти на фронт: если и будет пролита его кровь, то не бесцельно, во имя каких-то средневековых предрассудков, как того требовала дворянская «честь». С тех пор, как он, оскорбленный, отказался от дуэли, в Тамбове на него смотрели как на жалкого труса. Наконец представлялся случай опровергнуть наветы клеветников, покончить со всеми оскорбительными сплетнями.
Василий Николаевич добровольно записался в Красный Крест. Семья со слезами проводила его на фронт и теперь с нетерпением ожидала вестей, потянулись дни, полные мучительной тревоги.
Но вот война кончилась, был подписан Сан-Стефанский договор. Дипломаты в расшитых золотом мундирах разделили то, что завоевали люди в грубых солдатских шинелях.
Регулярные части загнали в казармы, добровольцев и калек отпустили по домам. Первых победителей встречали с оркестрами и цветами, затем все стало будничным, победителей никто уже не встречал, кроме их близких. Вернулся домой и Василий Николаевич. Но от его восторженности не осталось и следа. Он почти ничего но рассказывал, стал еще более нелюдимым.
Здоровье было подорвано, болезнь подтачивала силы, редкий душевный подъем сменялся стойкой апатией.
Тем временем два событии потрясли полусонный Тамбов. В марте 1881 года пришла ошеломляющая новость: «злодеи» убили «царя-освободителя» Александра II. В церквах служили молебны. Либералы тряслись в страхе, ожидая крутых мер. Доходили вести об арестах, о замене одних чиновников другими, о чистке в С.-Петербургском университете. Новый император твердо забирал бразды правления в свои руки.
В середине ноября другая новость: из Петербурга прибыл специальный курьер, его императорское величество Александр III повелел Нарышкину прибыть в Петербург; высочайшим указом он назначен обер-гофмаршалом императорского двора.
Нарышкины и раньше пользовались в Тамбове большим почетом, теперь перед ними стали гнуть спину даже те, кто быта им ровен. Благосклонности Александры Николаевны Нарышкиной, родной тетки Георгия, новоиспеченной статс-дамы государыни императрицы, домогались многие. Тамбовский свет сменил гнев на милость: людей с такими родственниками, как у Чичериных, нельзя презирать. Однако Василия Николаевича уже ничто не интересовало; его болезнь резко обострилась. Он полагал, что роль его сыграна.
Для Чичериных наступила тяжелая зима 1882 года.
Василий Николаевич Чичерин, отставной советник русского посольства в Париже, потомственный дворянин, участник русско-турецкой войны, умер от туберкулеза на 53-м году жизни.
Георгию шел десятый год. Смерть отца, отвергнутого обществам человека, навсегда осталась в его памяти. Отец был строг, но он был справедлив. При жизни дети мало интересовались его делами, после смерти часто вспоминали о его нелегкой судьбе, и порой им было мучительно стыдно, что они так мало ласковы были с ним.
Прошел год. Сданы вступительные экзамены, и вот в ясный осенний день Георгий вместе с матерью в первый раз идет в гимназию. Детство кончилось, началась пора новой жизни.
Георгий не сразу вошел в гимназическую семью. Он долго присматривался к своим товарищам, сторонился и побаивался их.
Боялся он и учителей. Они казались ему грозными и всевидящими. Когда его вызывали к доске, он конфузился и заикался от волнения. Но прошли первые недели, и Георгий начал привыкать.
Как интересны были уроки русского языка! Заслуженный преподаватель П. В. Десницкий первый открыл перед Георгием красоту родного языка и русской литературы. Дома у Чичериных говорили больше о западной, точнее — о французской литературе; домашняя библиотека была сплошь из французских книг.
Русскую литературу Чичерины считали слишком молодой, чтобы видеть в ней что-либо значительное. Исключением пользовался лишь Пушкин, да с некоторым почтением отзывались о Тургеневе, и то потому, что считали его западником. Даже Лев Толстой здесь ценился только за проповеди сострадания к ближнему.
В гимназию Георгий пришел более подготовленным, чем его сверстники, но ему мешала застенчивость.
Во втором классе после рождественских каникул по предложению Десницкого в гимназии началась бурная подготовка любительского спектакля. Преподаватели упорно натаскивали «артистов», в их числе отличников — Чичерина, Тихого, Ясмана.
Накануне Георгий ужасно волновался, с постели встал, когда за окном еще была морозная ночь. В гимназию прибежал раньше всех.
Но все случилось как-то само собой: не обращая внимания на зал, Георгий с двумя мальчиками бодро читал басни Крылова. В зале бурно хлопали.
В тот год Георгий стал первым учеником и в третий класс перешел с наградой первой степени. Он начал преодолевать свою робость, преподаватели все чаще восторгались его начитанностью, умением находить ответы на трудные для его возраста вопросы.
В день столетия тамбовской гимназии — 20 февраля 1886 года в классах читали ее историю, написанную Десницким. В честь этого дня состоялось второе литературное утро. На нем Георгий читал пушкинскую «Полтаву». Оттого ли, что он повзрослел, или оттого, что был влюблен в историю, но читал он с увлечением, без следа всегдашней робости.
Весной того же года вдова Чичерина вместе с детьми навсегда покинула Тамбов, чтобы дать детям возможность продолжать учебу в столице.
Петербург! Для Чичерина он стал городом поисков истины и смысла жизни. «Самые неизгладимые из воспоминаний были порождены старым Петербургом, той лабораторией, где я сформировался со всеми своими мыслями и стремлениями и где все грандиозные и неисчислимые противоречия нашей эпохи меня обступали, — писал он позже. — Его дома и улицы, его небо и широкая Нева — все это стало как бы частицами меня самого. Нет в нем уголка, который не был бы мне близок».
Приехавшего из провинции четырнадцатилетнего мальчика Петербург поначалу привел в восхищение. Но ненадолго. И вот уже прошли первые радости. Георгий все больше чувствовал, как многоэтажная громада домов давит его, он стал казаться себе маленьким и затерянным в каменных дебрях этого холодного города.
В гимназии, куда отдали Георгия, учились дети петербургских чиновников. Георгий сторонился их шумных компаний, уединялся и по-прежнему много читал.
Не миновала стен гимназии политическая жизнь. Многие гимназисты были тесно связаны со студентами, жадно прислушивались ко всему, что происходило у старших товарищей. Увлекались гневными проповедями Льва Толстого, а кое-кто уже читал запрещенные труды социалистов.
9 мая 1887 года в гимназии царила необычайная тишина. Старшеклассники разговаривали шепотом, ученики младших классов испуганно молчали; газеты сообщили, что накануне были повешены участники покушения на царя — Генералов, Андреюшкин, Осипанов, Шевырев и Ульянов.
Невольно возникло сомнение: справедлив ли царь, не ложны ли похвалы, щедро расточаемые ему? Было над чем задуматься, ведь люди не идут на смерть ради пустяков. И Георгий углубляется в исторические книги. Он ищет ответы на вопросы жизни. Часто посещает дом бабушки Мейендорф. Подвижная остроумная старушка любила рассказывать о прошлом. Она раскрывала перед внуком закулисные хитросплетения дипломатии, о чем нельзя было прочитать ни в одной книге. Он любил ее и делился с нею своими мыслями. Под ее воздействием Георгий откладывает в сторону Костомарова и вновь погружается в историю древнего мира. Он видит, что прошлое полно героических страниц борьбы народов против тиранов. Позже многие знакомые Чичерина поражались энциклопедичностью его знаний. Но мало кто знал, что юношеские годы прошли у него не в шумных забавах и развлечениях, а в настойчивом систематическом труде и бесконечных поисках истины.
Книжный мир туманных идей и реальный мир не существовали отдельно друг от друга. Они находились в повседневных столкновениях. Было два Петербурга; один — веселый, бездумный, залитый огнями, прикрытый романтической дымкой грез; другой — город мрачных трущоб и бедных рабочих окраин. Последний все больше давал о себе знать. «Ужасы жизни городской бедноты производили на меня подавляющее впечатление», — писал Чичерин.
Он бродил по городу. Тянули к себе тенистые парки, водные просторы. Здесь находил он отдых и обретал веру в жизнь. «Мне помнится, как сегодня, Петровский парк, куда я ходил весной подростком, — там было озеро, бледно сверкавшее серебристым серым цветом в белые ночи. Час за часом я сидел над этим магическим зеркалом, и жизнь казалась такой огромной и такой манящей, и будущее казалось таким чудесным. С такой же яркостью вспоминаются мне жаркие летние дни на Малой Неве, где все объято трудовой гармонией и жизнь кипит на реке; часами я сижу и смотрю на эту яркую трудовую жизнь, и все пышет зноем, придающим особую страстность кипящему человеческому труду».
Георгий не бросает музыку. Она пробуждала силы, уводила в героический мир. Особенно нравился Вагнер. В то время молодежь приветствовала его за смелый отказ от традиций немецкой классики, за новаторство, за глубокий психологизм. Старшее поколение отрицало Вагнера. В 1889 году в Россию прибыла немецкая труппа Ноймана. Вагнеровское «Кольцо Нибелунгов» в ее исполнении потрясло Георгия. «Валькирия» стала его любимейшей оперой.
«Я пережил совсем молодым человеком расцвет вагнерианства, и я помню, как руководящие компетентные вагнерианцы объясняли: «Во время исполнения вагнеровской музыкальной драмы вы должны смотреть на сцену и не должны слышать музыку, вы должны ее чувствовать, но не должны ее слышать, вы должны целиком отдаваться зрелищу». Эту именно концепцию теперь отвергают с негодованием, и я ее отвергаю с негодованием» — так писал Чичерин в своей последней работе о Моцарте, вспоминая жаркие споры, которые приходилось выдерживать поклонникам музыки Вагнера. «У Вагнера всегда океан бытия, необуддизм, все индивидуальное тонет, и нет легкости, все стопудовое». В музыке Вагнера он увидел ослепительно яркое изображение непокоренных бунтовщиков.
Прямота характера, решительное, бескомпромиссное отстаивание своих взглядов, горячая убежденность, что в основе человеческих отношений должна находиться лишь правда, отвращение ко лжи, пошлости и лицемерию отталкивали его от многих сверстников. Самая ничтожная фальшь рушила зарождающуюся дружбу. И он был очень одинок.
В 1891 году Чичерин блестяще закончил гимназию с золотой медалью.
Георгий не колебался в выборе дальнейшего пути. Он твердо избрал историко-филологический факультет Санкт-Петербургского университета, ибо история и литература стали для него призванием.
В университет он пришел тогда, когда из него беспощадно изгоняли непокорных. Уволились некоторые профессора и преподаватели, не пожелавшие смириться с репрессиями после событий 1 марта. Пришло новое начальство, увековечившее себя тем, что первым делом распорядилось переоборудовать студенческую библиотеку-читальню в ватерклозет, закрыло студенческий буфет: усердные царские чиновники пытались выветрить бунтарские дух из стен университета. Но драконовские меры вызвали возмущение студенческой молодежи. В эту бурную университетскую жизнь с головой окунулся Георгий. Многое было непонятно ему. Он пытался разобраться во всевозможных течениях общественной жизни, определить рациональное зерно истины в каждом явлении и страстно увлекся науками. «Я, — писал Чичерин, — жадно впитывал разнообразнейшие научные впечатления, изучал языки вплоть до ирландского, древности вплоть до иероглифов и клинописи, восточные литературы, слушал юристов, некоторых естественников, политическую экономию».
И все это сверх программы, по собственному почину.
Чичерин с большой теплотой вспоминал огромный тихий зал публичной библиотеки, где провел не день, не неделю, а годы. «Выходим оттуда, — писал он, — и так бодро идем по морозной улице, когда кругом огни и огни, и энергия жизни, и энергия мысли оживляет все существо, так что кровь быстрее течет по жилам. Сколько мыслей, сколько исканий, какие призывы и к далеким горизонтам, и к близкой борьбе. Тут рядом, в двух шагах, ужасные мрачные недра старорежимного быта, скорбные, мрачные переулки и грязные дворы с пьяным угаром и членовредительством. Но тут же, на грязной, оплеванной лестнице, за кожаной дверью, маленькая комната, где шумные споры, где новые горизонты открываются взорам».
Студентов интересовали и глубоко волновали литература, музыка, новые теории и идеи, все обсуждалось, все оценивалось категорически, безоговорочно. В 1893 году, на втором курсе, Георгий знакомится, а потом близко сходится с будущими художниками Грабарем и Рерихом, а также с Щербиновским, который был признан самым ярким талантом Академии художеств.
Друзья часто собирались у Щербиновского, где музицировали, спорили о живописи. Здесь же довольно решительно порицали казенные порядки и часто переходили к смелой критике царского самодержавия. Не без воздействия Щербиновского у Георгия все больше и больше появлялось друзей из числа оппозиционно настроенной молодежи. К сожалению, правильно понимать окружающую действительность мешало многое, и в том числе дружба со студентом Никольским, который увлек его идеями Шопенгауэра и Ницше.
В ницшеанской проповеди сильного человека, стоящего над обществом, виделось требование быть сильным и гордым, мужественно смотреть правде в лицо, искать ее, хотя бы она несла с собой и страдания. Человек не должок жить без цели, жизнь осмысленна, когда имеется благородная цель. Эти идеи и привлекли молодого Чичерина, поэтому в более поздние годы своей жизни он защищал «своего» Ницше от фашизма.
Не мог стоять Георгий в стороне от горячих споров и о судьбе России. Он увлекался семинарами преподавателя Свешникова, который позволял студентам вольно высказывать свои взгляды. Сентиментально-утопическое отношение Чичерина к крестьянству в этот период было настолько сильным, что задержало его эволюцию к марксизму, и он примкнул к тем, кто отдавал предпочтение народникам.
Впервые о рабочем движении Георгий узнал из лекций преподавателя А. А. Исаева. Но эти лекции не давали ответа на волнующие вопросы о правде жизни. И он настойчиво ищет эти ответы.
Перечитал Белинского, Добролюбова, Чернышевского — с них начался его трудный путь в революцию.
1 мая 1894 года он пишет: «Слишком мучительно жажду существенного в жизни, настоящей, высокой жизненной цели, которой бы всем пожертвовал… Я предпочел бы несчастную жизнь с истинными страстями тому серому филистерскому существованию, к которому меня вело мое расслабляющее воспитание матушкиного сыночка и изнеженного барчонка… Читать (например) Белинского так завидно и горько, когда сам погружен в этот мелочный водоворот своего глупого эгоистического «я». Я не могу жить так, просто без смысла».
Однако этому еще мешало многое, и прежде всего дворянское происхождение. Груз традиций, воспитание и весь уклад жизни — все угнетало, давило, и этот тяжелый груз трудно было сбросить с плеч.
На каникулы Георгий уезжал в Покровское или в Караул. Здесь отдыхал от петербургской суеты. Встречался с дядей Борисом Николаевичем. Часто плавный ход их бесед прерывался горячими спорами. Борис Николаевич упорно не хотел видеть, что его либерализм смешон и никак не может удовлетворить племянника.
Каждый раз Георгий возвращался в Петербург повзрослевший, с новыми планами. В его отношениях к людям появлялось нечто новое, что заставляло искать уже иных товарищей.
К концу университетского курса Чичерин категорически отказался от идеи индивидуального бунтарства, которая еще совеем недавно казалась ему идеальной. Он сблизился со студентами-революционерами, у него появились среди них хорошие, верные друзья.
Политика увлекла его. В 1895 году Георгий впервые принял участие в «студенческих беспорядках», правда, степень этого участия была еще так незначительна, что он не попал даже в полицейские списки.
В числе его друзей оказался молодой человек по имени Нарбут. Они часто встречались, вели разговоры о музыке, литературе и театре. Но больше всего обсуждали волнующие проблемы жизни. Нарбут, который окончил университет, а затем и Военно-медицинскую академию, был высокообразованным человеком, он поверил в Чичерина и однажды после одной из бесед искренне воскликнул:
— Вам предстоит великое будущее, и ваши гениальные дарования когда-нибудь проявятся в мировом масштабе!
Профессора прочили Чичерину карьеру ученого, товарищи восхищались его способностями, но он колебался, часто его мучили сомнения, терялась вера в свои силы: не видя перспектив, он впадал в уныние.
Последний курс университета был едва ли не самым тяжелым в духовной жизни Георгия. Он вновь перечитывал Нищие, заноем читал Достоевского, но не находил удовлетворения.
Чичерина все раздражало. В одной из письменных работ он резко раскритиковал профессора истории Платонова за его консервативные взгляды. Тот сильно обиделся, коллеги поддержали его, и стало ясно, что дверь на кафедру русской истории плотно захлопнулась.
В мае 1895 года Георгий Васильевич Чичерин предстает перед историко-филологической комиссией при Санкт-Петербургском университете для сдачи государственных экзаменов. Греческий и латинский языки, русская история, древняя история, история средних веков, новая история, история церкви, история славян и история новой философии — по всем предметам получены высшие баллы. Чичерин удостоен диплома первой степени.
Летом Георгий заслуженно отдыхал, а осенью по настоянию родственников выехал за границу. Все думали, что он набирается там здоровья, а Георгий посещал театры, музеи, ходил на концерты, накупил массу книг и читал их в поездах, в отелях, часто забывая о сне. Он восхищался Ибсеном, интересовался творчеством Зудермана, зачитывался Флобером. Госпожа Бовари становится его любимой героиней.
Словно в калейдоскопе, мелькали города: скучный и мрачноватый, как прусская казарма, Берлин, веселый Мюнхен, в который он попал в разгар красочного карнавала, именуемого здесь фашингом; Кельн, где его воображение поражает взметнувшийся ввысь собор «Kőlner Dom», этот треугольник, возведенный во всеохватывающую систему, «Гегель в архитектуре».
Почти дна года пролетели в путешествиях по Европе.
В 1897 году путешествие пришлось прервать — тяжело заболели Жоржина Егоровна. Вскоре после его возвращения она умерла. Осиротела семья Чичериных, но все были в том возрасте, когда глубоко, но недолго переживается горечь безвозвратных утрат.
Перед Чичериным со всей настойчивостью встал вопрос о дальнейшем жизненном пути. Жить, как жили помещики, он не собирался, его неудержимо тянуло к науке, особенно к истории. А родственники внушали мысль, что единственно достойным занятием для представителя рода Чичериных может быть дипломатия. Уступая настойчивым уговорам, Георгий Васильевич решается поступить на государственную службу в министерство иностранных дел.
Он подает прошение на имя «всепресветлейшего, державнейшего, великого государя императора Николая Александровича» о зачислении его в Государственный и Санкт-Петербургский Главный архивы министерства иностранных дел. Архив, думал Георгий Васильевич, все же позволит заняться любимым делом — изучать историю по первоисточникам, как изучал ее Соловьев.
27 января 1898 года барон Стюарт писал в докладной записке на имя князя Оболенского:
«Вчера, именем вашего сиятельства, явился ко мне окончивший с дипломом I разряда курс здешнего университета Чичерин, прося причислить его к вверенным мне Архивам, по которым он изъявил желание продолжать свою службу. Предупредив г. Чичерина в том, что в настоящее время я не имею свободных вакансий и по ограниченности штата Архивов решительно не могу предвидеть, когда таковая откроется, имею честь покорнейше просить, ваше сиятельство, почтить меня уведомлением, угодно ли Вам будет допустить удовлетворение ходатайства г. Чичерина с тем, чтобы впредь до открытия штатной вакансии ему производить после трехмесячного испытания жалование из имеющихся в моем распоряжении сумм, начиная с 25 и до 50 руб. в месяц».
Оболенский сановитой рукой начертал: «Согласен». Чичерин был зачислен на службу в министерство иностранных дел.
Родственники, а тем более просто знакомые не могли понять Георгия Васильевича. Архив для них представлялся тихим подвалом, где в пыльных, никому не нужных бумагах роются выцветшие от времени, не пригодные ни к какому делу старички. Сам директор архивов барон Стюарт с нескрываемой досадой и презрением относился к работе в архивах, о себе любил иронически говорить, что он лишь кучер погребальной колесницы и ему безразличен тот труп, который поручено везти. Полнейшим равнодушием к своему делу было заражено и большинство чиновников архивов.
Несмотря на нерадивость чиновников, Чичерин нашел в архивах полный порядок, это чиновник-энтузиаст Злобин вместо с академиком Пекарским в 1864–1870 годах произвел разборку архивных материалов, разбил их на 28 разрядов и составил описи документов.
Шли дни испытательного срока. Чичерин постигал архивоведение и добросовестно изучал дела. Позже, когда он станет наркомом иностранных дел, это ему очень пригодится.
15 февраля 1896 года, подчиняясь общему правилу, Чичерин давал присягу. В церкви МИД он торжественно поклялся «верно и нелицемерно» служить императору Николаю II, обещая «об ущербе же его императорского величества интереса, вреде и убытке, как скоро о том уведаю, не токмо благовременно объявлять, но и всякими мерами отвращать и не допущать тщатися». Клятвенное обещание было длинным, изобиловало церковнославянскими оборотами. Георгий Васильевич, читая его, заминался, краснел и сердился на себя. Наконец добрался до последних слов: «В заключение же сей моей клятвы целую слова и крест спасителя моего. Аминь». И подписался: «Сын действительного статского советника Георгий Васильевич Чичерин». Своих собственных титулов новоиспеченный царский чиновник пока не имел. В департаменте личного состава и хозяйственных дел от Чичерина еще потребовали подписку о том, что он «ни к каким масонским ложам и другим тайным обществам, под какими бы то ни было названиями они ни существовали», не принадлежит и впредь принадлежать не будет. Нарушивший присягу и подписку подлежал строгому наказанию.
Работа в архиве увлекла Чичерина, захватило обилие интересных документов. Шаг за шагом он углублялся в спящее царство прошлого. Но настоящая жизнь врывалась в это царство тишины, отрывала от пожелтевших страниц, страстно звала к себе.
Вот новое несчастье, поразившее страну, — голод. О нем писали газеты, но более отчетливо сообщали родные из Тамбовской губернии. Толпы голодных, несчастных людей бродили по дорогам, вымаливая кусок хлеба.
В народе нарастал гнев. Страну потрясали стачки, бастовали в Петербурге.
В 1899 году в Финляндии вспыхнули студенческие волнения, финский народ начал многолетнюю борьбу за независимость, за конституцию. Отзвуки этих битв докатились до великосветских салонов, смутили покой господ. Георгий Васильевич время от времени становился свидетелем ужесточенных словесных стычек. Запомнился спор дяди Бориса Николаевича с Витте по поводу изменения конституции Финляндии. Теперь согласно указу 1899 года все дела, имеющие общеимперское значение, должны были проходить через Государственный совет, и старый либерал обвинял Витте в том, что обещания русских императоров нарушаются, что у царя нет больше хороших советников, а нынешние обязательно приведут к бедам. Витте сконфуженно оправдывался.
Россия стонала, Россия бурлила: она вступала в XX век. В поднимающемся революционном движении Чичерин пока еще очень смутно угадывал свое место.
Именно тогда в его жизни появилась маленькая комнатка близ Царскосельского вокзала, где он сделал свой первый шаг в революцию: принимал на хранение от незнакомых лиц, которых ему рекомендовали как членов революционных партий, далеко не безобидные вещи: типографский шрифт и какие-то принадлежности для печатания текстов. К нему молча приходили, передавали свертки, а через некоторое время снова забирали. Из всех посетителей ему был знаком лишь один человек, который и приводил остальных, — его старый университетский товарищ Нарбут.
Георгий Васильевич был далек от рабочего движения. В силу многих причин и прежде всего из-за интеллигентской ограниченности он не мог понять, чего хотят рабочие. Газеты и листовки, с которыми иногда Нарбут знакомил его, отталкивали своей «примитивностью» и «грубостью». В рабочем человеке ему не хотелось видеть истинно прогрессивную силу: с детства он идеализировал деревню и мечтал об улучшении жизни крестьян. Не случайно долгое время он вместо шарфа носил шаль, которая была в моде у шестидесятников.
Нарбут познакомил его с газетой экономистов «Рабочая мысль», не без его воздействия на письменном столе царского чиновника, каким еще был Чичерин, появились запрещенные книги. Того же чиновника стали замечать на различных подозрительных вечерах. Исподволь, нерешительно Чичерин отдалялся от своих доктринерствующих друзей и избавлялся от прежних заблуждений, преодолевай силу притяжения своей дворянской среды. Многие приходили к мысли о борьбе против существующего строя в результате жестоких условий своего бытия. Чичерина к этой мысли подводили разум и мятущееся сердце. У него не было холодного безразличия к страданиям народа. Скоро он поймет необходимость решительной борьбы, и время его раздумий уйдет в прошлое. Уже теперь накопленный опыт постепенно подводил его к выводу: существующий в России строй — это строй несправедливости, лжи и рабства.
Глухое раздражение порядками и растущую неприязнь к самодержавию усиливала служба в царском министерстве иностранных дел.
Ничто не отражало с такой яркостью кастовую ограниченность, бюрократическую тупость и барскую чванливость чиновников, как это министерство. К кругу избранных, какими казались важные и неприступные дипломаты, принадлежали дворянские сынки, тщательно отобранные не только по происхождению, но и по солидным доходам. Они были кровно заинтересованы в сохранении и упрочении самодержавия. В их среде господствовали законы подчинения; все они рвались к чинам, интриговали и подсиживали друг друга. Казалось, все наиболее тупое, мерзкое и отвратительное воплощали в себе эти взобравшиеся на вершину царской лестницы чиновники его величества.
Корыстолюбивая и подлая царская камарилья бесконтрольно хозяйничала в стране. С чувством жгучего стыда Георгий Васильевич как-то особенно остро осознал, что блистающая в царской свите его родная тетка Александра Николаевна — супруга того самого Нарышкина, все достоинства которого заключались в том, что он был незаконнорожденным сыном Александра I и его любовницы Нарышкиной. Георгию Васильевичу трудно дышалось в петербургском свете. Он начал думать о выезде за границу. Но обстоятельства складывались иначе.
В 1902 году исполнилось 100 лет со дня создания министерства иностранных дел. Государственный и С.-Петербургский Главный архивы получили задание — написать очерк истории министерства. Барон Стюарт горячо взялся за дело, надеясь заслужить царское одобрение. Был привлечен к работе и Чичерин. Он охотно согласился написать главу, посвященную годам царствования Александра II, когда в министерстве служил его отец. Он горячо принялся за дело, просмотрел кучу документов, познакомился с множеством событий и, несмотря на трудоемкость задания, свой раздел очерка написал быстро.
Работа в архиве имела для Георгия Васильевича много привлекательного. Даже мертвящая атмосфера, которую создал в архиве Стюарт, не могла угасить его страсть исследователя. Одновременно с очерком о внешней политике России он работал просто для себя над фундаментальной биографией министра иностранных дел А. М. Горчакова. Через биографию этого русского дипломата хотелось показать историю международных отношений второй половины XIX века. Книга была задумана как подведение итогов накопленным знаниям.
Заслугой Горчакова Чичерин считал понимание того факта, что старая система международных отношений отслужила свой век, политика чувства ушла в прошлое, а политические связи, созданные династическим родством, стали непрочными.
Чичерин изучил документы почти за столетие и осветил такие вопросы, которых до него никто не рисковал касаться. Он высказал мысли о взаимозависимости внутренней и внешней политики, показал влияние европейских революций 1848 года на политику России. Именно это влияние испытала на себе лавирующая между крайними полюсами внешняя политика князя Горчакова. Многие месяцы работал Чичерин над книгой, но ему не удалось закончить ее; некоторые главы были отработаны полностью, другие остались в черновых набросках: Чичерин не мог оказать свободно все, что думал о дипломатической кухне.
Значительное место в жизни Чичерина заняла в этот период дружба с Н. П. Павловым-Сильванским.
Павлов-Сильванский пришел на работу в архивы после окончания историко-филологического факультета Санкт-Петербургского университета. Это обстоятельство дало первый толчок для их сближения. Павлов-Сильванский считался крупнейшим специалистом по истории феодализма и истории международных отношений России начиная с древнейших времен.
Но он не был кабинетным ученым, его живо интересовали текущие события, он внимательно следил за политическими настроениями в стране. Незадолго до первой революции в России он вплотную стал изучать восстание декабристов.
Ему удалось отобрать наиболее важные документы для будущей книги «Пестель перед Верховным уголовным судом». По вечерам у него на квартире собирался узкий круг друзей, он знакомил их с содержанием многих секретных документов и делился мыслями о будущей книге. Кто мог знать, что кавалер турецкого, шведского, австрийского и многих русских орденов, отличный чиновник Павлов-Сильванский, который за свою работу по подготовке очерков истории МИД получил награду в три тысячи рублей и был произведен в надворные советники, был заражен крамольными идеями и тайно проповедовал их друзьям? Чичерин бывал на вечерах у Павлова-Сильванского, хотя многие из его идей и не одобрял, считая их наивными: к тому времени начало сказываться влияние Нарбута.
И конце 1903 года царской охранке удалось напасть на след группы Нарбута. Несколько человек было арестовано. Друзья предупредили Георгия об опасности. Надо было что-то предпринимать. Павлов-Сильванский посоветовал уехать за границу. На том же настаивал Нарбут. Если все обойдется благополучно и его связи с арестованными не будут раскрыты, говорил он, то Чичерин может стать ценным связным между революционным подпольем в России и заграничными центрами.
Так и порешили.
Чичерин покинул Россию в тревожное время, когда все предрекало ее скорое военное поражение. То, что Чичерин узнал в министерстве, в кругах сановников, было чудовищно по циничному безразличию верхов к судьбе народа, страны. Если бы к этому времени у Георгия Васильевича и осталась какая-нибудь вера в государственный ум и порядочность правящей верхушки, то наверняка она исчезла бы в той тлетворной атмосфере, в которой он ежедневно находился. Все укрепляло дерзкую мысль: царизм должен уйти со сцены российской государственной жизни.
Чичерин энергично готовился к отъезду: подал прошение о заграничном паспорте, привел в порядок свои бумаги, брату Николаю передал доверенность, дающую право распоряжаться их общим имуществом в Мензелинском уезде Уфимской губернии. Ему же вручил увесистый пакет с незаконченной рукописью о Горчакове.
В феврале 1904 года в Москве скоропостижно окончился знаменитый дядя Чичерина Борис Николаевич. Похороны его вылились в грандиозную демонстрацию. В последний путь бывшего профессора и почетного члена Московского университета вышла провожать студенческая Москва. По воле усопшего его прах перевезли из Москвы в родовое поместье Караул.
После смерти дяди Чичерин недолго оставался на родине. Накануне отъезда он встретился с Павловым-Сильванским. Они-долго говорили о том, что ожидает Россию, каким путем пойдет ее развитие. Павлов-Сильванский почти закончил книгу о Пестеле, но не надеялся издать ее. Предстояло многое сгладить, потопить острые мысли в туманных рассуждениях, но даже и в таком виде книга вряд ли могла найти издателя в России: слишком красноречивы были отобранные документы, слишком обличающими были речи Пестеля перед судилищем царя-деспота.
Обсудили и планы Чичерина. Павлов-Сильванский дал адреса своих берлинских друзей и написал рекомендательные письма. Перед расставанием условились, каким путем можно будет доставлять в Россию нужную литературу. Они надеялись скоро увидеться, но увидеться было не суждено…
Берлин встретил Чичерина неласково. Полиция потребовала заграничный губернаторский паспорт и доказательства материальной обеспеченности: эмигрант не должен стать обузой на шее германского государства. Чичерин предъявил наличные деньги и документы, подтверждающие, что в банке на его имя открыт личный счет. Полиция удовлетворилась этим и на время оставила в покое.
Рекомендательные письма Павлова-Сильванского помогли завязать первые и, откровенно говоря, малоинтересные знакомства. Не теряя времени, Чичерин налаживал контакты с революционными кругами. Прежде всего установил прочные связи о эсерами, которых в Берлине было больше, чем кого-либо. Эсеровское движение казалось в то время истинно революционным, привлекало массу, эмигрантов, особенно студентов.
Здесь, в Берлине, Чичерин на все смотрит восторженными глазами, не замечая на первых порах, что и в Пруссии царят ненавистные монархические порядки, со всесилием тайной полиции, что среди эмигрантов много позеров, болтунов, щеголяющих революционными фразами, благо что русская полиция далеко. Для некоторых из них участие в революционных кружках было просто признаком хорошего тона.
Но ему удалось расширить круг знакомых. В одном из санаториев, куда его загнала болезнь, он познакомился с русской барышней Галеркиной. В ней он нашел незаурядного полемиста. С каждой встречей она все больше и больше рассеивала его эсеровские иллюзии, прививала действительно революционные взгляды, знакомила с основами марксистской теории. Под ее воздействием Чичерин начал увлекаться книгами своего тамбовского земляка Плеханова. Память о первой учительнице в области марксистской науки он сохранил надолго, и, когда в 1922 году больная Галеркина обратилась к нему за помощью, он хлопотал о назначении ей пенсии.
Летом Чичерин возвратился из санатория в Берлин. На этот раз с помощью все той же Галеркиной ему удалось установить связи с социал-демократами. Чем теснее он знакомился с ними и узнавал их взгляды, тем скорее рассеивались его анрхистско-бунтарские настроения. Он начал понимать, что от революционера требуется большая теоретическая и практическая подготовка, что революция — это наука, быть может, наиболее сложная из всех политических наук.
Дни и ночи просиживал Чичерин над социал-демократической литературой, встречался с новыми друзьями, вступал в горячие споры.
Деятельность русских эмигрантов привлекла внимание царской охранки. Руководитель заграничного бюро департамента полиции в Берлине Гартинг с согласия местных властей уже давно создал здесь разветвленную сеть агентуры. Он организовал систематическую слежку за русскими социал-демократами. Имя Чичерина появилось в полицейских списках подозрительных лиц.
Георгий Васильевич далек был от догадок о том, что раскрыт царскими ищейками. Он беззаботно расширял круг своих знакомых. Его другом становится немец Бухгольц, высланный из России за революционную деятельность. Бухгольц знакомит его с берлинской искровской группой — Вечесловом, Смидовичем. Чичерину нравится кипучий, энергичный Бухгольц, никогда не унывающий, вечно куда-то спешащий.
Уже в 1926 году, вспоминая о начале своей революционной деятельности, Чичерин писал о нем. «В 1904 году он обслуживал всю нашу революционную эмиграцию в Берлине, устраивал поездки, квартиры, свидания, размещал больных, вообще оказывал самым бескорыстным образом неисчислимые услуги. Все его знают как честнейшего, преданного революционному делу товарища. У него постоянно бывали и т. Эмма, и т. Пятница, и т, Иван, и эсеры, и максималисты. Его умственная характеристика заключалась в том, что никогда он не решался брать ясную линию, у него всегда были Bedenken[1]. Сначала у него были Bedenken между эсерами и эсдеками, потом от эсеров он отстал, но Bedenken так и остались между меньшевиками и большевиками, и он никогда не мог решиться занять ясную позицию. В 1918 году он был в Москве, и я говорил о нем с Владимиром Ильичем, который его очень хорошо помнил и очень ценил его личные качества. Относительно же того, можно ли дать ему ответственный пост, Владимир Ильич опросил меня, как тов. Бухгольц относится к большевикам. Я ответил, что у него по-старому Bedenken. Владимир Ильич очень смеялся, так как помнил характер Бухгольца, и в результате его сначала послали для переговоров с немцами на демаркационную линию, а потом в Копенгаген по делам пленных».
Случилось так, что Чичерин быстро попал под исключительное влияние Плеханова. Вращаясь до этого в основном в кругах эсеров и меньшевиков, он не видел более значительной фигуры, нежели этот первый русский марксист. Под его воздействием на первых порах поддался догматическим взглядам немецких социал-демократов, и это расположило его к меньшевизму. Не имея опыта революционной борьбы, только приступая к познанию элементарных основ марксизма, Чичерин оказался далеким от большевиков. Работы Ленина он еще не умел оценить правильно. Например, книгу «Что делать?» считал проявлением бланкизма.
К счастью, довольно быстро ему удалось сойтись с левыми немецкими социал-демократами, которые придерживались марксистских взглядов. Начался период увлечения Лассалем, Бебелем, Мерингом. Чичерин посещает дешевые берлинские локали, где до поздней ночи беседует со своими новыми знакомыми. Особенно охотно встречается с адвокатом Оскаром Коном. Тот обстоятельно, о немецкой точностью рассказывал об опыте германского и всего европейского движения, о многочисленных ошибках социал-демократов.
Но несравненно ценнее было знакомство с Карлом Либкнехтом. Чичерин часто бывал у него дома, познакомился с его близкими. Знакомство быстро переросло в искреннюю дружбу. В этой семье все было просто, все располагало к непринужденности, ничто не стесняло.
Немецкая полиция в соответствии с протоколом о сотрудничестве, заключенным в 1904 году руководителем заграничной агентуры русской охранки Ратаевым с немецкими властями, не спускала глаз с эмиграции. Однако социал-демократы теми или иными путями узнавали о замыслах полиции и своевременно предпринимали меры предосторожности. С помощью русских социал-демократов Либкнехт собрал обширный материал о политическом сыске в Германии и представил этот материал Бебелю. Последний сделал запрос в рейхстага, тогдашний министр иностранных дел Рихтгофен цинично ответил:
— Да, мы следим за русскими студентами, потому что все они анархисты, а русские студентки только для свободной любви сюда и приезжают.
Оскорбительные высказывания официального лица вызвали бурю протестов как в Германии, так и за ее пределами. Разразился политический скандал. И все же, выждав время, рейхсканцлер Бюлов вновь обрушился на русских «заговорщиков», угрожая выслать их из Германии, если они не прекратят «вмешательство во внутренние дела» приютившей их страны. Над революционерами-эмигрантами нависла угроза попасть в лапы царской полиции. Во всяком случае, сделка русской полиции с немецкой дала возможность Николаю II в период революции 1905 года высвободить свою официальную агентуру в Берлине и перебросить ее в Россию для борьбы с русскими революционерами.
Чичерин пылко приветствует революцию 1905 года. «Дух восторженно ширится, вырастают крылья… В ослепительном солнце сверкает путь вперед», — пишет он в одном из писем.
Ход революции заставляет Чичерина внимательно присмотреться к большевикам. Их ясная и четкая позиция в отношении буржуазно-демократической революции все сильное импонирует ему.
Особенно нравится решительная, последовательная позиция в вопросе о роли пролетариата в революции, их требование о безраздельном взятии власти в свои руки. Тезис меньшевиков о том, что власть ни в коем случаи брать нельзя, даже если развитие революции вело бы к этому, настораживал. Его вера в этих людей начинает колебаться, они часто раздражают его. Надоели склоки меньшевиков, их мелкая, злобная грызня между собой. В год первой русской революции Чичерин открыто примкнул к большевистской секции российской социал-демократии в Берлина.
Революция 1905 года стала для него подлинной школой. В письмах на родину он с восторгом говорит о грандиозные манифестациях в Австрии, об усиливающемся рабочем движении во Франции, о демонстрациях в Англии. 13 ноября он сообщает брату Николаю, что «Германия была идеалом социал-демократической постепеновщины, но за последнее время происходит такое обострение классовой борьбы, которого не ожидали даже радикальные социал-демократы 10 лет тому назад».
Эмигранты спешили легально и тайно выбраться в Россию. Готовился к отъезду и Чичерин. Он хотел переправиться нелегальным путем под фамилией Баталина или Орнатского. 14 ноября 1905 года в письме к тетке А. А. Чичериной он восклицает: «…Процесс развития, все завоевания истории совершаются через слезы и кровь: июньские жертвы 48-го года! Мученики Коммуны, зверски расстрелянные версальцами… А герои русской революции, деятели ее бесподобно-блестящей истории, безвестные могилы в Сибири, за Полярным кругом… океан мучений и лишений, который добровольно претерпели эти великие мученики, имя которым легион, это торжество духа и жертвы, которым нет числа. И теперь — рабочие, растерзываемые черносотенцами и до последнего издыхания хрипевшие: «Долой самодержавие!»
Революция в России — событие важнейшего исторического значения. «Когда в России утвердится широкая демократическая жизнь, тогда
Почти все готово к отъезду, и вдруг тяжелый приступ болезни. Чичерин попадает в берлинскую клинику, где ему делают сложную операцию. Так вместо боевой жизни больничная койка, к которой он оказался прикован до середины 1906 года. Но и здесь он не теряет времени, анализирует события и вырабатывает стройные взгляды бойца-революционера.
Выйдя из больницы, Чичерин берется за революционную работу в объединенной берлинской социал-демократической организации, в которую вошли большевистские и меньшевистские заграничные группы с единым Заграничным центральным бюро. Он организует многочисленные выступления русских социал-демократов с докладами о революции в России. К нему идут за советами, обращаются за помощью. Его популярность растет. Ему чужды какие-либо карьеристские соображении, честолюбивые мечты не терзают его. Как отмечали многие, было нечто чрезвычайно обаятельное в этом молодом человеке с умным, интеллигентным лицом.
Академик И. М. Майский в своих воспоминаниях пишет: «Самым замечательным в Чичерине были его глаза: острые, беспокойные, ищущие. И движения были нервные, быстрые, неожиданные. Все вместе оставляло впечатление какого-то особого «шарма», и в то же время, глядя на Георгия Васильевича, невольно думалось: «Какой интересный человек, что-то в нем есть особенное и необычное!»
События в России волнуют Чичерина, его письма наполнены гневом по адресу царского правительства, он резко критикует Государственную думу и деятельность Витте, в салоне которого некогда бывал. Георгий Васильевич обрушивается с критикой на кадетов: он распознал теперь реакционное содержание их взглядов и сделал вывод, что идеи кадетов — «это квинтэссенция буржуазных идей всех стран, выработанная буржуазною эрою истории».
Зимой 1907 года Георгия Васильевича избрали членом Заграничного центрального бюро, и вскоре он стал его секретарем. Ему приходитесь встречаться с представителем ЦК социал-демократической партии Житомирским, также вошедшим в Загранбюро. Никто, в том числе и Чичерин, даже не подозревал, что это был платный агент, провокатор, по доносам которого десятки преданных революции людей попали в застенки царской охранки. Постоянный страх заставлял этого шпика доносить даже на самого себя, его имя фигурировало в черных списках полиции наряду с именами подлинных революционеров. Чичерину пришлось испытать на себе подлость этого человека. Житомирский значительно дополнил сведения полиции биографией Чичерина, со многими подробностями из его деятельности в Берлине — настолько откровенен был с ним молодой социал-демократ.
Шла подготовка V съезда РСДРП. Революция потерпела поражение, реакция побеждала. Наступали сумерки духовной жизни России. Меньшевики громко хныкали, ругали большевиков и всячески углубляли раскол партии. После IV Объединительного съезда, ободренные мнимыми успехами, они пытались теперь навязать свою порочную позицию всей социал-демократической партии.
Загранбюро активно включилось в подготовку съезда, хотя его меньшевистское большинство пыталось всячески тормозить ее. Для непосредственной подготовки съезда в Копенгаген, где было решено провести съезд, от Загранбюро выехали два человека — Бухгольц и Житомирский, то есть люди, из которых один не обладал твердыми убеждениями, а второй был провокатором.
Чичерин не был делегатом на съезде, — он собирался остаться в Берлине, выполняя ту будничную повседневную работу, которая лежала на нем как на секретаре Загранбюро. Вскоре стало известно, что датское правительство по настоянию русского посла запретило проведение съезда в Копенгагене. Делегаты выехали в Стокгольм, но и там правительство запретило проведение съезда. Деньги таяли, съезду угрожал срыв. Воспользовавшись тяжелым состоянием дел, Дан и Мартов выступили против созыва съезда. Этому воспротивились русские большевики, поляки, латыши, бундовцы и даже часть меньшевиков. Было решено провести съезд в Лондоне. Не задумываясь ни на минуту, Чичерин переводит значительную часть своих средств в один из английских банков и выезжает в Лондон, чтобы принять участие в подготовке съезда. Почти одновременно с ним через Гамбург, Кельн, Париж, Кале, Дувр выехала и специальная делегация, которой удалось получить деньги у немецких социал-демократов.
В Лондоне Чичерин жил в гостинице вместе с делегатом съезда Лео Тышко, одним из талантливейших вождей Польской социал-демократической партии, который на V съезде поддерживал большевиков по всем важнейшим вопросам. За ним шла социал-демократическая фракция Польши и Литвы. На съезде поляки отвергли тактическую линию меньшевистского ЦК. Тышко решительно выступал против меньшевиков, которые отводили польским социал-демократам роль «центра» на съезде, а когда это не вышло, стали и в глаза и за глаза их поносить.
Чичерин внимательно следил за этой борьбой. В понимании происходившего на съезде ему значительно помог Тышко, которого, несмотря на позднейшие разногласия, Чичерин всегда вспоминал с большой теплотой.
Тышко решительно отверг «среднюю линию», на которую сбивался Георгий Васильевич, легко поддавшийся мелкобуржуазному влиянию меньшевистской среды в Загранбюро. На 14-м заседании съезда Тышко по этому поводу заявил:
«Средняя линия» в политической борьбе — это линии зигзага, линия шатаний и колебаний, это отсутствие всякой линии, выдержанной и цельной, тактический эклектизм, основанный на займах у соседей справа и слева. Как раз переживаемый нами бурный период требует от пролетариата великих решений, смелых и решительных выступлений, неуклонности и непримиримости в борьбе и поэтому менее всего благоприятен для «средней» тактики. Она могла бы только политически свернуть социал-демократии шею…
Но обращаясь к Чичерину лично, Тышко критиковал его беспощадно. Мягкому по характеру Чичерину непримиримость и бескомпромиссная позиция большевиков казалась слишком жесткой и твердой.
Вместо отказа от «средней линии» он сближается с меньшевиком Крохмалем (Загорским), не замечая его двурушничества и беспринципности. Этот благообразный, адвокатского вида интеллигент заинтриговал Георгия Васильевича. Он подолгу слушал его и как-то невольно подпал под его влияние.
30 апреля 1907 года в «Церкви братства» Плеханов открыл V съезд РСДРП. В кратком выступлении он призвал съезд решать все вопросы «спокойно», «Sine ira et studio» («без гнева и пристрастия»). Это облегчалось, по его словам, тем, что в партии «почти совсем нет ревизионистов». Но уже вопрос о повестке дня вызвал такие жаркие споры, что решать его пришлось на нескольких заседаниях. Чичерин ждал выступления Крохмаля, рассчитывая на его блестящую защиту меньшевизма. Но… Крохмаль лишь по обязанности зачитал список делегатов и два отчета ЦК — кассовый и издательский. Этим его официальное участие на съезде и ограничилось.
Положение с финансами в партии, как это следовало из отчета ЦК, было крайне тяжелое. Переезд из Копенгагена в Лондон поглотил почти все средства партии. Начались поиски денег. Чичерин тоже включился в поиски средств. Прежде всего он снял со своего счета в банке 3500 франков — почти все, что имел к этому времени, — и отдал их под расписку все тому же Крохмалю. В это время группа делегатов под заемное письмо с подписями всех делегатов съезда получила от Иосифа Фелса 1700 фунтов стерлингов. Съезд продолжал свою работу.
Меньшевики терпели одно поражение за другим. Это выводило их из себя. Свою озлобленность они не стеснялись демонстрировать и на заседании фракции, и особенно в частных беседах. Позже, давая оценку меньшевикам, Чичерин писал: «Я в Лондоне примкнул к меньшевизму, но меня сейчас же поразило, что меньшевики все время скулят и распускают нюни».
Тышко в своих разговорах был настойчив и не щадил самолюбия Чичерина. Тот обижался, уходил от Тышко и снова возвращался. Особенно обиделся Чичерин, когда на съезде, обращаясь к меньшевикам, под громкие аплодисменты большевиков Тышко сказал:
— Я хочу еще заметить, что товарищи меньшевики чрезмерно много говорят о своем марксизме: марксизм у них впереди, марксизм позади… Они как будто взяли марксизм на откуп и отрешают от него своих противников. Право, товарищи, вы слишком уж часто заявляете, что стоите на почве марксизма. Признаюсь откровенно, мне кажется, что вы не стоите на почве марксизма, а скорее лежите на ней.
Глава большевиков — Ленин, выступивший с докладом об отношении к буржуазным партиям, беспощадно раскрыл капитулянтскую позицию меньшевиков, их беспринципную попытку заигрывать с либерально-монархической партией кадетов. Съезд принял большевистскую резолюцию, меньшевики получили еще один удар.
Под огнем большевистской критики рушилась теоретическая платформа меньшевиков. Вечерами после заседаний Тышко продолжал развенчивать их теоретические бредни. В спорах с ним Чичерин отстаивал «свои» взгляды, призывал идти на соглашение со всеми без различия «революционными силами» и т. д. Он кипятился и пытался доказать со ссылками на историю правду меньшевиков, но Тышко призывал его более внимательно слушать выступления Ленина, учиться у него строгой логической оценке реальной действительности.
Чичерин не разобрался в истинных целях своих меньшевистских друзей, не желавших строить пролетарскую партию, требовавших принять их порочную идею «рабочего съезда». Он поддерживал эту линию, и, когда съезд отверг и это предложение меньшевиков, Чичерин воспринял это поражение как личную неудачу, сильно огорчился и ни на шутку рассорился с Тышко. Как он осуждал потом свое заблуждение!
Уезжал Чичерин из Лондона в подавленном состоянии, преувеличенное чувство личной обиды заглушило способность критически разобраться в происшедшем: ему явно не хватало революционной закалки.
В Берлине Чичерин вновь заболел. Друзья поместили его в больницу в пригородном местечке Целендорф. Оторванный от дел, он вновь переживал «свое» лондонское поражение. Позиция меньшевиков, их истеричность оставили неприятный осадок. Вольно или невольно, но приходилось признавать преимущество позиции большевиков, которые добились созыва съезда и нанесли сокрушительный удар своим идейным противникам.
10 июля Чичерин покидает стены больницы и снова с головой уходит в политическую жизнь: посещает собрании немецких социал-демократов, активно участвует в выпуске пропагандистской литературы, пишет статьи, готовит выступления русских социал-демократов. Он не подозревает, что Житомирский уже направил в департамент полиции подробный отчет о Лондонском съезде и в специальном доносе сообщил, что эсдек Чичерин развивает бурную крамольную деятельность. Немецкая полиции тоже проявляет повышенный интерес к делам русского «анархиста», который установил слишком тесные связи с врагами кайзера, шпики неустанно следят за ним.
А Чичерин действует. Перед ним теперь одна-единственная цель — способствовать объединению партии рабочего класса. «С прежней средою у меня все порвано. Горячо любимый пролетариат, милые, милые, дорогие товарищи, члены единой великой рати — вот мои ближние», — писал он в октябре 1907 года.
Но «единой великой рати» к этому времени уже не было. И он, хорошо знающий историю РСДРП, горячо поддержал идею Мартова о создании единой меньшевистской газеты.
В середине декабря 1907 года, узнав, что бежавшие от полиции из Териок меньшевистские лидеры Дан и Мартынов хотят проездом остановиться в Берлине, чтобы обсудить там вопрос о создании меньшевистской газеты, Георгий Васильевич попытался организовать их встречу с немецкими социал-демократами. Кончилась эта затея плохо.
Когда у Блоха — одного из участников встречи — собралось 17 человек, среди которых были Дан, Мартынов, Чичерин, — супруги Бухгольц, и началось обсуждение плана создания меньшевистской газеты, в квартиру ввалились полицейские. Накрытый стол их, конечно, не ввел в заблуждение, они видывали вещи и похитрее. Полицейские забрали документы, провели повальный обыск и препроводили участников встречи в полицейский участок. Там комиссар учинил допрос каждому поодиночке с пунктуальным соблюдением всех предписаний. Очередь дошла и до Георгия Васильевича. На вопрос, кто он, Чичерин ответил:
— Баталин.
Полицейский усмехнулся и приказал увести арестованного.
Ночь Чичерин провел в полицейском участке.
При повторном допросе Георгию Васильевичу было объявлено, что дальше ему не стоит запираться, ибо полиции хорошо известно, что он Чичерин, что в русской социал-демократической партии он известен как Орнатский. Не знал Чичерин, что полиция на основе доносов Житомирского оперировала точными фактами. Чичерина, как и других арестованных, привлекли к судебной ответственности по 128-му параграфу уголовного кодекса за участие в «преступном сборище».
4 января 1908 года газета «Берлинер локаль-анцейгер» сообщила об аресте 17 русских и немецких социал-демократов. Газета писала, что «среди арестованных находится также русский богач фон Чичерин, который, однако, отказался от этого имени. Он входит в состав Заграничного бюро социал-демократической рабочей партии и известен также под именем Орнатский». Другая немецкая газета, «Дортмундер цейтунг», рассыпалась в похвалах новому руководству прусской полиции, которая одним ударом обезглавила заграничный комитет русской социал-демократии.
Об аресте Чичерина берлинская полиция сообщила корреспонденту петербургских «Биржевых ведомостей». И вот 3 января 1908 года на стол директора II департамента российского министерства иностранных дел Бентковского был положен номер «Биржевых ведомостей», в котором красным карандашом отчеркнуто сообщение о том, что в число арестованных в Шарлоттенбурге «узнан один очень богатый русский помещик Чичерин». Бентковский приказал нанести справки. Вскоре генеральный консул Муравьев-Апостол-Коробьин сообщил из Берлина, что «арестованный Чичерин есть именно служащий в нашем министерстве чиновник, скрывавшийся здесь под различными именами».
Чиновничья машина заработала. Бентковский секретным письмом донес о случившемся директору департамента полиции Трусевичу и счел своим долгом присовокупить, что до выяснения дела МИД «воздерживается от принятия мер относительно служебного положения г-на Чичерина» и просит выслать в его распоряжение дополнительные сведения.
Тем временем в Берлине над русским подданным Чичериным состоялся скорый суд: 2 января он был арестован, а 6-го ему был вынесен приговор. В качестве защитника на суде выступал адвокат Оскар Кон. Защищая группу русских социал-демократов, в которую входил и Чичерин, он добивался одного — воспрепятствовать выдаче арестованных русским властям. Для Чичерина ему удалось добиться самого мягкого приговора: за то, что Чичерин при аресте назвался чужим именем, он был оштрафован на 30 марок; а за то, что участвовал в «преступном сборище», подлежал высылке за пределы Пруссии с запрещением въезда в Берлин. В тот же день под конвоем полиции Чичерин в числе других русских социал-демократов был доставлен на границу Пруссии.
Вслед за этим в МИД России полетел донос тайного агента: «Высланный отсюда как социал-демократ, а не как анархист, Чичерин идентичен с сотрудником архива Георгием Чичериным, родившимся 2.12.72 года в Карауле. — Как говорят, раньше он работал в Петербурге в министерстве иностранных дел и проживал здесь до 10.07 в Целендорфе. Как говорят, его отец уже умер и оставил своему сыну значительное наследство. Чичерин, называющий себя Орнатский или Баталин, играл здесь выдающуюся роль в русском социал-демократическом движении. Прошу рассматривать это сообщение как конфиденциальное и пребываю Вашим преданным слугою…»
Бентковский лично доложил «дело Чичерина» министру иностранных дел, последний незамедлительно распорядился: титулярного советника Г. В. Чичерина из штатов министерства отчислить.
Вся переписка о «деле Чичерина» шла в секретном порядке, но о ней проведал Павлов-Сильванский. С первой же оказией он предупредил Чичерина, что в случае возвращения в Россию его ожидает суровое наказание. В департаменте полиции Георгия Васильевича приняли за руководителя социал-демократического движения, занимавшиеся его делом агенты для придания важности своим «открытиям» во всех доносах подчеркивали «выдающуюся» роль Чичерина в революционном движении.
Письмо Павлова-Сильванского шло долго и было последним: в сентябре 1908 года он умер от холеры.
В России свирепствовали каратели, эхо расстрелов докатилось до Европы.
Наступление реакции было жестоким, «попутчики» и сочувствовавшие революции отшатнулись от нее, среди позорных дезертиров были и друзья Чичерина из числа меньшевиков. Отступление их смахивало на паническое бегство.
Нелегко было Чичерину понять, что его друзья — Мартов, Дан, Мартынов — под революционными фразами прячут подлейший ревизионизм. Он еще не рвет с ними и пытается во всем разобраться. С этими настроениями покидает он Германию и в конце марта 1908 года приезжает в Вену. «Наслаждаюсь в Вене… атмосферою политической свободы… Какой контраст с тяжелым, кошмарным феодально-жандармским абсолютистским прошлым!»
Наслаждаться пришлось недолго, в конце марта он вынужден выехать в Женеву, а оттуда в Париж, где произошла его встреча с Мартовым. Когда-то он идеализировал его, казалось, весь его облик соответствовал чичеринскому идеалу: одухотворенная бледность, лоб мыслителя, прекрасные болезненные глаза. Мартов с его нервной, порывистой речью увлекал. Но Чичерин приглядывался и к большевикам. Истина познается путем сравнения — это философское изречение было его правилом жизни. И хотя он еще продолжал поддерживать меньшевиков, сравнение было явно не в их пользу.
Революция переживала труднейший период — об этом говорили и меньшевики и большевики.
Ленин и ого сторонники сохранили единство рядов, хотя против них в первую очередь направляла свои удары реакция, против них выступали меньшевики. Но их партия попреки всему росла, мужала и крепла. Она готовилась к предстоящей борьбе.
А Миртов и его сторонники? Они чернили своих идейных противником, обвиняли их и в стремлении узурпировать руководство в партии, и в отказе от прежних революционных принципов, и даже в непоследовательности. Больше всего возмущали Чичерина позерство и лживость мартовцев. Публично Мартов доказывал, что нет в русском революционном движении иной, более монолитной силы, чем меньшевики, а в кругу близких друзой признавался:
— Дела наши в России из рук вон скверны, и деморализованные Лондоном меньшевики до сих пор остаются аморфной массой.
После парижского пленума ЦК РСДРП в январе 1010 года меньшевики забили в литавры: им удалось добиться выгодных для них решений. Вскоре после пленума состоялось собрание, на котором, как вспоминал позже Георгий Васильевич, «Мартов сильно нападал на Владимира Ильича за некоторые решения большинства ЦК».
Ленин сказал тогда, что, в сущности, дело идет о борьбе за власть внутри партии.
— Вы хотите нас свергнуть, — обратился он к Мартову, — попробуйте.
Потом по-французски добавил:
— Faites le, citoyen Martoff![2]
Именно «citoyen», не «camarade». Так обозначались рубежи.
Снова Чичерин увидел Ленина через месяц. В феврале 1910 года секретариат Лондонского просветительного общества немецких рабочих решил в связи с предстоящим в Копенгагене конгрессом II Интернационала пригласить видных представителей рабочих, партий Европы на дискуссию на тему о войне и милитаризме. От РСДРП прибыли Ленин и Чичерин.
О своем выступлении на этой встрече Чичерин позже старался не вспоминать: попытка защищать зигзагообразную линию меньшевиков была жалкой комедией. Ни словесная эквилибристика Гайндмана, ни циничное остроумие Бернарда Шоу, участвовавших в этой встрече, ничего не помогло: господствовал на дискуссии Ленин.
Кратко и четко он дал анализ современной обстановки, последовательно и убедительно ответил на вопрос, каким будет характер предстоящей войны, и изложил теорию справедливых и несправедливых войн. Он разоблачил ошибки выступавших до него ораторов, да так убедительно, что Чичерин ясно понял: в вопросе о войне и мире Ленин, большевики правы на сто процентов, а меньшевики стоят на шатких позициях, защищать их — значит защищать неправое дело. Чичерин, как никогда ранее, отмечает, что у большевиков позиции сильнее, правильнее и просто научнее, чем позиции меньшевиков.
После встреч с Лениным наступил трудный период в жизни Чичерина, период коренной и окончательной ломки его взглядов и убеждений. После мучительных схваток ему удалось побороть наиболее коварного, стойкого и упрямого врага — самого себя. Мужественно, безжалостно, со спартанской суровостью поверг он этого врага и вышел на прямую дорогу революционера. Это была его окончательная победа над прошлым.
Теперь не могло быть места сомнениям и колебаниям. «Не Бисмарки и Наполеоны Третьи, — писал он 1 апреля 1908 года с внутренней убежденностью, — будут представляться «великими людьми» освобожденному от классов человечеству, а великие Vorkäpfer[3] массы, человечества, первые между равными революционеры… Надо уметь понять величие
Здесь нет лукавства, люди должны понять: он отказался от всех благ барина, добровольно пошел за правое дело тернистым путем в рядах суровых борцов. Без всякого интеллигентского позерства отбросил прочь дворянские привилегии и почести. Зачем они революционеру?
Чичерин по-прежнему получает деньги из России, но отдаст их партии. И это не филантропия, это сознательное отношение к долгу революционера. Частная собственность ненавистна ему.
Он пишет: «Когда я думаю о Карауле, мечтаю, как там, на этом красивом местоположении, прежний дом отдельной единицы будет превращен в Maison du peuple[4], будет центром сильной, глубокой, богатой, содержательной, трезвой жизни… В этом доме будут кооператив, организация крестьянского союза, местный театр… библиотека и читальня, залы для собраний. Массовая коллективистическая жизнь будет бить ключом, универсализм пролетарского мира уничтожит ужасную, мне до боли невыносимую Privacy[5], отгороженность, все то старое, что обезобразило мою молодость, в тисках чего я так страдал, стонал и вздыхал, пока пробил себе путь к современным великим революционным идеалам. Privacy — затхлость… Обобществленность — вот что область жизни содержательного и глубокого».
По-прежнему у Георгия Васильевича масса увлечений. По-прежнему широк круг его запросов. Он много читает, особенно историческую и философскую литературу. В условиях усиленного распространения идеализма было важно познать философские труды великих материалистов прошлого, понять их аргументацию и овладеть ею для борьбы с идеализмом и поповщиной, с давнишними врагами, которые так коверкали ему жизнь в юношеские годы.
«Какой жестокий бог — вечно (вечно!!! навеки!!!) карающий! В какой скверной фанатической фантазии зародилась идея такого жестокого, отвратительно-жестокого бога! Если бы были рай и ад, то я, несомненно, плюнул бы на все райские увеселения и пошел бы в ад разделить страдания несчастных, может быть ошибавшихся когда-то, но теперь караемых отвратительным деспотом… Я был бы подлецом, если бы остался в раю, когда несчастные мучатся в аду…»
Но одного нигилистического отношения к церкви мало.
«Как проявление интернационального творчества пробудившихся к жизни широких масс, христианство было явление прогрессивное. Но тогдашние производственные отношения делали невозможным для массы овладеть производством — поэтому вместо активно революционного пересоздания жизни христианство содержит проповедь кротости, смирения, перенесение надежд на другой мир, месть угнетателям в другом мире (у Тертуллиана: как буду радоваться, как буду восхищаться, видя тиранов-угнетателей и проч., поджариваемых в неугасимом огне и т. д.). Месть есть проявление бессилия. Также и кротость. Апостол Павел говорит: прощай оскорбляющему тебя, и ты соберешь горящие угли на голову его на том свете. Относительно христианства, как веры, причина и следствие должны быть перевернуты; причина, реальная, страдающая, мыслящая, работающая человеческая масса. Продукт — Христос».
Однако не научные изыскания главное в его жизни. Силы и время у Чичерина отнимает деятельность в интересах партии.
Академик И. М. Майский свидетельствует: «Помню, как-то в начале 1913 года я совершил довольно обычное в те времена «рефератное турне» по эмигрантским колониям Бельгии и Франции. Устраивал это «турне» Чичерин, живший тогда в Париже. Надо отдать ему справедливость, все было организовано прекрасно, и мои доклады на собраниях колоний происходили в срок и при переполненных залах. Но какой энергии это стоило Чичерину! Сколько писем и телеграмм он отправил в связи с моей поездкой! Сколько самой трогательной заботы он проявил в отношении меня, аккуратно извещая о расписании пароходов и поездов, которыми я должен был пользоваться, об адресах квартир, где я должен был останавливаться! Георгий Васильевич не гнушался никакой черновой работой, если то было необходимо в интересах дела».
Переписка и связи Георгия Васильевича были огромны, его память удерживала сотни подробностей. Казалось, у него неисчерпаемый заряд энергии. В любую минуту он готов был прийти на помощь товарищам, не жалея ни времени, ни здоровья, ни денег. Себя же все больше и больше ограничивал даже в самом необходимом. Аскетизм в быту, казалось, был для него первым испытанием воли, стремления к революционной закалке, наконец, проверкой качеств бойца.
В минуты отдыха он позволял себе потолкаться у книжных лавок букинистов на берегу Сены, посетить нотные магазины. Изредка он выкраивал время на чтение художественной литературы. Его любимыми писателями были Золя, Флобер, Мопассан. Это у них он учился безупречному французскому языку, которым так восхищал иностранных дипломатов и писателей.
Как и в Берлине, Чичерин не оставался в стороне от местного революционного движении. Он стал членом одной из секций Социалистической партии Франции, но очень, скоро разочаровался: Французская социалистическая партия была «слишком интеллигентской», в ней все больше и больше одерживали верх социал-патриоты, руководство, щеголяя революционной фразой, проявляло готовность идти на самые грязные сделки с клерикалами и монархистами.
«Теория социал-патриотизма, — писал он, — в откровенном виде заключалась в том, что капитал и труд в каждой стране имеют общие интересы и солидарны в своей борьбе против других стран. Такова в чистом виде теория той сильной рабочей аристократии, которой держится господство капитала в передовых странах».
Однажды на заседании секции партии Чичерин предложил, чтобы социалисты начали энергичную кампанию в защиту русских эмигрантов. В ответ раздались враждебные реплики.
Чичерина взорвало.
— Французский капитал, — резко заявил он, — как вообще капитал передовых стран, при содействии царизма самым варварским образом эксплуатирует российские трудящиеся массы. Выжатая из последних нажива идет не только всей Франции, крупицы из нее перепадают и тем, из которых вербуются гедисты и прочие. Я смотрю вокруг себя и вижу сравнительное всеобщее благосостояние, которое покупается безмерными страданиями трудящихся масс в России…
Кто-то крикнул:
— Вы националист!
— Если я националист, — возразил Чичерин, — то я националист угнетенных, националист эксплуатируемых мировым капиталом трудящихся масс России, а вы националисты капиталистического спрута, вы националисты ростовщиков и эксплуататоров.
Незадолго до войны Чичерин на некоторое время уехал в Лилль, чтобы на месте изучить и понять деятельность местных социалистов. Встречи с лилльскими лидерами не вызвали восторга, и здесь он обнаружил отвратительное мещанство и господство личных интересов. У него было достаточно оснований заявить: «Я горячо полюбил французскую рабочую среду, но правящие круги партии представлялись мне складочным местом лицемерия, карьеризма и интриг».
В Лилле его и застала мировая война.
В начале августа Чичерин выехал в Брюссель на конгресс представителей социал-демократических партий, созванный Международным социалистическим бюро. По дороге из Лилля успел заехать в Париж. Консьержка дома № 11 по rue Severo, где он жил, обещала сохранить в полном порядке все его вещи и бумаги. Захватив самое необходимое и заплатив за комнату за несколько месяцев вперед, Чичерин распрощался с любезной старушкой, которая искренне пожелала ему счастливого пути и скорейшего возвращения. Но господин Чичерин, он же Орнатский, больше не вернулся в столицу Франции. Лишь много лет спустя Париж посетит советский нарком Чичерин.
В Брюсселе Чичерин узнал, что конгресс ввиду военных действий вообще отменяется. Возвращаться во Францию не имело смысла, он устанавливает связи с русскими революционерами в Бельгии и становится членом здешней «эмигрантской комиссии», где вступает в борьбу против попыток эмигрантов-революционеров, поддавшихся военной истерии из-за ложного чувства патриотизма, оправдать войну.
Немецкие войска подошли к Брюсселю — знаменитый план Шлиффена осуществлялся пока с чисто немецкой пунктуальностью. Накануне оккупации все русские социал-демократы пешком двинулись в Голландию. Вместе с ними ушел и Чичерин. Из Голландии он вскоре перебрался в Лондон.
Слишком долгое общение с меньшевиками, привело к тому, что Чичерин не мог сразу разобраться, какую же позицию следует занимать по отношению к войне. Но в ноябре 1914 года в газете «Социал-демократ» он прочитал ленинский Манифест ЦК РСДРП «Война и российская социал-демократия». Манифест поразил его своей ясностью и точностью, он полностью согласился с характеристикой германской социал-демократии и других социалистических партий, вожди которых изменяли делу социализма. Сомнения возникли, когда дошел до характеристики задач, стоящих перед пролетариатом воюющих стран.
В манифесте говорилось: «В России задачами с.-д. ввиду наибольшей отсталости этой страны, не завершившей еще своей буржуазной революции, должны быть по-прежнему три основные условия последовательного демократического преобразования: демократическая республики (при полном равноправии и самоопределении всех наций), конфискация помещичьих земель и 8-часовой рабочий день. Но во всех передовых странах война ставит на очередь лозунг социалистической революции…»[6]
Ему было непонятно, почему перед пролетариатом различных стран в равных условиях войны ставятся различные задачи. Ведь у пролетариата есть только один враг — буржуазия, развязавшая чудовищную войну.
Он мужественно выступает против войны, против мутной волны шовинизма. И не случаен тот факт, что именно к нему обращаются с различными просьбами лица немецкой национальности, интернированные английскими властями в начале войны. Они твердо уверены, что этот русский интернационалист поможет им, и они не ошибаются. Он дает советы, снабжает деньгами, смело обращается к властям, доказывая их неправоту в каждом отдельном случае, и делает все это, несмотря на опасность для себя лично. Ведь мало кто в атмосфере всеобщего шовинизма и лжепатриотизма рисковал поднимать свой голос в защиту политических эмигрантов из враждующих между собой стран.
Не менее решительно выступает Чичерин и против английских социал-предателей, поправших принципы интернационализма. Его последовательная борьба находит поддержку среди рабочих. Имя Чичерина-Орнатского, русского эмигранта, становится широко известно в Великобритании.
В Лондоне Чичерин занят с утра до поздней ночи. Его можно увидеть в разных районах, вечно куда-то спешащего. Одет он был скромно, из карманов длинной, широкой поношенной крылатки постоянно торчали письма, газеты. В руках неизменный спутник — чемоданчик, набитый бумагами и книгами. Там же и знаменитое «стило», стеклянная палочка в виде карандаша, которой он писал под копирку.
Как всегда, он мало заботился о себе. Последствия сказались очень скоро: в 1915 году он перенес длительную и тяжелую болезнь кишечника.
Жил Георгий Васильевич в полутемной мансарде с единственным окном. Посредине комнаты стоял четырехугольный стол без скатерти, на столе были беспорядочно свалены книги, газеты, тарелки, объедки колбасы, тут же стояли недопитые бутылки лимонада. В углу — кровать, на которой Георгий Васильевич любил сидеть, разговаривая с посетителями. На полу вдоль стен подымались горы бумаг, писем, тетрадей, различных книг. Все покрывал густой слой пыли и лондонской копоти, самому на уборку не оставалось времени, хозяйка же не считала своей обязанностью убирать за жильцами. Впрочем, Чичерина это мало угнетало, дома он бывал редко.
Его часто можно было встретить в Британском музее, в редакциях газет и рабочих клубах, у друзей и знакомых. Неугомонный нрав гнал его к людям.
Много сил и энергии потратил он, чтобы осуществить свою идею создания Комитета помощи политическим каторжанам. Сначала предполагал заняться лишь сбором денег в пользу революционеров, томящихся в царской неволе, но вскоре комитет развернул политическую борьбу против царского режима. Чичерин, используя личное знакомство с членом палаты общин левым либералом Джозефом Кингом и его парламентскими друзьями, распространял информацию о состоянии политической борьбы в России, разоблачал царский произвол и добивался через своих друзей внесения парламентских запросов в палате общин по поводу преследования революционеров и других антидемократических действий царского правительства. Он придавал работе в комитете большое значение.
Его первым и незаменимым помощником по работе в комитете стала англичанка Бриджес-Адамс. Это была одна из тех деятельных личностей, которые всегда привлекали Чичерина. Бриджес-Адамс предоставила в распоряжение комитета свою квартиру. Здесь Чичерин принимал посетителей, сочинял листовки и воззвания.
Но деятельность в комитете была лишь частью его политической работы. «Я всеми фибрами хотел обновления всего движения», — писал он, устав от бесплодных споров с меньшевиками. Стремление к этому обновлению все больше и больше толкало к большевикам.
В мае 1915 года возник серьезный конфликт между Чичериным и Мартовым. Это было вполне закономерно, к этому шло дело. Выступая против партийной линии Ленина, Мартов предъявил редакции примиренческого издания «Наше Слово», в котором сотрудничал Чичерин, ультиматум, потребовав разрыва с Лениным и борьбы против него. Чичерин не поддержал Мартова и раскритиковал его. Самолюбивый меньшевистский лидер высокомерно пренебрег мнением Чичерина и впредь при всех случаях демонстрировал презрительное отношение к нему. Чичерин понял, что Мартову безразлична судьба партии, он озабочен лишь собственной персоной. Это живо напомнило Троцкого, к которому Георгий Васильевич питал чувство неприязни.
Встав на позицию интернационализма, Чичерин уже к началу войны начал отходить от меньшевиков, хотя окончательно и не порвал с ними. Оценка значения интернациональных связей, конечных целей революционного движения и роли пролетариата, характера будущей революции — все это было у них фальшиво, далеко от научного анализа, отдавало сектантством и дешевым фарисейством. Он высмеивал тех, кто предлагал «растащить марксистские партии по национальным квартирам». Революционер, к какой бы национальности ни принадлежал, обязан поддерживать революционное движение всех стран — к такому выводу пришел Георгий Васильевич и не уклонялся от него. Меньшевики, его недавние друзья, теперь в годы кровавой бойни, сдали остатки своих идейных позиций и выступали заодно с буржуазными партиями. Ему стыдно было признаться, что он совсем еще недавно так горячо верил в них. Остатки веры поколебала их полная солидарность с Вандервельде. Когда тот осенью 1914 года с помощью царского посла монархиста Кудашова обратился к русским социалистам в думе с призывом прекратить борьбу с царским правительством и выступить в защиту империалистической войны, меньшевики поддержали этого социал-предателя! Теперь отношения с Марковым и меньшевиками подошли к окончательному и бесповоротному разрыву, который и произошел в связи с «гвоздевской эпопеей»; Чичерин нашел эту эпопею чудовищной, а поведение меньшевиков — позорным.
К. А. Гвоздев, по кличке рабочий Гордей, был одним из видных меньшевиков. В 1915 году он вошел в Центральный военно-промышленный комитет и возглавил в нем «рабочую группу». Это было демонстрацией безусловного перехода меньшевиков на оборонческие позиции. Провозгласив «единство интересов капитала и труда в тяжелую для отечества годину», меньшевики на деле предали интересы пролетариата. Чичерин еще больше укрепился в мнении: оборончество — главный враг. Еще в Лондоне, где ему пришлось встречаться с видными социалистами-оборонцами, у него сложилось ясное представление: идти на сговор с царским правительством, пусть даже в условиях войны, может только предатель рабочего класса.
«Гвоздевская эпопея» привела к тому, что Чичерин решительно повернулся спиной к меньшевикам и сделал твердый сознательный шаг в сторону большевизма.
С этого момента ему нельзя отказать в последовательности. В 1916 году он активно участвует в борьбе против призыва русских политэмигрантов в английскую армию. Царское правительство, выдвинув идею распространения призыва в армию на русских эмигрантов, надеялось прибрать к рукам своих политических противников из числа эмигрантов. Когда этот план сорвался, был выдвинут другой: русские граждане должны быть призваны в армии тех союзных России держав, на территории которых они проживают. Чичерин возглавил кампанию протеста, организовывал митинги, инспирировал запросы в английском парламенте, писал обличительные статьи. Затея царского правительства была сорвана.
Деятельность Чичерина распространялась и на область английского рабочего движения. Его статьи появлялись не только в русской эмигрантской печати, но и в английских газетах.
Оборончество меньшевиков, их оппортунизм приобретали омерзительные черты. Георгий Васильевич решительно выступает против оппортунизма.
В парижской газете «Наше Слове» появляются его статьи под псевдонимом Орнатский. В них Чичерин остро и беспощадно критикует социал-шовинистов во главе с Гайндманом. Он указывает на опасность перехода английских властей к открытым репрессиям и подчеркивает основную мысль — происходит процесс сближения русской политической реакции с реакцией английской. Его предупреждения имеют реальные основания: в декабре 1915 года полиция производит налет на помещение Союза русских моряков. Одновременно полиция проводит обыск у Чичерина. Правда, его оставляют пока в покое, но обыск — первое серьезное предупреждение.
В мае 1916 года Чичерин публикует статьи, разоблачающие действия английских реакционных кругов. Статьи отражают близкие большевикам взгляды. Выступления Георгия Васильевича заметил Ленин.
«В примиренческом парижском «Нашем Слове», — писал Ленин, — т.
Сближение с большевиками было плодотворным. Чичерин обрел новые творческие импульсы, в нем укреплялся революционный дух. События на родине ускоряли этот процесс. В марте 1917 года пришло сообщение о буржуазно-демократической революции и отречении царя от престола. Это была ни с чем не сравнимая радостная новость. Революция открывала путь к активной борьбе не где-то в эмиграции, а в России. Пора было собираться домой.
В России конституируется «новый» политический строй. В Лондоне это проявляется в том, что над зданием посольства Российской империи на Чешем-Плейс вывешивается старый трехцветный флаг, но без царского герба. А люди те же, все тот же царский чиновник Набоков заправляет делами посольства.
Временное правительство готовится и к другим «реформам». По его распоряжению комиссия в составе Русанова, Эрлиха и им подобных колесит по Европе в поисках образца «чистой демократии». Западноевропейский опыт комиссия собиралась навязать матушке России. С какой иронией взирал Чичерин на затеи этих людей! Он-то прекрасно знал цену буржуазных демократий, досконально изученных им за время эмиграции.
В мае 1917 года, прощаясь с Майским, уезжавшим в Россию, Георгий Васильевич с большой убежденностью говорил:
— В эпоху революции надо быть горячим или холодным, нельзя быть теплым… Я все больше прихожу к убеждению, что меньшевики — это жирондисты русской революции, и их ждет судьба жирондистов… Мне с ними не по пути, хотя в прошлом я был связан с меньшевиками. Но война меня многому научила, и сейчас все мои симпатии на стороне русских якобинцев…
Чичерин умолк, но потом, уточняя, решительно закончил:
— …то есть большевиков.
Главное, чем пришлось ему заниматься в 1917 году, — это отправка политических эмигрантов на родину. Борьба против попыток русского правительства добиться принудительной высылки русских эмигрантов из Англии, пожалуй, была одной из наиболее славных страниц его дореволюционной биографии. Лишенный каких-либо прав, он меряется силами с враждебной бюрократической машиной двух государств.
Будучи секретарем комитета делегатов русской социалистической группы в Лондоне, Георгий Васильевич еще в конце 1916 года выступал против намерения английских властей выслать из Англии в Россию четырех русских эмигрантов, арестованных на борту датского судна, следовавшего из Норвегии в Нью-Йорк. Речь шла о том, чтобы не создавался опасный прецедент для последующей массовой высылки русских эмигрантов. Чичерину удалось, используя свой опыт и связи, добиться того, что лейбористы и радикалы выступили с протестом против попыток английского правительства осуществить эти намерения.
Борьба за защиту прав политических эмигрантов создала Чичерину большую популярность. И когда после февральской революции в Лондоне была образована Российская делегатская комиссия для содействия возвращению эмигрантов на родину, Чичерин вошел в нее как представитель социал-демократической группы в Англии.
Комиссия была невероятно разношерстной, она состояла из представителей всевозможных политических направлений. Возглавлял ее Кругляков, русский адвокат, присяжный поверенный Петроградского коммерческого суда, который раньше по заданию русского правительства поддерживал связи с английским военным министерством, координируя военные поставки в Россию.
Кругляков был далек от какого-либо понимания смысла социал-демократического движения. Он пытался примирить всех, кто ссорился, по его мнению, из-за пустяков. Но его буржуазную ограниченность и инстинктивную неприязнь к пролетарской партии с выгодой для себя использовали люди типа Гавронского — представителя эсеров и комиссара Временного правительства, или Набокова — поверенного в делах России в Англии. С ними Чичерину пришлось вести упорную борьбу.
Гавронский ответил коварным ударом, вышел из комиссии и клеветнически заявил, что она занимается тайной отправкой в Россию «преступных элементов».
Этого только и нужно было Временному правительству. Оно немедленно распорядилось прекратить выдачу виз политическим эмигрантам без согласия министерства иностранных дел и без заполнения опросных листов, которые тщательно просматривались военными властями.
Начались бесконечные визиты к Набокову, составление многочисленных протестов в адрес русского министерства иностранных дел. Чичерин энергично выступил и против попыток «фильтрации» эмигрантов по признаку «политической благонадежности». Набоков был вынужден встречаться с Чичериным, но он холодно выслушивал протесты и отказывал во всех просьбах, ссылаясь на распоряжения правительства.
Свою враждебность к революционерам этот чиновник открыто продемонстрировал после того, как И. Арманд попыталась выяснить возможности возвращения Ленина и других эмигрантов-большевиков из Швейцарии через Англию. Не без его вмешательства окончились неудачей попытки Чичерина получить на это разрешение у британского правительства.
И все же Чичерину и его помощникам из числа социал-демократов удалось сделать многое.
Его деятельность, особенно энергичная поддержка большевиков, привлекла внимание английской разведки. Для британского правительства он стал опасен. А меньшевики, как это ни странно, все еще продолжали считать его своим. Они даже рекомендовали Временному правительству по всем сложным вопросам, связанным с деятельностью русских за границей, обращаться к Чичерину. В августе Чичерин был телеграфно уведомлен, что на него возлагаются обязанности расследовать деятельность осведомителей заграничного бюро департамента полиции.
Так Временное правительство, само того не ведая, создало презабавный исторический парадокс. Сыщик царской полиции Селиванов, он же шпик Скотленд-Ярда, следил за Чичериным, а буржуазное Временное правительство поручило тому же Чичерину расследовать деятельность Селиванова. Телеграмма комиссара Временного правительства России Сватикова гласила: «Я уполномочиваю политических эмигрантов Чичерина и Клышко собрать официальные доказательства по делу бывшей русской правительственной политической секретной службы».
Клышко, встречавшийся со Сватиковым в Париже и рекомендовавший ему Чичерина, рассказал Георгию Васильевичу, что Временное правительство начало изучение материалов департамента полиции. В конечном итоге все это расследование оказалось блефом: бывшие царские шпики и охранники были взяты на службу новому правительству, и лишь немногие из них понесли наказание.
Однако внешне дело было поставлено на широкую ногу. Была создана чрезвычайная следственная комиссия, составлены обширные докладные о работе царской охранки. Член этой комиссии Сватиков должен был составить доклад о заграничной агентуре департамента полиции, орудовавшей во всех странах Европы и даже в Америке. Сватиков произвел многочисленные опросы в Скандинавских странах, во Франции, Швейцарии и намеревался в Риме завершить свой труд. Он и не предполагал, что занимается пустым делом: когда Керенскому представили его докладную записку, тот запретил ее публикацию.
Расследование деятельности русской секретной службы не устраивало английские власти. Ведь это неизбежно должно было раскрыть связи русских агентов с британской полицией. Началась подготовка к изоляции ставшего опасным русского эмигранта Чичерина. Были изучены многочисленные досье, заново просмотрены донесении секретных агентов о его деятельности в Лондоне. В газете «Колл» была обнаружена статья, в которой русский революционер призывал «пролетариат любой страны продолжать борьбу против войны, невзирая на то, ослабляет она или нет чью бы то ни было военную мощь». Поступили сообщения о том, что Чичерин призывал английских рабочих к борьбе против войны. Оказалось, что он состоит членом коммунистического клуба. Выяснилось, что клуб был создай накануне 1848 года эмигрировавшими из Германии профессорами. Итак, немцы!.. Крючкотворы и провокаторы из Скотленд-Ярда состряпали «дело Чичерина».
7 августа 1917 года Чичерина арестовали. За русским эмигрантом-революционером с лязгом захлопнулась железная дверь Брикстонской тюрьмы.
Одиночка. Объявлен строгий режим: никаких свиданий до особого распоряжения, можно только писать и получат, по два письма в месяц. Все. Протесты строжайше запрещены.
Георгий Васильевич неутомимо шагает от стены к крепко запертой двери. Через окошечко падает тусклый спет. За окном чудом сохранившаяся ветряная мельница. Она словно нарочно поставлена здесь, чтобы напоминать о вольных просторах.
Вести все-таки проникают за тюремные стены. В письме с воли товарищи сообщают, что есть намерение обратиться к английскому правительству с просьбой о выдворении русского подданного Георгия Чичерина на родину. Вряд ли в этом откажут, в стране ширится кампания против его ареста. Имя Чичерина хорошо известно, он стольким помог, что его не могут забыть. Английские социалисты выступили за его освобождение, против преследований политических деятелей в Англии.
Для успокоения общественности власти распространяют слух, что Чичерин освобожден. Его английские друзья делают запрос в палате лордов, и вскоре в газете «Колл» появляется краткое сообщение. «Из ответа лорда Керзона можно сделать вывод, что сообщение об освобождении Чичерина ложно».
Борьба продолжается.
Итак, ему предлагают возвратиться на родину. Георгий Васильевич долго обдумывает ответ. Слов нет, свобода прекрасна. Но надо бороться за политические права, за революцию, которой он служит. В этой борьбе нет компромиссов. Друзьям он пишет: «Я самым решительным образом настаиваю, чтобы никто не просил для меня замены тюрьмы выдворением на родину. Я уже много лет специально занимался борьбой за права иностранцев (в Штутгарте в 1907 году я своим вмешательством сорвал поправку, допускающую высылку по приговору суда), буду бороться в будущем и когда-нибудь сосчитаюсь с этими идиотами, заварившими нынешнюю кашу. Альтернатива тюрьмы или выдворения на родину есть замаскированная депортация. Я никоим образом не могу допустить, чтобы моя организация или мои друзья поддерживали это для меня, и буду смотреть на это как на враждебный шаг против меня».
Ему долго не предъявляли никакого обвинения, его даже не вызывали на допросы. Бесконечно однообразно тянулись дни. Он привык быть в движении, в труде, а здесь его лишили этого. Он всего-навсего узник под номером 6027, не больше.
Томила неизвестность. Что ожидать, против каких обвинений надо защищаться? Лишь 22 августа агент Скотленд-Ярда Кечнер наконец вручил ордер на интернирование. Когда Чичерин прочитал его, то не поверил своим глазам: ему вменялось в вину многое, даже подрыв оборонной мощи Великобритании.
Расследование его «преступлений» тем временем шло своим чередом. Начался опрос свидетелей. Были взяты показания у миссис Адамс, Круглякова, вызван Джозеф Кинг. Громоздкая, медленно работающая машина английского правосудия заскрипела.
Никто из допрошенных не мог подтвердить, что коммунистический клуб — это центр германского шпионажа. Следователи гоняли сыщиков Скотленд-Ярда по городу, чтобы отыскать таинственно исчезнувший архив Чичерина.
Защитник Эллис подолгу беседовал со своим клиентом. Ему давно стало ясно, что нет никакого состава преступления, что «дела Чичерина» не существует в природе. Он пробовал доказывать, что Чичерин пользуется дипломатическим иммунитетом, поскольку русское правительство возложило на него задание по расследованию деятельности служащих бывших правительственных органов. Но «потеряна» телеграмма Сватикова. И хотя Клышко дословно цитировал текст телеграммы, этого было недостаточно, требовалось получить официальное подтверждение ее. Эллис обратился к русскому вице-консулу в надежде, что русское правительство приложит силы, чтобы освободить из заключения своего соотечественника. Но он глубоко заблуждался: 12 сентября посыльный доставил в адвокатскую контору «Эллис и Кº» ответ вице консула. Русский чиновник любезно сообщал адвокату: «Относительно телеграммы, полученной г-ном Чичериным, верно, что такая телеграмма была получена. Однако г-н Сватиков, возлагая на Вашего клиента конфиденциальное расследование, не проконсультировался с Русским посольством и не принял во внимание тех причин, которые привели к его аресту. Миссия Сватикова теперь окончилась, и, таким образом, если бы г-н Чичерин не был арестован, у него не было бы возможности руководить этим расследованием».
Чичерина все чаще стали вызывать к следователю. Допросы изнуряли, они оставляли впечатление, что дело проиграно заранее, что никакой надежды на скорое освобождении нет. Тяжелой походкой измученного человека шел он по коридорам в сопровождении охранника. Вынужденное безделье, отвратительная тюремная пища и одиночество быстро разрушали здоровье.
Следователь беседовал с ним любезно, в истинно британской манере. Больше всего он допытывался, с кем из немцев встречался Чичерин.
Нехотя, безразличным тоном, наверно, уже в сотый раз, он задавал один и тот же вопрос:
— Поддерживали ли вы связь с Бекманом?
Чичерин давал один и тот же ответ:
— Да. Поскольку он был секретарем Ливерпульского комитета помощи политзаключенным.
— Вели ли вы переписку о вооружении и передвижении войск?
— Конечно, нет!
Возмущение арестанта мало трогает следователя Санки, он продолжает «философствовать».
— Если бы интернационалистское движение в Англии было сильнее, чем в Германии, не ставило бы это Англию в более слабую позицию?
Чичерин с искренним изумлением смотрит на чиновника.
— Это положение фантастично. Движение усиливается повсюду в мировом масштабе.
— Приветствовали бы вы победу союзников с большей охотой, чем победу немцев?
— Это не имеет никакого отношения к делу пролетариата.
На следующий день вся процедура повторяется. Заключенный проделывает тот же самый путь, выслушивает те же самые вопросы. Особенно назойливо звучит вопрос следователя о его личном архиве.
— Кому вы передали протоколы заседаний социалистической группы?
— Не помню.
— Не могли же вы забыть то, что произошло три недели тому назад.
— Не помню.
И снова одиночка, снова раздумья и грустные мысли. Он, конечно, прекрасно помнит и знает, где находятся архивы. В них адреса, документы партии, они не предназначены для посторонних глаз.
Следователь и его стандартные вопросы надоели до смерти. Какая нелепость обвинять его в шпионаже в пользу Германии, в то время как истинные шпионы разгуливают на свободе! Даже в самом начале расследования, порученного ему Сватиковым, он обратил внимание на то, что один из агентов русской секретной службы служил англичанам и немцам. В письме в министерство внутренних дел Великобритании, которое Чичерин отправил уже из тюрьмы, он обращал внимание английских властей на этот факт. Но британская полиция отказалась арестовать агента, она не хотела, чтобы был пролит свет на темную деятельность бывшей царской охранки.
Кормили в тюрьме все хуже и хуже, надзиратели говорили, что за свои деньги можно есть ростбиф хоть пять раз в день. Он пишет адвокату Эллису: «Пошла уже шестая неделя. Пожалуйста, скажите миссис Адамс, чтобы она немедленно внесла на мой счет здесь в тюрьме 10 ф. ст., которые у нее есть для меня. Если она не сможет сделать этого сразу, я окажусь в крайне неприятном положении…» Он просит также снять с его лицевого счета в «Лондон энд С. У. бэнк» ту небольшую сумму, которая еще осталась, но тут же предупреждает своего адвоката, что, «очевидно, пробудет здесь долгое время, и всего этого будет недостаточно», а поэтому нужно передать Круглякову, чтобы тот получил с меньшевиков Дана, Крохмаля и Кострова деньги, которые Чичерин дал им и долг в 1907 году. Это была большая сумма — 3500 франков. Кроме того, Мартов должен ему 1000 франков. «В 1907 году, — пишет Чичерин, — меньшевики были людьми, которых преследовали… Теперь же они у власти, а я в нужде…»
Кругляков добросовестно выполнил поручение, написал Крохмалю в Петроград письмо с просьбой вернуть Чичерину хотя бы часть денег. Никаких денег от меньшевиков Чичерин не получил. К счастью, перевела деньги миссис Адамс да немного помогли оставшиеся в Лондоне друзья.
В конце сентября разрешили свидания. Друзья приходили в приемный день по одному, по два. В мрачном углу, отделенном зарешеченным коридором от посетителей, Георгий Васильевич за 15 минут пытался сказать то многое, что не давало ему покоя в одиночной камере. Друзья упрашивали согласиться на принудительную высылку на родину, но он упорствовал. Согласиться на высылку, говорил он вновь, значило создать прецедент, после этого власти такого согласия ни у кого спрашивать но будут.
Георгий Васильевич тосковал по родине. Письма оттуда приходили редко, были они безжалостно вымараны русскими и английскими цензорами. Чичерин много читал, особенно произведения Аксакова. Его книги вызывали в памяти картины Тамбовщины, и он часто грезил далекими родными местами. И все же он упорно отвергал саму мысль о принудительной высылке.
Меньшевики не оставляли его без своего назойливого внимания. Кругляков продолжал упорно требовать согласия на высылку из Англии. Он призывал ехать в Россию и вместе с Даном, Крохмалем, Костровым принять участие в «великом деле создания новой России». Он доказывал, что Чичерин заблуждается, отказываясь оставить тюрьму ради каких-то туманных принципов. Бороться вместе с Керенским, «преобразователем России», — по его мнению, было главное.
Георгий Васильевич как-то не выдержал, возмущенно взялся за «стило». «Я не скрываю своей точки зрения, — писал он Круглякову. — То, что думают здесь некоторые люди, — это безразлично… Искажения могут быть злонамеренными. Я не уклоняюсь от гражданского долга, как логического вывода из моей системы идей (не вашей)… Я был бы полезен там (не в вашем понимании)…»
Предложение Круглякова выехать в Россию Чичерин гневно отклоняет. Он не принадлежит к числу тех, кто променял алое знамя революции на зеленый плюш министерских кресел. «Мы носители принципов, а принципы остаются принципами как при Александре Федоровне, так и при Александре Федоровиче, а декламации премьера не могут заставить отказаться от принципов тех, кто работает не для текущего момента, а для истории». Он пишет, и его частное письмо превращается в обличительный памфлет против тех «радикалов», которыми Кругляков любуется как героями. Мысли его звучат то сердито, то саркастически… «В июне 1848 года Герцен стоял на Pont Neuf, он слышал звон колоколов св. Сульпиции, который звал пролетариат к оружию, вместо того чтобы, как всегда, его обманывать. Он видел, как мимо маршировали африканцы, его душа неслась к Парижу, к Парижу революций, как к умирающей возлюбленной… Спустя несколько дней революционный Париж был мертв. Он возненавидел Париж. Он не подозревал, что уже родилась новая органическая концепция. Мы исходим из этой концепции…»
Новая концепция — это марксизм, учение о революции, учение о диктатуре пролетариата, самой справедливой диктатуре, ибо это диктатура трудящегося большинства против паразитирующего меньшинства. Мир свободных людей, мир сбывшихся грез сотен поколений людей. Ради этого стоило жить, стоило бороться. Он, потомственный дворянин, внук и сын владельцев крепостных душ, пришел к главному в учении Маркса — к признанию диктатуры пролетариата, он пришел к большевикам. «Моя система идей — это не ваша система», — гневно бросает он в лицо меньшевикам.
Кругляков пишет, что скоро уходит в Россию еще один транспорт политэмигрантов. С ними уезжают и некоторые друзья Чичерина из Англии. Это радует, ведь Набоков побежден. Конечно, мог бы и он покинуть стены тюрьмы, но он не согласен платить за это такую цену. «Альтернативой моему пребыванию здесь была бы либо депортация, явная или скрытая, которую я отклоняю и против которой я вновь протестую, либо какая-нибудь форма самоограничения или отречения, о которых я не желаю слышать!.. Я могу требовать лишь неограниченной свободы так же, как мои друзья», — отчитывал Чичерин Круглякова.
Он заперт в клетку, ест тюремную похлебку, спит на жестких тюремных нарах, испытывает издевательства тюремщиков, но он жив, он мыслит, он борется.
И вот однажды стены Брикстонской тюрьмы потрясла новость — в России социалистическая революция. Первым декретом рабочего правительства был декрет о мире. Так началось осуществление мечты его жизни. «Кто во главе правительства?» — спрашивает он. Ему отвечают: «Ленин».
При свиданиях ему рассказывают о митингах, которые происходили в Англии в связи с пролетарской революцией в России. Ему передают текст резолюции, характерной для тех дней.
«Общее собрание членов социалистических групп в Лондоне приветствует совершившийся переворот как первую истинно Пролетарскую революцию и созданную ею революционную власть и выражает уверенность, что мощные призывы Российского Революционного Правительства пробудят революционную энергию пролетариата всего мира для решительной борьбы за мир и за окончательное освобождение человечества от рабства капитализма и империализма».
Домой! Там, на родине, началось
В воскресенье, 18 ноября 1917 года, в Глазго состоялся огромный митинг, организованный профессиональным советом города и Русским комитетом по защите прав политических эмигрантов. Люди с суровыми лицами, с огрубевшими от работы руками внимательно слушали ораторов. Их было много — русских, англичан, французов. Они славили Россию, поднявшую знамя борьбы за счастье всех народов, за мир. Они требовали свободы для русских, заключенных в английских тюрьмах. Имя Чичерина повторялось многими. Этот русский сумел завоевать любовь простых людей. Всю войну он прошел вместе с нами, говорят ораторы, наряду с интересами русских он отстаивал и наши интересы, боролся против войны и, значит, боролся за нас. И теперь нужно бороться за его свободу.
Собрание, говорится в резолюции митинга, «гневно протестует против продолжающегося заключения в тюрьме без судебного разбирательства Георгия Чичерина, Петра Петрова и госпожи Ирмы Петровой, а также других русских за то, что эти товарищи проявляли активность как интернациональные социалисты. Собрание требует их немедленного освобождения и клянется сделать все, что в его силах, чтобы принудить деспотическое британское правительство вернуть им свободу, чтобы они могли продолжать свою деятельность по защите интересов рабочего класса».
Нелегок был путь первого в мире Советского государства. Силы внутренней и внешней реакции объединились, чтобы задушить большевиков, повернуть развитие событий вспять. Царские и иностранные дипломаты были в первых рядах врагов. Их контрреволюционная активность началась задолго до Октябрьской революции.
Было широко известно, что английский посол Джордж Бьюкенен грубо вмешивался во внутренние дела России, поучал, а то и просто угрожал русским министрам. Это сходило ему с рук, он пользовался огромным влиянием на Николая II, ему благоволила сама императрица Александра Федоровна. Но вот царских чиновников посол не жаловал своим вниманием, да и с кем было знаться? Пришли времена, когда отчетливо проступило: ничтожной долей ума нельзя далее управлять страной, тем более вести государственный корабль по коварным международным волнам. Несчастье состояло в том, что, за редким исключением, Россией правили бездарности, государственная мудрость которых — если позволительно применить к ним это выражение была обратно пропорциональна масштабам великой страны, ее всевозрастающему весу и историческому революционному значению.
За бытность Бьюкенена в Петрограде сменилось четыре царских министра иностранных дел: Извольский, Сазонов, Штюрмер, Покровский. Все они интриговали, пытались спихнуть своего предшественника и не оставили по себе прочной памяти, хотя и силились войти в историю. В коридорах власти Российской империи шла непрерывная драка соперников. В серой галерее русских дипломатических фигур заметно выделялся А. П. Извольский. «Великий европейский дипломат» — так величали его подхалимы — в совершенстве владел искусством придворных интриг. В кругу сановников говорили, что ему поручать ничего нельзя — во всем провалится.
Так оно и случилось. В 1908 году в Бухлау Извольский в переговорах с австрийским министром дал согласие на аннексию Австро-Венгрией Боснии и Герцеговины в обмен на право свободного прохода русских военных кораблей через черноморские проливы. Австро-Венгрия незамедлительно реализовала первую часть сделки — аннексию, а вторая часть осталась на бумаге, так как Турция и стоящая за ее спиной Англия не выразили никакого желания предоставлять России права в отношении проливов. Русского министра попросту одурачили, разразился скандал, замазать его не удалось. Этим воспользовались соперники. Столыпин протащил на пост министра иностранных дел своего зятя Сазонова.
Новый министр не создавал даже видимости самостоятельно мыслящего политика. Он, как говорится, был «без свинца в ногах», всегда охотно, без подталкивания бежал в угодном для царя, а больше для царицы направлении. Его подписи стояли под многими тайными соглашениями России со странами Антанты.
Сазонов удержался больше шести лет. Но 30 ноября 1916 года по настоянию Распутина царь отстранил его ради Штюрмера.
Последний в истории русской дипломатии оставил едва заметные следы. Вскоре после назначения все тот же Распутин скинул и его, как только выяснил пикантные подробности частых визитов министра к коменданту Петропавловской крепости, точнее, к его легкомысленной дочери — фрейлине Никитиной: к ней наведывался и сам Распутин.
Под стать министрам было большинство чиновников. Многие годы, пожалуй, с момента зарождения министерства иностранных дел в 1802 году в России создавалась особая, привилегированная каста дипломатов. Перед первой мировой войной среди 570 служащих этого министерства числилось 39 баронов, 32 князя, 12 графов и один светлейший князь. Пользуясь особым привилегированным положением в великосветском обществе, обласканные императором, пресыщенные барскими условиями жизни, дипломаты были кровно заинтересованы в сохранении и упрочении самодержавия. Не делу служили они, а прислуживали власть имущим, соревнуясь между собой в погоне за чинами и отличиями да за степень влияния на начальство.
Однажды даже такая реакционная газета, как суворинское «Новое время», не выдержала и осмелилась упрекнуть царских дипломатов в недостатке патриотизма, в нерадении и забвении русских интересов за рубежом, в раболепном преклонении перед Европой. Газета потребовала «преобразовать русскую дипломатию». Но было уже поздно, на Россию двигался грозный вал революции.
В Петрограде начались забастовки. 26 февраля войска стреляли в народ. В ночь на 28 февраля Временный комитет Государственной думы отдал приказ об аресте царских министров и принял на себя правительственные функции. Во все министерства были назначены комиссары Временного правительства.
В эти дни в Петрограде назойливо мелькала фигура лидера кадетов Н. П. Милюкова. Этот профессор, член Государственной думы стал первым министром иностранных дел Временного правительства.
Милюков — наиболее активный деятель правого фланга русской буржуазии — не скрывал, что не намерен менять прежний курс политики. Он сохранил в полной неприкосновенности бывшее царское министерство иностранных дел. Даже кабинет министра остался в прежнем виде, были лишь убраны портреты Романовых. Господ дипломатов огорчило лишь одно — были запрещены парадные мундиры да из обихода изъяли старую гербовую бумагу.
18 марта 1917 года[8]. Милюкова посетил «некоронованный король России» — Бьюкенен. Сообщение министра о том, что Временное правительство намерено с «неизменным уважением относиться к международным обязательствам, принятым павшим режимом», успокоило посла.
22 марта Англия, Франция и Италия официально признали Временное правительство. Они потребовали, чтобы Временное правительство прекратило какие-либо сношения «с радикалами, именующими себя Советами депутатов», «обуздало улицу» и «интенсифицировало военные усилия».
Когда Временное правительство объявило всеобщую амнистию политическим эмигрантам, послы стран Антанты не замедлили выступить против пропуска интернационалистов в Россию. Узнав о том, что Ленин возвращается в Россию через Германию, Бьюкенен бросился к Милюкову. Но министр оказался бессильным что-либо предпринять. Тогда, чтобы дискредитировать большевиков, посол исподтишка в одной из французских газет инспирирует сообщение о том, что политические эмигранты, решившие вернуться в Россию через Германию, будут объявлены государственными изменниками и преданы суду. И это не помогло. 16 апреля 1917 года Ленин был уже в Петрограде. Союзные посольства прибегли к последнему средству: они начали соревноваться вместе с правыми партиями в распространении клеветнических слухов о том, что Ленин и большевики — это германские шпионы. Так действовали бьюкенены и их пособники.
Вплоть до своего выезда из России Бьюкенен, французский посол Нуланс, который сменил летом 1917 года Мориса Палеолога, американский посол Френсис требовали решительных мер против большевиков.
Грубая прониколаевская линия во внешней политике дискредитировала «народное» правительство, резко сузила его социально-политическую базу, способствовала быстрому отрезвлению и полевению масс. Милитаристские высказывания министра вскоре вызвали мощные демонстрации протеста. 6 мая Милюков был вынужден уйти в отставку, на его место пришел Терещенко. С этим тридцатилетним богатым сахарозаводчиком антантовские послы установили тесные связи и действовали беззастенчиво. Не без их влияния правительство совершило военную авантюру — отдало приказ о наступлении. Немцы ответили мощным контрнаступлением, прорвали фронт на Тарнопольском направлении и к середине июля заняли Галицию и Добруджу. Надежды на то, что кровопускание ослабит революционное давление в стране, не оправдались. Бессмысленная гибель более 50 тысяч русских солдат, лживая пропаганда правительства вызвали в стране гнев и возмущение. 16 июля массы вышли на улицы. Правительство ввело в столицу войска, солдаты стреляли в народ.
Но волнения не ослабли. Терещенко забеспокоился и посоветовал своему другу Бьюкенену на несколько дней покинуть Петроград. Английский посол потребовал применения самых жестоких мер.
К началу августа произошла новая перетасовка в составе Временного правительства. «Беспартийный» Терещенко выдвинулся на одно из главных мест.
Весь аппарат дипломатов-чиновников с министром во главе верой и правдой обслуживали интересы русской буржуазии и помещиков, обслуживали с рвением и усердием, каждый соразмерно чину и званию.
В лице Терещенко чиновники видели единомышленника. Но с одним плохо мирились: министр был чересчур оптимистичен, не замечал опасности, таившейся в рабочих кварталах Петрограда. Вместо решительности — благодушествовал, важничал, упивался, как все временщики, властью. Многие, в том числе и его заместитель Петряев, возмущались тем, что с первых дней своего возвышения он тратил усилия на то, чтобы на нем и не на ком кроме скрещивались восхищенные взгляды окружающих, чтобы только он стоял в центре всеобщего внимания.
24 августа сэр Джордж попросил к себе Терещенко.
— Я очень разочарован, — начал беседу посол.
И дальше в раздраженном тоне пояснил: правительство оказалось еще более слабым, чем он предполагал, смертная казнь на фронте не введена.
Через неделю Бьюкенен встретился с Керенским и заявил ему:
— Я не могу скрыть от вас, как тяжело мне наблюдать то, что происходит в Петрограде. В то время как английские солдаты проливают свою кровь за Россию, русские солдаты шатаются по улицам, ловят рыбу в реке и катаются в трамваях, а германские агенты работают повсюду.
Керенский дал обещание в ближайшее время принять самые решительные меры по борьбе с «анархией».
После его ухода Бьюкенен записал в дневнике, что Россия теперь нуждается в более правом и более сильном правительстве. Генерал Лавр Корнилов, по его мнению, был единственным человеком, способным взять в свои руки армию.
Уговаривая и запугивая официальных представителей правительства, английский дипломат на стороне заводил связи среди эсеров, кадетов, анархистов, а в ставку к Корнилову направил своего агента, которого снабдил письмом военного министра Великобритании. В письме — одобрение диктаторским планам генерала Корнилова.
Но заговорщиков ожидали горькие разочарования. Корнилову не удалось совершить военный переворот, он арестован. Бьюкенен метал громы и молнии. Убран единственно сильный человек, способный восстановить дисциплину в армии. Посол вновь со всей откровенностью заявил Терещенко, что теперь он не видит никого, кто бы спас Россию. Министр пытался разубедить его. Но Бьюкенен не верит Терещенко. Он решил действовать настойчивее, отбросив всякую дипломатическую деликатность.
9 октября вместе с французским и итальянским послами он предпринял демарш у Керенского.
Дипломаты заявили: если Временное правительство не прекратит свою малодушную политику заигрывания с левыми и не наведет твердого порядка, то страны Антанты немедленно лишат его помощи.
Керенский произнес пылкую речь. Закончил ее патетически:
— Несмотря на все свои затруднения, Россия решила продолжать войну до конца!
И тут же лихо повернулся и вышел. Кавалерийский прием вызвал у послов приступ крайнего раздражения. Бьюкенен не унимался. И вот новая встреча с Керенским, новые уговоры.
Все напрасно: Центральный Комитет партии большевиков принял решение о вооруженном восстании. 2 ноября собрался Военно-революционный комитет. Он обсудил обстановку и образовал военный центр по руководству восстанием.
5 ноября Бьюкенен предпринял последнюю попытку воздействовать на правительство. Посол пригласил к себе Терещенко, Коновалова, Третьякова. За столом обменивались обычными салонными любезностями. Только за кофе с коньяком как бы вскользь хозяин заметил:
— В городе ходят упорные слухи, что большевики приняли решение на днях свергнуть Временное правительство.
Терещенко начал уверять, что правительство Керенского справится с положением, что готовится арест Исполкома Петроградского Совета и отдан особый приказ об аресте Ленина.
И действительно, в тот же день, словно опомнившись, Временное правительство начало предпринимать судорожные меры.
Терещенко по телефону информировал Бьюкенена: заняты и закрыты типографии, в которых печатаются некоторые большевистские газеты…
Это был их последний разговор. События захлестывали.
Наступило 7 ноября.
Бьюкенен пытался выяснить обстановку, но Терещенко не оказалось на месте, а Петряев лишь подтвердил известные факты.
Позже он узнает, что секретарь американского посольства Уайтгауз побывал в Зимнем дворце, где Керенский информировал его, что срочно выезжает в Лугу к верным правительству войскам. Премьер просил Уайтгауза передать союзным послам, чтобы они ни в коем случае не признавали большевистское правительство, ибо в ближайшее время положение будет восстановлено…
Вечером Бьюкенен из окна наблюдал за улицей. Все спокойно, по Троицкому мосту мирно шли трамваи. И вдруг грохот. Это бабахнула холостым шестидюймовка «Авроры». Началось…
Началось наступление на Зимний. И вот уже из дворца отряд во главе с бородатым матросом-гигантом Дыбенко выводил тринадцать «временных». Первым шел Кишкин с перекошенным от страха лицом, за ним Рутенберг, третьим Терещенко. Терещенко в границах допустимого возмущался. Конвойные усмехались. В суматохе часть арестованных куда-то запропастилась, но к месту прибыли все, последний явился сам к утру. Когда ожидали размещения, бывший министр иностранных дел осмелел, пытался спорить:
— Ну и что вы будете делать дальше. Как управитесь без интеллигенции, внешняя политика требует знаний.
Не договорил, кто-то перебил. Матрос-конвоир посмеивался:
— Сами управимся.
В Смольном заседал II съезд Советов. В восемь часов сорок минут вечера в президиуме появился Ленин. Навстречу рванулся шквал приветствий.
Слово — Ленину. В напряженную тишину врываются четкие ленинские мысли:
— Вопрос о мире есть жгучий вопрос, больной вопрос современности. О нем много говорено, написано, и вы все, вероятно, немало обсуждали его. Поэтому позвольте мне перейти к чтению декларации, которую должно будет издать избранное вами правительство.
Ленин читает Декрет о мире, война объявляется величайшим преступлением.
Советское правительство отменяет тайную дипломатию, выражает свое твердое намерение опубликовать все тайные договоры и соглашения, заключенные прежними правительствами, и одновременно объявляет, что все содержание этих договоров безусловно и немедленно отменено.
Советское правительство обращается к пролетариату всех стран с призывам помочь довести до конца дело мира и вместе с тем дело освобождения трудящихся и эксплуатируемых масс населения от всякого рабства и эксплуатации.
Десять часов тридцать пять минут вечера. Председательствующий Каменев объявляет голосование. Вверх взметнулись мандаты. Кто-то замешкался. Вокруг раздались негодующие голоса. Тот, один, нехотя поднял мандат. Декрет о мире принят единогласно. Радостно блестят глаза: в зале звучит «Интернационал» — государственный гимн Страны Советов…
В два часа тридцать минут ночи оглашен проект декрета об образовании первого Советского правительства.
Кандидатура Ленина на пост Председателя Совета Народных Комиссаров вызвала искреннее одобрение всего зала. О будущем наркоме по иностранным делам долго говорили на предварительных заседаниях. Первоначально был выдвинут Г. В. Чичерин. Но его кандидатуру пришлось снять, так как он находился в заключении в Брикстонской тюрьме, а внешнеполитические дела требовали немедленной активной деятельности.
Съезд голосует за Совет Народных Комиссаров в предложенном составе с Лениным во главе.
В это напряженное время Ленин уделил большое внимание вопросу о государственном аппарате.
Временно наркомы разместились в Смольном, ставшем резиденцией нового правительства.
Смольненский период Советской власти был кратким, но тяжелым и ответственным. Внешнеполитические задачи, поставленные съездом Советов, не терпели отлагательства. ЦК партии, Ленин, а по его поручению Петроградский военно-революционный комитет принимали прямое и непосредственное участие в решении разнообразных практических дел комиссариата по иностранным делам. Лично Лениным или при его непосредственном участии готовились важные внешнеполитические документы.
Сама жизнь толкала на немедленную организацию НКИД. Были приняты меры по укомплектованию Наркоминдела первыми сотрудниками, по установлению связей с заграницей, распространению информации для зарубежной общественности о событиях в России и мероприятиях Советской власти, по созданию службы дипкурьеров. По указанию Ленина на пограничный пункт Торнео были направлены комиссары Жемчужин и Светличный, которые наводили там революционный порядок, пресекая попытки контрабанды и нарушений советско-шведской границы. Позже туда же был направлен матрос Тимофеев для организации службы курьеров Смольный — Торнео и для контроля за передачей телеграмм Совнаркома за границу. При непосредственном участии Ленина были организованы первые советские представительства в Скандинавии (В. В. Воровский), в Англии (М. М. Литвинов), работавшие непосредственно под контролем и по указаниям Ленина и ЦК партии.
Делались неоднократные попытки привлечь к работе НКИД сотрудников бывшего министерства иностранных дел.
Утром 7 ноября Военно-революционный комитет назначил М. С. Урицкого временным комиссаром по приемке дел бывшего министерства иностранных дел.
В тот ж о день Урицкий вместе с комиссаром ВРК, бывшим корнетом Н. И. Покровским посетил министерство.
Накануне, во время штурма Зимнего отряд красногвардейцев с Васильевского острова занял министерство иностранных дел. Утром чиновники явились на службу, часовые пропустили их всех.
Урицкому показали, как пройти к Нератову, исполняющему обязанности министра. Тот принял представителя новой власти холодно, беседа не налаживалась. Урицкий сказал, что Советское правительство намерено подготовить к публикации секретные договоры и соглашения. Нератов категорически возражал. Он стал запугивать последствиями такого шага, говорил, что это может нанести непоправимый ущерб внешней политике России. Сотрудничать с новым правительством он отказался, высокомерно заявив, что не знает ни его целей, ни его программы. Тогда Урицкий собрал низших чинов министерства и попросил их оказать содействие, но не встретил и с их стороны готовности к сотрудничеству. В заключение предупредил, что явится в министерство еще раз. Нератов ответил:
— Присутствуйте, наблюдайте, а там видно будет…
Факт вежливого обращения комиссара ВРК чиновники расценили как беспомощность новой власти. Среди них укрепилось мнение, что надо сопротивляться всем попыткам использовать их на службе большевикам.
Сразу же после визита Урицкого все департаменты и отделы бывшего МИДа прекратили работу. Чиновники перестали выполнять даже самые неотложные дела. На их языке это называлось «забастовкой протеста против большевистской власти». Чиновники-дипломаты действовали и первых рядах петроградских саботажников. Буржуазные газеты публиковали восторженные выдумки пятачковых писак о «героическом» поведении русских дипломатов, которые-де в количестве шестисот человек швырнули в лицо большевиков прошение об отставке.
В этих условиях Военно-революционный комитет принял решение назначить члена Василеостровского райкома партии, революционера-профессионала И. А. Залкинда помощником наркома. Ему вменялось в обязанность положить конец саботажу чиновников, забрать секретные договоры и подготовить их к немедленной публикации. В помощь ему был придан интернационалист, приват-доцент Е. Д. Поливанов, который за два месяца до Октябрьского восстания был прикомандирован к азиатскому департаменту МИДа.
Во второй половине дня 15 ноября Залкинд появился в бывшем кабинете Сазонова и потребовал кого-нибудь из руководства бывшим министерством. К нему пожаловал председатель «Союза служащих» князь Урусов.
Князь не проявил особой храбрости. С трудом преодолевая страх, он зачитал петицию чиновников об отставке.
— Где Нератов? — спросил Залкинд, не обнаружив интереса к петиции.
Оказалось, что товарищ министра серьезно «заболел» и находится на даче.
— Где остальные?
Остальных в присутствии тоже нет. У всех нашлись «неотложные» дела.
Залкинд, не обращая внимания на князя, вышел, с грохотом захлопнув за собой дверь.
После его отъезда чиновники быстро собрались, чтобы обсудить положение. Пришли к оптимистическому выводу: очередной комиссар также оказался бессильным что-либо сделать, все осталось по-старому. И вообще правительства приходят и уходят, а чиновники остаются.
Но они просчитались.
На следующий день Военно-революционный комитет вынес решение:
В тот же день матрос Балтийского флота Н. Г. Маркин был вызван к Я. М. Свердлову. Он получил назначение в НКИД. В мандате, выписанном Бонч-Бруевичем, говорилось: «Товарищу Маркину, секретарю народного комиссара иностранных дел, поручается проведение необходимых действий для организации работы Народного комиссариата».
Тем временем Залкинд и Поливанов колесили по всему Петрограду на стареньком «пежо», разыскивая чиновников.
Встречи с чиновниками на дому привели Залкинда к выводу, что вряд ли можно ждать от них что-либо путного, пора было рассчитаться с ними.
Утром 17 ноября Залкинд зашел в Смольном к Урицкому и взял у него на всякий случай ордер ВРК № 2500 на арест руководящих чиновников МИДа. Теперь он мог по своему усмотрению, заполнив графу фамилиями саботажников, арестовать и привлечь их к революционному суду. Но Залкинд не воспользовался этим правом, ордер остался незаполненным.
Когда в половине пятого вечера он вместе с Поливановым подъехал к МИДу уверенный в том, что никого не застанет, удивлению не было границ: впервые после Октябрьских дней окна всех трех этажей министерства были ярко освещены. У входа их встретили и провели в Малахитовый зал, где собрались все чиновники. Это была организованная демонстрация. Чиновники намеревались показать твердость и единство.
Состоялась церемония представления служащих министерства уполномоченному Наркоминдела. Сначала Поливанов представил Залкинда Петряеву, а тот знакомил его с присутствовавшими чинами, торжественно и громко выкрикивая их полные титулы. Все эти бароны, князья, графы были в парадных мундирах, при орденах и лентах. Но, несмотря на этот блеск, чиновники чувствовали себя неважно, они уже знали из газет, что Военно-революционный комитет постановил арестовать Нератова.
Залкинд прервал это балаганное представление и заявил:
— Я явился сюда от имени рабоче-крестьянского правительства с тем, чтобы окончательно выяснить отношение чинов министерства к их служебному долгу. Время военное, и функции министерства принадлежат к разряду тех, кои не терпят в интересах страны ни одного момента перерыва…
Когда он кончил, чиновники, посовещавшись между собою, начали сдавать ключи от служебных помещений министерства. Вечером того же дня караульный отряд Павловского полка и сформированный накануне штурма Зимнего отряд рабочих с завода «Сименс-Шуккерт» окончательно заняли здание бывшего МИДа. Ключи от сейфов с наиболее секретными материалами были получены через два дня, когда Маркин арестовал и доставил на Дворцовую площадь Нератова. Перетрусивший вице-министр без сопротивления, как и его коллеги, отдал эти ключи. Его великодушно отпустили. С царским министерством иностранных дел было полностью покончено.
Теперь на Дворцовой, 6 все изменилось: через весь его фасад протянулся огромный красный плакат «Да здравствует мир!». Уже не было расшаркивающихся с фальшивыми улыбками чиновников, не слышно изящной французской речи. Пустующие кабинеты закрыты, малочисленные сотрудники наркомата на первых порах разместились в нескольких комнатах.
Посетителей, а их поток не прерывался, у парадных дверей встречал пожилой швейцар в синей ливрее, один из тех немногих служащих МИДа, которые сразу же перешли на сторону новой власти.
К 20 ноября 1917 года Наркоминдел состоял, не считая охраны, всего из 30 человек, которые и выполняли многообразные, срочные и ответственные дела.
Последняя попытка обратиться к чиновникам была сделана 26 ноября, когда Наркоминдел объявил: «Служащие министерства иностранных дел, которые не явятся на работу до утра 13 ноября (старого стиля.
На следующий день, 27 ноября, когда истек срок выхода чиновников на работу, все они были отчислены, пенсионная касса министерства была конфискована, чиновники-саботажники выселены из казенных квартир. Конфискованные квартиры были предоставлены в распоряжение служащих наркомата. В тот же день ВРК принял постановление об аресте стачечного комитета, руководившего действиями чиновников-саботажников, а Залкинд распорядился вывесить объявление отнюдь не дипломатического содержания: «Старых чиновников просят предложениями своих услуг не беспокоиться».
С первых же дней НКИД пришлось столкнуться с трудностями, которые создавал человек, призванный руководить делами внешнеполитического органа Советской России: став членом правительства, Троцкий избегал «будничных дел», игнорировал работу Наркоминдела, видя в ней препятствие для своей карьеры политического деятеля.
Троцкий не верил в силу русского пролетариата, в победу социализма в России. Как-то в беседе с Джоном Ридом, не давая и рта раскрыть собеседнику, он уверял, что и конце войны Европа будет пересоздана, но не дипломатами. «Европейская федеративная республика, Соединенные Штаты Европы — вот что должно быть!» — с апломбом, не оставляющим места для сомнения, заявил он.
Троцкий не только не руководил Наркоминделом. Он не скрывал к нему своего презрения и сковывал его деятельность. По его мнению, публикацией секретных дипломатических документов начинается и навсегда кончается вся деятельность Наркоминдела. И когда однажды партийный работник Пестковский высказал желание работать в НКИД, Троцкий ему сказал:
— Жаль вас мне на эту работу. Там у меня уже работают Поливанов и Залкинд. Больше не стоит брать туда старых товарищей. Я ведь сам взял эту работу только потому, чтобы иметь больше времени для партийных дел. Дело мое маленькое: опубликовать тайные договоры и закрыть лавочку.
Не без влияния Троцкого НКИД начал пополняться случайными людьми, с сомнительными политическими взглядами, часто не имеющими элементарных знаний.
Временами у Залкинда опускались руки, когда он видел перед собой всю эту разношерстную публику, поступившую в НКИД по слишком легко данным рекомендациям. Со всей уверенностью можно было опираться только на рабочих, пришедших вместе с ним из Василеостровской партийной организации. «Это был, — писал впоследствии Залкинд, — необходимый элемент пролетарской дисциплины при довольно-таки разношерстном составе служащих молодого Наркоминдела, где были и беспартийные, и левые эсеры, и даже белогвардейские авантюристы. Несколько штук последних, пробравшихся к нам мне пришлось арестовывать собственноручно с браунингом в руках…»
Одним из первых дипломатических актов советского Наркомата по иностранным делам было предъявление английскому правительству требования об освобождении русских революционеров из заключения. 28 ноября 1917 года английский посол Бьюкенен записал в своем дневнике: «Я получил ноту… с требованием освобождения двух русских — Чичерина и Петрова, интернированных в Англии за пропаганду против войны, которую они, очевидно, вели среди наших рабочих. Русская дипломатия не потерпит, — заявляет нота, — чтобы двое ни в чем не повинных русских подданных находились в заключении в то время, как британские подданные, ведущие активную пропаганду в пользу контрреволюции, остаются безнаказанными».
Бьюкенен ответил, что содержание ноты он передаст в Лондон, однако не считает себя обязанным отвечать на нее. Тогда Советское правительство запретило выезд из России британских подданных до момента, пока не будет урегулирован вопрос о выезде русских подданных из Англии. Бьюкенену передали, что Чичерин назначается дипломатическим представителем в одну из стран Антанты. Посол продолжал упорствовать, но контрмеры Советского правительства уже начали действовать: ни одному британскому подданному виз на выезд с этого дня не выдавалось. Тем, кто уж очень возмущался, Залкинд отвечал:
— Для того чтобы выдать визу, нужно посоветоваться с Чичериным, но, к сожалению, Чичерин находится в Англии, нет Чичерина, нет и виз.
Бьюкенен начал нервничать, он уже был склонен считать аргументацию Советского правительства справедливой. «Если мы, — писал он 4 декабря 1917 года, — претендуем на право арестовывать русских за пацифистскую пропаганду в стране, желающей продолжать войну, то они имеют такое же право арестовывать британских подданных, продолжающих вести пропаганду в пользу войны в стране, желающей мира».
В конце концов английское правительство было вынуждено пойти на удовлетворение требования об освобождении узников Брикстонской тюрьмы. 3 января 1918 года Чичерин и Петров были освобождены.
Не мешкая, с первым же пароходом Георгий Васильевич покинул Англию. 7 января, получив разрешение Советского правительства, посол Бьюкенен покинул Петроград. В Англии он дал волю накопившейся злости и начал призывать страны Антанты к крестовому походу против большевиков.
В тот день, когда Бьюкенен пересекал границу Швеции, революционный Петроград встречал Чичерина. На Финляндском вокзале, лишь только он появился из вагона, раздались громкие приветственные крики. Он огляделся, сомнений быть не могло: огромная масса людей, собравшихся на перроне, встречала именно его, и никого другого. Люди с красными бантами и повязками на рукавах шинелей и потертых пальто приветствовали его. Он стоял, смущенно улыбаясь, подняв в знак приветствия руку над головой. Потом жал чьи-то руки, незнакомые люди обнимали его. Разве можно было выразить словами все, что он переживал в эти минуты?
В автомашине комиссариата по иностранным делам Чичерин ехал по красному Питеру. На грузовике следовала вооруженная охрана. Революция встречала одного из своих сыновей.
23 января 1918 года газета «Известия рабочих и крестьянских депутатов» сообщила: «Недавно вернулись из Англии в Россию русские эмигранты — тт. Чичерин и Петров, брошенные английским правительством в тюрьму как «вредные для королевства люди». Английское империалистическое правительство не могло, разумеется, равнодушно относиться к социалистической пропаганде, которую вели тов. Чичерин и тов. Петров среди английского пролетариата, ибо «социализм» последних не походил на патентованный социализм Ллойд Джорджей и Гендерсонов».
Чичерин надолго оставил о себе добрую память среди английских революционеров. С радостью они восприняли весть о его назначении на один из руководящих постов в Советском государстве. Напоминая в этой связи о той борьбе, которую английский пролетариат вел за освобождение русского революционера из тюрьмы, газета «Колл» с гордостью писала: «Мы полностью отдаем себе отчет, какой мы чести удостоены, участвуя в славном движении в России».
Чичерин возвратился в город своей юности. Он любил его и мечтал о встрече с ним.
Петроград за короткое время неузнаваемо изменился. Попрятались в подворотни, притаились бывшие люди. В фешенебельных дворцах и дворянских особняках появился трудовой люд.
С первого дня прибытия на родину Чичерин целиком отдается работе. 21 января 1918 года Совнарком принимает решение направить его в НКИД с поручением немедленно принять необходимые меры для формирования внешнеполитического аппарата Советского государства. Учтено все: и его опыт работы в прежнем министерстве иностранных дел, и его высокая эрудиция, и его революционная страстность, дополняющая беззаветную преданность идеалам коммунизма. Уже через два дня, 23 января 1918 года он участвует в созванном после разгона Учредительного собрания III Всероссийском съезде Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Съезд открыл Свердлов. Волнение охватило Чичерина, когда оркестр моряков грянул гимн первого в мире пролетарского государства «Интернационал». Затем оркестр исполнил «Марсельезу». Едва отзвучала последняя строка, как председатель объявил:
— Слово предоставляется товарищу Чичерину, недавно прибывшему из Англии.
Георгий Васильевич совсем не ожидал, что он будет встречен шквалом аплодисментов. Не заметил он, что присутствовавшие на съезде в ничтожном количестве меньшевики демонстративно молчали и лишь бросали на него неприязненные взгляды.
В затихающем зале Чичерин начал свою первую съездовскую речь:
— Товарищи, пролетарско-крестьянское правительство России освободило меня и моих товарищей из тюрьмы, в которую нас бросили английские империалисты — руководители мировой реакции, руководители борьбы мирового империализма против социальной революции, поставленной историей на очередь дня. Английские империалисты, привыкшие за кулисами вершить судьбы народов, впервые встретили голос независимого пролетарского правительства и должны были склониться перед ясно выраженным требованием о нашем освобождении.
И зале снова вспыхнула овация. И он, стоявший на трибуне, как никогда, отчетливо осознал всю гигантскую мощь рабочего класса, сумевшего свершить величайшую и мире революцию и взять власть в свои руки.
Чичерин закончил речь словами:
— Английский рабочий класс, несмотря на бесстыдную кампанию травли и клеветы, которая ведется продажной прессой английской буржуазии вокруг русского революционного движения, своим пролетарским чутьем понял, что здесь развертывается движение, созданное не кучкой авантюристов, а движением широких народных масс под знаменем социалистической революции, к которому английские товарищи собираются примкнуть не сегодня-завтра…
Первое же посещение Наркоминдела и беглое знакомство с состоянием дел вызвало у Чичерина глубокую озабоченность. Он отчетливо понимал всю сложность поручения, возложенного на него Советским правительством. С кем работать, если в наркомат пришли люди, имевшие самые смутные представления о дипломатии? Как обеспечить исполнение функций внешнеполитического ведомства, если большинство сотрудников никогда по соприкасалось с этой машиной, не знало иностранных языков, не умело составлять документы и не было искушено в тонкостях дипломатических обычаев? Новый советский внешнеполитический аппарат нужно было построить фактически заново, на пустом месте. Радовало лишь одно — революционный энтузиазм людей, направленных партией на этот участок работы. Но одного энтузиазма мало, нужно было привить будущим дипломатам любовь к своему делу, убедить их в необходимости серьезно, настойчиво овладевать знаниями, доказать, что работа в Наркоминделе не менее важна, чем борьба на фронтах против врагов молодой республики.
С помощью Залкинда Георгий Васильевич быстро вошел в курс дела, познакомился с людьми. Он от души хохотал, когда тот поведал ему историю приема секретаря испанского посла, который прозрачно намекал на желательность «наградить уезжающего посла каким-нибудь орденом, как это в порядочных домах водится».
— Орденов у нас было предостаточно, — рассказывал Залкинд, — мы их нашли в избытке в столах прежних чиновников. Я очень оконфузил бедного секретаря, выложив перед ним целую охапку и предложив ему выбрать любой по его вкусу…
К приезду Чичерина, несмотря на невероятно большие трудности, все же удалось создать отдел сношений с Западом, отдел сношений с Востоком, отдел печати и некоторые неполитические отделы с общим числом сотрудников 130 человек. К этому времени у Советской России было всего лишь два загранпредставительства — Русское народное посольство в Лондоне во главе с М. М. Литвиновым и Полномочное представительство НКИД в Скандинавских странах во главе с В. В. Воровским. Политические отделы вполне справлялись с делами. Основная же тяжесть работы пала на отдел виз. Этот отдел походил на осажденную крепость: очень многие рвались покинуть революционную Россию. Здесь можно было встретить и иностранных коммерсантов, и русских дворян, и просто авантюристов с паспортами различных восточных и западных стран.
Георгий Васильевич внимательно выслушал рассказ Залкинда о работе в первые недели существования НКИД.
Главной и ударной задачей НКИД сразу же после разгона старых чиновников Советское правительство, выполняя решение II Всероссийского съезда Советов, определило подготовку и публикацию тайных договоров царской России. Дело было важное, им интересовался Ленин. Залкинду активно помогал матрос Н. Г. Маркин. Он проявил немало изобретательности, энергии и незаурядных способностей, выполняя это задание. Сам он пришел в НКИД так же, как в то время приходили многие, — по призыву партии. Никакого опыта внешнеполитической работы у него не было. Да и какой опыт мог быть у сына пензенских ткачей, прошедшего лишь один «университет» — тюрьму, куда попал в 1909 году за неудачную попытку поджечь лавку изувера-хозяина? В тюрьме Маркин сблизился с политическими заключенными, которые помогли ему найти путь в революцию. Будучи мобилизован в армию, он попал на Балтийский флот, в дни Октября был в первых рядах восставших, затем несколько дней проработал в следственной комиссии Петроградского Совета. И вот теперь Наркоминдел.
— Маркин, — рассказывал Залкинд, — поразительно деятельный и энергичный, находил время проникать во все уголки и закоулки министерства, отыскивая всякого рода бумаги, письма и фотографии самого компрометирующего старых чиновников свойства, и когда я после нескольких дней болезни, причиненной переутомлением, перебрался на житье в министерство, в бывший кабинет Петряева, то каждый вечер можно было быть уверенным встретить у меня Маркина, то разбирающего груду писем, пришедших с какой-либо запоздавшей к революции вализой, то пробующего найденную им модель нового пулемета, то чинящего «диктофон»… Маркину также принадлежала идея торжественной продажи с публичного аукциона в главном зале министерства всех безделушек, присланных в огромном количестве дипломатическими вализами от заграничных друзей питерским чиновникам министерства.
Поздно вечером 17 ноября 1917 года после разгрома чиновников МИДа Залкинд вместе с Маркиным и Поливановым посетил таинственное хранилище, именуемое «Государственный и Петроградский Главный архивы». Там горы документов, среди которых нужных — десятки. Где же их искать? Здесь порой и опытные архивариусы не могли бы разобраться.
Ко всему прочему среди сотрудников НКИД Залкинд был единственным, кто знал иностранные языки. Особенно нужен был французский — официальный язык дипломатических документов. Работали до беспамятства, валились с ног от усталости. А от Троцкого никакой помощи. Пришлось обратиться к Ленину. Владимир Ильич поручил секретарю Совета Народных Комиссаров Горбунову разгрузить НКИД, временно снять с него выполнение оперативных функций — выдачу виз на въезд и выезд, осуществление переводов законодательных актов Советской власти на иностранные языки и распространение их и сосредоточить все на выполнении задачи опубликования тайных документов.
Несколько суток подряд группа Залкинда отбирала и переводила на русский язык секретные договоры Николая II с Италией, Румынией, Францией, а также Бьёркинское соглашение. Занимались разбором шифрованных депеш, и не только русских, но и английских: случайно в делах так называемого «черного кабинета» был обнаружен действующий шифр английского посольства. Удалось расшифровать ряд телеграмм Бьюкенена, а затем и прибывшего ему на смену дипломатического агента Локкарта, пользовавшегося тем же шифром.
Этот «черный кабинет» исправно занимался перлюстрацией секретных бумаг иностранных представительств и при Милюкове и при Терещенко. Маркин обнаружил здесь не только английский, но и шифр, которым пользовался румынский военный атташе. Расшифрованные телеграммы позволили раскрыть корниловское преступление со сдачей Риги немецким войскам, а также планы английской дипломатии, пытавшейся с помощью своих врагов — кайзеровской военщины удушить русскую революцию. Расшифрованные телеграммы очень заинтересовали Ленина. По его личному указанию найденное донесение румынского военного атташе с сообщением о намерении Корнилова нарочно сдать Ригу было немедленно пущено в печать.
Позорные тайны империалистической политики царского правительства и союзников России постепенно раскрывались во всей своей циничной наготе. Документы повествовали о тайных заговорах и об откровенном дележе территорий других народов, о махинациях правителей. Маркин обнаружил расписку болгарского царя Фердинанда в получении от русского царя трех миллионов рублей золотом: оказалось, за наличный расчет можно купить царя враждующей стороны! А уж документов, свидетельствующих о том, как «дорогие союзнички» шпионили друг за другом, было предостаточно: все хранили официальные государственные архивы.
21 ноября Бонч-Бруевич по телефону передал Залкинду просьбу Ленина доставить ему первую партию отобранных для публикации документов. Владимир Ильич был первым читателем секретных документов, он лично отобрал из них те, которые подлежали публикации в первую очередь. В тот же день на заседании ЦИК было отмечено, что задание Совета Народных Комиссаров успешно выполняется, особо важные документы уже находятся в руках Наркоминдела.
Через два дня центральные газеты напечатали первые документы из бронированных комнат.
Наркоминдел по этому случаю выступил с заявлением: «Упразднение тайной дипломатии есть первейшее условие честности народной, действительно демократической внешней политики. Проводить такую политику на деле ставит своей задачей Советская власть. Именно поэтому, открыто предлагая всем воюющим народам и их правительствам немедленное перемирие, мы одновременно публикуем те договоры и соглашения, которые утратили всякую обязательную силу для русских рабочих, солдат и крестьян, взявших в свои руки власть».
Первые же появившиеся в печати документы произвели огромное впечатление. Страницы всех газет мира запестрели сенсационными сообщениями, в парламенты посыпались запросы, правительства буржуазных стран отбивались от наседавших журналистов. Это был удар, от которого трудно было оправиться. Еще накануне опубликования договоров, 22 ноября, посольства Антанты предприняли судорожную попытку задержать публикацию. Советник французского посольства передал в печать решение союзных послов: если, угрожали послы, большевики опубликуют секретные документы, то это сделает невозможным какое бы то ни было сношение союзных послов с Совнаркомом.
Запугать Советскую власть не удалось. Не удалось и объявить документы фальшивыми, все было напрасно. Противники Советской России не знали, какие еще тайные документы будут обнародованы. В предисловии к первым публикациям говорилось, что НКИД намерен вскоре представить на суд общественного мнения секретные документы, достаточно ярко трактующие дипломатию центральных империй, доказывающие, что методы тайной дипломатии так же интернациональны, как и империалистическое хищничество.
Маркину, который целиком посвятил себя работе по подбору документов, удалось выпустить семь сборников «Секретных документов из архива бывшего министерства иностранных дел». Открывало сборники предисловие, написанное самим Маркиным:
«Пусть знают трудящиеся всего мира, как за их спинами дипломаты в кабинетах продавали их жизнь. Аннексировали земли. Бесцеремонно порабощали мелкие нации.
Давили, угнетали, политически и экономически. Заключали позорные договоры.
Пусть знает всякий, как империалисты росчерком пера отхватывали целые области. Орошали поля человеческой кровью.
Вся их адская работа нами будет опубликована. У нас имеются (тысячи) телеграмм, писем и других документов, которые будут еженедельно помещаться в нашем Сборнике».
Были опубликованы «Военная конвенция, заключенная между Францией и Россией и подписанная в С.-Петербурге 17 августа 1892 года», «Схема соглашения с Германией от 4 мая 1907 года», «Тайное соглашение между Россией и Японией, имеющее в виду вооруженное выступление сообща против Америки и Англии на Дальнем Востоке ранее лета 1921 года». И многое другое.
Часть тиража посылалась в Стокгольм Воровскому и оттуда распространялась по Европе. Бывшие царские дипломаты скупали сборники и затем рассылали в правительственные ведомства страны своего пребывания, переправляли друзьям в другие страны, чтобы показать весь ужас «падения русской дипломатии». Они умоляли буржуазные правительства решительно вмешаться в это дело.
Сборники проникли не только в страны Европы, но и Азии.
Отказ Советского правительства от кабальных договоров царской России был встречен там с огромным воодушевлением. Советский дипломатический представитель сообщал 31 января 1918 года из Персии, что Тегеран буквально был потрясен от взрыва всеобщей радости. У советского представителя не было свободной минуты, шел поток приветствий от делегаций и отдельных лиц. Даже на улицах ему устраивали овации.
Прибытие Чичерина в Петроград совпало с окончанием второй стадии сложнейших брестских переговоров с немцами. Почти весь аппарат Наркомата по иностранным делам был занят этими переговорами и очень нуждался в опытном руководителе. Залкинд не скрывал этого и откровенно высказал радость: теперь с приходом в наркомат Георгия Васильевича дела пойдут лучше.
И Чичерин с головой ушел в изучение материалов об этих переговорах. Собственно, первую и вторую стадии переговоров ему пришлось изучать по рассказам очевидцев и разрозненным документам. Он узнал, что 26 ноября 1917 года парламентеры перешли линию фронта и были доставлены в штаб германского верховного командования. На следующий день они возвратились в русские окопы с известием, что немцы согласны на ведение переговоров и что начало их назначено на 2 декабря 1917 года в Брест-Литовске.
За четыре дня до этого срока наркомвоендел Крыленко и член Военно-революционного комитета Карахан выехали на фронт для подготовки переговоров.
Советская делегация специальным поездом была доставлена в Брест, где и начались 5 декабря переговоры с Германией и ее союзниками. Сожженному, разрушенному Бресту, посреди развалин которого высились стены вполне сохранившейся, не тронутой огнем и порохом цитадели, благодаря мирным переговорам суждено было войти в историю дипломатии. Маленькие домики из красного кирпича, разбросанные внутри крепости, и сравнительно большое здание «офицерского собрания» составляли главную квартиру штаба главнокомандующего Восточного фронта германских армий фельдмаршала принца Леопольда Баварского. Сюда были приглашены германским командованием советские делегаты.
И составе делегации были Л. Каменев, эсерка А. Бицепко и профессор М. Покровский. Среди членов-консультантов — крупные военные специалисты царской армии, в том числе контр-адмирал Альтфатер, генерал-майор Самойло, полковник Фокке. Секретарем делегации был Л. Карахан, большевик, профессиональный революционер.
Русские попали с первых часов переговоров в обстановку наглого высокомерия и грубого давления. Леопольд Баварский не скрывал своего возмущения тем, что ему приходится обмениваться рукопожатиями с какими-то «нижними чинами». Руководитель германской делегации Кюльман внешне держался корректно, предоставляя возможность делать грубые заявления генералу Гофману и руководителю австро-венгерской делегации графу Чернину.
Русские военные специалисты не скрывали своего раздражения, в их среде царила атмосфера крайней растерянности. Для них переговоры в Бресте были чудовищным надругательством над честью и славой России. Вскоре после начала переговоров один из военных специалистов, генерал Скалон, застрелился. Его смерть сгустила и без того мрачную брестскую атмосферу.
27 декабря делегации разъехались по домам для докладов своим правительствам, а в начале января 1918 года открылась вторая стадия переговоров в Бресте. Советскую делегацию возглавлял на этот раз нарком иностранных дел Троцкий.
Сопровождавший советскую делегацию полковник германской армии барон Ламезан, ссылаясь на собственные наблюдения, оповестил делегации Германии и Австро-Венгрии, что русские находятся в самом отчаянном положении. Они могут либо вернуться без мира, либо с плохим миром, и в том и в другом случае большевики будут сметены.
Кюльман в разговоре с Ламезаном цинично уточнил:
— В таком случае у них один выбор, под каким соусом дать себя скушать.
Отчаянное положение на фронтах было хорошо известно и Троцкому. Грабительские аппетиты немцев не были для него секретом, однако он не собирался делать из этого выводов — вместо настойчивых переговоров продолжал произносить длинные речи в расчете на всю европейскую аудиторию. Немцы же и их союзники, действуя по принципу «нападение — лучший вид обороны», сразу же предъявили ультиматумы.
Позиция Троцкого в Бресте вызывала возмущение всех, кто серьезно задумывался над положением вещей. Против нее резко выступил Красин. Он заявил, что в работе политической комиссии, где главенствовал Троцкий, он никакого участия принимать не будет и войдет лишь в состав экономической комиссии.
Чичерин подоспел в разгар событий, когда страсти накалились до предела. Позиция Троцкого дала себя знать: мирные переговоры застопорились.
Чичерин, приступив к непосредственным делам, координировал брестские переговоры с переговорами, которые велись с главой австро-германской комиссии по делам военнопленных графом Мирбахом в Петрограде.
Трудно было Георгию Васильевичу с этим надменным и чопорным графом, которого собственные сотрудники считали довольно туповатым чиновником, отличавшимся упрямством и преизрядным нахальством. Не без влияния графа австро-германская комиссия выдвигала особо непомерные требования и отвергала все, что предлагалось советской стороной.
Сами же члены австро-германской делегации якшались с представителями контрреволюции в надежде, что Советская власть в ближайшее время будет раздавлена. В одном из сообщений, направленных из НКИД в Брест для советской делегации, говорилось: «Нами получены достоверные сведения о том, что «патриотические» члены Учредительного собрания сделали попытку вступить в переговоры с австро-германской делегацией через посредство одного нейтрального посольства. План гг. безработных патриотов состоит в том, чтобы — в случае если Советская власть откажется от заключения мира на неблагоприятных условиях — «захватить» это дело в свои руки и заключить мир во что бы то ни стало. Мы никогда не сомневались, что гг. Милюковы, Авксентьевы, Церетели и другие герои 18 июня отдали бы теперь «полцарства» за восстановление буржуазной власти во второй половине России. Охота смертная, да участь горькая».
Переговоры в Петрограде закончились лишь устной договоренностью, что к королевскому испанскому посольству в Вене будет прикомандирован русский представитель по делам военнопленных.
11 февраля 1918 года Ленин утвердил документ о передаче Чичерину полномочий народного комиссара по иностранным делам в качестве временного заместителя. Постановлением Совнаркома от того же числа он был утвержден в этой должности, и ему было предоставлено право решающего голоса в Совете Народных Комиссаров в случае отсутствия наркома.
В тот же день Георгия Васильевича посетил английский дипломатический агент Локкарт, прибывший в Советскую Россию в январе 1918 года.
Локкарт с нетерпением ожидал встречи с человеком, попавшим на столь высокий пост прямо из Брикстонской тюрьмы. В понимании английского дипломата это было довольно «трагикомическим обстоятельством». Чичерин принял британского агента в бывшем кабинете Сазонова, так хорошо знакомом Локкарту по прежним многочисленным посещениям царского МИД (он работал в России с 1912 по 1917 год). Принял вопреки ожиданиям англичанина вежливо, ни словом не обмолвившись о своем пребывании в английской тюрьме. Локкарта несказанно удивило, что Чичерин не делал никакой тайны из хода брестских переговоров и откровенно рассказывал о жестоких немецких условиях мира и даже о том, что Троцкий приезжал в Петроград и настаивал на прекращении переговоров, так как в Австрии начались стачки и выступления населения на почве голода. Совсем недавно Троцкий снова поехал в Брест, по-видимому, с явным нежеланием вести дальнейшие переговоры. Требования немцев были тяжелые, и Локкарт вывел заключение, что у Чичерина нет определенной точки зрения относительно целесообразности продолжения переговоров — слишком уж унизительны были немецкие условия мира.
По своей профессиональной привычке Локкарт внимательно изучал собеседника. Его шокировало, хотя внешне он оставался вполне корректным, как и подобало воспитанному в лучших британских дипломатических традициях человеку, что Чичерин принял его в каком-то желто-рыжем костюме. Вообще все в России было крайне непривычным: человек, сидевший в тюрьме, назначается чуть ли не министром.
При последующих встречах, как счел Локкарт, Чичерин не был столь откровенен. Он охотно соглашался, что германский империализм опасный противник, но без стеснения говорил, что и английский империализм не менее опасен.
Английский агент так до конца и не понял, что Чичерин тактично, без назойливости пытался выяснить, насколько сильны в Англии стремления к дальнейшей борьбе против германского империализма и готова ли она к сотрудничеству с Россией. Через несколько лет Чичерин со всей откровенностью рассказал об этом в своих воспоминаниях:
«Оценивая мировую роль Англии, Владимир Ильич внимательнейшим образом следил за нашими попытками договориться с ней через специально посланного к нам Локкарта. Одно время это соглашение казалось возможным, пока бунт чехословаков не направил политику Англии по линии активной интервенции. В беседе со мной Владимир Ильич предсказал, что Англия будет стараться по очереди договариваться со всеми против нас. Я отметил, что при своей гибкости Англия будет стараться договариваться и с нами. «С нами — последними, после других», — ответил Владимир Ильич».
Не ускользнуло от внимания Локкарта, что Чичерин с каждым днем выглядит все более уставшим. Уже в их первую встречу он отметил, что глаза Чичерина «выдавали кипевшую в нем жизнь. Его узкие плечи согнулись под влиянием постоянного сидения за письменным столом. В группе людей, работавших ежедневно по шестнадцати часов, он являлся самым неутомимым и добросовестным тружеником. Это был идеалист, неуклонно преданный делу и исполненный недоверия ко всем тем, кто не являлся сторонником этого дела».
Локкарт и не подозревал, что в здании НКИД не функционировал телеграф, и Чичерину по нескольку раз за ночь приходилось шагать по сугробам через Дворцовую площадь в Зимний дворец, чтобы там по прямому проводу разговаривать с Брестом. Часто он не отходил от прямого провода целыми ночами.
Об этом трудном времени Чичерин как-то писал: «Я помню, впрочем, и возвращения пешком поздней ночью, через половину города, из далекого Смольного, когда почему-либо у меня не было машины. Улицы были пустые и мертвые, и в домах не было признаков жизни. Я доходил до Летнего сада, и все кругом было пусто и мертво. Я шел по набережной и поворачивал к комиссариату, и кругом не было ни души. Был ли это труп, а не город? Нет, это не был труп. Это был самый сильный и страстный из городов в судорогах величайших исторических событий. И этот революционный город меня провожал гудением призывных сирен, когда я уезжал в Брест-Литовск и когда на всех заводах и фабриках рабочие массы призывались, чтобы встать на защиту революционного коммунистического отечества».
Встречи с Локкартом не предвещали успеха. А в Бресте Троцкий самолично решил:
— Мира не подписываем, войны не ведем: демобилизуем армию, и, безоружные, апеллируем к революционному сознанию германского и австро-венгерского пролетариата.
На следующий день он отказался подписать договор с Германией и ее союзниками, повторив казавшуюся ему гениальной фразу о том, что для России война кончена, что она демобилизует свою армию и что вообще Россия стоит на позиции «ни мира, ни войны». За этот афоризм Троцкого советский народ заплатил огромную цену.
18 февраля без всякого предупреждения немецкие войска перешли в наступление по всему фронту. Без единого выстрела немцы взяли Двинск и вышли на подступы к Петрограду. Революция оказалась в опасности. 22 февраля после получения германского ультиматума состоялось заседание ЦК, на котором было принято решение согласиться с немецкими условиями заключения мира.
После решения ЦК началось формирование новой делегации для переговоров с немцами. Членом делегации был назван Георгий Васильевич Чичерин.
Признаться, он вначале был ошеломлен: председатель Совнаркома предлагал, не вступая в переговоры, заключить мир с Германией, на любых, а следовательно, на ужасающе позорных условиях.
Ленин терпеливо разъяснил и доказывал необходимость мира для Советской республики. Сила ленинского убеждения, его неоспоримая логика и вера в будущее рассеивали сомнения Чичерина. Несколько лет спустя, уже после смерти Ленина, Чичерин писал: «Когда собеседник Владимира Ильича пускался в теоретические рассуждения или проявлял склонность к дедуктивному мышлению, столь у нас распространенному, Владимир Ильич всегда ставил перед его глазами точные, определенные реальные факты живой действительности. Это именно свойство его так ярко проявилось во время обсуждения вопроса о подписании Брестского мира. Бесконечным теоретическим рассуждениям Владимир Ильич противополагал голые факты во всей их безжалостности».
24 февраля на заседании ЦК РКП (б) была утверждена новая делегация в составе Чичерина, Карахана, Сокольникова, Петровского. На этом же заседании Троцкий демонстративно отказался от поста наркома по иностранным делам. Он заявил, что раз Ленин настоял на смене политики, то он и должен осуществлять политическое руководство НКИД, а текущие дела должен решать Чичерин.
В тот же вечер после заседания ЦК советская делегация выехала в специальном поезде в Брест-Литовск под охраной 18 красноармейцев, вооруженных винтовками и двумя пулеметами.
К утру после частых и длительных остановок поезд окончательно застрял на какой-то маленькой станции в 40 километрах от Пскова. Дальше ехать было нельзя: с фронта уходили остатки войск, пути были забиты составами, ожидавшими паровозов по нескольку суток. Никто не знал, сколько времени придется здесь торчать. А срок немецкого ультиматума истекал. Было решено отправить нескольких расторопных красноармейцев на дрезине в Псков, чтобы выяснить обстановку.
Под вечер 25 февраля пришла телеграмма от Ленина. «Если Вы колеблетесь, это недопустимо. Пошлите парламентеров и старайтесь выехать скорее к немцам»[9].
Ответ был послан немедленно: нет, члены делегации задерживались помимо своей воли, бегут с фронта в глубь России войска, пути забиты.
Пришла телеграмма и от красноармейского дозора: ехать дальше нельзя, перед Псковом взорван железнодорожный мост, можно двигаться только на санях.
К этому времени весть о том, что на станции находится делегация, отправляемая большевиками к немцам, облетела все составы. Появились зеваки, то и дело шныряли какие-то подозрительные типы, заглядывали в заиндевевшие окна вагонов, приставали к охране, толпились у дверей. Было решено во избежание недоразумений отвести состав за версту от станции в открытое поле.
Всю ночь за окном завывал февральский ветер. Всем хотелось есть — при отъезде захватили очень мало продуктов. К счастью, красноармейцам удалось достать хлеба в ближайшей деревне.
Утром поезд медленно и, казалось, неуверенно пополз к Пскову. Вскоре остановились у взорванного моста, а в десять часов утра на санях, нанятых в ближайшей деревне, делегация отправилась в город. Было холодно, одежда не спасала от ветра, сани заносило на раскатах. Вот наконец и Псков. Без приключений доехали до гостиницы «Лондон», где и остановились.
Чичерин и Карахан незамедлительно отправились к немецкому коменданту. Назад пробивались через враждебно настроенную толпу. Слышались истерические выкрики: «Смерть проклятым большевикам!» В гостиницу добрались с большим трудом, обсудили обстановку и решили, что Карахан вернется к коменданту и потребует от него охраны для делегации. По дороге разбушевавшиеся черносотенцы вытащили его из автомашины, угрожая расправиться с «предателем отечества». Увидев, что дело принимает серьезный оборот, немецкие часовые, до этого безучастно наблюдавшие за поведением толпы, разогнали ее.
Немецкий комендант распорядился перевести советскую делегацию для безопасности на вокзал. «По крутой черной лестнице, — вспоминал один из участников событий, — через длинные мрачные коридоры ее провели в какую-то комнату на третьем или четвертом этаже, уставленную по стенам кроватями. Здесь, вокруг большого обеденного стола, разместились члены делегации. Настроение было отчаянное. Все сидели молча, сосредоточенно перебирая только что пережитые волнения. Лишь когда на столе появился самовар, все очнулись и вспомнили, что с утра еще ничего не ели. Тотчас же попросили принести хлеба с маслом и разогреть несколько банок мясных консервов. Однако ели без особого аппетита, и сообщение о том, что поезд подан, было встречено с энтузиазмом».
Хотелось думать, что самое трудное позади. Через час езды добрались до речки, нужно было по льду переправиться на другой берег, где должен был ожидать поезд, высланный германским командованием. Шли цепочкой, каждый нес чемодан. С трудом переправились. Но здесь ждало разочарование: обещанного поезда не оказалось, до ближайшей станции было далеко.
Заночевали в сторожке. В шесть часов разведали, что на ближайшей станции делегацию ожидает вагон-ресторан. Ехать туда пришлось товарным поездом, который стоял в полутора верстах от сторожки. На станцию прибыли только к полудню.
Делегацию встретили неласково, даже забыли покормить. Но что бы там ни было, после еще одной пересадки без особых приключений 28 февраля 1918 года прибыли в Брест.
В Брестской крепости во всем ощущался строгий военный порядок. Отдыхать не пришлось: немцы созвали заседание председателей делегаций, чтобы обсудить один вопрос — повестку дня ближайших заседаний. Впрочем, русскую делегацию сразу же предупредили, что остальные делегации два дня ожидали ее прибытия и поэтому уже успели выработать условия мира. Было похоже, что немецкая сторона спешит предъявить ультиматум и не намерена вести переговоры.
Германский представитель заявил, что в распоряжении русских всего трое суток, и уточнил: «Трижды по 24 часа».
На следующий день к назначенному времени все собрались в зале бывшего офицерского собрания. Четыре русских делегата заняли место за столом президиума. Напротив торжественно восседали четыре председателя противной стороны. Дипломаты затянуты во фраки, их накрахмаленные манишки поражали снежной белизной, военные эксперты — в блистающих золотом мундирах.
В четверть двенадцатого германский посланник фон Розенберг открыл первое заседание.
Посланник монотонно читал статьи проекта мирного договора. Георгий Васильевич, не дожидаясь перевода, быстро записывал их содержание, бегло отмечал первые впечатления. По каждой статье можно возражать, но… договор обсуждению не подлежит.
3 марта на последнем заседании председатель русской делегации заявил:
— Мы, уполномоченные нашим правительством, готовы немедленно подписать мирный договор, отказываясь от всякого его обсуждения как совершенно бесполезного при создавшихся условиях.
Фон Розенберг в знак согласия кивнул головой, его коллеги но скрывали своего удовлетворения.
В четыре часа того же дня в зале собрались все делегации, и вот немецкий, венгерский, болгарский и турецкий тексты договора — русского текста еще нет — подписаны.
Первый в жизни Чичерина договор.
Быстро собрались к отъезду. Из казино неслись звуки оркестра. Там на парадном обеде, на который «забыли» пригласить русских дипломатов, Леопольд Баварский поздравлял «победителей».
Домой ехали в подавленном состоянии, говорить не хотелось, возвращение было нерадостным.
Но как изменилось за эти пять дней отношение населения к оккупантам! Перемена была разительная. Те, кто только недавно осыпал оскорблениями советскую делегацию, теперь умоляли защитить их от немецких насилий.
На душе у Чичерина было неспокойно. Чувство это усилилось оттого, что даже многие стойкие большевики выступали против договора.
«Я бесконечно долго колебалась, — вспоминает Е. Стасова, — никак не могла себе уяснить, где правда, и только непоколебимая уверенность Владимира Ильича, его указания на то, что мы не сможем убедить солдат (крестьянскую массу) идти сейчас на войну, что мир, мир во что бы то ни стало, — это клич нашей крестьянской массы, и что без нее мы проиграем больше, чем заключив мир, его категорическое заявление, что в противном случае он выйдет из правительства и из ЦК, заставили меня принять решение и голосовать с ним вместе. А через несколько дней я была в кабинете у Владимира Ильича, когда Карахан привез самый текст Брестского мирного договора и хотел развернуть его и показать Владимиру Ильичу. Ильич категорически запротестовал:
— Что вы хотите, чтобы я не только подписал этот похабный мир, но еще стал бы его читать. Нет, нет, никогда!»
Чичерину иногда казалось, что на него смотрят как на главного виновника брестского позора, обвиняют в сговоре с немцами.
Напряженно готовился он к IV Чрезвычайному Всероссийскому съезду Советов рабочих, солдатских, крестьянских и казацких депутатов. Помощников в это время рядом не оказалось, аппарат НКИД еще находился в Петрограде.
Съезд должен был решить вопрос: быть или не быть войне? Чичерин весь в работе. Крикливым фразам меньшевиков и левых эсеров нужно противопоставить четкую, убедительную аргументацию, трескучей демагогии — неопровержимую логику фактов, неумолимость жестокой действительности.
13 марта Ленин подписал постановление Совета Народных Комиссаров, согласно которому нарком по иностранным делам Л. Д. Троцкий освобождался от занимаемой должности и временно народным комиссаром назначался Г. В. Чичерин.
На следующий день в здании бывшего Дворянского собрания собрался IV съезд Советов.
Открыл съезд Свердлов. И сразу же слово было предоставлено Чичерину.
Георгий Васильевич заметно волнуется, его голос звучит тихо.
— Товарищи, — обращается он к депутатам, — те чрезвычайно тяжелые условия мира, ратификация которых предлагается нынешнему собранию, были в буквальном смысле слова продиктованы нам германским империализмом в то время, когда русская армия была демобилизована и отступала, не оказывая никакого вооруженного сопротивления. В это время германская армия совершила вооруженное наступление на беззащитную Россию, и она совершила это наступление под лозунгом восстановления порядка…
Докладчик подробно излагает содержание Брестского договора, говорит о международной обстановке, породившей его.
После него слово предоставляется Ленину.
Необходимость подписания мирного договора с Германией ясна большинству депутатов. Но Чичерин, сидя у колонны, внимательно следит за залом: поймут ли депутаты неизбежность Брестского договора так же, как он? Заседание закрывается, возбужденные делегаты еще долго не расходятся: в зале, в коридорах, на лестницах спорят, взвешивают все «за» и «против».
15 марта на заседании выступает лидер меньшевиков Мартов, его бывший друг. Он обрушивается на политику большевиков, сравнивает съезд с «волостным сходом», где капитан-исправник требует от темных крестьян подчиниться решению без рассуждений.
Он пугает историей, грозит будущим, которое-де вынесет большевикам обвинительный приговор. Он предостерегает делегатов от того, что видит лишь он, провидец Мартов.
Несмотря на все призывы меньшевиков и эсеров, договор был ратифицирован подавляющим большинством голосов. В знак протеста левые эсеры вышли из состава Совнаркома, однако остались во ВЦИК. Они решили бороться против мира с Германией всеми средствами.
После съезда текущие дела поглотили у Чичерина все время. НКИД готовился к эвакуации из Петрограда в Москву. Упаковывались дела, составлялись списки очередности выезда сотрудников. И снова на сцене появились бывшие чиновники. Это они распространили слухи о том, что новые власти «эвакуируют даже половые щетки и ночные горшки». Поговаривали, и довольно открыто, что большевики бегут, что в Северной области будет образовано новое министерство иностранных дел, что старые чиновники займут там свои прежние посты и развернут деятельность против Советской власти.
Перед сотрудниками нарком поставил задачу: вопреки всем проискам врагов, несмотря на их клеветнические сплетни, во что бы то ни стало вывезти Государственный и Петроградский Главный архивы в Москву. Он сам принял участие в организации их вывоза из Петрограда.
25 марта 1918 года утром от перрона отошел поезд. Основная масса сотрудников НКИД вместе с вооруженной охраной покинула Петроград. На первых порах НКИД разместился в Москве в особняке на Спиридоновке.
Сложные, порой весьма запутанные внешнеполитические вопросы требовали выдержки и осмотрительности. Враги так и ждали ошибок, просчетов. Они надеялись, что большевики не смогут наладить государственную машину, особенно ее внешнеполитическую часть.
В условиях жесточайшей нехватки кадров все же удалось подобрать на ответственные должности профессиональных партийных работников. Из флота и армии пришли люди, чтобы заполнить бреши на вспомогательных участках. Но совсем плохо обстояло дело со средним, главным звеном, на которое обычно возлагается непосредственное исполнение текущих дел. Чичерину часто приходилось самому заниматься разработкой дипломатических документов на всех ее стадиях, начиная от составления досье до подготовки докладов в Совнарком и в ЦК. Он допоздна засиживался в своем кабинете в особняке на Спиридоновке. Здесь определялись детали новой внешней политики, решались тактические задачи, исполнялась текущая работа. Все приходилось предугадывать вперед, как в шахматной игре.
Георгий Васильевич ежедневно прочитывал множество газет, документов, но успевал и много писать: ноты, радиограммы, статьи для печати. Советская дипломатия ничего не скрывала от народа, она шла в революционные массы, советовалась с ними, разъясняла каждый свой шаг.
Отдых был непозволительной роскошью. В редкие свободные минуты он сидел, откинувшись на спинку стула, прикрыв утомленные глаза. О себе не заботился, не хватало времени. Сложный комплекс внешних событий требовал неустанных поисков наиболее правильных решений. Нужно отстоять мир, от этого зависела судьба революции. Дипломатия должна быть сильнее пушек.
Но те, другие, мира не хотят.
9 марта в Мурманске с английского крейсера «Глори» высадился первый десант интервентов. 5 апреля во Владивостоке оккупанты подняли флаг с эмблемой восходящего солнца. 15 марта, когда IV съезд Советов ратифицировал Брест-Литовский мирный договор, в Лондоне открылась конференция премьер-министров и министров иностранных дел стран Антанты. Конференция приняла тайное решение начать интервенцию в Советскую Россию.
Получив сообщение о высадке десанта на Дальнем Востоке, Чичерин вызвал в НКИД представителей Англии, Франции и Северо-Американских Соединенных Штатов и, не теряя даром времени, заявил, что Советское правительство требует немедленного вывода английских и японских войск из Владивостока.
Дипломаты изобразили недоумение: они ничего не слышали о войсках. Видимо, г-н Чичерин имеет в виду полицейские отряды для охраны иностранных граждан, но время очень серьезное, и кто может гарантировать от неприятностей. Французский представитель говорил, что рассматривает действия японцев «как вполне естественные меры». Зато его американский коллега, учитывая собственные интересы на Дальнем Востоке, отозвался явно неодобрительно о японском вторжении в Сибирь.
Что касается английского представителя, то он подчеркнуто наивно выразил удивление заявлением господина Чичерина, по его-де твердому убеждению, высадка английского десанта во Владивостоке носит чисто локальный характер.
Чичерин терпеливо выслушал всех и твердо потребовал немедленного вывода иностранных войск с советской территории.
Дипломатические представители, озадаченные тоном наркома, в конце концов поняли серьезность момента и заверили, что непременно доведут содержание беседы до сведения своих правительств, и даже пообещали, что «разгоревшийся конфликт может быть очень скоро удовлетворительно улажен».
Через неделю Локкарт посетил Чичерина и от имени английского правительства заявил, что командиру английского десанта во Владивостоке приказано в кратчайший срок «ликвидировать инцидент». На следующий день заявление Локкарта было опубликовано в советских газетах и навсегда осталось в истории как пример вероломства: вскоре весь мир убедился, что господа из Форин оффис солгали, английская интервенция только начиналась.
Не меньше забот доставляли также и отношения с Германией. Грабительские условия Брестского мира не создавали хороших перспектив для этих отношений. Нужно было искать иной фундамент, чтобы создать равноправные, взаимовыгодные отношения и развивать их. Над этим ломал голову не только один нарком иностранных дел.
Стало известно, что в Берлине имелись влиятельные лица, заинтересованные в мире с Россией. Несмотря на воинственные призывы крайней военной партии, стремления к миру были сильны, использовать их настойчиво советовал Ленин. Такова была текущая задача советской внешней политики. Тем более что с минуты на минуту, со дня на день можно было ждать перемены германской политики в интересах крайней военной партии.
Усиление экономических и торговых отношений — наиболее верный путь к сохранению мира, к развитию межгосударственных отношений. Соединить политику с экономикой — над этим трудится Наркомат по иностранным делам. Так не в тиши кабинета, а в суровой повседневной борьбе выкристаллизовывалась внешняя политика молодого пролетарского государства.
Советская Россия предлагала Германии мир и установление торговых отношений, но никак не союз в ее борьбе с другими империалистическими державами. «Военный союз с Германией, — писал Чичерин, — для нас принципиально недопустим». И пояснял, что два мира, две принципиально различные исторические формации должны наладить между собой гармоническое сосуществование.
После ратификации Брестского договора долго не было сведений о намерениях немцев и их союзников. На демаркационной линии происходили ежедневные столкновения, и было похоже, что немцы не спешат устанавливать дипломатические отношения. Лишь в середине апреля стало известно, что послом Германии в Советской России назначен граф Мирбах. В Берлин был немедленно откомандирован советский полномочный представитель Иоффе.
И сразу же возникли трудности протокола: немцы предупредили, что всякое нарушение его будет рассматриваться ими как оскорбление, нанесенное престижу «великой Германии». Ленин поручает Чичерину подготовить «такое толкование нашей конституции, что
Оказалось сложным также подобрать помещение для миссии. Как только Локкарт узнал, что немцы будут размещены в одной гостинице с ним, он тотчас явился к Чичерину и потребовал, чтобы его переселили. Пришлось учесть патриотическую щепетильность англичанина, германскому послу был отведен особняк в Денежном переулке.
Первая встреча Чичерина с Мирбахом обошлась благополучно, детали церемонии вручения верительных грамот удовлетворили посла.
Не успел Мирбах покинуть наркомат, а Чичерин уже принимал чрезвычайного посланника Оттоманской империи Галиб-Кемаль-бея. Тот же протокольный вопрос, почти те же слова и взаимные заверения в глубоком уважении.
На следующий день у наркома снова германский посол. На этот раз он представил членов германского посольства и германской комиссии по обмену военнопленными. Чичерин сообщил ему, что вручение верительных грамот может состояться 26 апреля.
Бурные события последующих лет заслонили значение этого дня, но тогда он казался весьма знаменательным. Никогда еще газеты не уделяли столько внимания такому ныне заурядному протокольному факту. Ведь это был первый иностранный посол в первом Советском государство!
В три часа дня сопровождаемый Чичериным Мирбах вошел в кабинет председателя ВЦИК. В торжественной тишине посол вручил главе Советского государства запечатанный конверт, из которого тут же извлекли бумагу с текстом на немецком языке. Переводчик изложил содержание верительных грамот. После этого Яков Михайлович Свердлов обратился к Мирбаху с краткой речью, в которой подчеркнул историческое значение происходящего события. Посол с неподдельным вниманием выслушал выступление Свердлова, поклонился и вышел вместе с Чичериным. Церемония закончилась. Проводив германского посла, Георгий Васильевич возвратился с турецким посланником.
26 апреля для Чичерина был днем многих встреч. Вернувшись от Свердлова, он принял экономического представителя германского правительства д-ра Альфреда Листа. Немец заявил, что в германских деловых кругах проявляется недовольство в связи с отсутствием торгового соглашения. Не составляло труда понять, что недовольство вызвано введенной Советским правительством монополией внешней торговли. Немцы уже успели закупить у частных лиц различные товары и пытались вывезти их из России.
Пришлось Чичерину битый час разъяснять, что государственная монополия — незыблемый закон Советского государства и ничто не может заставить правительство отменить его.
В ответ Лист подчеркнуто заявил:
— Господин комиссар, германские деловые круги враждебно настроены по отношению к советской внешней политике и говорят, что если они не могут добиться нужных им товаров от социалистического правительства, тогда они предпочли бы иметь дело с другим правительством.
Чичерин спокойно заметил, что вряд ли можно вести переговоры на подобной основе. Лист сообразил, что переборщил, и перешел к частным вопросам. Он предложил оплачивать вывозимые в Германию товары в керенках.
— Керенки Советское правительство может и само выпускать, — возразил Чичерин. — Если германское правительство заинтересовано в развитии торговли с Советской Россией, то такая торговля могла бы вестись на принципе: товар за товар.
Так беседа и закончилась. Последующие события подтвердили предположение Ленина, что со временем немцы поймут, что шантажом ничего не добиться, и, поскольку в Германии есть торгово-промышленные круги, заинтересованные в деловых отношениях, торговля наладится. Нужно воспользоваться этой заинтересованностью для укрепления политических отношений между обеими странами.
Беседа с Листом позволила наметить дальнейшую линию поведения. Чичерин детально обсудил с Лениным итоги беседы, в результате был выработан план: переговоры о финансовых обязательствах России по Брестскому договору расширить и вести дело к установлению тесных экономических и торговых отношений с Германией. Именно в этот период, вспоминал позже нарком, Ленин впервые конкретно оформил свой план привлечения иностранного капитала для восстановления разрушенного хозяйства России, план предоставления иностранцам концессий.
Подготовка к переговорам происходила в сложнейших условиях: началось продвижение германских войск по всей демаркационной линии. Еще до приезда Мирбаха немцы пошли в Крым. В радиограмме германскому правительству 22 апреля Чичерин потребовал прекращения наступления. «Продвижение в Крым, — писал он, — является существенным нарушением Брестского договора, так как является вторжением в пределы Советской республики. Вторжение угрожает нашему Черноморскому флоту, что может повести к столкновениям, вызываемым интересами самосохранения флота».
Берлин игнорировал заявления Москвы. Вскоре под угревой вторжении оказались Орел, Курск, Воронеж. На Балтийском море немцы захватили все минные тральщики, а их правительство, ссылаясь на Брестский договор, требовало от Советского правительства очистить Балтийское море от минных заграждений.
26 апреля, в тот самый день, когда Мирбах вручил верительные грамоты, а Лист говорил о новых переговорах, Чичерин поставил германское правительство в известность, что Советское правительство сочло себя вынужденным провести мобилизацию для обеспечения независимости Российской республики. Наступали тяжелые дни русской революции.
Май принес еще больше забот. Немцы повели атаку, они отторгли от Советской России хлебородные районы, а в Москве Мирбах судьбу дальнейших русско-германских отношений связывал с требованием о возвращении Черноморского флота из Новороссийска в Севастополь, откуда этот флот ушел.
Вообще посол держал себя не так, как подобало благовоспитанному гостю. Почти каждый день Мирбах появлялся в особняке на Спиридоновке. Молча, ни с кем не здороваясь, входил в приемную, где сидели два личных секретаря наркома, и, даже не соизволив кивнуть им головой, без разрешения шел в кабинет Георгия Васильевича. Здесь, развалившись в кресле, он начинал делать свои заявления.
Нарком, казалось, не замечал нетактичного поведения графа и спокойно отклонял все его домогательства.
Несколько иного мнения на этот счет придерживались секретари наркома. При очередном визите, когда Мирбах бесцеремонно направился из приемной в кабинет наркома, перед ним выросла могучая фигура одного из личных секретарей Чичерина, бывшего моряка. На ломаном немецком языке он произнес заранее подготовленную фразу:
— Herr Graf, warten Sie ein bischen, ich melde doch dem Herrn Volkskomissar[11].
Мирбах опешил, некоторое время стоял в замешательстве, затем покраснел от гнева, но промолчал и подчинился. Тем не менее число его претензий не уменьшилось.
«Пребывание в Москве, этой революционной столице, графа Мирбаха, представителя германской военной монархии, — вспоминал Чичерин, — естественно, вело к постоянным трудностям и иногда к почти безвыходным ситуациям. Владимир Ильич обнаруживал при разрешении этих постоянных трудностей тот же неподражаемый политический реализм, который внушил ему необходимость подписания Брестского договора. Но, считаясь постоянно с фактом нашего тяжелого положения и с необходимостью уступок, Владимир Ильич всегда следил за тем, чтобы достоинство нашего государства было соблюдено, и умел находить тот предел, за которым надо было проявлять твердость. «Это требование нелепо, его нечего выполнять», — иногда заявлял он».
Но вот наконец германское правительство дало согласие начать переговоры по экономическим и правовым вопросам, вытекающим из Брестского договора. Чичерин незамедлительно сообщил германскому правительству согласие Советского правительства. Местом переговоров была избрана Москва. По этому поводу Чичерин в письме полпреду Иоффе 14 мая писал: «Мирбах и Рицлер только здесь на месте начали понимать положение. Живя в Берлине, не понять его, потому только здесь, в Москве, комиссия об экономическом соглашении может привести к практическому результату».
НКИД в подробностях разработал тактику на переговорах с немцами, положив в ее основу ленинскую программу, которая прочно увязывала финансовые статьи Брестского договора с проблемами восстановления народного хозяйства Советского государства.
От благоприятного исхода переговоров зависело многое. Ленин особо подчеркивал это в своем письме Иоффе: «Если немцы-купцы возьмут экономические выгоды, поняв, что войной с нас
15 мая в кабинете Чичерина состоялось совещание представителей Советского и германского правительств. Немцам были изложены основы советской экономической политики. Было сказано, что Советское правительство исходит из нужд народного хозяйства России, оно заинтересовано в экономических отношениях со странами Тройственного союза, а также со странами Антанты. Для осуществления программы восстановления народного хозяйства и для покрытия финансовых обязательств, принятых Советским правительством по Брестскому договору, Россия просит предоставить ей заем с последующим превращением его в государственный долг. Для гарантии этого государственного долга Советская Россия готова предоставить Германии ряд концессий при условии полного невмешательства Германии в экономические отношения России, признания Германией национализации внешней торговли и банков и т. д. Немцы заинтересовались этими предложениями. Начало переговоров предвещало успех.
Представители Антанты, находившиеся в это время в Вологде, откуда, как им казалось, легче всего было вести антисоветские интриги, не на шутку встревожились. За границей были пущены слухи о «капитуляции» большевиков, об их «готовности» отдать под германский контроль всю Сибирскую железную дорогу вплоть до Иркутска.
Левые эсеры вступили в сговор с представителями Антанты. Они повели провокационную агитацию против Германии и ее дипломатических представителей в Москве, намереваясь не допустить улучшения русско-германских отношений. Положение осложнил мятеж чехословацких частей. Советское правительство объявило мобилизацию рабочих и крестьян в центральных районах России и призвало «отсечь голову врагов революции беспощадным мечом революции».
В эти тревожные дни, точнее 30 мая 1918 года, Чичерин был окончательно назначен народным комиссаром по иностранным делам.
Первым документом, который подписал Чичерин в качестве наркома совместно с Лениным, было заявление Совета Народных Комиссаров от 31 мая 1918 года о мерах борьбы с контрреволюцией. Чичерин объяснил необходимость принятия этих мер в письме русским представителям за границей тем, что они вызываются всем положением революции. Вопрос всех вопросов — хлеб, писал он. Украинская житница в настоящее время закрыта для России, запасам хлеба, находящимся в Кубанской и Донской областях, угрожает шайка контрреволюционеров, которая надеется смутой на Дону и на Кубани вызвать чужое вмешательство и, таким образом, обречь Россию на голод.
Советское правительство начало наступление на контрреволюцию с разоружения чехословацких частей.
4 июня наркома иностранных дел посетили Локкарт, французский, итальянский и американский консулы. Они вошли все вместе, словно символизируя «несокрушимое единство» держав Антанты. Пытались уверять, что их правительства рассматривают чехословацкий корпус как воинскую часть союзной страны. Правительства стран согласия, заявили они без дипломатических уверток, будут рассматривать разоружение чехословаков как недружественный акт по отношению к ним, продиктованный влиянием Германии. Чичерин твердо дал понять, что их демарш несостоятелен и тем, кто выступает против Советской власти и поддерживает контрреволюцию, придется испытать на себе все меры революционной законности. Дипломаты упрямо продолжали настаивать на разрешении чехословацким войскам выехать из России с оружием.
— Если это ультиматум, — ответил им Чичерин, — то нет никакого выхода. Если же Антанта не намерена вступать в конфликт, то мы готовы вести переговоры. Но главное условие, — с твердостью добавил он, — это разоружение.
Представители Антанты не получили удовлетворения.
Сразу же после их ухода Чичерин подробно доложил обстановку Ленину. Анализируя ход и содержание беседы, Владимир Ильич сделал вывод: Антанта предъявила ультиматум, который еще больше осложнил и без того тяжелое положение страны.
В тот же день поздно вечером в Кремле в зале заседаний Совнаркома состоялось совещание. Обсуждение ультиматума Антанты переросло в обсуждение всего внешнеполитического положения Советской России. Было отмечено, что страна находится между двух огней. Советское правительство решило подавить вооруженное восстание чехословаков и разоружить их, ибо никакой другой исход недопустим. Необходимо добиться стабилизации Западного фронта, в противном случае положение грозило стать катастрофическим. Таким образом, переговоры с Германией приобретали решающее значение.
И вот Чичерин у прямого провода Москва — Берлин. Кратко, без лишних слов, изложил он события истекшего дни. Советская делегация в Берлине должна понять, что многое зависит от ее инициативы и умения находить нужное решение. Москва требовала одного — договоренности с немцами.
В Берлине в этот день уже состоялась беседа Иоффе с министром иностранных дел Кюльманом. Германское правительство вновь настаивало на возвращении Черноморского флота в Севастополь.
В течение целой недели только об этом и говорили в Москве и Берлине. Немцы упорствовали, они понимали тяжелое положение русских и спекулировали на этом. Надо было проявить максимум терпения и настойчивости, чтобы не поддаться их нажиму. Георгий Васильевич осунулся, еще больше побледнел, спать приходилось всего три-четыре часа в сутки. Почти каждый день он терпеливо вел разговоры с членами русской делегации в Берлине, передавал им подробные указания правительства и лично Ленина. Связь часто рвалась, слышимость была отвратительная, приходилось долго ожидать и по нескольку раз передавать одни и те же инструкции.
13 июня Иоффе посетил статс-секретаря Кюльмана и по указанию Чичерина вручил ноту, в которой Советское правительство соглашалось возвратить флот в Севастополь для разоружения на определенных условиях, и выразил надежду, что «прекращены будут враждебные против России действия на всех фронтах, что одно только даст возможность… приступить, наконец, к мирной деловой работе, совершенно невозможной под грохот пушек и треск пулеметов».
Кюльман в ответ холодно заявил, что, видимо, дипломатия ничего поделать не может и должны будут принять меры военные. Что касается срока выполнения предварительных условий, то германское правительство может дать всего лишь два дня.
Положение создалось безвыходное, и 18 июня 1918 года эсминец «Керчь» по приказу Советского правительства расстрелял Черноморский флот. В Москву пришел последний рапорт эсминца:
Несмотря на невероятно трудную обстановку, Георгий Васильевич не терял надежды, что переговоры станут сильнее пушек. Но очень нужна искусная дипломатия, она одна может помочь, казалось, безнадежному делу.
И в этих-то условиях, когда советская дипломатия пыталась оттянуть столкновение с превосходящим по силе противником, Троцкий с его «сверхреволюционностью» выступил за решительные меры, которые несли с собой угрозу утраты Советского государства. Русская революция может погибнуть, твердил он, но ее гибель явится толчком для революции на Западе.
Троцкий через своих сторонников в НКИД чинил препятствия в выполнении внешнеполитических задач. Занимая пост наркома обороны, он постоянно вмешивался в дела НКИД, а зачастую пытался вести самостоятельные переговоры с иностранными представителями.
12 июля 1918 года Чичерин, в некоторой степени подводя итоги многомесячной борьбы с троцкизмом, писал, что «Троцкий любит театральное громовержество и хочет теперь повторить декабрьско-январские эксперименты… Масса энергии идет на борьбу с этим, так сказать, неотроцкизмом». Троцкий шел навстречу провокационным действиям германских дипломатов и вообще восстанавливал против Советской России и Германию и Антанту.
Благодаря неустанной поддержке Ленина и каждодневной помощи со стороны ЦК удавалось нейтрализовать пагубное влияние троцкизма на внешнюю политику. Растущий авторитет и влияние Чичерина и других ленинцев обеспечивали правильную деятельность НКИД.
Но были трудности в отношениях и с некоторыми деятелями наркомата. Полпред в Берлине Иоффе часто проявлял отнюдь не лояльное и просто не товарищеское отношение к Чичерину. Из-за этого страдало дело. Нарком по указанию правительства передал немцам ноту, в которой говорилось, что флот может вернуться в Севастополь, если будут прекращены военные действия на всех фронтах и сам Севастополь будет освобожден от немецких войск. Иоффе в Берлине от себя сообщил властям, что флот будет возвращен, если будет мир с Украиной.
Ленин сначала не вмешивался в эти разногласия. Потом предложил Иоффе «не нервничать», ибо «исправлять (и создавать новую) дипломатию — дело трудное. Festina lente»[13].
Но Иоффе упрямился.
Обнаружив усиливающееся раздражение в отношениях Иоффе и наркома, Ленин пишет в Берлин: «Я следил внимательно за Вашими письмами и убежден непреклонно, что трения эти неважные (хаос везде, неаккуратность везде — во всех комиссариатах, и от этого зла лечение медленное). Терпение и настойчивость, и трения уладятся. Чичерин превосходный работник. Ваша линия вполне лояльно проводит Брестский договор, успех у Вас
Иоффе и тут не соглашается. Тогда Владимир Ильич через месяц, 1 июля, пишет еще раз: «Сердит я на Вас, по правде сказать, до крайности. Людей мало, все переработались до чертиков, а Вы устраиваете такую вещь: много
Это же ведь черт знает что такое!
Конечно, Чичерин спрашивает у меня письмо, я показать не могу, не желая быть орудием склоки. Выходит порча делу и порча отношений.
Чичерин — работник великолепный, добросовестнейший, умный, знающий. Таких людей надо ценить. Что его слабость — недостаток «командирства», это не беда. Мало ли людей с обратной слабостью на свете!
Работать с Чичериным можно, легко работается, но испортить работу даже с ним можно»[15].
После этого письма Ленина и дополнительного поручения Красину внушить Иоффе, чтобы он «держал себя как посол, выше которого нарком иностранных дел»[16], Иоффе прекратил свои попытки «перенесения наркомата в Берлин». И если Чичерину и не довелось полностью узнать, как заботился о нем и берег его Ленин, тем не менее он на каждом шагу ощущал ленинскую поддержку.
Переговоры затягивались. Прошло уже несколько недель после встречи в Москве, а германское правительство так и не проявило интереса к ним. Чичерин посылал запросы в Берлин, пытался разузнать что-нибудь у Мирбаха, но бесполезно — немцы не спешили.
Наконец 20 июня 1918 года открылось первое заседание финансово-политической комиссии, а вскоре под настойчивым влиянием НКИД немцы были вынуждены назначить заседание и политической комиссии.
Враждебная позиция германского правительства по отношению к Советской России, постоянные вымогательства уступок, сопровождаемые угрозами и ультиматумами, выматывали силы. Как Германии хотелось казаться сильной и непобедимой! А ее силы были на исходе, в стране царила страшная разруха, народ жаждал мира.
Рассказывая об одной из своих встреч с наркомом летом 1918 года, очевидец тех дней Е. Я. Драбкина писала:
«…На долю Чичерина выпала тяжелейшая миссия: он должен был вручить договор торжествующим победителям, а затем на протяжении долгих месяцев встречаться с ними, выслушивать их наглые претензии, не давать повода для провокаций.
Он делал все это с абсолютным самообладанием, ровно, тихо, незаметно. Глядя со стороны, можно было подумать, что это дается ему без труда и насилия над собой.
Когда я вошла в кабинет Чичерина, он показывал Маркину какую-то книгу. Подойдя, я увидела, что это «Божественная комедия».
Видимо, заканчивая разговор, Чичерин сказал Маркину:
— Седьмой круг ада предназначен для тиранов, которые жаждали золота и крови. Если бы Данте писал «Божественную комедию» сегодня, он наверняка поместил бы в седьмой круг прусских юнкеров с их закрученными вверх усами…»
Кто мог предположить в то время, что в Москве назревали события, которые грозили сорвать все, что было достигнуто до сих пор?
4 июля в Большом театре собрались делегаты V Всероссийского съезда Советов. Левые эсеры решили дать бой большевикам. Их представитель Камков выступил с истеричной речью, в которой призывал к войне против немцев, к разрыву с ними отношений и изгнанию из Москвы германского посла Мирбаха.
По всему было видно, что левые эсеры взяли курс на срыв съезда. Но большинство пошло не за ними, а за Лениным. Левые эсеры покинули зал заседаний. Позже стало известно, что в эти дни вместе с представителями Антанты они завершили разработку плана контрреволюционного мятежа.
Вышедшие на следующий день газеты заклеймили вылазку левых эсеров. Они опубликовали доклад Чичерина V съезду Сонетов. Кратко и убедительно нарком разъяснял широким массам принципы советской внешней политики, доказывал необходимость мира с Германией.
Съезд продолжал работу. Левые эсеры вновь попытались «разъяснить» свою политику. Снова на трибуне Камков. И вновь поток демагогических фраз и крикливых лозунгов.
Как и на IV съезде, враги революции обращают свои удары против Чичерина. Они пытаются скомпрометировать его, называют изменником, вступившим в сговор с германским империализмом.
Наступил третий день съезда, 6 июля 1918 года.
В Москве было неспокойно. Замечалось скопление вооруженных групп. По городу ползли тревожные слухи о восстании в Ярославле, о найденной под сценой Большого театра адской машине. Поговаривали о погромах. И в довершение — неслыханная провокация левых эсеров. Их представители Блюмкин и Андреев вломились в германское посольство и убили посла Мирбаха.
Чичерин был занят разработкой директив для советской делегации на переговорах в Берлине, когда к нему кто-то ворвался и крикнул:
— Мирбах убит!
Взрывом эсеровской бомбы Советская Россия ставилась на грань войны с Германией. Лучшего предлога для наступления германская военщина не могла и придумать! Как быть?
Ленин, Чичерин и другие члены Советского правительства прибыли в германское посольство. Они застали там перепуганного насмерть советника Рицлера, растерянных чиновников.
Чичерин нервничал. Он с трудом мог скрыть свои чувства. Ленин сохранял полное присутствие духа. Глава Советского правительства выразил на немецком языке соболезнование от имени Советского правительства и от себя лично. Он заверил, что преступники будут наказаны.
Спокойствие Владимира Ильича передалось Чичерину. Вернувшись к себе, он всю ночь думал о выходе из создавшегося положения.
Под утро пришла телеграмма из Берлина от Иоффе. Полпред посетил Кюльмана и от имени Советского правительства выразил глубочайшее сожаление по поводу случившегося. Он передал Кюльману ноту, в которой высказывались надежда и убеждение в том, что «это ужасное событие не будет в состоянии помешать успешной работе, которой неуклонно отдают все свои силы императорское и представленное мною правительства в целях восстановления прочных дружественных отношений между двумя великими народами».
Кюльман ничего не ответил.
Положение было скверным.
7 июля, когда отряды вооруженных рабочих, красноармейцев и чекистов начали разгром мятежников в Москве, от Иоффе поступила телеграмма: состоялось первое заседание политической комиссии. Чичерин читал ленту и не верил своим глазам: германское правительство не отказалось от переговоров! Прав, как всегда, оказался Ленин. Конечно, впереди еще много трудностей, немецкая сторона непременно воспользуется ситуацией и выдвинет более тяжелые, чем прежде, требования. Но есть надежда найти пути к сохранению мира с Германией.
Немцы предложили, чтобы Чичерин лично принял участие в траурной процессии при отправке гроба с телом Мирбаха в Германию. Чичерин согласился. Непредвиденный случай задержал его. Германский дипломат Гильгер, который работал в СССР с момента установления отношений с Германией до Великой Отечественной войны, так вспоминал об этом событии: «Гроб с останками должен был быть перевезен в Германию. Прежде чем процессия двинулась по направлению к вокзалу, все присутствующие на церемонии напрасно прождали больше часа прибытия народного комиссара по иностранным делам Г. И. Чичерина, который твердо обещал приехать. Наконец, кортеж двинулся, не дождавшись его… Похоронная процессия уже достигла широкого Новинского бульвара, когда показался открытый автомобиль, направляющийся в сторону процессии. В нем сидел невзрачный, изнуренный человек с остроконечной рыжеватой бородкой, без шляпы. Когда он заметил кортеж, он взволнованно начал подавать знаки шоферу… По-видимому, народный комиссар был смущен своим опозданием. После того как его автомобиль присоединился к процессии, я непрерывно наблюдал за Чичериным по пути на станцию. Его согбенная фигура и скорбное лицо были как бы воплощением тяжелого положения, в котором в то время находилась Советская республика».
Да, Советская республика находилась в тяжелейших условиях. Как и ожидалось, ультиматумы снова посыпались один за другим.
Хотя 11 июля канцлер фон Гертлинг и заявил на заседании рейхстага, что Германия стоит на точке зрения Брест-Литовского договора и хочет тесных отношений с русским правительством, во всяком случае, не хочет новой войны с Россией и будет поддерживать русское правительство, которое желает мира со всеми странами, но предъявленные к Москве требования говорили об обратном. Прежде всего в ультимативной форме было заявлено о намерении германского правительства ввести в Москву войска якобы для охраны посольства.
Берлин хотел также добиться открытия черноморских портов для свободной торговли, включения колонистов германской национальности в число германских граждан и прочее и прочее.
Немецкие требования нужно было отклонить решительно и безоговорочно. Чичерин, как всегда в трудную минуту, обращается к Ленину. В Кремле тщательно обговариваются аргументы каждого ответа немцам. Поток нот и заявлений не уменьшается. Этому значительно способствовал поверенный в делах Германии Рицлер, который, по определению Чичерина, был «безобразно труслив». После убийства Мирбаха ему повсюду мерещились заговоры, направленные против него. Рицлер приходил и НКИД словно на службу. Вновь и вновь Чичерину приходилось разъяснять ему советскую позицию. Времени не хватало. А тут еще обиды Иоффе: то не может дождаться из Москвы ответов на свои запросы, то не успевает выполнять распоряжения НКИД, хотя и работает по 20 часов в сутки.
В конце концов Чичерин, обычно умевший сдерживать свои чувства, вспылил: «Работать по 20 часов в сутки мне также приходится, разрываясь на части. При крайнем недостатке подсобных сил Карахану и мне приходится делать самим всякую техническую работу, в нормальных условиях возлагаемую на чиновников. Приходится положительно все ловить на лету. Нет времени сосредоточиться ни на одном вопросе».
В одно из очередных посещений Рицлера Чичерин, руководствуясь указанием Ленина, твердо заявил:
— Советское правительство решительно отклоняет требование о вводе войск в Москву, потому что ни один народ не может добровольно опуститься на уровень колониальной страны.
Рицлер ушел обескураженный. Ожидали новых ультиматумов. Запросили Иоффе, тот ответил, что в Германии «борются различные тенденции, но большинство за мир с нами и за начатие мирных торговых сношений». Видимо, больше шансов за то, что победит группа, выступающая за мир с Россией. Иоффе просил ни в коем случае не уступать германским требованиям.
И переговоры с Рицлером продолжались. Чичерин забыл, когда спал нормально. Голова пухла от бесконечных обсуждений, бесед, телефонных звонков и перестука юзовского аппарата. Трудность усугублялась всей сложностью обстановки. 16 июля нарком отмечал: «Кругом вихрь, рвут на части, безлюдье, не из кого слепить аппарат… Рицлер шантажирует… А вихрь бешено несется…»
19 июля 1918 года Ленин принял Рицлера. Снова терпеливо была изложена позиция относительно требования Германии о вводе войск в Москву. Владимир Ильич, заканчивая разговор, подчеркнул, что правительство РСФСР окончательно отклоняет унизительное требование. Немецкий дипломат в замешательстве не нашелся что сказать.
Прошла неделя. Германское правительство больше не поднимало вопроса о вводе войск, явно выжидая, не откажется ли Советское правительство от своей позиции, не испугается ли оно многозначительного молчания Берлина. «В этот момент, — писал Чичерин, — у меня было несколько продолжительных разговоров с Владимиром Ильичем. Он совершенно правильно оценил трудности, какие представило бы для Германии наступление на Москву. Считая необходимым отклонить требование германского правительства о вводе в Москву германского вооруженного отряда, Владимир Ильич с полнейшим спокойствием ожидал результатов нашего ответа». Нервы сдали и Берлине: 25 июля специальной нотой германское правительство объявило, что оно не настаивает на вводе войск в советскую столицу.
Но положение оставалось тревожным. Ленин 29 июля отмечал:
«…из этого соединенного усилия англо-французского империализма и контрреволюционной русской буржуазии вытекло то, что война гражданская у нас теперь с той стороны, с которой не все ожидали и не все ясно сознавали, и она слилась с войной внешней в одно неразрывное целое. Кулацкое восстание, чехословацкий мятеж, мурманское движение, — это одна война, надвигающаяся на Россию. Мы вырвались из войны с одной стороны, понеся громадный ущерб, заключив невероятно тяжелый мир, мы знали, что заключаем мир насильнический, но говорили, что сумеем продолжать свою пропаганду и свое строительство, и этим разлагаем империалистический мир. Мы сумели его сделать. Германия ведет теперь переговоры о том, сколько миллиардов взять с России на основании Брестского мира, но она признала все те национализации, которые у нас были проведены декретом 28 июня»[17].
А на следующий день Чичерину пришлось принимать представителей держав Антанты, которые были весьма встревожены выступлением Ленина. Слова Ленина о том, что Россия находится по отношению к англо-французам в фактическом состоянии войны, они использовали, чтобы угрожать разрывом с Москвой, возложив на нее вину за этот разрыв.
— Мы, — ответил им Чичерин, — решительно отклоняем этот протест. Вторжение в наши пределы ничем не вызвано с нашей стороны. Трудящиеся массы России желают жить в мире со всеми народами и не объявляют никому войны. Это мы должны протестовать против вторжения к нам без причины, против уничтожения народного достояния трудящихся масс России, захвата и ограбления наших городов и деревень и расстрелов верных Советской власти местных работников. Мы не объявляем войны, но мы отвечаем на эти действия соответствующими мерами обороны…
— Вы несете ответственность перед своим народом за отъезд наших послов из России, — заявили послы. — Вы несете вину за разрыв дипломатических отношений.
— Нет, такой вины мы не несем…
И Чичерин спокойным, внешне бесстрастным тоном напомнил красноречивые факты.
Еще до убийства Мирбаха к Советскому правительству начали поступать сведения о том, что в Вологду, где собрался почти весь дипломатический корпус, стали стекаться контрреволюционные элементы, в частности бывшие царские офицеры. Именно здесь вынашивались планы мятежей и контрреволюционных выступлений. Стало также известно, что англичанами разработан план оккупации треугольника Мурманск — Архангельск — Вологда, одна из вершин которого была направлена в районы, занятые чехословаками.
Антантовские представители устанавливали здесь связи с антисоветскими местными организациями. Они слепо верили в широкое антисоветское подполье. Упорно и тщательно искал «народных вождей» французский посол Нуланс, кстати объявленный Советским правительством к этому времени «persona non grata» за свои антисоветские выступления. Такого «вождя» он обрел в лице Бориса Савинкова, а в ублюдочной организации «Союз защиты родины и свободы» увидел «народное движение».
Савинков требовал от Антанты высадки десанта в ближайшее время. В обмен предлагал развернуть «широкое» движение своего «союза». И все время канючил у Нуланса денег.
«Зловредный спиритус», иначе Чичерин Нуланса и не называл, упорно продолжал плести свои паучьи сети. По совету Ленина Чичерин в телеграммах разъяснял послам, что в Вологде создается опасное положение, что туда стягиваются авантюристически настроенные русские офицеры, возможны столкновения, а «когда бушует сражение — домов не различают». Безопасность послов может быть гарантирована только в Москве.
Френсис одним из первых изъявил желание покинуть Вологду, но вмешался «зловредный спиритус». Ссылаясь на свою осведомленность, Нуланс запугивал послов, уверяя, будто бы Германия добилась от Советского правительства согласия на занятие немецкими войсками Москвы и что она требует переезда антантовских послов в столицу, чтобы захватить их там как «ценную добычу».
Несмотря на просьбу Советского правительства, послы Антанты категорически отказались переезжать в Москву и 22 июля заявили о своем желании выехать в Архангельск. Для этого им были предоставлены возможности. Послы, как писал Чичерин, «подобру-поздорову уехали в Архангельск, где ввиду военного положения в ожидании английской бомбардировки их пребывание было невозможно и откуда они 30 июля уехали в занятую англичанами Кандалакшу». Было приложено немало усилий, чтобы их выезд совершился самым корректным образом и не давал бы повода обвинять Советскую Россию, будто она враждебна к народам стран Антанты. Послу Френсису Чичерин направил такую телеграмму: «Прошу передать в ваших сообщениях через океан великому народу пионеров нового континента и потомкам кромвелевских революционеров, братьям по оружию Вашингтона, наше уважение и восхищение». Френсис в своих мемуарах потом писал, что он не выполнил этой просьбы Чичерина. Однако Чичерин подвергся за отъезд послов критике со стороны некоторых своих сотрудников. Против резких заявлений в адрес Антанты выступил Иоффе, который был склонен рассматривать это как ошибку советской дипломатии. По его мнению, Чичерин должен был приложить больше усилий, чтобы воспрепятствовать отъезду послов. 3 августа Ленин написал ему:
«Все, что Вы пишете в последних письмах, несуразно до сверхъестественности.
Проводить «прежнюю» политику неразрыва с Антантой после Онеги — смешно. Нельзя же даму с ребеночком сделать опять невинной»[18].
Антантовская печать ответила на выезд своих послов озлобленным воем. Страницы газет запестрели сообщениями о «зверствах» в Советской России, о «варварском» отношении к представителям западных стран. Нарком специально пишет полпреду Иоффе: «На Западе нас обливают помоями. Выясните и делайте широко известным, чтоб дошло и в страны Антанты, что, между тем как без причин и объявления войны к нам ворвались хищники, мы не отвечаем варварством на варварство».
В эти дни Чичерина можно часто видеть на Пречистенке в Опероде (оперативный отдел Народного комиссариата военно-морских дел). Иногда он появлялся здесь вместе с Лениным, Свердловым, Дзержинским. Подолгу изучал военные сводки и молча стоял у карты. Линия фронтов перемещалась каждый день. Она ползла по карте и, казалось, неотвратимо приближалась к Москве. Возвращаясь в НКИД или в Кремль, нарком тщательно обдумывал ситуацию. Задуматься было над чем: на севере — англичане, на западе — немцы, на юге — белоказаки — Алексеев, Краснов, Дутов. Последних снабжали оружием и Германия и Антанта. Советскую Россию никто не снабжал, из нее тянули все жилы, тянули жестоко, настойчиво, тянули воровски и в открытую, на «законной» основе Брестского договора.
Наркому приходилось заниматься и внутренними делами, тем более что эти дела тесным образом переплетались с внешнеполитическими. Подмечена интересная деталь: у генерала Алексеева появилось новое вооружение, которое он мог получить только от немцев. Но ведь немцы оружием снабжают не Алексеева, а Краснова. После расследований выяснилось, что последний обменивает это оружие на хлеб.
Германское правительство требует начать решительную борьбу против Алексеева, которого оно рассматривает как ставленника англичан. Стало быть…
28 июля Чичерин передает в Берлин: «В действительности нет такого противоположения между немецкой и английской ориентацией среди казаков, как между Германией и Англией на поле сражения, ибо в конечном счете вся контрреволюция выгодна обоим. И даже, пожалуй, Англия останется в дураках, ибо если Алексеев, Дутов и все англофильские белогвардейцы победят, то победившей реакции придется опираться больше на Германию, чем на Англию. Но поскольку в нынешний момент Алексеев для них (т. е. для немцев.
27 июля в Берлине возобновились переговоры. Германская сторона внесла проект экономического и политического соглашений. Она потребовала от Советской России отказа от обширной территории на западе, согласия на длительную оккупацию Донбасса, уплаты Россией 6 миллиардов рублей и поставок товаров на 1 миллиард.
Иоффе предлагает принять эти предложения. Чичерин тщательно анализирует их. Он сомневается. Его поддерживает Ленин. В Берлин передается указание не связывать себе заранее руки. Чичерин, тяжело переживавший брестскую трагедию, теперь, когда наихудшее было позади, требовал бороться за каждую уступку. Внесенные в проект соглашения положения о невмешательстве во внутренние дела России — большое достижение, это позволяет стабилизировать Западный фронт, но нужно добиваться большего.
Ленин, Свердлов, Чичерин десятки раз перечитывают статьи проекта. Соглашения подписываются не на день и не на месяц. Ради выгод сегодняшнего дня недопустимо закрывать глаза на будущее. Чичерин по указаниям Ленина помогает советской делегации в Берлине занять правильную позицию.
Случилось так, что германский сторона сама подошла к вопросу о контрреволюционном мятеже белоказаков. Новый германский посол в РСФСР Гельферих высказался через два дня после прибытия в Москву о желательности совместной борьбы советских и германских войск со ставленником Антанты Алексеевым. Нарком 2 августа в письме послу заявил, что «движение Краснова и Алексеева не имело бы такого размера, если бы германские власти не поддерживали его (по крайней мере, в отношении Краснова)». В то же время Иоффе, Красин и Менжинский, со своей стороны, в Берлине разъясняли германскому правительству, что помощь немцев Краснову — это та же помощь Антанте в ее борьбе против Германии. Так, действуя согласованно в Берлине и в Москве, вскоре удалось добиться поставленной цели, немцы перестали поддерживать Краснова, белые лишились одного из важных источников снабжения их оружием. Пошла Германия и на другие уступки.
В результате 27 августа Иоффе по поручению Советского правительства подписал дополнительные соглашения к Брестскому договору. Эти соглашения — важная победа, а для советских дипломатов — один из ценных уроков сложного внешнеполитического искусства.
На заседании ВЦИК при ратификации соглашений Чичерин говорил:
— В общем, при глубочайшем различии между строем России и Германии и основными тенденциями обоих правительств мирное сожительство обеих стран, являющееся всегда предметом стремлений нашего рабоче-крестьянского государства, является в настоящее время желательным и для германских правящих кругов… Обращая свой фронт против наступающего на нас англо-французского империализма, мы обеспечиваем себе тыл предъявляемыми сегодня для ратификации договорами с Германией.
В Берлине у юзовского аппарата нетерпеливо ждал вестей Иоффе. Москва долго не отвечала. Наконец аппарат заработал.
— Здравствуйте, Георгий Васильевич, — передает Иоффе. — Мне необходимо сейчас знать, ратифицировал ли ВЦИК? Из министерства непрерывно запрашивают.
— Договоры ратифицированы. Курьер только что уехал в Берлин, — отвечает Чичерин.
Закончился трудный отрезок пути, фронт был стабилизирован.
Однако к моменту подписания новых соглашений германское правительство фактически отозвало из Москвы свое посольство. Новый посол Гельферих, крупнейший представитель берлинских экономических кругов, пробыл в советской столице немногим больше недели. 7 августа он выехал в Германию для участия в особо важном коронном совете. В тот же день весь состав германского посольства переехал в Петроград, якобы для обеспечения своей безопасности, а оттуда перебрался в Псков. Возникли опасения, что немцы готовят новые провокации, необходимы контрмеры.
И в день ратификации дополнительных соглашений с Германией Советская Россия была объявлена единым военным лагерем. На Восточном фронте Красная Армия перешла в наступление.
Бросок германской армии не состоялся, советская дипломатия добилась осязаемого успеха.
Договоры с Германией открывали новые перспективы. Существовавший до этого момента известный простор для империалистической политики захватов по отношению к России значительно сузился. Надо, однако, развивать успех. Теперь дипломатии, как никогда, отводилась самая активная роль в отражении натиска внешней и внутренней контрреволюции. Как можно скорее добиться урегулирования отношений со странами Антанты — вот задача дня. НКИД использует все средства, чтобы вывести Советскую страну из войны. Но Антанта оставалась глуха к призывам о мире. Больше того, «постепенно сгущались тучи антантовской интервенции, — отмечал Чичерин. — Происходил процесс постепенного замуровывания России, изолирования ее антантовской блокадой, так называемым «окружением» или «санитарным кордоном».
Многочисленные враги Советской России не собирались складывать оружия. Они готовили подрывные акции, пытались влиять на колеблющихся, эксплуатировали невежество отсталых слоев населения, провоцировали крестьянские мятежи. Каждый мирный день был драгоценен. Время завоевывало массы, оно выступало на стороне революции.
В самом начале сентября ВЧК раскрыла и ликвидировала заговор Локкарта. Вслед за этим в Петрограде в бывшем здании английского посольства было накрыто тайное совещание с участием русских белогвардейцев.
Антантовцы подняли невероятный шум, требуя немедленного вмешательства во внутренние дела Советской страны. Еще бы, заговор Локкарта преследовал именно эту цель! При аресте этого агента были найдены письменные свидетельства далеко задуманного шантажа, намечалось опубликовать фальшивую «тайную переписку» Советского правительства с представительством Германии, подложные тексты секретных договоров. Врагам хотелось спровоцировать столкновение РСФСР с Германией.
Локкарт заслуживал серьезного наказания. Но было решено, и об этом заявил 6 сентября Чичерин, что в случае, если русские граждане получат возможность выехать на Родину, английские и французские, а среди них и Локкарт смогут покинуть Россию. Английское, как и французское, правительство согласилось на это: на Родину вернулись советские люди, в том числе М. М. Литвинов.
Советское правительство проявило максимум выдержки, оно терпело присутствие послов стран Антанты и не предпринимало никаких мер к их выдворению. Сложилось оригинальное положение: на территории Советской России находились посольства государств, не признававших ее правительства, но которые тем не менее поддерживали с ним какие-то отношения и даже пользовались дипломатическим иммунитетом. Советская же республика была лишена возможности иметь свои представительства в этих государствах. Больше того, при покровительстве буржуазных правительств бывшие царские послы пытались сохранить права представительства в ряде иностранных столиц. Действовали они там во вред Советскому государству. После отъезда Литвинова из Англии у Советской России осталось всего лишь три представительства: Иоффе в Берлине, Боровский в Стокгольме и Берзин в Берне.
Как добиться открытия новых представительств? Этот вопрос постоянно заботил наркома. Изыскивались различные средства. Вот, например, из Петрограда упорно не желает переезжать в Москву голландский посланник Удендайк. Он демонстративно уклоняется от любых встреч с советскими представителями.
Однажды все-таки он появился в Москве, но вел себя по-прежнему непозволительно дерзко.
После безуспешных попыток образумить посланника было решено потребовать от голландского правительства немедленно отозвать его и разрешить приехать в Голландию русскому представителю.
Снестись с голландским правительством можно было только через Берлин. Но Иоффе, учитывая дипломатический этикет, медлил.
Тогда Чичерин твердо предложил незамедлительно предпринять необходимые шаги. Эффект не заставил ждать: 5 октября Удендайк примчался из Петрограда в Москву. От его прежней заносчивости не осталось и следа, перед наркомом появился вежливый, благовоспитанный дипломат.
Он сообщил, что голландское правительство готово принять русского посланника. Ему поручено детально обсудить все вопросы, которые возникли в связи с новой фазой советско-голландских отношений. В заключение Удендайк попросил не настаивать на его отозвании. Чичерин ответил, что если принять во внимание заверение господина посланника о желании способствовать развитию советско-голландских отношений, то Советское правительство готово взять назад свое требование. Удендайк горячо поблагодарил его и любезно распрощался. Этот случай показал, что нормализация и установление дипломатических отношений не такое уж безнадежное дело.
В этой связи встали проблемы срочной подготовки кадров НКИД.
В течение еще многих лет Наркоминдел испытывал нужду в людях. Разве могли молодые, горячие, решительные парни оставаться кабинетными затворниками в стенах наркомата? Они рвались в бой, и, как только становилось известно, что производится очередная запись добровольцев в Красную Армию, НКИД недосчитывался многих сотрудников. Так ушел на фронт матрос Маркин — очень ценный, преданный делу работник, замечательный товарищ. Этот прирожденный боец отправился на Волгу, создал речную флотилию и к осени 1918 года уже громил белых. Под Свияжском он совершил легендарные подвиги. Во время разведывательного плавания на пароходе «Ваня-коммунист» Маркин героически сражался и погиб. Георгий Васильевич тяжело переживал смерть Маркина, и, пожалуй, гибель этого талантливого человека еще больше подтолкнула его к решительному сопротивлению против ухода сотрудников. Он даже выработал свой план возвращения в НКИД «беглецов»: звонил Дзержинскому, и по его просьбе ЧК находила и водворяла на место «дезертиров НКИД».
Существовали и другие «бедствия» — различные общественные кампании. Нет, Чичерин и в мыслях не держал, что эти кампании не важны. Он сам охотно выступал с докладами в рабочих клубах, красноармейских казармах, на всевозможных конференциях. Можно было видеть его и в подмосковных деревнях. Подробно и интересно рассказывал нарком о событиях текущего времени, не оставляя без ответа ни один вопрос. В печати часто появлялись его статьи, что тоже свидетельствовало о его интересе к общественному делу. Чичерин всегда считал, что дипломат — это активный политик-большевик, он должен выполнять обязанности пропагандиста и агитатора.
Но при острой нехватке людей и огромном объеме работы наркому приходилось считаться с каждым потерянным хотя бы на несколько дней человеком. Работу в НКИД он рассматривал прежде всего как партийную деятельность и никак не хотел примириться с тем, что «из-за трех деревень страдают важнейшие интересы республики». Нарком неоднократно обращался в ЦК и лично к Ленину с просьбами запретить мобилизацию коммунистов наркомата для различных агитационных кампаний без предварительного выяснения у наркома возможности оторвать сотрудника на несколько дней от основной работы.
Заботливо относился нарком к будущим дипломатам. Он не был суровым руководителем, никому не отказывал в приеме, попасть к нему было несложно. Весной 1921 года кто-то решил поменять весьма упрощенную систему охраны НКИД на более строгую. Накануне майских праздников, когда часовые в соответствии с новой инструкцией не допустили к наркому двух сотрудников НКИД, его гневу не было предела. Он тотчас написал суровое письмо управляющему делами НКИД: «Я ни в коем случае не могу поручить не связанному со мною бюро пропусков воспрещение доступа ко мне или в мою канцелярию. Только мои секретари, действующие в непосредственном контакте со мной, могут решить в положительном или отрицательном смысле вопрос о допущении какого-либо пришедшего к нам лица. Допущение посетителей должно поэтому быть чрезвычайно либеральным…»
Такой порядок прохода к Чичерину сохранялся в течение всего времени его пребывания на посту наркома.
К Георгию Васильевичу охотно шли посетители, шли и днем и ночью, нередко даже поднимали с постели. Но это не сердило его, ведь он и сам порой вызывал сотрудников в неурочное время. Чичеринский стиль работы походил на его беспокойный характер, так гармонировавший с характером бурного времени. Георгия Васильевича почти всегда можно было застать в кабинете. Многие считали, что он вообще никогда не выходит из него. Подперев рукой склоненную набок голову — привычка, выработанная ночной работой и частой бессонницей, — он либо читал, либо терпеливо вел беседу с посетителем. Когда не было времени на разъяснения, молча брал клочок бумаги и собственноручно писал нужный документ.
Георгий Васильевич был очень требователен в делах и сам подавал пример беззаветного служения Родине. Он не гнушался никакой работой. Почти все бумаги, которые касались НКИД, прочитывались, редактировались, а зачастую и переводились на иностранные языки самим наркомом. Многие ноты, заявления, радиограммы он собственноручно писал по-русски, по-немецки, по-английски, по-французски, сразу же набело, без поправок, так как на исправления не оставалось времени. Если можно оживить сухие канцелярские документы, вдохнуть в них человеческие чувства, то это удавалось ему больше, чем кому-либо. В них душа страстного борца, и не надо обладать богатой фантазией, чтобы по ним представить картину непрерывных сражений советской дипломатии.
Трудно было не только из-за сложности условий, объема дел при нехватке кадров, но и из-за неустроенности быта.
В «Метрополь», куда НКИД окончательно перебрался в июле 1918 года, переехал по настоянию Ленина из какой-то захудалой гостиницы и сам нарком. Здесь жил и работал дружный и сплоченный коллектив, здесь даже не могли представить, что такое субординация, все были равны, и степень уважения зависела не от чина и занимаемого поста, а только от опыта и знаний. Молодые люди руководили отделами, и никто не считал зазорным советоваться с ними.
Лучшим другом наркома был его тридцатилетний заместитель Лев Михайлович Карахан. С ним Чичерин познакомился во время брестских переговоров, с ним создавал НКИД. За плечами Карахана были и тюрьма и ссылка, он работал в подпольных типографиях, вел революционные кружки, принимал активное участие в Октябрьской революции.
Эти два человека, по свидетельству современников, «были прямо-таки влюблены друг в друга». В «Метрополе» их квартиры находились дверь в дверь. В редкие свободные минуты Чичерин любил бывать в семье Карахана. Приходил, зачастую поднимая Льва Михайловича с постели, сидели за самоваром и беседовали порою далеко за полночь. Иногда нарком шел в соседнюю комнату, где стоял рояль, и играл, но такие минуты выпадали очень редко.
Пили чай без пайкового сахара, порой без хлеба. Даже когда он был, Чичерин не решался брать его. «Намажешь наркому бутерброд — съест, не намажешь — пьет так», — вспоминает жена Карахана.
Питались вообще очень плохо. В «Метрополе» выдавались скудные пайки. Хлеба от четверти фунта до фунта, иногда селедку или воблу, еще реже сахар. Голод усугублялся холодом, из-за дровяного кризиса «Метрополь» почти не отапливался.
Чичерин не позволял себе выделяться из общей массы, он вел очень аскетический образ жизни: получал совнаркомовский паек, но один стеснялся пользоваться им и делил его с семьей старого питерского рабочего Баумана, которая приехала в Москву вместе с НКИД и жила в одной из комнат «Метрополя»; зарплату получал немного больше зарплаты заведующего отделом — 800 рублей в месяц (фунт хлеба на Сухаревском рынке стоил 175 рублей). Но из этой суммы часть уделял семье брата.
С любой оказией Георгий Васильевич пытался отправить брату в Козлов хоть немного продуктов — самое ценное, что было в то время. Но мешала житейская непрактичность. Однажды Георгий Васильевич пригласил к себе давнего друга семьи Румбовицкого, который служил в Государственном банке, и сказал:
— Никола с семьей очень бедствует. Я не знаю, как помочь ему. Вот я получил в пайке около пуда пшена. Нельзя ли как-нибудь перевести его в Козлов через Государственный банк?
Румбовицкий был поражен таким удивительным проектом: переводить через банк пшено из одного города в другой?
Впрочем, такие рассказы о Георгии Васильевиче были не совсем точными. Он довольно практично решал дела, касавшиеся коллектива. В марте 1919 года по его инициативе при НКИД была открыта столовая, которая проработала до 1 июля 1919 года, когда появилась некоторая возможность улучшить снабжение. И хотя меню этой столовой было скупо и однообразно — чаще всего чечевица и котлеты из картофельных очисток, — многих она основательно поддерживала. По его же инициативе был открыт коммунистический клуб имени Маркина, создано общежитие «Кремль». Все это хоть в какой-то мере облегчало участь советских дипломатов.
О себе Чичерин никогда особенно не думал, а в условиях тягот первых лет Советской России тем более.
— Лев Михайлович, — часто обращался он к своему заместителю, — попросите для меня машину, нужно ехать, а не на чем.
Даже много лет спустя после создания НКИД он отмечал: «Когда мне приходится ездить в какое-либо учреждение, я принужден просить это учреждение прислать мне автомобиль, потому что у меня самого нет. Все наркомы имеют автомобиль, кроме меня». Но говорил об этом вскользь, так, между прочим.
Полуголодное существование, тяжесть огромной ответственности, напряженный труд подтачивали здоровье. Чичерин не выдержал и слег. Ленин, узнав о болезни наркома, вызвал к себе заведующую совнаркомовской столовой Воронцову и поручил немедленно обеспечить больного питанием. Это было спасением для Георгия Васильевича, поскольку единственный источник снабжения — продовольственная комиссия НКИД — давно ничего не имела.
Сохранилось письмо В. И. Ленина Е. Д. Стасовой:
«Чичерин болен, ухода за ним нет, лечиться не хочет, убивает себя.
Необходимо от ЦК написать ему
В октябре 1919 года у НКИД, который все еще находился в «Метрополе», отобрали несколько комнат для нужд другого учреждения и потеснили сотрудников. Чичерин без колебаний приказал перенести вещи из своего номера в кабинет, а освободившееся помещение отдал нуждающимся. С этого времени рабочий кабинет служил ему также и квартирой.
Чичерин не мыслил себя вне единственной, всепоглощающей работы, он полностью растворился в ней ради идеи революции. Это не был аскетизм в примитивном смысле этого слова. Просто иначе для него было нельзя.
Племянник наркома А. В. Чичерин об этом времени вспоминает: «Его быт того времени столь же героически анекдотичен, как и тот быт, который был превосходно описан в мемуарах Майского. Я отправился сначала разыскивать Георгия Васильевича в гостиницу, где он жил. Какая-то очень захудалая гостиница! Там в полутемном коридоре уборщица мне сказала, что Чичерин приходит сюда только к утру, чтобы поспать. Здесь у него никого никогда не бывает, и видеть его можно только в наркомате. Так я и не видел этого его жилища. Но создалось впечатление, что номер должен был быть более чем скромный.
В наркомате очень редких родственников и знакомых он принимал по принципу «живой очереди» вперемежку с другими посетителями, даже если это были малозначительные иностранцы. Во всяком случае, я сидел как-то в приемной с какими-то восточными деятелями в пестрых халатах. Но, когда доберешься до кабинета, Георгий Васильевич никогда не имел вида торопящегося и чрезмерно занятого человека. Напротив, он беседовал неторопливо и любезно… Через кабинет был повешен красный плакат, который приглашал Чичерина покруче вести себя с западными буржуями. Комната была просторная и обставленная не хуже, чем у А. В. Луначарского в Наркомпросе, но не имела вида служебного «учрежденческого» кабинета, а совершенно жилой вид и облик домашнего ученого кабинета. Даже корочки черного хлеба. Здесь работал, здесь и закусывал».
А работы все прибавлялось.
Осенью 1918 года наметились изменения в отношениях между Советской Россией и Германией. Поступавшие сведения говорили о непрерывном распаде немецкой военной машины, о скорой победе стран Антанты, о назревавшей революционной ситуации в Германии.
2 октября 1918 года Свердлов и Троцкий получили письмо от Ленина (Владимир Ильич лечился под Москвой). Ленин предлагал созвать объединенное заседание ВЦИК и других советских и профсоюзных организаций и в связи с революционной ситуацией в Германии обсудить предложения об отказе от союзов с правительством Вильгельма, о помощи немецкому пролетариату, выступления которого Антанта неминуемо будет подавлять, об увеличении численности Красной Армии до трех миллионов.
Георгий Васильевич сначала растерялся, столь неожиданными были для него ленинские мысли. Когда его попросили изложить свою точку зрения, он высказал опасения: ленинская оценка событий в Германии напомнила ему позиции прежних антибрестцев.
3 октября состоялось объединенное заседание ВЦИК. Чичерин с большим вниманием слушал ленинский анализ текущего момента.
«…пролетариат России не только со вниманием и восторгом следит за событиями. Он ставит вопрос о том, чтобы напрячь все силы для помощи немецким рабочим, которым предстоят самые тяжелые испытания, самые тяжкие переходы от рабства к свободе, самая упорная борьба и со своим и с английским империализмом. Поражение германского империализма будет означать на известное время и рост наглости, зверства, реакционности и завоевательных попыток со стороны англо-французского империализма…
Российский пролетариат поймет, что теперь от него потребуются вскоре величайшие жертвы на пользу интернационализма»[20].
А спустя месяц в Австрии началась революция. В Москве шли демонстрации солидарности. Придя в здание Московского Совета, Чичерин, стоя у окна, смотрел, как стекаются на площадь перед зданием москвичи. Ветер доносил в распахнутое окно многоголосый шум улицы. Гул нарастал, и наконец отдельные голоса слились в единый мощный крик восторга: от Кремля в автомашине ехал Ленин.
Чичерин в последние дни почти ежедневно беседовал с Владимиром Ильичем. После этих бесед туманные дали становились яснее, понимание сегодняшних дел, их влияния на будущее — глубже и шире.
Силы Германии были на исходе. После краха Германии Антанта наверняка двинет свои полчища против России. Равновесие, которое существовало между враждующими коалициями, будет нарушено, возникнет угроза утраты мирной передышки, рассчитывать можно будет только на собственные силы.
1 ноября поступили сведения о том, что в Черное море вошла антантовская эскадра, а немцы ничего не предпринимают, как бы подталкивая тем самым Антанту к активным действиям. Георгий Васильевич после обсуждения вопроса в Совнаркоме сообщил Иоффе, чтобы он немедленно вступил в контакт с берлинскими властями и сделал представление об уклонении от выполнения обязательств по Брестскому договору. «С какой стати мы будем им давать деньги, если они, со своей стороны, перестали соблюдать договор и открыто перешли на сторону тех, кто фактически ведет против нас наступательную войну», — разъяснял он полпреду.
3 ноября Чичерин принял консулов нейтральных стран и попросил их передать правительствам Англии, Франции, Италии, Японии и Северо-Американских Соединенных Штатов предложение начать переговоры для мирного решения возникших конфликтов. Консулы обещали выполнить просьбу. Но ответа не поступило. Сбывались худшие предположения.
У Антанты были свои планы. Бывший американский посол Френсис в докладе президенту Вильсону предложил план «обуздания» русских большевиков. Смысл плана был прост. Френсис возвращается в Петроград в сопровождении 50 тысяч американских солдат, которые должны занять здание американского посольства и нести его охрану; одновременно с ними должны возвратиться также французский и английский послы в сопровождении солдат, количеством 50 тысяч каждый; итальянский посол должен привезти с собой 20 тысяч солдат. Это на первом этапе.
На втором этапе Френсис как старшина дипломатического корпуса собирался объявить русскому народу, что «союзная», теперь уже почти 200-тысячная армия прибыла в Россию только для охраны посольств и для того, чтобы предоставить русскому народу «возможность» провести «свободные выборы в Учредительное собрание».
Фантастический план Френсиса заинтересовал Вильсона. Президент счел его вполне реальным и снесся с Ллойд Джорджем и Клемансо. Однако Лондон и Париж отнеслись к неуместным прожектам президента довольно скептически.
Ллойд Джордж ответил: «Если бы я приказал британским солдатам отправиться в Россию, они не только были бы против этого, но и отказались бы идти».
Еще более откровенно заявил Клемансо: «Приказать французским солдатам отправиться в Россию — значит вызвать бунт».
Между тем в Германии началось брожение масс. По вечерам, собравшись у наркома, его ближайшие помощники подробно обсуждали складывающуюся ситуацию. Все с нетерпением ожидали революционного взрыва. Тогда сами собой решились бы многочисленные проблемы и, главное, кончилось бы для Советской России одиночество. Советская Россия в союзе с революционной Германией в центре Европы представлялась гигантской силой мирового пролетариата, которая должна в короткие сроки обеспечить построение социализма во всеевропейском масштабе. Радовала мысль, что дни Брестского договора сочтены.
Чичерин теперь уже видел день, когда нынешнее грабительское правительство кайзера будет сметено и над Германией взовьется алое знамя. Как нужна информация, глубокая и своевременная! Сложилась своеобразная обстановка — в Европе развивались острейшие революционные события, и в то же время Советская Россия никогда не была в столь опасном положении, как в ноябре 1918 года.
Каждое сообщение из Берлина нарком изучал с небывалой жадностью. Иногда, не сдержав нетерпения, он спешил к телеграфистам и там прочитывал ползущую из аппарата телеграфную ленту. Но вот произошло непредвиденное событие.
В ночь на 5 ноября 1918 года Чичерин, как обычно, забежал к телеграфистам. Привычно взялся за ленту и оторопел от неожиданности: 4 ноября на вокзале Фридрих-штрассе полицией был захвачен дипломатический багаж, предназначенный для Берлина, Вены, Швейцарии и Швеции, а следовавшие с ним советские дипкурьеры задержаны. Полиция распространила версию, будто из одного ящика, который «случайно сам рассыпался» при переноске, выпали листовки на немецком языке с призывом к убийствам.
Так началась очередная антисоветская провокация.
Невзирая на решительные протесты советского полпреда, 5 ноября статс-секретарь германского МИД Зольф сообщил, что германское правительство разрывает дипломатические отношения с Советской Россией, а на следующий день в пять часов утра полиция арестовала всех сотрудников полпредства, под конвоем, без вещей доставила на вокзал, погрузила в вагоны и отправила в Россию.
Позже лидер социал-демократов Ф. Шейдеман в своих мемуарах признался, что провокацию с листовками придумал и предложил канцлеру Максу Баденскому он, Шейдеман. Да и сам канцлер признался, что «ящик раскололся согласно плану».
Провокация против советского представительства в Берлине послужила сигналом: была выслана советская миссия во главе с Берзиным из Берна, а через месяц шведское правительство отозвало из Москвы свое посольство и предложило Воровскому выехать из Швеции. Перед советской дипломатией наглухо закрывались двери во внешний мир. Провозглашалась политика внешнеполитической и экономической блокады молодого социалистического государства. Империализм рассчитывал этим ударом ослабить Советское государство и оградить себя от социалистических идей. Но было поздно.
7 ноября, в день первой годовщины Октябрьской революции, Чичерин, выступая перед сотрудниками НКИД, говорил:
— Революция в Германии не за горами, скоро мы будем приветствовать социалистическую Германию. Товарищи, мы присутствуем при рождении мировой революции. Социализм победит!
Так было 7 ноября, а утром 10 ноября в кабинет наркома вбежал взволнованный телеграфист и положил листок бумаги с торопливо набросанными строчками:
«Привет свободы и мира.
Всем.
Берлин и окрестности находятся
в руках Совета рабочих и солдат.
Немедленно возвратите Иоффе и его штаб.
Новость мгновенно облетела весь НКИД: в Германии революция, монархия свергнута, германский пролетариат берет власть в свои руки!
Немедленно текст телеграммы нарком передал Иоффе, который с сотрудниками полпредства находился где-то за демаркационной линией. Чичерин телеграфирует в Минск германскому верховному командованию, что русское правительство намерено восстановить дипломатические отношения с Германией и просит возвратить миссию Иоффе в Берлин.
Все с нетерпением ожидают дальнейших событий. А Берлин молчит. Лишь перехватывая французское и английское радио, можно было что-то узнать, да и то нечто путаное.
Чичерин предпринимает попытку связаться с Берлином по радио. В радиограмме депутату ландтага Гофману передается: «Русское революционное Советское правительство с величайшей радостью приветствует последние события в Берлине, которые означают огромный шаг вперед, на котором, однако, движение не может и не должно остановиться».
Чичерин прекрасно знает германское социал-демократическое движение. Судьба начавшейся в Германии революции сейчас зависит от того, какое течение возьмет верх. Если Карл Либкнехт и его сторонники поведут за собою массы — ноябрьская революция завершится торжеством марксистских идей. Ну а если верх одержит любое другое течение?
Наконец-то Берлинский рабоче-солдатский совет извещает о восстановлении дипломатических отношений Германии с Советской Россией. Чичерин по указанию ЦК сообщает, что русский пролетариат, несмотря на исключительно тяжелое положение с продовольствием, посылает в подарок своим немецким братьям два эшелона с хлебом.
11 ноября в Москве произошло примечательное событие: германские военнопленные создали революционный совет рабочих и солдат, проникли в здание германского генерального консульства, арестовали консула и других чиновников, а затем провозгласили Московский революционный совет германских рабочих и солдат в качестве законного представителя интересов Германского государства. Это был, пожалуй, первый в истории случай, когда дипломатическое представительство было преобразовано революционным путем. Совет германских рабочих и солдат обратился к Советскому правительству с просьбой признать его в качестве представительства революционной Германии в России.
Получив эти известия, Чичерин поторопился в здание германского генерального консульства. Здесь его радушно приняли новые хозяева. К сожалению, они ничем не могли помочь: они сами пока безуспешно пытались связаться с Берлином.
В течение нескольких часов телеграфист переругивался с Ковенским советом. Наконец какой-то ефрейтор то ли по доброй воле, то ли по недоразумению соединил Москву с Берлином…
— «У аппарата Оскар Кон», — читает Чичерин телеграфную ленту.
Это тот самый Оскар Кон, с которым он познакомился в Берлине еще в 1904 году и который защищал его на процессе, устроенном берлинской охранкой. Кон работает ныне в германском МИД.
— «У аппарата Чичерин», — диктует в ответ по-немецки Георгий Васильевич и просит охарактеризовать нынешнее положение, сообщить состав правительства и отношение независимых и группы «Спартака» к этому правительству.
Оскар Кон со всей обстоятельностью сообщает, что кабинет нового социал-демократического правительства состоит из шести человек, которые осуществляют свою деятельность как народные уполномоченные и имеют равные права.
— 9 ноября независимая партия предложила создать правительство на три дня и только для подписания перемирия, — передает он. — Это правительство должно подчиняться рабоче-солдатским советам, которые осуществляют всю законодательную, исполнительную и правовую власть. Либкнехт был готов войти в такое правительство, однако он отклонил участие в нынешнем правительстве, когда партия Шейдемана отклонила названное предложение. Очевидно, часть спартаковской группы или спартаковских групп станет в оппозицию нынешнему правительству. В субботу спартаковцы заняли здание «Локаль-анцейгера» и издают его теперь как «Роте фане»…
Больше часа Оскар Кон описывал положение в Германии. В заключение он обещал добиться от правительства распоряжения разговаривать с Москвой ежедневно.
Георгий Васильевич попросил телеграфиста передать наилучшие пожелания Кону, его супруге и сыновьям, которых помнит еще маленькими детьми.
Первый разговор советской столицы с революционным Берлином закончен. Чичерин осторожно смотал непрочную телеграфную ленту и поспешил в наркомат.
События в Германии вызвали у всех в НКИД приподнятое настроение. Чичерин стал чаще отлучаться в Кремль, где вместе с Лениным тщательно обсуждал предстоящие дипломатические акции, имеющие теперь особо важную значимость и вес.
Все усилия должны направляться на слияние борьбы Советской России с борьбой советской Германии. Лозунгом дня становится союз всех советских республик, создание ими красных гвардий для совместной защиты, разоружения и ликвидации всех контрреволюционных отрядов и белогвардейских движений.
Германский фронт разваливался. Немецкие солдаты эшелонами отправлялись домой. Кайзеровская армия, несмотря на соглашательскую линию социал-предателей, вошедших в состав солдатских советов, доживала последние дни.
13 ноября 1918 года свершилось долгожданное событие — Всероссийский ЦИК торжественно заявил, что Брестский договор лишен силы и значения. Брестский мир насилия и грабежа пал под соединенными ударами немецких и русских пролетариев-революционеров. На место империалистического мира должен прийти социалистический мир. Нарком полон новых идей и прежде всего намерен добиться отмены решения бывшего гогенцоллернского правительства о разрыве дипломатических отношений с Россией.
В НКИД обсуждаются детальные планы эвакуации немецких войск с оккупационных территорий, намечаются задания для Иоффе после его возвращения в Германию. Чичерин пытается установить непосредственную связь с Карлом Либкнехтом, от которого можно было бы получить точную оценку момента. Но вызвать Либкнехта к прямому проводу не удается.
Московский революционный совет германских рабочих и солдат проявлял готовность помочь советским товарищам. Члены совета передали наркому пакет с документами, извлеченными из сейфа германского посольства. Документы свидетельствовали о том, что германские официальные представители в Москве пытались спасать русских контрреволюционеров, снабжая их фальшивыми паспортами. Они же переправляли в Германию имущество русских капиталистов.
15 ноября Чичерину удалось связаться с членом правительства Гаазе. Нарком известил его, что враги разработали план похода Антанты через Украину на Советскую Россию, что эти действия будут направлены также и против Германии. Вот почему необходимо, чтобы германские войска на Украине не препятствовали действиям советских войск. Пусть это имеет в виду Эберт.
Гаазе отвечал очень уклончиво, похоже, что он не хотел налаживать лояльных отношений с Советским правительством.
Чтобы добиться пропуска сотрудников советского полпредства в Берлин, Чичерин связался с Ковенским солдатским советом и тоже получил отказ.
— Солдатские советы победили повсюду, но они также повсюду настроены антибольшевистски. Вопрос о том, может ли ваше представительство ехать в Берлин, решает германское правительство, которому мы беспрекословно подчиняемся. Наше правило — порядок и исполнение долга. Мы не терпим хаоса.
И все же НКИД в своих нотах терпеливо добивался урегулирования с Берлином множества нерешенных дел. А Берлин не только не проявлял благожелательности, но нагромождал недоразумения и вообще был враждебен.
17 ноября состоялась еще одна бесплодная беседа с Гаазе, после чего связь с Берлином окончательно прервалась. Было ясно, что независимые плелись в хвосте у контрреволюционных социал-предателей, ожидать от такого псевдореволюционного правительства было нечего, и все надежды на совместные действия, рожденные первыми днями ноябрьской революции в Германии, оказались напрасными.
Подводя итоги попыткам установить отношения с Германией, Чичерин писал: «Со стороны Антанты после разгрома Германии надвигалась на нас грозная опасность. На нас в буквальном смысле слова шел мировой империализм. «Революционная» Германия должна была при этом сослужить мировой контрреволюции необходимую услугу. Германские войска должны были передать юг и запад бывшей Российской империи войскам антантовского империализма. Этот план рухнул по воле самих германских войск, которые поспешно эвакуировались на родину, совершенно не считаясь с хитроумными планами Каутского, пособника антантовского империализма и мировой контрреволюции».
Вдруг через несколько дней председатель Ковенского солдатского совета, выполняя указания Берлина, вызвал Чичерина и повел с ним разговор в явно примирительном тоне. Видно, что немцы начали ощущать чувствительные удары партизан в оккупированных областях. Это был новый фактор, его следовало использовать во внешнеполитической тактике. Чичерин начал пристальнее следить за ходом вооруженной борьбы в западных областях Советской России. При этом он проявлял недюжинные стратегические способности, подсказывал те или иные выгоднее операции, которые хорошо увязывались с внешнеполитическими действиями.
Нарком непосредственно принимал участие в разработке операции по захвату советскими войсками Гомеля. В разговоре с Минском 12 декабря он подсказал местным товарищам, при каких условиях можно пропустить немецкие войска, советовал быть осторожными, не позволять шейдемановцам втянуть себя в конфликт и согласовывать свои действия с настроениями рабочих и особенно железнодорожников, жаждущих отделаться от оккупантов.
Одновременно НКИД не оставляет без внимания все случаи грабежей и попыток отступающих немецких частей вывезти материальные ценности в Германию.
Чичерин обращается к германскому правительству и непосредственно к исполкому совета рабочих и солдат в Берлине с нотами протеста против ограбления советских районов под ложным прикрытием «права» на военную добычу и разоблачает контрреволюционное поведение германского правительства.
Факты показывают, что, сталкиваясь с русской революционной действительностью, иностранные солдаты начинают проникаться идеями социализма.
— Необходимо, — учил нарком сотрудников НКИД, — учитывать складывающуюся обстановку и за каждым местным явлением видеть общую картину развития. Важно помогать массам понять события и для этого развивать социалистическую пропаганду, всемерно способствовать распространению правды о Советской России.
Этого очень боялась верхушка германской социал-демократии, чье предательство вскоре проявилось самым отвратительным образом.
В начале января 1919 года в Берлине Носке жестоко подавил выступление революционных рабочих.
Попутно было разгромлено также берлинское отделение РОСТА и бюро по делам военнопленных. 10 января белогвардейцы Носке ворвались в здание бывшего русского представительства, вскрыли шкафы и столы, перерыли все бумаги.
Известие о зверском убийстве Карла Либкнехта и Розы Люксембург потрясло Чичерина: убит его друг, один из первых учителей марксизма.
Гибнет революция в Германии. Не дремлет контрреволюция и в России. Генерал Юденич переехал в Гельсингфорс и попытался предпринять оттуда новый поход. Перед НКИД встают новые задачи.
В середине января 1919 года Советскому правительству стало известно, что Ллойд Джордж в «Совете десяти» признался, что интервенция против Советской России таит большую опасность для империалистов, что поддержка Деникина и Колчака оказалась бесполезной. Посему решено пригласить русских представителей на конференцию, чтобы договориться с ними.
Заявление Ллойд Джорджа о переговорах с большевиками подхватила западная печать.
Не воспользоваться этим было нельзя. Ленин требовал от НКИД неустанно действовать в пользу переговоров, не боясь вызвать у противника впечатление слабости.
Не дожидаясь приглашения Антанты, НКИД разработал собственные предложения, в которых доминировала мысль об «апелляции к экономической выгоде самой Антанты».
22 января Антанта и САСШ обратились ко всем воюющим в России группам с предложением «прислать своих представителей, не больше трех от каждой группы, для предварительных переговоров на Принцевы острова в Мраморном море». Логично было предположить, что вслед за этим последует официальное приглашение, но его не было.
28 января Чичерин радировал об этом Вильсону.
Истинная причина приглашения Советского правительства на Принцевы острова была вскрыта Лениным: «Вильсон предлагает перемирие и вызывает на совещание все правительства России. Боюсь, что он хочет закрепить за собой Сибирь и часть Юга, не надеясь иначе удержать почти ничего»[21]. Так оно и оказалось, антантовцы предали забвению свои обращения. История с приглашением на Принцевы острова оказалась мошенническим трюком. В течение всего 1919 года буржуазная дипломатия не раз демонстрировала лживость и страсть к надувательству. Как только положение белогвардейцев ухудшалось, Антанта проявляла призрачную склонность к мирным переговорам. Стоило ее положению улучшиться, как дипломаты прятались в тень.
Но советская дипломатия упорно добивалась мира. Блестящим примером ленинской тактики явилось обращение 4 февраля к странам Антанты с нотой, в которой признавались финансовые обязательства по отношению к своим кредиторам, готовность платить проценты по займам России и предлагалась система концессий. Ослепленные классовой ненавистью, буржуазные правительства игнорировали отнюдь не к своей пользе эту ноту. Другой раз, говорил Ленин, они от нас таких выгодных условий уже не получат.
Вскоре после срыва конференции на Принцевых островах в Москву выехал представитель американского президента Буллит.
Накануне своего отъезда в Россию он встретился с личным секретарем английского премьера Ллойд Джорджа. С ним обсудил и уточнил все свои предложения, и таким образом была разработана совместная англо-американская акция.
8 марта из Гельсингфорса по телеграфу Буллит запросил у Ленина разрешение на въезд в Россию. Согласие было дано, и навстречу ему выехал Чичерин. Нарком был вооружен конкретной программой Советского правительства. Советская Россия предлагала мир с капиталистами и не стояла за ценой.
При встрече Буллит изложил предложения американского правительства об условиях мирных переговоров. Чичерин подробно расспрашивал его о позиции стран Антанты, высказал особую озабоченность тем, что Франция поддерживает белогвардейцев, раздувая пожар гражданской войны. Нарком не скрывал заинтересованности Советского правительства в мирной передышке, но хотя американец и импонировал ему, он не спешил выложить ему советские условия.
Беседа затянулась за полночь. О мирной конференции говорили так, будто все было решено. Буллит говорил уже о деталях, сообщил, например, будто для поездки русских дипломатов на конференцию предоставлен специальный пароход, который будет их ждать у Аландских островов.
11 и 12 марта переговоры были продолжены в Москве. Положительное значение их было неоспоримо, и Советское правительство приняло американское предложение.
12 марта мирные советско-американские условия были разработаны во всех подробностях на основе предложений Вильсона.
Буллит увозил из Москвы впечатление, что коммунистическая революция победила окончательно и бесповоротно, что в России повсюду господствуют Советы и, кроме большевиков, в ней нет никакой другой организационной политической силы, которая была бы способна удержать власть.
Буллит уехал в Париж, и словно в ответ на его визит тотчас же началось наступление Колчака, в войсках которого было много иностранных военных советников. Вскоре в наступление перешла и армия Деникина. Миссия Буллита провалилась.
Страны Антанты не захотели пойти на мир. Они все еще надеялись на грубую силу, и кто знает, не укрепила ли поездка Буллита в Москву надежды сторонников интервенции на военный разгром большевиков.
Колчак и Деникин добились некоторых успехов. Вильсон, игнорируя миссию своего эмиссара, запретил публиковать проект соглашения, привезенный из Москвы. Ллойд Джордж публично заявил, что он-де вообще не имеет никакого отношения к миссии Буллита. Сам Буллит вышел из состава американской делегации на Версальских переговорах и публично осудил американское правительство.
Накопленная к этому времени в НКИД по указанию Чичерина информация говорила, что под давлением растущего революционного движения в странах Антанты их правители вынуждены были заговорить о мире. Конечно, они не упускали случая вредить Советской России всеми средствами. Они попытались известного полярного исследователя Нансена использовать в своих неблаговидных целях. Суть дела такова.
4 мая по радио было получено письмо Нансена Ленину. Знаменитый исследователь Арктики предлагал организовать международную комиссию по оказанию помощи России продовольствием и медикаментами, но эта помощь связывалась с требованием о прекращении борьбы против белогвардейцев.
6 мая Чичерин получил записку Ленина по поводу этой «новой» инициативы Антанты. Владимир Ильич предлагал поблагодарить Нансена за его гуманное предложение, но одновременно порекомендовать «не впутываться в политику». Антанта воспользовалась стремлением исследователя помочь народу России, а в результате получилось лицемерие, в котором не Нансен был виноват и не его обвиняло Советское правительство.
Ленин предлагал Чичерину разоблачить махинации Антанты. Сама записка Ленина представляла собой как бы конспект ноты, в которой следовало подчеркнуть, что Советское правительство всегда выступало за мир, оно соглашалось даже на Принцевы острова, оно приняло условия Буллита.
«Мы соглашались на перемирие
«Далее, — читал Чичерин ленинское указание, — ежели перемирие
Ответ и был послан Нансену от имени Чичерина 7 мая.
Тем временем с трибуны Версальской конференции лились потоки лицемерных слов о мире. И с той же трибуны обрушивались потоки клеветы на Советскую Россию: она-де поддерживает мир в состоянии военного конфликта, она-де развязывает агрессию.
«Советская Россия, несомненно, будет скоро стучаться в дверь, чтобы получить доступ в Лигу наций!» — патетически восклицал Вильсон.
«Да, она стучится, — отвечал Чичерин в статье «Четыре конгресса», — но не для того, чтобы попасть в общество откровенно обнаруживших свою хищническую природу грабителей. Она стучится — стучится мировая рабочая революция. Она стучится, как в пьесе Метерлинка незваная гостья, незримое приближение которой сковывает сердца леденящим ужасом, шаги которой уже поднимаются по лестнице, сопровождаемые лязгом косы, — она стучится, она уже входит, она уже садится у стола оторопевшей семьи, она — незваная гостья, она — незримая смерть».
В Европе нарастали революционные события. Почти во всех странах мира развернулась широкая кампания пролетариата в поддержку Советской России.
Под руководством Бела Куна победили венгерские коммунисты, а в ночь с 4 на 5 апреля увенчалась успехом борьба баварских трудящихся. Чичерин устанавливает и поддерживает с Будапештом и Мюнхеном прямую связь.
Летом 1919 года Красная Армия одержала ряд значительных побед. Возникла возможность заключения мирных договоров с Прибалтийскими странами. Необходимость этого Чичерин давно видел. Мира с окраинными государствами нужно искать, и искать неустанно, ибо это лишало бы белогвардейских генералов баз для своих армий. НКИД начал готовить договоры, включая в них статьи, запрещающие поддержку и помощь белогвардейским частям. Идея мирных переговоров вначале некоторым военачальникам показалась неуместной, ведь Красная Армия одерживала успехи на Западном фронте. Чичерин настаивал. Он считал, что было бы ошибкой не воспользоваться благоприятными условиями, чтобы обеспечить себе мир.
В сентябре эстонское правительство откликнулось на призыв к мирным переговорам. Переговоры начались, но через день, очевидно после окрика Антанты, эстонские представители свернули переговоры и покинули Псков.
А через некоторое время началось наступление армии Юденича. Он был разбит, и Красная Армия вышла на границу с Эстонией. Троцкий под предлогом того, что эстонские части принимали участие в походе на Петроград, выступил за перенесение военных действий на эстонскую территорию. 22 октября Чичерин в категорической форме потребовал отклонить предложение Троцкого, сделать все, чтобы избежать войны с Эстонией. «Это резко изменило бы настроение во всех маленьких государствах, — писал он Ленину, — с которыми мы ведем или собираемся вести переговоры, и сорвало бы эти соглашения, так как везде воскресло бы представление о нашем якобы «империализме». Мирные переговоры сыграли громадную роль, убедив эстонское крестьянство и мещанство, что мы не хотим их завоевать… Эстонская военная партия была бы рада, если бы мы дали ей повод опять раздуть патриотический военный пыл крестьянства и мещанства против нас. Мы не должны лезть в эту западню».
Ленин в тот же день написал Троцкому: «По-моему, Чичерин прав. Проверено ли, что эстонцы воюют? Нет ли тут обмана? Или не идут ли с Юденичем эстонцы
Надо десять раз обдумать, десять раз примерить, ибо масса данных указывает на желание мира эстонским
Точка зрения Чичерина возобладала.
5 декабря 1919 года переговоры с Эстонией возобновились. Впервые советские дипломаты на равноправных условиях сели с представителями буржуазной страны за стол переговоров, которые даже отдаленно не напоминали брестский диктат. Они послужили хорошим примером для последующих мирных переговоров с другими странами.
— Мирный договор с Эстонией, — разъяснял Чичерин, выступая на пленарном заседании ВЦИК 4 февраля 1920 года, — является результатом продолжительной дипломатической работы, сложной борьбы и имеет целую историю. Уже летом, когда выяснилось, что мы недостаточно сильны для того, чтобы одновременно бороться против наступающих Деникина и Колчака и одновременно помешать Антанте создать ряд буржуазных республик на нашем Западном фронте, уже тогда нам стала ясна необходимость прийти к мирному соглашению с этими республиками.
А ведь даже двадцать дней назад никто не мог поручиться за успех этого договора.
31 декабря в Юрьеве было заключено перемирие и парафированы соглашения о независимости Эстонии, о границах и военных гарантиях. Главным были военные гарантии. На их выработку было потрачено много времени. Границы были проведены несколько восточнее прежней Эстляндской губернии.
Соглашение далось нелегко. В самый момент подписания, когда собрались все члены делегаций и просматривался в последний раз текст соглашения, вдруг сильно забеспокоился генерал Соотс, представитель главного командования, претендент на роль эстонского Фоша и Людендорфа. Для беспокойства генерала поистине была «основательная» причина: советская делегация показала ему карту, на которой была красным карандашом нанесена обусловленная русско-эстонская граница. К несчастью, карандаш был толстый, и линия границы вышла чересчур жирной, захватила несколько сот сажен, которые должны были лежать по ту сторону границы. И генерал Соотс горячо запротестовал против аннексионистских планов русского карандаша: «Мы, знаете ли, государство маленькое, бедное, нас всякий карандаш может обидеть».
Понадобились настойчивые убеждения, чтобы бдительный генерал поверил — линия границы будет определена на местности в полном соответствии с достигнутым соглашением.
Да что Соотс! Несмотря на свой генеральский чин, он ничего не определял. То, что предлагалось в Юрьеве, самым тщательным образом взвешивалось далеко на Западе — на Темзе и Сене. И если Ллойд Джордж был склонен к компромиссу, то Клемансо грозил предать анафеме всякого, кто признает возможным соглашение с Советской Россией, угрожал анафемой Эстонии, если она пойдет на соглашение с русскими.
— И вот между этими двумя мировыми контрастами находилась буржуазия маленькой Эстонии. Она выбрала очень простой путь: везде во всем с Англией… — констатирует нарком.
16 января 1920 года верховный совет Антанты вопреки требованию Франции принял решение о снятии с Советской России экономической блокады. Нужно ли говорить, что это была долгожданная победа советской дипломатии?
— Наш договор с Эстонией превратился в генеральную репетицию соглашения с Антантой, превратился в первый опыт прорыва блокады и в первый эксперимент мирного сожительства с буржуазными государствами, — подвел итог напряженного труда советских дипломатов Георгий Васильевич.
Эстонцы первыми поздравили наркома с этим выдающимся событием. Для них самих отмена блокады явилась огромным облегчением. В течение нескольких месяцев они метались из одной крайности в другую с единственным желанием — понять наконец, что же от них хотят Лондон и Париж. А затем в течение всего лишь двух недель были разрешены все вопросы, казавшиеся до этого неразрешимыми.
Наркому иностранных дел было поручено доложить ВЦИК о содержании подписанных договоров. Нарком говорил:
— Перед нами сейчас стоят величайшие, всемирно-исторические задачи. Перед всем миром стоит задача экономического восстановления после той разрухи, в которой находится мир, и победа будет за тем, кто сумеет вывести общество из разрухи. Когда Ллойд Джордж говорит, что большевизм можно победить хлебом, — это значит, что английские капиталисты надеются справиться с разрухой и требованиями рабочего класса. В этом мировом поединке победит тот, кто победит на строительной работе…
Вскоре состоялся обмен торговыми миссиями с Эстонией. Началась подготовка к нормализации отношений с другими Прибалтийскими странами, тоже на основе обмена миссиями Центросоюза или Красного Креста.
В марте 1920 года Чичерин провожал еще одну миссию — торговую миссию, которой руководил талантливый дипломат Леонид Борисович Красин.
— Мы не должны выступать в роли жалких просителей, — пояснял Чичерин. — Однажды русский министр иностранных дел Горчаков сказал: «Великая держава не нуждается в признании, она сама заявляет о своем существовании». В семнадцатом году мы заявили о своем существовании, год от года мы становимся все сильнее и сильнее, и недалек тот день, когда мы будем признаны. Сама история заставит империалистов сделать это.
В конце марта 1920 года в Москве открылся IX съезд РКП(б). Чичерин не участвовал в его работе, но он внимательно следил за ходом съезда: в условиях чрезвычайной оторванности советских представителей от Родины их своевременная информация о событиях в партии, в стране имела важное значение. Порой следовало не только информировать, но и убеждать в правильности решений партии, требовать неукоснительного выполнения этих решений.
Нарком сообщал Литвинову, находившемуся в то время в Копенгагене: «В нашей среде все умы поглощены вопросами о трудовой повинности, экономическом восстановлении собственными средствами, трудовой дисциплине, централизме или децентрализации, единоличном или коллегиальном управлении. Под этим знаком проходит начавшийся съезд партии. Я, к сожалению, не могу информировать вас о дебатах, играющих самую основную роль в переживаемый нами исторический момент, ибо я так поглощен миллионами деталей нашего комиссариата, что не имею возможности вырваться наружу. Вы знаете, как мало у нас сил и насколько наши силы по большей части неадекватны. Работа растет неимоверно, а между тем приходится по-прежнему следить за каждой мелочью, чтобы не делалась ерунда. Мой рабочий день достигает уже непрерывных 19 часов, причем мелочи и детали поглощают значительную часть времени. На съезде я до сих пор не был и не знаю, удастся ли мне там быть».
А мелочи очень досадные. Иоффе получил от него всего лишь краткую записку: «Я надеялся ночью написать Вам, но секретариат закапризничал, и я всю ночь разбирал бумаги по папкам. Комиссариат разрушен, я поглощен техникой, некогда заниматься политикой…» Как видно, Чичерин так и не смог изжить недостатка, который Ленин называл отсутствием «командирства». Конечно, он несколько шаржировал себя в письме Иоффе, политика была содержанием его повседневных дел и непрестанных раздумий.
За границей растет интерес к России, к ее хозяйственным планам, накапливаются сведения о том, что деловые круги не прочь заняться торговлей. Этим нельзя пренебрегать.
Ревель — наиболее удобное «окно в Европу» — привлекает самое пристальное внимание наркома. Через этот город можно получать самое необходимое. Ежедневно на имя Чичерина приходят десятки телеграмм, в которых излагаются все поступившие предложения иностранных фирм. С кем из них вести дела? Буржуазные торговые агенты предлагали все — от гвоздей и риса до новейших станков и паровозов. Нужно было быть осторожным, ибо платить приходилось золотом. На наркома иностранных дел дополнительно ложились внешнеторговые заботы.
Несмотря на обнадеживающее начало в развитии торговых отношений, имелись огромные трудности.
Советской дипломатии противостояла буржуазия Англии и Франции. «Англия, — писал Чичерин, — это мировая политика. Франция — это континентальная европейская политика. Англия — это сливки капиталистического общества, верхи капиталистического общества с самым широким кругозором и далекими перспективами. Франция — это банкир, нажившийся мелкий буржуа, заботящийся о своих прибылях и о своих сбережениях. Но, кроме того, политика Франции диктуется также вечным страхом перед возрождением Германии». Заставить Францию говорить с Советской Россией можно было, лишь учтя ее интересы в Европе. Можно заставить говорить и Англию, если будет нанесен удар по ее колониальной системе. Сближение с Германией и удар по английским интересам на Востоке — вот что определяет успех. К этому выводу пришел Чичерин, и он переключает внимание на Восток, сосредоточивая в своих руках все основные акции советской дипломатии в этом районе.
Еще в студенческие годы Георгий Васильевич «переболел» Востоком. Он отдал много времени изучению истории этого таинственного края. С годами рассеялись романтические иллюзии, накопились подлинные знания о восточных странах и народах. Жизнь заставила стать на почву сурового реализма.
Восточное национально-освободительное движение под влиянием Октября было на новом подъеме. Трудящиеся Востока надеялись на Страну Советов. В свою очередь, международная изоляция, как результат блокады западных границ России, усилила ее тяготение к восточным соседям. Было еще трудно завязать деловые взаимовыгодные отношения, мешало естественное недоверие, укоренившееся в результате грабительской политики царского правительства. Чувствовалась необходимость убедить общественность этих стран, что в лице Советской России они должны видеть не колонизатора, а друга, решительно порвавшего с политикой прошлого. Чичерин с присущей ему энергией приступил к разработке политических основ отношений с восточными соседями. В них закладывались ленинские принципы: невмешательство, равноправие, помощь, бескорыстие, взаимная выгода, сочувствие и поддержка в борьбе с общим врагом — империализмом.
Теперь посетителями НКИД все чаще становились различные деятели Востока. На прием к Чичерину приезжали восточные представители, а по дорогам Востока на конях, верблюдах и просто пешком двигались из Москвы первые советские дипломаты. Многие из них в те годы сложили свои головы в песках пустынь и на горных дорогах.
Полпреды Советской страны не носили фраков и лаковых ботинок. В бушлатах и гимнастерках, зачастую с винтовкой или с маузером, с мандатом, который не всегда предохранял от опасности, они прокладывали новые пути советской дипломатии, учились на ходу побеждать коварную английскую дипломатию. Учился и сам нарком, он учитывал все сложности отношений в этом районе, его увлекали поиски разгадок.
Восточный мир в глубочайшем брожении, здесь пульсируют могущественные силы, они толкают его на борьбу против Запада, но в то же время в нем есть много такого, что может настраивать его против Советской России. Можно ли увеличить первые и нейтрализовать вторые — точный, насколько это возможно во внешней политике, ответ на этот вопрос определит многое. Здесь нельзя мерить события привычными мерками и впадать в уныние, обнаружив, что во главе национально-освободительного движения стоит молодая национальная буржуазия.
Чичерин рекомендует занять сочувственную позицию по отношению к реформам местных властей. «На Востоке мы стоим на почве национально-освободительного движения», — подчеркивает он и, не допуская кривотолков, четко советует оказывать поддержку афганскому эмиру, проводящему прогрессивные преобразования.
Нарком считает не особенно важным, в какую форму выльются отношения со странами Востока, и не настаивает на немедленном установлении их в полном объеме. Важно идти в этом направлении.
Беседуя с отъезжающими миссиями, Чичерин говорил о равенстве отношений к странам Востока и Запада. Не может быть второстепенных отношений, так же как не может быть второсортных стран и народов, подчеркивал он. Величина территории, расовые, религиозные и иные особенности народов, их населяющих, не могут быть критерием в определении важности отношений. От сотрудников, направлявшихся в страны Востока, требуется уважение национальных традиций и местных обычаев. Дипломат — это всегда гость, который должен уважать гостеприимство хозяина. И это не было словесным пожеланием.
В отличие от империалистических правительств Москва раз и навсегда провозгласила принцип невмешательства во внутренние дела восточных государств и всемерной поддержки их стремлений к свободе и независимости. «Наша политика на Востоке нигде не является наступательной, а есть исключительно политика национального освобождения всех народов», — неоднократно подчеркивал Чичерин.
В феврале 1921 года пришло известие, что из Анкары выехала турецкая делегация для переговоров, который должны послужить началом договорного оформления и закрепления отношений Советской России не только с Турцией, но и другими странами Востока.
Но прежде чем эти переговоры начались, пришлось столкнуться с досадной историей: вагон турецкой делегации по недосмотру какой-то местной железнодорожной администрации был прицеплен к составу с хлебом. Состав подолгу застревал на полустанках, члены делегации нервничали, посылали в НКИД сердитые телеграммы, грозили повернуть обратно. Урегулирование возникших недоразумений стоило труда. Наконец турецкая делегация в Москве. Начались сложные переговоры.
Советская делегация, возглавляемая Чичериным, и делегация Великого национального собрания Турции во главе с Юсуфом Кемаль-беем заняли свои места за столом переговоров.
— Конференции, которую я имел честь открыть, — сказал советский нарком на первом заседании 26 февраля, — суждено создать эпоху в истории Востока и окончательно закрепить тесное и прочное единение между народами России и Турции, проникнутыми одинаковым решением защищать от всякого внешнего гнета и притеснений право располагать своей судьбой и регулировать вопрос своего политического и социального строя…
Чичерин подчеркнул огромное значение революции в России и революции в Турции. Но одновременно он пояснил, что Октябрьская революция в России положила начало международному восстанию за освобождение рабочего класса, а революция в Турции носит чисто национальный характер и преследует цели национальной независимости. Но революция в Турции может и должна явиться союзником социалистической революции, и именно это объединяет, а не разъединяет обе страны.
И, как бы вспомнив о том, как всего лишь три года назад в Бресте за столом переговоров вместе с немецкими генералами сидели турецкие делегаты, жаждавшие унизить, ограбить и уничтожить Россию, Чичерин продолжал:
— Близким другом новой России стала не старая Турция Абдула Гамида, не Турция времен Брест-Литовска, входящая в одну из соперничающих империалистических коалиций, а Турция новая, преобразившаяся, подобно Антею, от прикосновения к земле трудящегося народа, Турция, преисполненная новым крепким и молодым семенем, исходящим от ее рабоче-крестьянских масс, Турция, признавшая новые народные принципы и сделавшаяся в силу этого естественной союзницей революционного русского народа.
Ему ответил Юсуф Кемаль-бей:
— Мы избрали вернейший путь. Условия географические, исторические, экономические и политические указали нам путь в Россию. Перед представителями новой России говорю со всей присущей турку искренностью: верьте нам…
После заседания начали свою работу различные комиссии. Неурегулированных проблем оказалось много. Особенно большие трудности возникли в связи с установлением границ Закавказских республик.
Трения понемногу преодолевались. Этому помогало то, что переговоры велись на основе совершенно новых равноправных принципов. Советская дипломатия искренне сочувствовала начавшемуся в Турции национально-освободительному движению и проявляла готовность оказать ему свою помощь. Позицию советской делегации Чичерин позже изложил следующим образом: «…мы все время говорили туркам: «У вас коммунизма нет, наши идеалы не совпадают, но мы будем идти рука об руку и поддерживать друг друга ввиду единства интересов».
Переговоры проходили негладко. В начале марта, когда казалось, они вот-вот должны успешно завершиться, стали поступать сведения, что меньшевистское правительство Грузии, дни которого уже были сочтены, заключило секретный договор, который передавал Батум Турции. Началась концентрация войск в районе города.
9 марта Ленин писал Чичерину: «Я крайне обеспокоен тем, что турки оттягивают подписание соглашения о Батуме, выигрывая время, пока их войска идут к Батуму. Мы не должны позволить им такие оттяжки. Обсудите такую меру: вы перервете вашу конференцию на полчаса для разговора со мной, а Сталин в это время поговорит начистоту с турецкой делегацией, чтобы выяснить дело и довести до конца сегодня же»[24].
Турецкие войска вступили в Батум, но через неделю были вынуждены очистить город, а 16 марта в Москве был подписан советско-турецкий договор.
Чичерин с чувством большого удовлетворения распрощался с турецкой делегацией: радовал успешный исход переговоров, радовало, что трудности преодолены к обоюдному удовольствию обеих сторон.
16 марта стало красным числом в календаре советской дипломатии. Произошло одно из тех поразительных совпадений, которые иногда дарит человечеству история: в Москве Чичерин поставил свою подпись под советско-турецким договором, а в Лондоне Красин подписал советско-английский торговый договор.
Европейской дипломатии был нанесен чувствительный удар. Договор между РСФСР и Турцией самими принципами, провозглашенными в нем, усиливал симпатии порабощенных стран Востока к России, расшатывал основы колониализма. Договор между РСФСР и Англией бил по Франции, бил по политике экономической блокады России.
Конечно, английские империалисты с большей бы охотой раздавили Советскую Россию силой. Они натравливали на нее Польшу, и Ленин для нейтрализации их провокационных действий дал указание советской делегации на проходивших мирных переговорах в Минске предложить полякам лучшие условия, чем выдвинутые Керзоном.
Да, торговый договор подписан, но от этого ненависть к посягнувшим на «священный принцип» частной собственности не утихла. Чичерин предупреждает неискушенных в дипломатии от чрезмерного доверия к отдельным положительным проявлениям английской политики: «Господствующие классы Англии с их традициями дипломатического искусства представляют глубокое единство политики в многообразии кажущихся противоречий». Все различные голоса в Англии — это ноты одной мелодии, которая маскирует мрачную мечту задушить Советскую Россию. НКИД неустанно разоблачал двуличие английской дипломатии, и каждое заявление Советского правительства, по мнению Чичерина, становилось на Востоке осязаемым и реальным фактором, действовавшим на настроение восточных народов.
Ожесточенная дипломатическая борьба только началась — впереди было все: и шантаж, и подстрекательство, и вероломство. Впереди печально знаменитый ультиматум Керзона и битва в Лозанне.
Но гражданская война выиграна, должна быть выиграна и война дипломатическая. 6 июня 1920 года нарком писал Красину: «Твердость, но не увлечение — вот как мы должны держаться. Надо считаться с интересами не только сегодняшнего дня, но с нашими длительными интересами, а для этого иногда бывает лучше подождать, чем спешить, с решениями и соглашениями с противником. Главное — надо все больше расширять понимание общественным мнением необходимости примирения с нами».
Англия настойчиво проводила политику нажима. Она стремилась заставить Советскую Россию капитулировать, то есть добивалась иными средствами того, что ей не удалось путем вооруженной интервенции. В период англо-советских переговоров Чичерин предупреждал: «Я лично считаю совершенно невозможным просто так, за «здорово живешь», не в порядке заключения формального договора, капитулировать перед Англией в области нашей мировой политики, как того желает от нас Ллойд Джордж».
Особенно заманчивыми были переговоры о нормализации отношений с Германией. Они велись одновременно в Москве и Берлине.
Переговоры, завершившиеся триумфом советской дипломатии в Рапалло, были длительными и трудными. Как только изменялась обстановка в сторону улучшения отношений Германии с западноевропейскими странами, Берлин беззастенчиво менял свое отношение к Москве, пытался добиться односторонних уступок, как если бы Германия намеревалась «осчастливить» Россию, заключив с ней соглашение. Это было повторением той самой политики «за здорово живешь». При этом партнеры упускали из виду, что всякое политическое сотрудничество предполагает обоюдность.
Внимательно продолжал следить нарком за событиями внутри своей страны. Это было важно для внешнеполитических дел особенно теперь, когда партия наметила грандиозные планы на будущее.
Что должны были переживать сидящие в зале Большого театра делегаты VIII Всероссийского съезда Советов, люди, боровшиеся с разрухой, нищетой, голодом и сами истощенные многолетним недоеданием, когда перед ними приоткрывалась картина будущего невиданного расцвета страны, которую они отстояли с оружием в руках. Оскудевшие духом западные журналисты называли их нищими, они же были обладателями величайшего богатства — энтузиазма, их фантазии были земными и реальными.
Чичерин с большим вниманием следил за пояснениями Кржижановского у карты России. Советская дипломатия должна занять свое место в планах развития страны.
На заседании фракции РКП(б) Чичерин выступил с характеристикой международного положения. Он только что прослушал доклад Ленина, весь был захвачен его грандиозными идеями. И свое выступление начал с развития ленинской мысли о значении промышленного развития России. Да, с победой революции в его стране начался процесс распада всей капиталистической системы. Процесс необратимый, процесс исторический.
— Этот процесс, — говорил Чичерин, — есть процесс медленный, болезненный и тяжелый, и если наша политика по отношению к существующим правительствам есть политика установления мирных соглашений, вступления в торговое экономическое сотрудничество, то это вызывается не только тем, что мы сами нуждаемся в этой совместной работе для нашего собственного экономического восстановления, но и тем, что нынешний момент постепенного длительного распада старого мира толкает и его к той политике медленного и осторожного вступления в сношения между нами и всеми капиталистическими группами поодиночке. Это есть та политика, которую я назвал еще год тому назад мирным поединком между капиталистическими методами борьбы против мировой разрухи и нашими методами коммунистического восстановления хозяйства.
Чичерину была ясна вся глубина ленинской мысли, в нее он верил без колебаний.
— Lux aeterna… — задумчиво произнес Георгий Васильевич, когда шел в толпе делегатов съезда после заседания, и, увидев вопрошающие взгляды, пояснил: — Вечный свет… Я говорю не об электричестве. Я говорю о свете ленинской мысли!
В письмах советским представителям за границу нарком разъяснял историческое значение только что закончившегося съезда, новые моменты, появившиеся в советской внешней политике. Письма короткие, как конспекты, он стремился рассказать в них о главном: о плане восстановления промышленности, электрификации, поднятия сельского хозяйства, промышленной и отчасти административной реорганизации. Он требовал широко освещать в печати основные черты нового периода в жизни страны и подчеркивал: «Военная политика исключительно оборонительная. Мы не можем оставаться безоружными, пока нам угрожают ненавидящие нас враги, но мы помышляем исключительно об обороне, и все наше внимание устремляется на внутреннее восстановление».
Наступал новый, 1921 год. Управление делами НКИД получило от Московского Совета разрешение провести 31 декабря новогодний вечер сотрудников при непременном условии, чтобы вечер окончился не позже часа ночи. Это был скромный вечер, без шампанского и пышных тостов. Сотрудники собрались послушать новогодний концерт, в котором принял участие и Георгий Васильевич. Вдохновенно сыграл он любимые им творения Моцарта и Бетховена. И до положенного часа в зале, освещенном тусклым светом, в стоптанных сапогах и валенках, в шинелях, бушлатах и просто в каких-то немыслимых кацавейках танцевали советские дипломаты, курьеры, машинистки.
Дипломатия должна содействовать решению поставленных перед страной задач. Экономическая программа выдвигала специфические требования. Ведь в 1921 году промышленная продукция Советской России составляла всего лишь около одного процента мирового производства. Нужно было не только выжить, но и добиться признания. Хозяйственные потребности страны во многом определяли направление внешней политики.
Казалось бы, что общего с дипломатией имеет крестьянский вопрос, но для Чичерина это «главный вопрос», это «нахождение модуса вивенди с крестьянством». Вопрос этот очень сложен, подчеркивал он, ибо имеются различные мотивы и исторические течения, раздирающие между собой сознание и психологию крестьянства. Крестьянство нужно удержать на своей стороне, предоставив ему сельскохозяйственные орудия, инвентарь, в котором оно нуждается, товары в обмен на хлеб. Из-за границы везли не только паровозы, промышленное оборудование, но даже те товары, которые являлись исконными предметами русского экспорта: кожу, шпагат, зерно. Страна пыталась преодолеть острую нужду, чтобы начать восстановление сельского хозяйства, накормить город.
Надо найти средства для усиления внешнеторговых связей, для расширения торговли в условиях все еще фактически продолжающейся блокады.
Принятое в марте 1921 года X съездом партии решение о переходе к новой экономической политике усилило ответственность НКИД. В Россию устремились частные предприниматели. Они рвались к концессиям. Новую ленинскую политику не все понимали правильно. Для некоторых концессии казались неприемлемыми, поговаривали о капитуляции перед силами международного капитала. Чичерину не раз приходилось выслушивать резкие слова осуждения и недовольства. Требовалась разъяснительная работа даже среди сотрудников наркомата. Сам он не видел в предоставлении концессий никакой сдачи принципиальных позиций. Он был в числе тех, кто отчетливо понимал, что нэп — явление временное, вызванное необходимостью. Он предостерегал советских представителей за границей от чрезмерных страхов и паники, едко высмеивал тех, кто утверждал, будто появилась опасность реставрации прежних порядков.
Нарком часто встречается с представителями зарубежных фирм, тщательно знакомится с характером предложений будущих концессионеров. Здесь все нужно предусмотреть на годы вперед, ибо каждый промах, закрепленный в договоре, может слишком дорого обойтись Советской стране.
Вместе с коммерсантами ехали журналисты. Русская тема стала модной. Некоторые ехали за правдой, большинство — за сенсациями. Первых нарком охотно принимал, терпеливо разъяснял непонятное для них, знакомил с целями и задачами советской политики, вторых по возможности избегал, знал, что для них важно не то, что он скажет, а лишь факт встречи с ним. Особенный наплыв корреспондентов наблюдался летом 1921 года. И неспроста: на Украине, в Поволжье выгорели все посевы. Призрак голода надвигался на опустошенную войнами страну.
У Чичерина корреспондент «Юманите». Это друг. Нарком охотно поясняет, что советская внешняя политика, как и политика, которую большевики проводят в самой России, — это политика производства. Дипломатия нацелена на оживление сельского хозяйства и промышленности, на экономическое сотрудничество Советской России с капиталистическими государствами.
— Неверно утверждать, что мы изменились, что мы от чего-то отреклись. Мы не Генрих IV. Изменились не мы, а наше окружение. Наши основные принципы остались теми же; только следует учитывать, что текущие проблемы всегда зависят от исторических условий.
В первый год своего существования Советская республика предложила экономическое сотрудничество — ей ответили экономической блокадой, — продолжает нарком. — Теперь возвращаются к прежнему, надеются приручить нас посредством торговли. Пути сошлись, англичане и русские хотят мира и торговли, лишь перспективы будущего у них разные. Англия поняла необходимость торговли, Франция стоит в стороне.
Нарком подходит к столу, протягивает корреспонденту номер «Нью репаблик», где красным карандашом отчеркнута заметка. Один из журналистов кропотливо изучил все сообщения из России, касающиеся Ленина, свел их воедино, получилась чудовищная ложь: Ленин с момента революции несколько раз арестовывался, бежал в Ригу, Архангельск и даже в Барселону…
— Мы даем это в нашу печать, — говорит нарком, — без всяких изменений, полностью. Пусть видят, как балуют иностранного читателя; не проходит дня, чтобы шайка профессиональных фальсификаторов не преподнесла ему самого разнообразного и самого фантастического меню.
Чичерин терпеливо разъясняет советскую политику, а в конце, когда корреспондент спрашивает, что передать от него рабочим французской столицы, говорит:
— Объясните, что мы достаточно стойки, чтобы не поддаваться на соблазнительные нашептывания, сулящие нам золотые горы. Пусть Франция последует примеру Англии, и она получит всевозможные выгоды.
Приветствуйте от нас Париж, некогда революционную столицу. Она уронила свой престиж, но по-прежнему дорога нам, и ее предместья, ее пригороды вскоре вернут ей ее былую славу. Ее девиз мог бы быть также и девизом Советской России, которая, как и она, «Fluctuat nec mergitur»[25].
И закончил беседу упоминанием о надвигающемся страшном бедствии — голоде.
— Мы взываем к усилиям всех, кто вместе с нами хочет побороть этот бич.
Голод давал себя знать все трагичнее. Положение в наркомате было невероятно тяжелым.
В дни, когда накал драматических событий становился невыносимым, наркому приходилось откладывать в сторону неотложные дела и приниматься (в какой уж раз) за лихорадочные поиски средств спасения людей. Нужны экстренные меры. Кто поможет в этой атмосфере всеобщего несчастья? Исчерпав все возможности, Георгий Васильевич обращается с личной просьбой в представительства РСФСР за границей. Он не скрывает положения в Москве. Люди валятся с голоду, работать не с кем, накапливаются груды неисполненных дел и даже нерасшифрованных депеш. «Я не могу работать один за тысячу человек. Дело гибнет!» — восклицает Чичерин в одном из таких писем.
17 августа нарком обращается к советскому полпреду в Эстонии: «Уважаемый товарищ, с 1 августа наши сотрудники не получают ничего. Из остатков прежних складов мы даем им более чем скудный обед (грязная вода) — вот и все. Живут тем, что продают старые вещи. У меня уже украли несколько вещей — кто именно, не знаю. Все торгуют. Заведующие отделами на улице продают старые штаны — посланники проходят и видят их. Сейчас у меня в канцелярии журналистка упала в обморок…»
Товарищи, которым адресованы записки, понимают всю серьезность положения. В доверительном порядке они распространяют их по знакомым в других советских полпредствах. Полпред РСФСР в Литве пишет В. Коппу в Берлин: «12 августа мною получена от т. Чичерина рукописная записка, копию которой, несмотря на ее личный характер, я, не без некоторых колебаний, решил сообщить Вам. Поколебаться меня заставила неуверенность, во-первых, что Георгий Васильевич будет доволен оглашением этой записки, во-вторых, в том, что вы не получили подобного же письма. Во всяком случае, всецело полагаюсь на то, что письмо останется между нами и будет полезно хотя бы как информация. Побудительным мотивом к сообщению записки послужило то, что сам я долгое время работал непосредственно с Георгием Васильевичем и слишком хорошо знаком с условиями его работы, чтобы не встревожиться, получив такой «вопль»…»
В представительствах рождается план помощи москвичам: объявить добровольную товарищескую подписку. И вот уже на собранные деньги закупают продукты. 27 августа из Литвы уходит первый транспорт. Он везет 18 пудов 12 фунтов сахара и 15 пудов 36 фунтов риса. Уходят посылки из Швеции, Италии, Германии, Эстонии, Латвии. Все они идут на имя Чичерина. В течение нескольких месяцев сотрудники миссий отдают часть своей зарплаты в пользу голодающих. Эта помощь навсегда останется в истории НКИД как яркое проявление дружбы и товарищества.
Но эта помощь осуществлялась лишь в пределах наркомата. Чичерин не мог остаться в стороне от борьбы с голодом в масштабе всей страны.
В августе 1921 года в Москву прибыл знаменитый полярный исследователь Ф. Нансен. Чичерин подписал с ним соглашение о помощи голодающим в России.
Некоторые западные политики пытались использовать затруднения Советской России в эгоистических целях, хотели вмешаться в ее внутренние дела, опутать кабальными обязательствами. Советская Россия в это чудовищно трудное время была готова принять любую помощь, но только не ценою отказа от своего суверенитета и социальных завоеваний. Чичерин видел, что происходило соревнование между буржуазными правительствами, стремившимися создать для себя прочное положение в России под предлогом помощи голодающим. Каждое из них боялось, что другое опередит его и завоюет выгодное положение для будущего экономического преобладания в Советской стране.
4 сентября Советское правительство получило ноту председателя Международной комиссии помощи России по борьбе с голодом Нуланса, назначение которого на этот пост Ленин охарактеризовал как «наглость». Ведь Нуланс был одним из наиболее активных руководителей той самой системы блокады, которая в значительной мере обусловила наступление неслыханного бедствия 1921 года.
Нуланс цинично требовал согласия на иностранный контроль за распределением продуктов в стране, то есть потребовал санкционировать откровенное вмешательство в ее внутренние дела под гуманным предлогом помощи голодающим. В тот же день Ленин предлагает «поручить Чичерину составить в ответ Нулансу ноту отказа в самых резких выражениях типа прокламации против буржуазии и империализма… Особо подчеркнуть, что мы не можем ни секунды верить в желание помочь гг. Нулансов
Дальнейшие события выявили истинных друзей и врагов. Стало ясно, что Американская администрация помощи (АРА), возглавляемая Гувером, подписавшим в августе рижское соглашение с Литвиновым, — это аппарат, созданный для шпионажа и вербовки контрреволюционных элементов, а не для оказания действительной помощи. 5 сентября Ленин указывал Чичерину, что наиболее отъявленных контрреволюционеров из АРА нужно «изловить, чтобы устроить скандал им.
Совершенно иные отношения сложились с Нансеном, который действительно приложил максимум усилий, чтобы облегчить положение в России. «Кампания «за Нансена» и «против Нансена», — писал В. И. Ленин Чичерину, — ясно показывает (Вы прислали архиинтересные выписки из «Daily chronicle»), что мы должны ответить Нулансу архирезким отказом: a limine[28] отказать. Тогда и только тогда мы выиграем, приобретем на свою сторону «рго-нансеновские» элементы и
Так тяжелые внутренние проблемы тесно переплетались с проблемами внешнеполитическими. Наряду с этими трудными делами Чичерину приходилось уделять повседневное внимание Наркоминделу, деятельность которого все больше и больше усложнялась.
Коренное изменение положения Советской республики — окончание гражданской войны, изгнание интервентов и переход к мирному восстановлению народного хозяйства в условиях прорыва внешнеполитической изоляции страны — поставило перед советским государственным аппаратом и, в частности, перед НКИД новые задачи.
К началу 20-х годов относится деятельная разработка основных принципов и методов советской внешней политики, окончательное оформление НКИД как боевого органа дипломатии, осуществляющего крупнейшие внешнеполитические акции. В основе всех начинаний лежали указания и разработки Центрального Комитета и лично Ленина. Чичерин выступал как один из талантливейших теоретиков и практиков дипломатии. Вместе с коллективом НКИД он берется за обобщение накопленного опыта, чтобы разработать научные основы советской дипломатии, углубляет и развивает теоретические положения ленинского учения во внешнеполитической области, широко применяет принципы марксизма к текущим событиям международной обстановки.
Основное требование, предъявляемое к дипломатии нового государства, Чичерин сформулировал так: «Методы советской дипломатии самым резким образом отличают ее от старой дипломатии и поэтому от дипломатии других стран. Она действует при помощи марксистского анализа исторического процесса и ищет поэтому основных, глубочайших течений в ходе развития политических и экономических отношений современности. За конкретными отношениями сегодняшнего дня она старается постигнуть основные двигательные силы современных событий, чтобы приноровить свою деятельность к их поступательному движению. С конкретными отношениями и событиями каждого дня могут быть связаны ошибки и промахи текущей ежедневной работы нашей дипломатии. Но последняя видит свою главную задачу не в комбинациях сегодняшнего дня, а в том, чтобы строить свою политику на основных началах исторического процесса, с тем чтобы в общем и целом, какие бы отдельные промахи ни играли роль кратковременных препятствий, предоставить непреодолимой силе основных мировых течений истории нести вперед на своих волнах ладью советской политики и исторических судеб трудящихся масс России».
Сам Чичерин широко пользовался этим методом. Основываясь на тщательном анализе международных отношений, с помощью этого метода он предугадал многие события, которые сбылись почти с пророческой точностью. Еще в сентябре 1918 года, когда многим Антанта казалась единой монолитной силой, он в одном из своих писем Воровскому подчеркивал, что группировка империалистических держав, сплотившихся в Антанте, не столь уж прочна, как может показаться на первый взгляд и как это пытаются внушить на Западе. Антанта раздирается внутренними противоречиями, которые неизбежно должны привести к ее краху и возникновению новых комбинаций. Япония готовится к схватке с Америкой, для этого ей нужен союз с Германией. Разве это не похоже на предсказание будущего германо-японского союза времен антикоминтерна?
Чичерин был также одним из первых, кто разгадал серьезную опасность фашизма и предостерег от его недооценки. В октябре 1923 года в одном из своих писем полпреду СССР в Италии, имея возможность непосредственно наблюдать фашистов во время поездки на Генуэзскую конференцию, он пишет: «Итальянский фашизм не есть, конечно, уголовный бандитизм и не есть исключительно течение погромных банд, но все же это есть явление глубоко реакционное, которое притом на деле не дало ничего другого, кроме вульгарнейшей поддержки капиталистических интересов, иногда под мнимым соусом гармонии капитала и труда. Никакого социального эксперимента не было, если не считать экспериментом преследование коммунистов и разрушение коммунистических организаций».
За десять лет до прихода гитлеровцев к власти Чичерин со всей определенностью утверждал, что «торжество фашистов в Германии может быть первой ступенью для нового крестового похода против нас».
Но это не пророчество дельфийского оракула — нарком самым решительным образом предостерегал советских дипломатов от какого-либо прожектерства. Нет, это наука, основывающаяся на самом тщательном изучении многообразных событий и сложных явлений жизни. До сих пор актуально звучит его основная заповедь советским дипломатам: «Надо смотреть на реальность, а не рассуждать плохо сделанными обобщениями».
Как и всякая наука, если она не желает топтаться на месте, дипломатия должна быть активной, должна энергично развиваться, утверждал Чичерин. Каждое теоретическое положение должно быть обязательно проверено на практике, только практика может со всей определенностью выяснить ценность того или иного предложения, поможет отбросить надуманное, нежизненное.
25 сентября 1923 года Чичерин писал: «Дипломатия должна заключаться не в том, чтобы любезно отвечать на любезные авансы, спускать с лестницы при отсутствии любезных авансов и неподвижно сидеть на стуле, если другая сторона неподвижна. Дипломатия должна пускать в ход миллион всяких средств, но идти вперед, а не топтаться на месте, действовать активно, а не только реагировать на то, что делает другая сторона. Дипломатия не должна исходить из того, что все будут бросаться в ваши объятия. Дипломатия должна активно подготовлять стремление других сближаться с нами». Чичерин требовал от советских дипломатов осторожности и твердости. «Против нас, — писал он, — ополчаются самые утонченные представители государственного искусства, накопившегося в течение многочисленных поколений. Благородные лорды думают, что они могут нас обмануть как простачков, что они могут усыпить нас ложными миролюбивыми уверениями, но коммунистическая дипломатия отвечает на эти попытки неуклонной бдительностью и твердостью». Коммунистическая дипломатия воодушевлена классовой ненавистью пролетариата к своим врагам, она вооружена правдой, она пользуется поддержкой миллионов трудящихся.
Для осуществления целей дипломатии нужны постоянные контакты. Особенно ценны связи со странами, где плетутся империалистические заговоры против молодой республики. Без обобщения нельзя иметь сведений о политике страны, дипломат не может замыкаться в стенах своего кабинета. В письме Воровскому 16 октября 1921 года явно озабоченный событиями в Италии нарком рекомендует заводить знакомства среди депутатов и журналистов разных политических направлений.
Годом раньше то же требование он ставил и перед Иоффе: «Необходимо нашим представителям больше входить в контакт со всевозможными иностранными официальными и полуофициальными лицами. Система изолированности ведет к тому, что мы сами продолжаем нашу политическую блокаду».
Разнообразие связей, возможность всегда знать точки зрения противоположных направлений, чтобы, сопоставляя их, делать правильные выводы, — это наиважнейшее дело дипломатии, если она хочет оставаться тонким искусством политических действий, а не занятием прожектеров. Без этого нельзя, без этого бесплодность. Нельзя и без того, чтобы не проникнуться сознанием того действительного факта, что нет той гнусности, на которую многие буржуазные правительства не решились бы пойти по отношению к коммунистам, и что порой атмосфера, окружающая советского дипломата, есть атмосфера хитросплетений и лжи.
Наконец, Чичерин неустанно предостерегал: опасно сосредоточивать все внимание на каком-нибудь одном вопросе, замыкаться в кругу интересов определенной группы стран. Времена кабинетной и альковной дипломатии канули в вечность. Теперь любая дипломатия, чтобы достигнуть поставленных целей, должна обращаться к широким массам. Наступает эпоха всеобъемлющей, широкой дипломатии, выходящей за рамки континентов. Как в мире все взаимозависимо, так и в международных отношениях все события связаны друг с другом. Внешняя политика отдельных капиталистических государств взаимозависима, и удар по одному слабому звену, в частности по политике английского колониализма в восточных странах, неизбежно вызывает чувствительный резонанс во многих странах. Узость взглядов и замыслов вредна, нужно всячески расширять поле деятельности советской дипломатии. Скрытые течения, особенно расстановка политических сил и настроения масс, отсутствие единства в политике отдельных государств, рост международных противоречий, погоня капиталистов за русскими рынками и стремление получить хоть какую-нибудь компенсацию за утраченные в России капиталы — все это тщательно взвешивалось, сводилось в единое целое, из чего затем вырабатывались тактика, направленная в то время на преодоление внешнеполитической изоляции Советской России и вывод ее на широкие международные просторы.
Одновременно с разработкой основ советской дипломатии шла трудная и ответственная работа — оформлялась структура центрального аппарата НКИД и его представительств за границей, разрабатывались его организационные формы.
Внешнеполитический аппарат должен был полностью отвечать поставленным перед ним требованиям. Чичерин начинает с укрепления своего секретариата, рассматривая его как орган, связывающий руководство наркомата с отделами. «Во всяком МИД, — подчеркивает он, — канцелярия министерства есть основной орган, где происходит важнейшая политическая работа».
Создаются в НКИД новые отделы, охватывающие теперь уже группы стран по географическому признаку. Нарком проявляет заботу о том, чтобы отделы были сформированы из политически грамотных исполнителей, не претендующих на участие в коллегии, но способных самостоятельно выполнять задания. Он считает, что без этого невозможна нормальная работа НКИД.
Из всех отделов особо выделяет экономическо-правовой отдел (ЭПО), на котором, по его мнению, должна лежать ответственность за разработку экономических проблем, а также за подготовку и проведение в жизнь договоров и разрешение всевозможных вопросов международных отношений, возникающих ежедневно в громадном количестве. Особая роль отводилась отделу печати и информации — самому большому после Секретариата коллегии подразделению НКИД. В этот отдел, по мнению наркома, полезно привлекать квалифицированных литераторов и журналистов, то есть лиц, которые могли бы сочетать любовь к литературному творчеству с умением заниматься внешнеполитической пропагандой.
Что же мешало осуществлению планов создания такого аппарата? Как всегда, недостаток кадров. В момент мобилизации против Колчака и Деникина комиссариат был опустошен. Приходилось усиленно втягивать в работу молодежь. В связи с этим возникла необходимость форсированного обучения дипломатических сотрудников, из которых комплектовались отделы НКИД. Вновь пришлось обращаться непосредственно в Совнарком. Ленин сочувственно отнесся и к этим нуждам Наркоминдела. Он предложил создать при Коммунистической академии специальные курсы, на которых молодежь изучала бы основы марксизма, историю, экономику зарубежных стран и иностранные языки, включая восточные. Здесь можно было бы получить те знания, которые так необходимы для успешной деятельности дипломатических работников.
Но и этого было недостаточно. По указанию Ленина в самом НКИД создаются специальные курсы по подготовке таких работников. «Мы теперь стали заниматься политическим воспитанием молодых сил, — пишет Георгий Васильевич, — организуем курсы, втягиваем молодежь в политическую работу, ибо надо думать и о завтрашнем дне. Легче находить технических исполнителей, чем политических…» На наркоматских курсах преподавали старшие опытные сотрудники НКИД. Здесь изучали иностранные языки и другие предметы. Многие известные советские дипломаты начинали свою деятельность с этих курсов, и некоторые прошли путь от солдат охраны НКИД до генеральных консулов и полпредов.
Состав НКИД, его структура, разработанная Чичериным, сохранялись в течение многих лет, ибо они были созданы не в результате каких-то отвлеченных прожектов, а с учетом опыта работы и потребностей определенного исторического отрезка времени.
Но пока такая система не действовала, Чичерину и его ближайшим помощникам приходилось выполнять огромную работу. В одном из своих писем он признается: «Я могу смело сказать, что наша борьба с затопляющей нас страшно ответственной политической работой за последние месяцы, при развитии сношений с массой государств, была героической. Мы в состоянии с этим справиться только потому, что я с т. Караханом абсолютно спелись, так что на полслове друг друга понимаем без траты времени на рассуждения и без труда распределяем работу, абсолютно привыкнув делить ее друг с другом… Вся дипломатическая работа между нами, таким образом, распределяется, но пока у нас не будет аппарата, будут по необходимости на каждом шагу чувствоваться дефекты».
Усилия Чичерина и всего коллектива советских дипломатов дали положительные результаты. Постепенно сложился хорошо спаянный, дружный коллектив, в котором господствовали твердые партийные убеждения, высокая идейность и простые дружеские отношения. Ленин высоко ценил НКИД, считал его образцовым советским учреждением. В статье «Как нам реорганизовать Рабкрин», говоря о соединении Рабкрина с ЦКК, Владимир Ильич, как известно, писал: «…Рабкрин получит таким путем столь высокий авторитет, что станет, по меньшей мере, не хуже нашего НКИД»[30].
В другой раз Ленин указывал, говоря о НКИД, что «этот аппарат исключительный в составе нашего государственного аппарата. В него мы не допускали ни одного человека сколько-нибудь влиятельного из старого царского аппарата. В нем весь аппарат сколько-нибудь авторитетный составился из коммунистов»[31].
С большими трудностями пришлось столкнуться при организации сети загранпредставительств Советской России. Дело было не только в кадрах. Почти все представительства не имели дипломатического статуса. Это вызывалось отсутствием признания Советского государства де-юре. И хотя Чичерин и писал Красину 6 июня 1920 года, что «по-прежнему мы мало обращаем внимания на внешние формальности и можем поэтому обходиться без формального признания, если, по существу, положение будет такое же, как при таком признании», отсутствие такого признания сильно затрудняло работу советских дипломатов. Нарком понимал это. Но пока по совету Ленина он разрабатывает и 6 февраля 1921 года коллегия НКИД на своем расширенном заседании с участием прибывших в Москву полпредов принимает решение, которым советским дипломатам вменяется в обязанность решительно бороться за скорейшее восстановление фактических отношений (торговых и политических) с западноевропейскими странами и Америкой с признанием за советскими представителями минимума дипломатических гарантий и привилегий. Формальное признание остается постоянным требованием, однако отказ в формальном признании не должен служить препятствием к восстановлению фактических отношений. Решение ясно и четко разъясняло цель советской внешней политики — разъединение капиталистических государств и недопущение создания ими единого фронта против Советской России.
Капиталистические правительства чинили всяческие препятствия для работы советских дипломатов — отказывали в предоставлении дипломатического иммунитета, чтобы произвольно, без оснований высылать их когда вздумается, задерживали выдачи виз, отказывали во въезде советским дипломатам и т. д. «Между тем, — отмечал нарком, — только лица, долго бывшие за границей, долго присматривавшиеся к иностранной политике, только они могут шаг за шагом разоблачать все те махинации, которые каждое правительство ежедневно выставляет против нас».
Чичерин считал, что на посты советских представителей за границей должны направляться люди, которые бы отвечали высоким политическим требованиям и отличались бы умением самостоятельно разбираться в сложной обстановке страны их пребывания, умением аналитически подходить к фактам. Когда в конце сентября 1920 года встал вопрос о назначении советского представителя в Италию, Чичерин особо подчеркивал, что «вопрос о кандидатуре нашего представителя имеет самое серьезное значение. Это должна быть крупная личность…».
Заботой о повышении знаний советских дипломатов проникнуты частые встречи, беседы, письма наркома. Он считал, что дипломат должен обладать широким кругозором и желанием еще больше расширить его. Н. Равич, бывший сотрудник полпредства в Афганистане, вспоминает об одной такой беседе накануне его отъезда в Турцию.
Чичерин детально познакомил его с положением дел в Турции. Потом задумался и спросил:
— Вы получили классическое образование?
— Да, я учился в классической гимназии.
— Гм… А кого вы предпочитаете из римских поэтов?
— Публия Овидия Назона.
Он наклонил голову несколько вбок, и круглый глаз его блеснул, как у птицы.
— Гм… Действительно, в «хорум поэтарум» первого десятилетия нашей эры он считался королем. Участь Овидия Назона была печальна. Благодаря интригам он был объявлен «обсцени доктор адультерии» и сослан Октавианом Августом в Добруджу. Вы помните эпитафию, написанную им самому себе?
И он прочитал нараспев и несколько картавя:
Здесь почиет Овидий, нежной
Страсти певец печальный.
Здесь несчастный страдалец
Забыт — погубил его собственный дар.
Путник! Если ты в жизни
Своей хоть однажды изведал любовь,
Не колеблясь скажи: «О Назон!
Пусть останки твои мирно спят!»
Чичерин не скрывал неодобрительного отношения к тому, кто ограничивал свое умственное развитие узкими рамками профессиональной деятельности. Человек, по его мнению, должен неустанно осваивать богатства мысли и не отмахиваться пренебрежительно от того, что кажется ему неясным и непонятным.
Георгий Васильевич поддерживал регулярную переписку не только с полпредами, которым разъяснял принципы советской внешней политики, но и с молодыми сотрудниками. Когда его личный секретарь Левин уехал с миссией Гиллерсона в Чехословакию и написал оттуда письмо, в котором сетовал на то, что в Праге его окружает непреодолимая скука, а работа в миссии неинтересная, Чичерин тактично посоветовал ему лучше приглядываться к даровитому народу с его многовековой историей, самобытной культурой и искусством, с его богатыми традициями.
В одном из писем к Левину 15 сентября 1920 года Георгий Васильевич вспоминает то время, когда он сам был в Праге, «когда «Народные Листы» считались революционным органом, а младочехи были действительно молодыми». Нарком не постеснялся привести в этом письме и историческую справку… о любимых фельдмаршалом фон Радецким кнедликах и очень теплые слова о славянских танцах Дворжака, «которые одни только чехи могут исполнять со всей подобающей легкостью, грацией и огнем». Нарком вспоминает подробности своего посещения Праги, хотя прошло уже около десяти лет. «Существует ли еще по ту сторону реки Navadopisnâ Vÿstava с образцами крестьянских домов разных славянских стран?» — спрашивает он.
Через четыре месяца Георгий Васильевич вновь пишет Левину: «Весь чешский народ отличается необыкновенной музыкальностью. Нет деревушки, в которой не было бы своих собственных прекрасных скрипачей… Никто, кроме чехов, не может с должной быстротой, подвижностью, блеском и огнем исполнять комические оперы Сметаны… Если вы ознакомитесь с очень популярными и блестящими беллетристическими очерками Неруды, вы увидите, насколько еще недавно чехи были исключительно крестьянской массой без буржуазии и интеллигенции. В исторических романах Ирасека вы можете познакомиться с первыми шагами чешской интеллигенции из крестьян, главным образом в рамках католической церкви и духовенства. Эта связь духовенства с их национальным пробуждением в сильной степени отразилась и на последующем развитии чешского национального движения… Нет сомнения, что та громадная энергия и тот бурный темперамент, которые так сильно отразились и в чешском национальном движении, в не меньшей степени отразятся и в чешском революционном коммунистическом движении. Признаки этого мы видим уже теперь».
В этом, как и в других многочисленных письмах, нарком стремится помочь молодому сотруднику разобраться в новых для него вопросах. Отсюда его широкие рассуждения об истории, философии, эстетике и политике в их неразрывной взаимозависимости.
Заботой о воспитании дипломата — представителя Советской страны продиктовано письмо Чичерина от 11 ноября 1920 года всем представителям Советской России за границей. «Скромность и простота образа жизни российских представителей должна соответствовать характеру нашего строя и нашего государства, являющегося государством рабочих и крестьян, — подчеркивает он в этом письме. — Ни в коем случае не следует среди заграничных наблюдателей вызывать представление, будто бы занимающие ответственные должности советские работники имеют возможность тратить большие суммы денег и пользоваться роскошью и удобствами, недоступными широкой массе советских граждан… Каждая деталь в образе жизни наших заграничных представителей должна внушать внешнему миру мысль о том, что ответственные советские деятели являются лишь работниками, исполняющими более важные функции, но никоим образом не привилегированным слоем, пользующимся благами жизни, недоступными другим».
Это было не просто некое правило нового дипломатического протокола. Нет, это был образ советского дипломата в понимании Чичерина.
Советский дипломат, по его твердо сложившемуся мнению, — это революционный боец за дело большевиков, коммунист, патриот. Для него не должно быть никаких интересов, стоящих выше интересов его пролетарского государства, его народа.
В этом смысле представляет несомненный интерес журналистская деятельность Георгия Васильевича.
Уже его первые выступления в печати отнюдь не диктовались горячей жаждой печататься, и в этом случае он был далек от мелких честолюбивых чувств. В период эмиграции, особенно в годы ожесточенной борьбы с политическими противниками, Чичерин использовал свое стило для утверждения принципиальных взглядов. Страницы газет были полями жарких сражений, здесь скрещивали свои шпаги непримиримые враги. Чичерин-Орнатский дрался за интернационализм, против предателей интересов пролетариата. Позже он выступал горячим пропагандистом советской внешней политики, интересов первого в мире пролетарского государства. С годами оттачивалось его перо, глубже и проникновеннее становилось публицистическое мастерство, шире и всеобъемлющей тематика его выступлений. Просто и доходчиво для широкой аудитории строит он свои выступления по оценке сложного текущего международного положения, остро, живо и непримиримо разоблачает он империалистическую политику, деятельность апологетов буржуазного строя. Его статьи метко разили «шайку профессиональных фальсификаторов» из среды буржуазных писак, подвизавшихся на клевете против советского строя.
Оптимизмом и верой в справедливое священное дело строительства, новой жизни наполнены страницы его высказываний. В тяжелый период гражданской войны и повсеместной разрухи, в ноябре 1919 года он писал:
«Внешнеполитическая история Советской России за эти два года есть трагическая и в то же время полная неистощимой бодрости и лучезарной надежды повесть о не прекращающейся ни на единую минуту борьбе против бесчисленных врагов».
В борьбе с недругами Чичерин без «страшных» слов образно мог пригвоздить их к позорному столбу. Когда появилась лондонская фальшивка о «письме Коминтерна», он сравнил авторов ее с иезуитами, которые в религиозных судах были всегда готовы выдвигать против своей невиновной жертвы самые ужасные обвинения. «Иезуиты требовали, чтобы им на слово верили, — писал он в марте 1928 года. — Но если исходная точка есть обязательство верить всякому утверждению без доказательств, если считается возможным кого угодно и как угодно произвольно очернить, то возможность хороших отношений с подобными иезуитами заранее устраняется».
Ленин высоко ценил публицистические способности Чичерина. Его глубоко эрудированный подход к историческим явлениям, точность в использовании фактического материала, научный классовый анализ событий и движущих сил — все делало его незаурядным талантливым публицистом. Однажды французская газета «Эко де Пари» опубликовала злопыхательскую статью об опасности распространения большевизма в Восточной Азии. Владимир Ильич по этому случаю обращается к Георгию Васильевичу:
«т. Чичерин! По-моему, это надо дать в печать,
Закончив свою работу «Детская болезнь «левизны» в коммунизме», Ленин просит Чичерина, как человека знающего и компетентного, «просмотреть мою брошюрку или главку об Англии и дать мне совет, нет ли у меня ошибок или нетактичностей. Практические исправления, если не затруднит, очень просил бы отдельно карандашиком записать»[33]. В этом обращении — все: и скромность гениального человека, каким был Ленин, и высокое признание им деловых способностей и публицистических возможностей Чичерина — историка, дипломата, журналиста…
И все же главная забота наркома — дипломатия нового советского типа.
Советское государство формально не признано, но это не значит, что можно мириться с попытками дискредитации его, — соображения престижа очень важны. Когда это диктовалось необходимостью, Чичерин требовал от советской дипломатии, чтобы она не находилась в плену «допотопного этикета» и «отбросила этикетную схоластику». Но, когда надо, нарком настойчиво напоминал о необходимости добиваться для советских представительств тех же прав, какие предоставляются другим.
«Нельзя допускать, — подчеркивает он, — чтобы наше представительство ютилось где-то под чердаком в гостях у чужого учреждения, даже без собственного официального помещения… Где же экстерриториальность, если делегация помещается у чужих людей».
Чичерин детально разрабатывает правила первого советского дипломатического протокола. В частности, он уделяет большое внимание строгому соблюдению формальностей официальной переписки. В сентябре 1921 года произошел весьма поучительный случай. Английский представитель передал советскому Наркоминделу ноту, в которой содержался необоснованный упрек, будто советская сторона нарушает советско-английское соглашение. Это было не ново, нарком привык к подобным мелочным уколам. Но он обращает внимание на тот факт, что нота не содержит ни заголовка, ни подписи и даже адресована «на деревню дедушке!». Он сообщает об этом Владимиру Ильичу и вскоре получает ответ:
«т. Чичерин!
По-моему, надо отучить от этой манеры. Нельзя ли отучить так: ответить формально и письменно с ссылкой на «ноту». Тогда они поймут, что мы будем (вскоре)
Советская Россия требовала, чтобы с ней обращались как с равным партнером. Речь шла в данном случае не просто об общепринятых нормах дипломатического этикета, а о принципиальном признании за Советской Россией всех прав и привилегий согласно действующему международному праву.
В декабре 1921 года НКИД наконец получил новое помещение и переехал на Кузнецкий мост. Во время переезда Георгий Васильевич простудился, его хронический фарингит значительно обострился, стало трудно объясняться, при малейшей попытке говорить душил кашель и приходилось прекращать разговор.
Но наступили бурные дни, пришлось махнуть рукой на недуги, снова все личное отодвигалось на задний план.
Все началось с того, что 6 января 1922 года во французском городе Канне представители Антанты решили созвать конференцию для обсуждения послевоенного положения в Европе. На конференцию предполагалось пригласить все европейские государства, в том числе и Советскую Россию.
В резолюции по этому случаю говорилось: «Нации не могут присваивать себе право диктовать другим принципы, на основе которых они желают организовать свою внутреннюю экономическую жизнь и свой образ правления. Каждая страна в этом отношении имеет право избрать для себя ту систему, которую она предпочитает».
Звучало это знаменательно: Антанта косвенно признавала банкротство капиталистической системы собственности и неизбежность существования наряду с нею системы социалистической собственности.
Антанта на самом деле отнюдь не хотела примириться с Советской Россией. Она была вынуждена считаться с ней. В Лондоне лорд Керзон отказался подать руку большевику Красину, а в переговорах с ним все же участвовал. То же было и здесь: Россию звали на переговоры, но с ненавистью и надеждой на отмщение. Против нее готовился заговор, с помощью дипломатического давления преследовали цель добиться того, чего не удалось с помощью интервенции, — задушить большевиков. Будущий министр иностранных дел Германии Ратенау учел обстановку и предложил создать совместный консорциум западных держав для экономического закабаления России. И Антанта и Германия надеялись, что Советская Россия на конференции выслушает приговор и подставит шею под топор палача.
7 января 1922 года по поручению инициаторов конференции итальянское правительство направило Советскому правительству ноту с приглашением на конференцию. Высказывалось пожелание, чтобы во главе русской делегации был Ленин. Советское правительство приняло приглашение, и началась подготовка. Владимир Ильич сам написал ряд записок. На основании этих записок было составлено выступление советской делегации в Генуе. 16 января Ленин согласился с предварительными предложениями Чичерина о составе советской делегации, месте встречи и поставил перед НКИД две задачи: вступить в переговоры с Германией об установлении контакта между немецкой и советской делегациями в Генуе и прозондировать почву у других правительств, «не согласны ли они начать с нами
Разработка указаний о тактике советской делегации проводилась в строжайшем секрете, было запрещено передавать за границу даже шифром какие-либо сведения о планах советской делегации, выдвинутые предложения не вносились даже в протоколы заседаний Политбюро. Каждому члену делегации поручалось составить свой конкретный план, с тем чтобы затем на совещаниях всей делегации выработать единый.
Георгий Васильевич много думал над общей линией поведения советской делегации на конференции и ее главных целях. Поначалу его смутило требование Ленина учитывать буржуазную аудиторию, которая ожидалась в Генуе, а посему ставить некоторые вопросы «с точки зрения буржуазной». Это вытекало из основной ленинской мысли — добиваться торгового соглашения, соглашения с пацифистской частью буржуазного лагеря.
«Как мы справимся с «широчайшей программой», не знаю, — писал Ленину Чичерин. — Всю жизнь я ругал мелкобуржуазные иллюзии, и теперь на старости лет Политбюро заставляет меня сочинять мелкобуржуазные иллюзии. Никто у нас не умеет сочинить таких вещей, не знаем даже, на какие источники опираться».
«Но где, кто, когда отрицал использование пацифистов… для разложения врага, буржуазии?»[37] — пояснял ему Владимир Ильич. Всесторонне продумав ленинские указания, Чичерин написал письмо, в котором, как отметил Владимир Ильич, прекрасно изложил пацифистскую программу.
В чичеринском письме Ленин отметил много превосходных мыслей, свидетельствующих о большом и глубоком понимании наркомом внешнеполитических задач Советского государства, о его умении творчески развивать и наполнять дипломатическим содержанием указания партии. Многие из этих мыслей звучат актуально и по настоящее время, например, мысль о том, чтобы «негритянские, как и другие колониальные народы, участвовали на равной ноге с европейскими народами в конференциях и комиссиях и имели право не допускать вмешательства в свою внутреннюю жизнь», или такая мысль — «одновременно мы предложим всеобщее сокращение вооружений» и т. д.
И если буржуазные представители не захотели бы пойти навстречу главному практическому предложению Советского государства — расширить торговлю и создать условия для ее дальнейшего развития, — все равно через Геную или мимо Генуи, — но цели большевиков были бы достигнуты.
Хотя инициатива западных стран не являлась неожиданной, НКИД был поставлен перед многими загадками. То была первая международная конференция с участием советских дипломатов, для ее подготовки оставалось мало времени. На беду заболевший в декабре 1921 года Чичерин все еще чувствовал серьезное недомогание, хотя и бодрился изо всех сил. Возникла опасность, что он вот-вот свалится. Владимир Ильич настаивал на отдыхе. Но предложения уйти в отпуск казались Чичерину неприемлемыми. Он считал, что отпуск политически несвоевременен, организационно неосуществим, лично ему физически вреден. Отпуск — дело будущего, сейчас врачи требуют 6–8 месяцев отдыха, а это недопустимо, так как надо будет подыскать нового руководителя НКИД.
На тот случай, если будет все-таки решено предоставить ему продолжительный отпуск, Георгий Васильевич подробно объяснял, кого лучше всего назначить его преемником, сколько времени потребуется, чтобы ввести нового человека в курс дела НКИД и текущей политики, поскольку внешнеполитическое положение Советской России чрезвычайно сложно, необходим человек, знакомый со всеми политическими тонкостями. Каждый неосторожный шаг может толкнуть к опасным авантюрам. Для введения в курс дела его заместителя, писал Чичерин, потребуется несколько месяцев. «В настоящее время отпуск, — утверждал он, — равносилен для меня полному уходу…» Пожалуй, нарком несколько драматизировал положение, на что и обратил внимание Владимир Ильич в своей записке 16 января всем членам Политбюро. Письма Чичерина о состоянии дел в НКИД, подчеркивал Ленин, доказывают, что он болен, нужно запросить врачей, вынесет ли он напряженную подготовку к Генуе.
Да и в Москве нужен был способный человек. Ленин писал: «Надо возложить на кого-либо (может быть, Литвинов + Боровский + Иоффе + П. П. Горбунов?) специальную ответственность за то, что при отъезде Чичерина и всей делегации в Геную,
Кого-либо из опытнейших дипломатов надо оставить во главе НКидела на весь период Генуи»[38].
В дни бурной подготовки к конференции не было ни одного сотрудника НКИД, который оставался в стороне; готовились многочисленные досье, писались разнообразные справки, из архивов извлекались необходимые исторические материалы. Почти ежедневно проходили совещания с участием экспертов, приглашенных из других учреждений. Чичерин с головой ушел в работу. Забыты все разговоры об отпуске, о болезни.
Нарком словно не ведал усталости. Его рабочий день начинался в 3–4 часа дня, когда в Москве у большинства рабочий день кончался, и продолжался до 10–11 часов следующего дня. Наркомат был открыт все 24 часа, секретари и стенографы работали посменно. Очевидцы рассказывали, как Чичерин, переходя от одного стенографа к другому, диктовал то по-французски или по-английски, то по-немецки или по-русски. Один из зарубежных корреспондентов, побывавших в это время в Москве, писал: «Все, что нужно делать в наркомате, делает Чичерин. Каждая бумага проходит через его руки, и это прохождение не является пустой формальностью. Если он дома, то он работает без пиджака, укутав шею старым серым шарфом. В десять часов вечера и в четыре утра он обедает, обед прост — суп и каша. Самовар кипит всю ночь. Из всех благ жизни он берет лишь крайне необходимое».
При всей напряженности труда и неустроенности быта нарком успевал сам составить нужные для делегации в Генуе выкладки о восстановлении хозяйства в стране, а также подробные справки о Персии, Афганистане и Средней Азии.
Много думал нарком над вопросом о том, поможет ли предстоящая конференция прорвать капиталистический фронт против Советской России.
— Наша задача — искать со всеми и каждым сепаратного контакта до конференции, — внушает он своим помощникам. — Надо, чтобы капиталистический мир не объединился, впервые в истории, на нашей шее. Не допускать консорциума. Равноправное взаимопонимание или превращение России в колонию — вот вопрос.
Вопрос не отвлеченный, если вспомнить о том, что совсем недавно Ратенау в Канне высказал сокровенную мечту — о колонизации России.
Позже некоторые упрекали Чичерина в каком-то германофильстве. Эти упреки носили отпечаток недоброжелательства и тенденциозности. Чичерин много сделал для установления дружественных прочных отношений между СССР и Германией, но он никогда не отказывался от установления точно таких же отношений с любой другой страной. Только бы имелись к тому реальные предпосылки.
Какую тактику избрать на конференции, как использовать ее, помимо разоблачения сущности империализма? Прежде всего надо закрепить внешнеполитические позиции Советской России. Все расчеты капиталистических государств на то, что в результате нэпа и голода наступило перерождение советского строя, — самоуспокоительные пилюли, не больше. Этим, кстати, и было вызвано предложение Ратенау. Но если западные страны предлагают расширение торговых связей, то должна ли Советская Россия отказываться от этого?
Должна ли она вместо этого выступать с «разгромными речами», как предлагали некоторые? Нет, обличительные фразы теперь не годились. «Не надо страшных слов», — советовал Ленин. И нарком полностью соглашался с ним.
— Наше положение заставляет нас, говоря словами Ленина, быть купцами и говорить «по-купецки». У нас свои взгляды, мы тут сходимся на деловой задаче и только ею и занимаемся. Если раввин и монах сойдутся торговать и вместо этого начнут спорить о талмуде и отцах церкви, они ничего не наторгуют, а только вырвут друг у друга бороды. Неужели нам полезно вернуться к изоляции и блокаде? — заявлял нарком в кругу своих близких сотрудников.
Одновременно Чичерин тщательно готовил центральный аппарат к большой работе, которая предстояла во время конференции. Его длительное отсутствие никоим образом не должно сказаться отрицательно. Временно исполняющим обязанности наркома был назначен Л. М. Карахан, был также подобран новый заведующий текущим архивом — толковый, энергичный и знающий иностранные языки человек, было полностью реорганизовано управление делами, которое, как считал Чичерин, за последнее время «превратилось в нечто самодовлеющее и в результате развивалось по пути безудержного бюрократизма», новыми сотрудниками был укреплен секретариат, а в отделах произведены перестановки с учетом выявившихся желаний и способностей каждого работника. До отъезда в Геную Чичерин сделал все, чтобы наркомат в его отсутствие оставался на высоте положения.
Тщательно подбирался и технический аппарат советской делегации на Генуэзской конференции. Его сотрудники, особенно переводчики, должны были удовлетворять самым высоким требованиям. Так, он требует включить в состав делегации сотрудницу НКИД Анжелу Нагель, которую знал еще по Лондону; когда он что-либо составлял по-английски, она угадывала его мысль и давала ей приличную английскую форму.
И все же оставалось много нерешенных задач. Среди них и такие, которые казались весьма мелкими. Долго обсуждались многочисленные варианты маршрута. Учитывались стоимость, протяженность пути, возможности отправки телеграмм в Москву с наиболее экономной оплатой. Важным был вопрос о статусе делегации. Вплоть до конца марта Боровский вел переговоры об этом в Риме. Итальянское правительство упрямилось и отказывалось давать гарантию неприкосновенности. А ни для кого не было тайной, что итальянские фашисты и белоэмигранты собирались встретить советскую делегацию отнюдь не цветами. Вот почему вопрос о статусе советской делегации приобрел такое важное значение. Ленин также говорил, не потребовать ли «особых гарантий против фашистов (напр., либо итальянское военное судно с радио в нашем распоряжении? имена ответственных лиц итальянских военных и полиции и т. п.)?»[39].
Но вот разработан наиболее экономный маршрут, получены гарантии дипломатического иммунитета и даже согласие на то, что советская делегация в Генуе будет поставлена в равные условия с другими делегациями.
Оставалось решить, кто будет руководителем советской делегации. Товарищи по партии считали нежелательным выезд вождя революции за границу из соображений безопасности. В адрес ЦК поступали резолюции с фабрик и заводов. Рабочие требовали не подвергать жизнь Ленина опасности. Высказывал свои сомнения в целесообразности поездки Ленина за границу и НКИД. 27 января 1922 года на чрезвычайной сессии ВЦИК руководителем советской делегации был избран Председатель Совета Народных Комиссаров, член ВЦИК Владимир Ильич Ульянов (Ленин), его заместителем народный комиссар по иностранным делам, член ВЦИК Георгий Васильевич Чичерин, наделенный всеми правами председателя на тот случай, если обстоятельства исключат возможность поездки Ленина. По предложению Ленина ЦК РКП(б) на случай болезни или отъезда из Генуи Чичерина предусмотрел замену его по очереди одной из двух троек: Литвинов, Красин, Раковский или Литвинов, Иоффе, Боровский. Характеризуя состав советской делегации, Ленин на XI съезде РКП(б) отмечал, что «в ЦК были приняты самые тщательные меры для того, чтобы создать делегацию из лучших наших дипломатов (а у нас теперь советских дипломатов порядочное количество, не так, как в начале существования Советской республики)»[40].
За день до избрания делегации Чичерин на сессии ВЦИК с глубокой убежденностью говорил, что власть рабочих и крестьян в России проявила свою жизнеспособность и это принудило капиталистический мир признать, что Россию нельзя больше сбрасывать со счетов, что международные решения, принятые без ее участия, оказываются несостоятельными. Капиталисты, подчеркивал он, желают экономического сотрудничества, желаем его и мы.
Советская Россия была готова принять на себя разумные обязательства на основе взаимности и честно выполнять их. Она уже неоднократно доказывала это. Примером мог бы послужить следующий факт, происшедший во время подготовки к конференции в феврале 1922 года. В связи с хозяйственными затруднениями страны возник разговор о том, не отсрочить ли платежи, которые Советское правительство обязалось сделать Турции согласно Московскому договору. Узнав об этом, Георгий Васильевич возмутился.
— Это значит, — заявил он, — грубо обмануть верящих нам турецких крестьян и ремесленников, опозорить себя перед всеми народами Востока, чтобы ни в чем нам больше не верили, чтобы презирали нас как обманщиков, — и меня лично, подписавшего договор, пригвоздить к позорному столбу перед народами Востока, политически убить. Не могу допустить, чтобы у кого-нибудь поднялась рука поддержать такое предложение, политическое самоубийство. Это самое ужасное, на что я натолкнулся за эти четыре с лишним года.
Через день он снова возвращается к тому же вопросу: «Мне сильно нездоровится, кое-что я принужден отменить на сегодня. Иногда бывают такие кризисы, потом проходит. На меня такое впечатление произвело требование нарушить договор с Турцией, я не помню, чтобы когда-либо было такое переживание. Сегодня едва двигаюсь».
В поддержку Чичерина, как и раньше, выступил Ленин. Он заявил, что «Чичерин
После сессии ВЦИК работа закипела с новой силой, к концу февраля подготовка к конференции была закончена. И вдруг стало известно, что конференция отложена под предлогом правительственного кризиса в Италии. Узнав об этом, 25 февраля 1922 года Ленин связывается с Чичериным по телефону и дает ему указание: «ноту по поводу отсрочки Генуэзской конференции без указания срока следует составить в самом наглом и издевательском тоне, так, чтобы в Генуе почувствовали пощечину» и тем самым «помочь выиграть то, что все пацифистские элементы буржуазии будут во всем мире усилены»[42].
В тот же день Чичерин направил министру иностранных дел Италии Торретта и министру иностранных дел Англии Керзону резкую обличительную ноту. А сам воспользовался перерывом для того, чтобы спокойно изучить все собранные материалы и еще раз детально продумать тактику. Особенные размышления вызывало ленинское требование увязать вопрос о долгах с вопросом о предоставлении России кредитов.
В конце марта поступили сведения о совещании экспертов западных стран в Лондоне. Совещание выработало условия, на которых предполагалось сотрудничество иностранных капиталистов в восстановлении экономики России. Основным было требование признания Советским правительством долгов царского правительства. Начало явно удручающее.
Чичерину все кажется, что не уяснена полностью позиция отдельных стран, что они все-таки могут выдвинуть много неожиданного. Непременно следует договориться о совместной линии с Прибалтийскими странами и заручиться их поддержкой на конференции. Так рождается план проведения предварительного совещания с правительствами стран Прибалтики.
Правительства Латвии, Эстонии и Польши хотя и с явной неохотой, но все-таки согласились на проведение такого совещания.
28 марта 1922 года экстренным поездом советская делегация отбыла из Москвы.
Первая зарубежная остановка сделана в Риге. Здесь тщательно готовились к встрече. Советская делегация привлекала к себе пристальное внимание. Сюда из разных стран нахлынула масса корреспондентов, многие из них с нетерпением ждали сенсаций и пока распространяли невероятнейшие выдумки и предположения.
Советский поезд прибыл рано утром 20 марта. Везде на пути следования его тепло встречали рабочие. Однако в Риге полиция была начеку. В то время как на перроне вокзала шла дипломатическая церемония с участием самого премьер-министра и министра иностранных дел Латвии Мейеровица со свитой министров и важных чиновников, адъютантов и представителей высшего света, на привокзальной площади буйствовали охранники, пытаясь разогнать демонстрацию рабочих.
После краткого обмена официальными любезностями глава делегации побывал в советском полпредстве на Антоньевской улице, затем нанес визит главе Латвийского государства Чаксте и после этого встретился с представителями Прибалтийских государств.
Встреча не была особо плодотворной, произносились комплименты, и только. Представители Прибалтийских стран или отмалчивались, или искусно уклонялись от конкретных тем, а то и недвусмысленно возражали против того, чтобы решения, принятые на совещании, были обязательны и в Генуе. Было ясно, что советской делегации придется выступать в одиночестве. И все же в результате упорных и терпеливых бесед было достигнуто соглашение о том, что все споры между участниками совещания будут решаться мирным путем, запрещалось также формирование вооруженных отрядов на территории сопредельных с РСФСР государств. Это уже было кое-что.
Ночь накануне подписания протокола Чичерин провел без сна. Генуя не давала покоя: впервые Советская Россия получала возможность использования международной трибуны для провозглашения советских миролюбивых принципов. Все ли удастся?
Но утром на совещании с прибалтами Георгий Васильевич вновь был весел, много шутил. Соглашение с ними было шагом вперед на большом пути будущих успехов советской политики. Особенно радовало, что делегаты Эстонии, Латвии и Польши выразили мнение, что делу восстановления Восточной Европы способствовало бы юридическое признание Советского правительства. Это мнение было зафиксировано в протоколе совещания.
В последующие дни буржуазная печать очень сердилась. «Мейеровиц попался на чичеринскую удочку», — язвили французские газеты. Обеспокоенный откликом западных стран, Мейеровиц выступил в печати с утверждением, что пресса слишком уж преувеличивает значение рижского протокола. Чичерина возмутил поступок Мейеровица. Особенно вероломным выглядело утверждение, будто вопрос о признании Советской России де-юре на совещании вообще не ставился. Бесстыдство, помноженное на трусость провинциала, играющего в большую политику, — так квалифицировал он поведение министра.
Необычной была встреча с журналистами. Многие из них в избытке приготовили провокационные вопросы, надеясь, что неопытные советские дипломаты допустят промах. Чичерин разочаровал их.
В приемном зале советского представительства собралось тогда примерно сорок журналистов Америки, Англии, Франции, Германии, Швейцарии, Дании, Бельгии.
Нарком начал свое выступление по-английски:
— Господа, имея представление об органах печати, которые вы здесь представляете, я хотел бы ознакомиться с вашими сообщениями несколько раньше, чем они попадут на страницы газет…
В ответ не раздалось ни слова, в зале воцарилось какое-то тихое недоумение. Выяснилось, что большинство его просто не поняло, так как английский язык был им незнаком.
— Хорошо, — сказал Чичерин и произнес ту же фразу по-французски.
И снова недоумение — его опять не поняли. Тогда он спросил по-русски, на каком же языке он должен с ними беседовать?
— На русском, — обрадованно закричали из зала.
Чичерин улыбнулся и произнес свое краткое выступление. Журналисты лихорадочно записывали. Лишь американец Поу сидел безучастно, русского языка он не знал, и ему пришлось довольствоваться первой фразой Чичерина, сказанной по-английски.
На следующий день газеты нещадно ругали советского наркома и за краткость выступления, и за обтекаемость ответов. «Подумать только, — возмущались газетчики, — он собирался подвергнуть свободную печать красной цензуре!»
Но антисоветской сенсации так-таки и не получилось.
Промелькнула Восточная Пруссия, Данцигский коридор, и вот 1 апреля 1922 года советская делегация в Берлине. Прямо с поезда Чичерин отправился в Русское бюро по делам военнопленных — так официально именовалось советское представительство. Здесь состоялось совещание. Нужно было попытаться еще до Генуи добиться сепаратного соглашения с Германией, взломать единый империалистический фронт. Что сделано в этом смысле? — спрашивает нарком. В принципе соглашение с Германией о восстановлении дипломатических отношений уже готово. В Германии сильна группировка, в которую входил канцлер Вирт, выступающая за нормализацию отношений с Россией, что дало бы Германии возможность более свободно маневрировать на Западе. Против был настроен недавно назначенный министром иностранных дел Ратенау. Он откровенно провозгласил лозунг сближения с Англией, Россия для него была лишь «областью колонизации».
Чичерин был принят Виртом и Ратенау. Это была странная встреча, его собеседники что-то не договаривали, осторожничали, видимо, стеснялись друг друга.
Чичерин испытывал неприятное чувство, когда Ратенау рассыпался в любезностях, заверял в дружбе и одновременно старательно обходил все, что могло бы быть истолковано как желание идти на сближение. Обычное двуличие буржуазных дипломатов у Ратенау было как-то особенно отвратительно. Георгий Васильевич понимал, что его партнер был склонен по-торгашески набивать себе цену, а сам готов в то же время продаваться тому, кто больше даст, тайно рассчитывая, что это все-таки будет не Россия, а Англия.
За первой бесплодной встречей последовала вторая, третья…
Большую заинтересованность в налаживании связей с Советской Россией проявили промышленники. Они несколько раз возвращались к разговору о «плане Ратенау». Каждый раз Чичерин весь вскипал от негодования, но внешне оставался корректен, вежлив, уходил от обсуждения их колонизаторских намерений и подчеркивал выгоды торговли с Советской Россией на равных основаниях. Пришедший первым на русские рынки получит больше. Кто будет первым, зависит не от советской стороны.
И каждый раз после таких встреч Георгий Васильевич возвращался расстроенным. В окружении своих людей он отбрасывал в сторону дипломатическое спокойствие и откровенно выговаривался, облегчал душу. Немало крепких слов раздавалось по адресу и Ратенау, и его окружения.
— Когда я гляжу на Ратенау, жмущего вам руку, мне кажется, что он про себя говорит: «Как жаль, что это не английские руки!» — сказал как-то один из членов советской делегации.
Это действительно было так. Но нарком верил, что немцы все равно будут вынуждены пойти на соглашение. Он замечал не только антисоветские настроения, но и настроения в пользу сближения с Россией, и у него рождался конкретный план будущих действий. Берлинские встречи, таким образом, не были безрезультатными.
4 апреля советская делегация направилась в Геную. В свое купе Чичерину пришлось взять корреспондента австрийской газеты «Нойе фрайе прессе» Лео Ледерера. Как удалось корреспонденту уговорить Чичерина на такое соседство, неизвестно, но журналист проехал с ним весь путь до итальянской границы. Позже он рассказывал, что его удивила огромная кипа газет почти на всех европейских языках, которые нарком вместе с руководителем группы печати обрабатывал, вылавливая из многочисленных сообщений нужные ему факты.
Ледерера также несказанно поразило, что поверх одной из пачек газет лежал маленький букетик первых весенних цветов. «С этого букета, с газет, — писал корреспондент, — взгляд Чичерина перескакивает на тирольские горы, которые не чужды ему. Узкое с белокурой бородой лицо отражает глубокую умственную работу. Одновременно руководитель русской делегации излагает мне свои идеи относительно конференции в Генуе и политической ситуации, в которой она будет происходить». Сентиментального австрийца на каждом шагу поражает несоответствие облика Чичерина с тем стандартным типом «ужасного» большевика, который все еще кочует по страницам западных газет, поражает грустный, немного лирический взгляд комиссара, непрерывно останавливающийся на маленьком букетике цветов. Еще больше поражает, что «русская делегация едет в Геную с огромной решимостью и не собирается садиться на скамью попрошаек».
Чичерин доказывает Ледереру, что представители капиталистических стран прежде всего должны расстаться с иллюзией, будто новое правительство России не пользуется поддержкой народных масс.
В записи корреспондента слова Чичерина переданы так:
— Программа, с которой мы выступаем в Генуе, является компромиссом. Но это не компромисс случайностей и настроений, это также не компромисс, порожденный теоретическими соображениями и решениями центральной инстанции. Этот компромисс порожден самой жизнью, это компромисс между требованиями экономики и волей пролетариата, который стремится сохранить свою свободу и свои завоевания…
Это не произвольное решение центральной инстанции, а общая воля самых широких масс русского народа, когда в Генуе мы будем придерживаться трех основных принципов: неприкосновенность наших суверенных прав, сохранение жизненно важных экономических позиций в руках Советской власти и сохранение социальных завоеваний рабочего класса. Это воля миллионов, которую мы выражаем, заявляя, что мы содействуем производству, ставим перед собой цель — восстановление русской и мировой экономики, развиваем экономические отношения со всеми странами, всеми средствами содействуем делу мира и одновременно придерживаемся этих трех основных принципов.
Четыре часа подряд беседуя с австрийским журналистом, Чичерин надеялся, что какая-то доля ленинских мыслей попадет на страницы западных газет, заставит людей задуматься над тем, что же в конце концов собирается нести миру социализм, начавший свое шествие в «медвежьем углу» Европы.
На итальянской границе корреспондент наконец покинул купе. Была уже ночь, но только теперь, избавившись от посетителя, Чичерин получил возможность сосредоточиться. Озабоченность предстоящими переговорами не покидала его.
Когда поезд прибыл в Геную, несмотря на раннее утро, вся площадь перед вокзалом оказалась заполненной народом. Пришли итальянские рабочие, среди них коммунисты с заводов и из порта, пришли любопытные с соседних улиц. Агенты полиции шныряли в толпе. Коммунисты пришли с красным знаменем, вмешалась полиция. Произошла драка. Знамя было отобрано. Однако полиция лишь оттеснила, но не смогла разогнать демонстрантов. И как только от вокзала тронулись автомобили с членами советской делегации, над толпой понеслось: «Эвива! Эвива!» Рабочая Италия приветствовала посланцев героической страны.
Из Генуи советская делегация была прямо доставлена в Санта-Маргериту. Разместили ее в отеле «Империале». Здесь, на привокзальной площади, никого не было: полиция заранее позаботилась, чтобы оттеснить встречающих в близлежащие переулки. Когда сгружали вещи, один из многочисленных полицейских, указывая на самый большой контейнер, обратился к советскому дипломату Эрлиху с вопросом:
— Синьор инженере, правда ли, что в этом контейнере привезли Ленина?
В ответ раздался дружный смех всей советской делегации.
«На самом же деле, — вспоминает А. Н. Эрлих, — в контейнерах находилась часть библиотеки НКИД, которую Чичерин привез на конференцию. Она состояла из большого количества редчайших исторических томов дипломатических актов и договоров, заключенных не только накануне октября 1917 года, но и во время царствований Павла, Екатерины, Елизаветы, Петра I, Бориса Годунова и других царей. Многие из этих томов были в кожаных переплетах, с металлическими застежками и инкрустациями. Часть книг была напечатана еще во время первопечатника Ивана Федорова, а часть написана от руки с красивыми заглавными буквами и заставками. Во время постоянных вызовов к Чичерину по разным делам мне неоднократно приходилось видеть эти «фолианты» и книги, разбросанные по огромному столу, который стоял посередине комнаты. Разобраться в этом хаосе редчайших уникумов и исторических документов мог только Чичерин, который никого не допускал к этим книгам».
В «маленький рай», как восторженно писали буржуазные газеты о Санта-Маргерите, вход с первого дня охранялся так, что в него без ведома полицейского архангела не смогла бы пролезть и муха. Итальянские карабинеры были у ворот, на террасе, напротив отеля и даже сидели прямо на тротуаре. В сотне метров от набережной, где располагался отель, высилась громада итальянского военного корабля, который прикрывал доступ с моря.
— Под видом охраны, — вспоминал член делегации Я. Э. Рудзутак, — мы были поставлены примерно в такие же условия, в каких живут заключенные в Бутырках. Со всех сторон советские дипломаты были окружены конвоями. Итальянские власти хотели Италию обезопасить от красных.
Русская делегация протестовала. Чичерин настаивал на ограничении охраны разумным числом, убеждал, что никто не собирается покушаться на русских, об этом писали здешние газеты. В доказательство этого он в первый же день совершил без охраны прогулку по Санта-Маргерите. Все было напрасно, итальянские чины только разводили руками и повторяли одно и то же: эти меры приняты для охраны делегации, ничего поделать нельзя.
Власти не ограничились этим. Делегация была лишена прямой связи с Москвой, в результате ее информация поступала туда окольным путем. К тому же телеграммы на итальянской почте так искажались, что в Москве их не могли прочесть.
Санта-Маргерита была связана с Генуей железной дорогой, этим путем часто пользовались сотрудники советской делегации. Вагоны были большие, просторные, с мягкими креслами и окнами почти во всю стену. Из окон открывались прекрасные виды.
Усиленная охрана и полная изоляция русских при их скромности и вежливых, но решительных уклонениях от каких-либо интервью и бесед — все это окружило советскую делегацию таинственностью, вызывало растущее любопытство. К тому же газеты охотно распространяли нелепости, вроде того, что Чичерин итальянского происхождения, что какая-то итальянская графиня из древнего рода Чичериных устроила прием в честь этого «заблудшего отпрыска», на приеме была представлена вся знать, но сам Чичерин не явился. Писали, будто накануне отъезда делегации в Геную большевики приняли специальное постановление о том, чтобы Чичерин обязательно носил цилиндр, каковой ему купили в Берлине, но, садясь в австрийский поезд, он забыл его на вокзале. И многое другое в этом же роде.
В день открытия конференции, утром 10 апреля 1922 года, Чичерин и Литвинов посетили председателя совета министров Италии Факту и в течение часа беседовали с ним. Досужие журналисты дознались, что обсуждалась повестка дня и что Чичерин выразил желание Советского правительства непременно прийти к соглашению.
Накануне конференции стало известно, что Пуанкаре на нее не явится, у него оказались неотложные дела в Париже, вместо него приехал Барту, что США окончательно отказались от участия в европейской конференции. Зато в Геную прибыл английский премьер Ллойд Джордж.
С самого утра улицы города были заполнены народом. Экспансивные итальянцы жаждали увидеть посланцев таинственной северной страны. На улицах, особенно у королевского дворца, можно было заметить усиленные наряды карабинеров и гвардейцев: власти опасались возможных недоразумений.
Уже за несколько часов до открытия конференции небольшой зал дворца Сан-Джорджо, нелепые украшения которого так возмущали эстетов, постепенно заполнился представителями итальянской знати. Обстановка была явно неделовая и скорее походила на театральное представление, где в роли актеров предполагалось выпустить известных политических деятелей. Сверкало золото военных мундиров, откровенные туалеты дам дополняли картину светского раута. Привлекало внимание собравшихся красное пятно кардинальской мантии — генуэзский архиепископ явился на конференцию в роли неофициального представителя самого папы римского.
Журналистов загнали на хоры, на эту малоуважаемую публику не хотели тратить приличные места.
С двух часов начали прибывать делегаты. Они размещались за П-образным столом. Около трех часов прибыл Факта, за ним Ллойд Джордж. Теперь глаза всех посетителей устремились на пустующие места между делегациями Румынии и Сербии: ждали русскую делегацию.
Ей аристократическая публика давно уже отвела комедийно-трагическую роль: ведь, право же, смешно, когда собираются безжалостно взыскать с небогатого должника все полной мерой.
Ровно в три, с последним ударом часов, в зал вошла советская делегация. В спокойном молчании посланцы далекой и такой непонятной страны заняли свои места.
По предложению Ллойд Джорджа председателем конференции был избран итальянский премьер Факта.
Слово взял Барту. Его речь слушали с вниманием, временами раздавался шепот одобрения.
— Европа усеяна революциями, — заявил француз. — Было бы безумием думать, что взмахом волшебной палочки можно сразу соорудить на этой груде обломков очаровательный замок ее восстановления…
Барту разглагольствовал о том, что цель конференции состоит в поддержании мира, в поисках путей для восстановления разрушенной экономики, в предоставлении работы миллионам безработных. Оратор пленил собравшихся отточенной, продуманной до мелочей речью. Его выступление вызвало шумное одобрение всего зала.
Аплодировали и Вирту, но уже более сдержанно.
Наконец слово предоставляется Чичерину. Внешне руководитель советской делегации остается совершенно спокоен. Он говорит на французском языке. Уже этого не ожидали многие из сидевших в зале — у большевика вдруг блестящий французский язык! Русский комиссар говорит о том, что Советское правительство выступает за мир, и поэтому он с особым удовольствием поддерживает предыдущих ораторов.
— Оставаясь на точке зрения принципов коммунизма, — продолжает Чичерин, — российская делегация признает, что в нынешнюю историческую эпоху, делающую возможным параллельное существование старого и нарождающегося нового социального строя, экономическое сотрудничество между государствами, представляющими эти две системы собственности, является повелительно необходимым для всеобщего экономического восстановления. Российское правительство придает поэтому величайшее значение первому пункту Каннской резолюции о взаимном признании различных политических и экономических форм, существующих в настоящее время в разных странах.
Так с трибуны Генуэзской конференции впервые в истории международных отношений прозвучали ленинские идеи мирного сосуществования государств различных систем собственности.
Чичерин заявил, что Советская Россия готова предоставить иностранным фирмам концессии, что она готова всеми силами содействовать укреплению мира и что в ходе конференции советская делегация внесет конкретные предложения по сокращению вооружений.
— Я считаю нужным еще раз подчеркнуть, что в качестве коммунистов мы, поскольку это нас касается, не делаем себе особых иллюзий о возможности действительного уничтожения последствий войны и экономических кризисов при современном положении вещей, но мы тем не менее готовы содействовать в интересах России и всей Европы, в интересах десятков миллионов людей, которым современная экономическая дезорганизация причиняет нечеловеческие лишения и страдания, всяким попыткам исправить мировое экономическое положение и устранить опасность новых войн, даже если эти попытки были бы паллиативами. Мы готовы поддержать всякие прогрессивные предложения, сделанные в этом смысле другими странами.
До начала конференции Чичерину стало известно, что Ллойд Джордж знает лишь английский и кельтский языки. И он решается на поступок, который, может быть, и не предусматривается никакими процедурными правилами, но который сразу же привлекает к советскому дипломату еще большее внимание: Чичерин повторил слово в слово свое выступление специально для Ллойд Джорджа на столь же блестящем английском языке, как только что на французском.
Лишь после этого Чичерин сел, и сейчас же Барту снова попросил слова. Ему изменило спокойствие, он говорил запальчиво, без дипломатических уловок. Позже буржуазные дипломаты станут затрагивать тему о разоружении более осторожно, но 10 апреля 1922 года Барту говорил прямо, без стеснения:
— Но имеется еще третий вопрос, обсуждение которого Франция отвергла, и я не выполнил бы своих обязанностей главы французской делегации и представителя Франции, если бы теперь же не заявил энергичного протеста по поводу этого вопроса. Господин Чичерин заявил от имени российской делегации о своем намерении внести в прения на Генуэзской конференции вопрос о разоружении. Вопрос этот исключен, он не стоит в порядке дня комиссий. Вот почему я говорю просто, но очень решительно, что в тот час, когда, например, российская делегация предложит первой комиссии рассмотреть этот вопрос, она встретит со стороны французской делегации не только сдержанность, не только протест, но точный и категорический, окончательный и решительный отказ.
Чичерин спокойно ответил, что Советскому правительству хорошо известна эта точка зрения. Еще в Вашингтоне Бриан утверждал, будто причиной, заставляющей Францию вооружаться, является вооружение России. Естественно было предположить, что если Россия согласится разоружиться, то тем самым будет устранена та причина, на которую ссылался Бриан.
В зале оживление, многие почувствовали, что советская делегация заняла сильные позиции. Чичерин же сразу завоевал симпатии публики, хотя его речи и не изобиловали пышными, цветистыми оборотами.
Итальянская газета «Коррьера делла сера» писала о заседании: «Речь Барту вызвала мало аплодисментов со стороны делегатов. Его горячо приветствовали лишь французские журналисты, но в ответ им раздалось шикание…
На скамье французских делегатов шел живой обмен мнениями в тот момент, когда поднялся Чичерин. Тут заседание принимает высокодраматический характер. Речь Чичерина вызвала в одной части аплодисменты, после которых воцарилась тишина, полная открытой тревоги».
Чичерину первый же день конференции принес небывалую популярность. Его имя склоняли все газеты мира, с их многочисленных страниц смотрели его портреты, звучали его слова. Тысячи глаз следили за ним, тысячи ушей ловили сказанное им слово. «Sic itur ad astra!» — «Так поднимаются к звездам!» — немного грустно подвел он итоги первого дня конференции.
Здесь, в Генуе, «просвещенная» Европа с удивлением заметила, как презираемая ею страна выходит на арену большой мировой политики, а ее представители демонстрируют изумленному миру идейную убежденность, волю и высокую культуру. Такого сочетания, блестящих дипломатических качеств у русских никто не ожидал. «Чичерин — один из великих людей», — сорвалось признание со страницы буржуазной газеты «Берлинер цейтунг». Чичерин, писал западный дипломат Гильгер, «умел представлять интересы своей страны на международных конференциях с таким большим достоинством, такой замечательной эрудицией, блестящим красноречием и внутренней убежденностью, что даже его противники не могли не относиться к нему с уважением».
Популярность советской делегации доставила много хлопот: приходилось обрабатывать горы информационных материалов и различной корреспонденции. Авторы бесчисленных телеграмм и писем приветствовали русскую делегацию и желали ей успехов, инженеры предлагали услуги в развитии промышленности, вечные «искатели правды» слали прожекты переустройства мира на основе разнообразных философских систем. Предлагал свои услуги даже какой-то кружок кладоискателей.
Прислала Чичерину письмо и Бриджес Адамс. Она помнила неутомимого русского друга и желала ему успехов. А вскоре не выдержала и сама приехала в Геную. Чичерин охотно принял ее, но, как это часто бывает после долгой разлуки, встреча показала, что их давно уже ничто не объединяет. Прошлое ушло, и в настоящем не оказалось места друг для друга. Встреча была грустной, оба понимали, что больше никогда не увидятся.
Дуэль Чичерин — Барту несколько обеспокоила и Ллойд Джорджа. Английский дипломат опасался, что непримиримая позиция заведет конференцию в тупик. Это не входило в планы Лондона. Верные традициям классической дипломатии компромиссов, англичане начали действовать: советской делегации намекнули, что Ллойд Джордж хочет встретиться с нею на вилле Альбертис в местечке Куарто-деи-Милле. Предложение было принято.
Чичерин со своими коллегами 14 апреля тотчас после возложения венка на могилу итальянского революционера Мадзини прибыл к Ллойд Джорджу. Каково же было удивление делегатов, когда там их встретили не только хозяин, но и главы французской, итальянской и бельгийской делегаций! Два дня шли с ними упорные переговоры. Ллойд Джордж преподнес Чичерину «лондонский меморандум» с далеко идущими требованиями к РСФСР, как то: признания долгов, возвращения владельцам их собственности и даже отмены монополии внешней торговли. В общем, это было требование капитуляции, с чем не могла согласиться любая суверенная страна.
— Россия заводит конференцию в тупик, она возьмет на себя ответственность за ее срыв, если не примет лондонский меморандум, — шантажировали русских западные дипломаты.
— Валить все на русских, как на «козлов отпущения», не удастся, — парировал Чичерин.
Вспоминая позже об этих двух днях, Георгий Васильевич писал:
«Когда во время переговоров в вилле Альбертис… наша делегация упомянула о том, что народные массы России относят царские долги к абсолютно отошедшей в прошлое старой исторической эпохе, Ллойд Джордж изумленно засмеялся и сказал: «Неужели они думают, что им ничего не придется платить?» Когда до его сведения была доведена схема наших контрпретензий, он сказал: «Если вы с этим приехали в Геную, можно было бы совсем не приезжать».
После своего падения он в ряде статей в английских газетах чрезвычайно резко обрушивался, с одной стороны, на Францию, а с другой стороны, на Советскую республику и, между прочим, сильно выругал меня, как «воплощенный дух смутьянства (мисчиф)».
Конечно, совещания на вилле Альбертис за закрытыми дверьми не ускользнули от внимания политических наблюдателей. В Генуе распространились слухи: Англия идет на сближение с большевистской Россией, в самые ближайшие дни надо ожидать сепаратного соглашения между ними. Чичерин в этих условиях решает: слухов не опровергать, а в разговорах с германскими дипломатами правдиво излагать ход переговоров с Ллойд Джорджем и не бояться, если у недоверчивых собеседников возникнут подозрения, что русские чего-то не договаривают, что неспроста англичане пошли на встречу. Буржуазная дипломатия привыкла лгать и пусть станет жертвой собственных заблуждений.
Немецкая делегация и впрямь плохо скрывала нервозность. Ратенау, считавший себя искусным дипломатом, надеялся, что в Генуе удастся добиться вожделенной цели — заложить прочные основы англо-германских отношений. Трижды просил он Ллойд Джорджа о свидании, трижды получал оскорбительный отказ. Несмотря на это, он не терял надежд и все боялся, что ему помешают, что Вирт пойдет навстречу Чичерину. Для этого у него были основания — здоровый и глубоко реалистический инстинкт немецкого канцлера Вирта толкал его на сближение с Россией. Он видел — другого пути у Германии нет.
В поздний субботний вечер 15 апреля, когда советские дипломаты покинули виллу Альбертис, так ни до чего не договорившись, до немецкой делегации дошли слухи, будто русские в принципе согласовали с англичанами общую позицию. Весь вечер немцы мрачно сидели в вестибюле своего отеля и поздно отправились спать в состоянии сильного упадка духа.
В два часа ночи члена немецкой делегации Мальцана разбудил лакей и сообщил, что с ним желает поговорить по телефону какой-то господин с очень странной фамилией. Мальцан подошел к телефону. Заведующий экономическо-правовым отделом НКИД Сабанин, а это был он, сообщил просьбу Чичерина приехать 16 апреля в резиденцию русской делегации, чтобы продолжить переговоры, начатые в Берлине. И все. Мальцан пошел сказать об этом Ратенау. Министр не спал.
— Вы, вероятно, принесли мне смертный приговор? — трагическим тоном спросил он Мальцана. Тот успокоил Ратенау, сообщив, что ничего не знает о русско-английских делах, а вот Чичерин хочет его видеть. Ратенау тотчас собрал всю делегацию, и в эту предпасхальную ночь состоялось то самое совещание, которое позже в германском МИД окрестили «пижамным». Это было странное зрелище — дипломаты, забыв об этикете, в ночных туалетах обсуждали, что же делать дальше. Лишь в пять часов утра русским сообщили, что немецкая делегация, несмотря на праздник, прибудет на переговоры. У Ратенау оставалась последняя возможность! Он помчался к телефону и попросил соединить его с английским дипломатом Уайзом. Ему ответили, что Уайз спит и приказал себя не будить. Ратенау настаивал, ему вежливо отказали. Замыслы немецкого министра на сближение с Англией окончательно провалились.
Через несколько часов, когда германские дипломаты были в автомобиле, чтобы ехать в Санта-Маргериту, Ратенау сообщили, что его просит к телефону Ллойд Джордж. Ратенау помедлил какое-то мгновение и со словами: «Le vin est tire, il faut le boire»[43], — махнул рукой. Машина тронулась, а спустя несколько часов был подписан знаменитый русско-немецкий договор, вошедший в историю под названием Рапалльского. Договор обеспечивал восстановление дипломатических и консульских отношений между РСФСР и Германией, открывал возможности установления тесных взаимовыгодных торговых и хозяйственных отношений, стороны взаимно отказывались от претензий друг к другу.
Чичерин прекрасно понимал, что пойти на подписание договора Германию вынудило развитие событий, которые предсказал Ленин. Искусство советской дипломатии заключалось в упреждении событий и их блестящем использовании. Пять лет спустя в одном из писем к Литвинову, отвечая на высказанную последним мысль о том, что в генуэзское время Германия якобы была весьма дружественно настроена по отношению к России, Чичерин разъяснил: «В действительности теперь Германия вовсе не враждебна, а раньше не была дружественной. Когда Германия была наиболее угнетенной, при Гаазе, Шейдемане, Бауэре, Германе Мюллере, она относилась к нам хуже всего и пресмыкалась перед Антантой. Она стала лучше относиться к нам, когда начала выкарабкиваться. Но еще Ратенау в Каннах предложил известную резолюцию, по которой Германия была бы оружием Антанты для эксплуатации РСФСР… Ратенау побежал в Рапалло и поспешил подписать договор, потому что боялся, что Англия договорится с нами и перестанет нуждаться в Германии для операций против нас».
Заключенный 18 апреля 1922 года договор между РСФСР и Германией стал важнейшим документом в истории дипломатических отношений, его значение ощущалось многие десятилетия. Участники Генуэзской конференции — кто со злорадством, кто с негодованием, но никак не безразлично — были вынуждены признать, что русские и немцы одурачили Антанту. Внешнеполитическая изоляция, шантаж и угрозы оказались бессильными; Советская Россия утверждала себя на международной арене, чтобы по принадлежавшему ей праву неотвратимо влиять на развитие мировых событий.
Прекрасным ответом на попытки ворчунов приуменьшить значение Рапалльского договора был ленинский проект резолюции ВЦИК. В нем отмечалось, что делегация правильно выполнила свои задачи и ВЦИК приветствует Рапалльский договор как единственно правильный выход из затруднений, хаоса и опасности войны, признает нормальным для отношений с капиталистическими странами лишь такого типа договоры и поручает СНК и НКИД вести политику в этом духе.
На следующий день после подписания договора в буржуазной печати поднялась буря возмущения русско-германскими действиями. Еще бы, расчеты Ллойд Джорджа, Барту и всей антантовской компании рухнули. Им не удалось навязать Советской России кабальных обязательств.
Рапалльский договор явился полной неожиданностью для участников конференции. «Русское пасхальное яичко» взбесило до невероятности Барту. В письме Чичерину он грозно заявил, что Франция рассматривает договор как враждебный акт, направленный против нее. Чичерин спокойно разъяснил не в меру вспыльчивому французу, что договор не затрагивает интересов Франции и служит единственной цели — упорядочить отношения между РСФСР и Германией в интересах обеих наций, а следовательно, и всей Европы.
Противники русско-германского сближения попытались интриговать, распространяли злонамеренные слухи, чтобы дискредитировать и договор, и подписавшие его делегации. Они прибегли к излюбленному приему буржуазной дипломатии — грубому нажиму на обе делегации. Искусно подогреваемые ими слухи о том, что германскую делегацию отстраняют от дальнейшего участия в конференции, ввергли дрожавшего за свою карьеру Ратенау в глубокое уныние. Советской делегации пришлось потратить немало усилий, чтобы успокоить немца и его коллег и убедить их выступить 22 апреля в печати с сообщением о том, что, по мнению Германии и России, аннулирование Рапалльского договора недопустимо. Противникам договора ничего не оставалось делать, как смириться с дипломатическим поражением.
Советская делегация заняла теперь более прочные позиции, ее активность приобретала действенный характер. Чичерин в письме Ллойд Джорджу 20 апреля твердо заявил о согласии РСФСР признать в целях способствования работе конференции долговые обязательства при условии списания военных долгов и просроченных процентов. И еще при условии, если России будет предоставлена финансовая помощь.
29 апреля нарком в ответ на неутихающие антисоветские страсти во Франции написал письмо Барту. В нем он предупреждал: «Будучи далеким от того, чтобы быть направленным против Франции или против какой-либо другой державы, вышеозначенное соглашение является в намерении Русского правительства лишь началом ряда частных соглашений, которые должны, по мнению русской делегации, дополнить общее соглашение, к которому стремятся державы, собравшиеся в Генуе».
Это было неслыханным: русская делегация перешла в наступление и оповестила всех, что выигранное сражение — это только начало. Одна против всех и тем не менее добивалась успехов.
Папа римский обратился к делегациям стран, поддерживающих дипломатические отношения с Ватиканом, с воззванием: «В исторический час, когда вопрос идет о принятии обратно России в консорциум цивилизованных наций, Святой Престол желает, чтобы религиозные интересы, которые являются основанием всякой цивилизации, были обеспечены в России». В то же время официальные представители римского папы в Генуе несколько раз, на удивление верующим, встречались с отъявленными безбожниками — коммунистами и вели с ними переговоры. Чичерин поразил ватиканских посланцев своими знаниями в области религий и религиозных отношений. Казалось, что этот человек всегда находил тему для разговора и для него не было неизвестных областей человеческих знаний: с экономистами он охотно и долго беседовал об экономике, с историками — об истории, с гурманами — о тонкостях кулинарии и вин. И ни в чем он не был дилетантом. Для многих в Генуе это было настоящим открытием: подумать только, большевик с энциклопедическими знаниями, и в превосходно сшитом фраке! Не случаен тот факт, что после Генуи в книгах некоторых западных политиков появилось утверждение о том, что революцию в России совершили наиболее образованные в Европе люди.
В респектабельном буржуазном обществе советские представители стали «сенсацией № 1». На приемах их всегда окружала такая толпа, что к ним невозможно было пробиться. В ладно пригнанных фраках, в безукоризненно белых крахмальных сорочках, блестящие собеседники, не нуждавшиеся в толмачах, они завоевывали симпатии.
22 апреля муниципалитет Генуи дал банкет в честь участников конференции. Собравшиеся гости с нетерпением ожидали появления советских дипломатов и совершенно забыли о присутствии Ллойд Джорджа. О приеме, который был оказан Чичерину и Красину, писали газеты:
«Они стали предметом всеобщего и открыто выражаемого преклонения, их встречали аплодисменты, (им) подносили цветы, (у них) просили автографы. Вообще отношение демократических слоев Генуи к русской делегации можно считать настоящим триумфом».
Популярность советских дипломатов была столь велика, что им стало затруднительно появляться на улицах Генуи. «Посещение известного генуэзского кафе советской делегацией, — сообщала одна городская газета, — собрало перед помещением громадную толпу народа, среди которой находились лица, старающиеся воспользоваться оказией и побеседовать с советскими дипломатами. Чичерину лишь с большим трудом удалось уйти из кафе боковым ходом».
Рост авторитета советской делегации окончательно вывел из равновесия ее врагов, они начали кампанию угроз и запугивания. Газеты запестрели сообщениями о том, что в Генуе раскрыт белогвардейский заговор против советской делегации, что в городе появился известный террорист Савинков.
Но, конечно, самое большое место в пересудах генуэзского высшего света занял прием, устроенный итальянским королем Виктором Эммануилом на борту броненосца «Данте Алигьери».
Советские и германские дипломаты прибыли на прием в одной моторной лодке. Чичерин, Литвинов, Ратенау и Вирт поднялись по трапу на борт броненосца. Ожидали хозяина приема.
Наконец в сопровождении церемониймейстера на броненосец прибыл король. Ллойд Джордж приветствовал его от имени всех собравшихся.
Король ответил стандартной любезностью и, обойдя выстроившихся дипломатов, подошел к Чичерину и неожиданно для всех вступил с ним в длительную беседу. Дипломаты с явной досадой и недоумением переглядывались. С этой минуты присутствовавшие не спускали глаз с советских представителей. Король, словно забыв об окружающих, оживленно беседовал с русским комиссаром.
Во время завтрака Чичерин снова оказался в центре внимания. В этот день он вообще словно задался целью дразнить падких на сенсации журналистов. Как было подмечено, сосед советского дипломата, генуэзский архиепископ, был весьма рад своему собеседнику, громко смеялся — и подумать только! — дошел до того, что чокнулся с большевиком бокалом шампанского и обменялся с ним автографами.
После завтрака новая сенсация: Чичерин оживленно беседует с… Барту! Некоторым фотографам удалось заснять эту беседу, но, как только Чичерин отошел от главы французской делегации, тот стремительно ринулся к фотографам, умоляя их уничтожить негативы.
Наконец вездесущие корреспонденты завладели вниманием русского наркома.
— О чем я беседовал с королем? Конечно, о моих итальянских предках, мне пришлось дать краткую историческую справку. А кроме того, нам пришлось побеседовать о развитии торговых отношений между Италией и Россией…
— Что можно сказать о беседе с архиепископом? Речь, естественно, шла о религии. О чем же мы могли еще разговаривать? Мне пришлось сообщить, что в России существует американская система религиозной терпимости, и опровергнуть, кстати, некоторые ваши сообщения. Кроме того, папа считает необходимым послать в Россию делегацию для оказания помощи голодающим. Вот, пожалуй, и все…
1 мая случилось то, чего больше всего опасалось итальянское правительство: рабочие Италии объявили всеобщую забастовку. Она проходила под лозунгом всемерной поддержки Советской России. Желая предупредить события, правительство провозгласило 1 Мая нерабочим днем, но одновременно запретило проведение демонстраций. И все-таки рабочие Италии вышли на улицы с красными знаменами и лозунгами, приветствовавшими русский народ. Полиция разгоняла рабочих, фашисты провоцировали побоища. Первомайские демонстрации международной солидарности рабочего класса придали новые силы советской делегации.
Отмечали день пролетарской солидарности и русские. В гостинице «Империале» советская делегация устроила прием, собрались представители рабочих. Об этом вечере советский дипломат А. Н. Эрлих вспоминает: «Вечер носил неофициальный характер, без обильных угощений, с выступлениями членов советской делегации в порядке самодеятельности. Было много веселья и шума. Первым выступил Георгий Васильевич Чичерин. Исполнение Лунной сонаты Бетховена, произведений Чайковского, Дебюсси и других композиторов вызвало всеобщее восхищение. Мастерство игры на рояле показало большой вкус Чичерина, тонкое понимание музыки и прекрасную технику. Сидя за роялем, Чичерин как бы преображался. Его лицо становилось одухотворенным, поза была очень красива, руки с длинными пальцами прекрасны. Игра Чичерина доставила большое удовольствие всем присутствовавшим на вечере. Ему долго аплодировали и просили сыграть еще и еще».
В начале мая Чичерин вновь встретился с Ллойд Джорджем, за этой встречей последовала вторая, третья. Английская делегация пыталась оказать давление на советских представителей, злоупотребляя своим международным авторитетом и силой. Русские оставались непреклонными.
— После всех этих бесед, — говорил Чичерин, — я почему-то вспоминаю строфу из популярной в Англии песенки. Ее прислал в свое время в одном из обзоров Красин. В ней есть такие слова:
Весь мир — куча сена,
Везут его люди-ослы,
Везут каждый по-своему.
Всех возглавляет Джон Буль.
Так и подмывает сказать: не забывайте, что мы, во-первых, не ослы, во-вторых, Джон Буль нас никогда не возглавлял и не возглавит, и, в-третьих, мы поведем мир совсем другим путем…
Встречи продолжались. И каждый раз во французских газетах поднималась буря возмущения по адресу вероломной Англии. Встречался Чичерин и с делегациями других стран: после Рапалло буржуазные дипломаты смотрели друг на друга как на жуликоватых конкурентов, которые могут безбожно надуть. Единство западных стран трещало по всем швам. Некоторые под большим секретом, шепотом передавали, что русские сулили выгодные сделки. Так выдавали мечту за действительность, рынки России притягивали как магнит, возбуждали алчные аппетиты и распаляли коммерческую жадность.
В воскресенье, 14 мая, весь день на вилле Альбертис проходило совещание за закрытыми дверями между Ллойд Джорджем, Барту, Шанцером и другими представителями стран Антанты. Выло решено: конференцию в Генуе пора кончать, открыть новую конференцию в Гааге, созвать комиссию экспертов по обсуждению «русского вопроса», но уже без участия русских. Не прошло и часа, как решение стало известно Чичерину, а еще через три часа Шанцер уже читал советскую ноту. Исключение советской стороны из состава комиссии экспертов неправомочно, советская делегация решительно протестовала также против запрещения кому-либо заключать сепаратные договоры с Россией о концессиях в период работы Гаагской конференции. Советская делегация требовала созыва политической комиссии для того, чтобы она могла изложить свою точку зрения по поводу принятых на вилле Альбертис решений.
Это было столь неожиданной и молниеносной реакцией, что Шанцер заметно растерялся. Утром он встретился с Чичериным и вместо того, чтобы доводить до его сведения решения, принятые на вилле Альбертис, стал оправдываться. Он заявил, что никто не лишал другие государства права заключать договоры с Россией, что эти государства могут выйти из комиссии и заключать какие угодно договоры. Вскоре на помощь Шанцеру прибыл сам Ллойд Джордж. Теперь они оба пытались воздействовать на Чичерина, но тот не сдавался.
В тот же день, 15 мая, в спешном порядке за спиной советской и немецкой делегаций было созвано заседание политической комиссии. Шанцер рассказал о беседе с Чичериным. Долго обсуждали создавшееся положение, но предложить что-либо не могли, с решимостью русских приходилось считаться.
Участники заседания подтвердили решения, которые были выработаны на вилле Альбертис, в том числе и пункт об исключении Германии из числа участников Гаагской конференции под тем предлогом, что она уже урегулировала свои отношения с Россией.
На следующий день вновь была созвана политическая комиссия. Факта раздал участникам документ под названием «Проект статей, подлежащих сообщению российской делегации» (те самые решения, которые были приняты на вилле Альбертис).
Чичерин тотчас же заявил, что русская делегация знает содержание документа лишь из сообщений печати и поэтому ей необходимо время, чтобы ознакомиться с ним. Ему предложили прочитать его здесь же. Чичерин пробежал документ глазами, потом сказал, что желает задать несколько предварительных вопросов.
Рассерженный Шанцер почти закричал в ответ, что документ окончательный и никаким изменениям подвергаться не может.
— Здесь не Версаль, — спокойно парировал Чичерин, — все участники равны. Все могут вносить изменения и просить о поправках. Почему в документах опущен пункт о признании РСФСР де-юре?
Ллойд Джордж заговорил о том, что признание будет зависеть от результатов работы конференции, а также от того, будет ли выполнена каннская резолюция.
Чичерин возразил против места созыва конференции в Гааге: ведь РСФСР не имеет никакого договора с Голландией. Участники заседания, явно застигнутые врасплох, дали какой-то маловразумительный ответ.
Чичерин наступал:
— Когда державы, представляющие одну систему государственных понятий собственности и объединенные интересами определенных групп населения, обсуждают совместно относящиеся к этим понятиям вопросы и выносят по ним определенные решения — это понятно. Но разве вопрос о месте сбора комиссий тоже принципиальный, который не может быть разрешен с государством, представляющим другую систему?
Ответа не последовало, заседание было прервано.
На следующем заседании Чичерин продолжил наступление. Цель политической комиссии, говорил он, — это совместно с Россией выработать общие решения. В результате же получилось прямо противоположное — русскую делегацию пытались оттеснить от переговоров, ей стремились навязать принятые без ее участия решения.
Делегаты Антанты промолчали, им нечего было возразить.
— Мы приехали в Геную с той целью, — продолжал нарком, — чтобы, несмотря на различие экономических систем, вместе работать над реконструкцией Европы. Но вместо этого другие державы предпочли разбить конференцию на две стороны, кредиторов и должников, и ту же систему хотят применить в будущем. Мы сожалеем об этом, но принимаем это как факт. Русская делегация, в частности, возражает против исключения Германии из числа участвующих в предстоящей конференции государств.
Чичерин предложил созвать конференцию не в Гааге, а в Лондоне или Риме.
Ллойд Джордж отклонил это предложение, его поддержали все, кроме русских. Чичерин невозмутимо молчал, западные дипломаты растерянно переглядывались. Наконец Шанцер не выдержал и прямо в лоб, без дипломатической деликатности, задал Чичерину вопрос, который у всех вертелся на кончике языка:
— Поедет или нет русская делегация в Гаагу?
— Может ли конференция дать гарантии того, что русская делегация будет пользоваться там неприкосновенностью? — в свою очередь, спросил Чичерин.
Этот, казалось бы, такой простой, но логичный вопрос вызвал новое замешательство. Шанцер, затеявший эту перепалку, медлил. Ему на помощь поспешил голландский посланник. На виду у всех они мучительно долго перешептывались. Чичерин продолжал хранить спокойствие. Наконец Шанцер, обращаясь к нему, сказал:
— Правительство Нидерландов дает требуемые вами гарантии.
— В таком случае русская делегация поедет в Гаагу, — невозмутимо ответил Чичерин.
Все облегченно вздохнули.
Конференция подходила к концу. Дипломаты западных стран понимали, что «упрямые русские» все-таки добились в Генуе многого. И добились вопреки желанию Запада. Чичерин поедет в Россию с Рапалльским договором. Чехи, югославы и болгары дали ему обещание порвать всякие отношения с белогвардейцами и распустить армию Врангеля на Балканах. А кто мог полностью оценить все значение личных контактов, установленных русскими за время конференции? Кто и на каких весах мог взвесить то уважение, которое вызвала к себе у европейских народов советская внешняя политика?
19 мая на последнем пленарном заседании Генуэзской конференции было принято решение созвать 26 июня конференцию в Гааге для урегулирования отношений между Советской Россией и другими государствами. Позиция, занятая советской делегацией на конференции в Генуе, развеяла, как дым, надежды и фальшивые расчеты западных держав.
Чичерин с глубоким знанием дела дал оценку конференции.
«Генуэзская конференция, — говорил он, — была явлением сложным, большую роль в ней играл растущий буржуазный пацифизм, который, несомненно, в недалеком будущем еще проявит себя: в Генуе в угоду ему правительства Антанты много говорили о реконструкции Европы, хотя на самом деле в конкретной работе для этой реконструкции делалось очень мало. Основной же вопрос Генуэзской конференции заключался в том, будет ли совершаться самостоятельное экономическое развитие России с помощью иностранного капитала, но без подчинения ему, или же он приобретет в ней господство. Российская делегация подверглась всем утонченнейшим приемам зазывания и кокетничания: как в известной притче сатана обещал Иисусу превращение камней в хлеба и господство над расстилавшимися перед его взором царствами, если Иисус поклонится сатане, точно так же самые соблазнительные перспективы открывались перед Советской Россией в награду за признание господства капитала. Можно сказать, что именно в Генуе с наибольшей яркостью выдвинулся основной вопрос русской политики: в подчинение капиталу, или самостоятельное развитие с его помощью, или, еще точнее, сделка, но не кабала. Именно поэтому формальным базисом всей деятельности российской делегации в Генуе была каннская резолюция о равноправии двух противоположных экономических систем; равноправии, но не подчинении одна другой».
Советская делегация отбыла в Москву. Чичерин остался в Генуе для переговоров о советско-итальянском торговом договоре. Переговоры длились несколько дней. Нарком придавал им большое значение, хотя ввиду «антантовских отношений» Италия и не могла дать много. Договор с ней был все же очень важен. Переговоры проходили успешно, итальянские делегаты проявляли здравый смысл и готовность идти на соглашение.
В воскресенье, 21 мая, Чичерин дал обед в отеле «Бристоль» в честь Факты и Шанцера. Это, казалось, заурядное событие, как и большинство дипломатических завтраков, обедов и приемов, неожиданно привлекло большое внимание. Еще бы! Это был первый в истории советской дипломатии случай, когда министры стран, входивших в состав Антанты, приняли приглашение русских.
На улице собралась огромная толпа, чтобы приветствовать наркома. Когда Чичерин, Факта и Шанцер выходили из отеля, фашисты спровоцировали потасовку, вмешалась полиция, многие участники демонстрации были избиты, несколько человек получило увечья. Но этот эпизод не оказал влияния на переговоры, и они протекали в довольно спокойной обстановке.
Чичерин задержался в Генуе в основном из-за этих переговоров. Однако у него были и другие причины. Он хотел завязать более широкие связи с итальянскими общественными и политическими кругами. И наконец, он лично правил корректуры своих выступлений в официальных стенограммах Генуэзской конференции. Эту работу не хотелось передоверять кому-либо, так как слишком большое значение придавалось каждому выступлению.
Отель «Империале» опустел. Но усиленные наряды карабинеров по-прежнему исправно несли службу у здания отеля, где теперь жил один нарком. Чичерин решил перебраться в другое место, где его еще никто не знает. Но когда он сказал об этом маркизу ди Нобиле, приставленному итальянским правительством к советской делегации, тот испуганно замахал руками.
— Будет еще хуже. Через несколько же часов сбежится все местечко. Потом будут приходить из всех окрестностей. Итальянское правительство не может взять на себя ответственность за возможные инциденты. Весь аппарат полицейских и карабинеров будет перенесен в деревушку, что крайне неудобно.
Пришлось смириться. В течение всего последующего времени Чичерину приходилось скрываться от назойливых глаз. Из отеля «Империале» он перебрался в отель «Иден», где раньше жила германская делегация. Здесь чувствовал себя несколько свободнее, полицейская охрана была не так назойлива. Скрыться все же не удалось. «Весь последний период, — писал Чичерин 6 июня, уже покинув Италию, — меня посещали массы людей — рабочие с заводов, представители телеграфистов, телефонистов, всяких служащих и чиновников, и я буквально сотнями подписывал фотографии».
Когда он заходил в ресторан, его столик тотчас же окружала толпа, и ему все время казалось, что люди бесцеремонно разглядывают его.
Ко всему прочему приходилось отдавать дань дипломатическим обычаям. Терзали частые приемы, которые устраивали для него знатные особы.
«Меня приняла и показала свой дворец маркиза Бальби, — писал он домой, — вместе со своими родственниками, как принчипесса Боргези, маркиз Савинья и др., потом принимал меня маркиз Паллавичино, состоявший при нас маркиз ди Нобиле и его друг граф ди Санта Крочи и т. д. Был у меня с прощальным визитом командующий генерал принчипе Пизаго. Я сделал прощальные визиты мэру и префекту, а они завезли мне карточки».
С момента переезда в отель «Иден» Чичерин стремился как можно меньше показываться в городе и каждое утро, спасаясь от назойливых посетителей, уезжал в горы. Там завтракал в какой-нибудь малоизвестной траттории. Но и тут было спокойно, пока посещал эту деревушку не более двух раз, на третий его уже непременно поджидали любопытные.
Чичерин любил быструю езду. Однажды это чуть не стоило ему жизни. На одной из горных дорог автомашину занесло на повороте, и она заскользила к пропасти, не огражденной никаким парапетом. Его спасло лишь хладнокровие шофера — «превосходного, очень умного и преданного» Джорджио.
В поездках в горы Георгия Васильевича сопровождал приставленный к нему весьма болтливый, ловкий комиссар Чиленто. Само собой разумеется, Чиленто не был один, за наркомом постоянно следовал хвост полицейских агентов, вооруженных не только револьверами, но и гранатами. Иногда Чиленто удавалось с помощью уловок несколько упрощать сложный и громоздкий аппарат полицейской охраны.
Однако итальянское правительство шло на эти казавшиеся временами смешными меры, и чтобы изолировать Чичерина от рабочих масс Италии, и чтобы действительно оградить от покушений фашистов, которые в отношении провокаций слов на ветер не бросали.
Фашизм представлял здесь серьезную опасность. Чичерин, изучая печать и наблюдая на месте за деятельностью фашистов, один из первых подметил крайнюю опасность этого реакционного течения. Естественно, было трудно дать фашизму исчерпывающую политическую оценку, но некоторые черты представлялись ему довольно ясно.
26 апреля в полночь Чичерину принесли телеграмму. Поэт-декадент Габриэль д’Аннунцио приглашал советского наркома пробыть на его даче на озере Гарда целый день, утром за ним заедет машина в сопровождении охраны. Чичерин прекрасно знал, что д’Аннунцио не только поэт, но и один из крупнейших идеологов итальянского фашизма. Поездка к нему будет носить далеко не увеселительный характер. Она была тем более опасна, что д’Аннунцио предлагал совершить ее «инкогнито», без советской охраны. Чичерин ответил согласием.
«И вот, — вспоминает А. Н. Эрлих, — в 3 часа ночи легкие шаги в бюро меня разбудили. Насторожившись и приподнявшись на кровати, пошарил под подушкой, чтобы убедиться, что мое оружие находится там. Жду. Тихо открывается дверь. Кто это? К моему изумлению, вижу Чичерина.
Теряясь в догадках и стараясь выяснить, что же произошло, я спросил: «Георгий Васильевич, в чем дело?» На его лице было некоторое смущение. Подойдя к моей кровати, он присел, затем робко, но достаточно внятно сказал:
— Видите ли, я завтра утром еду к д’Аннунцио и хочу взять с собой эту штуку (он так и сказал «штуку», показывая на браунинг), но мне еще не приходилось пользоваться этим… Очень прошу вас, покажите мне, как это делается.
С трудом удержавшись от улыбки, я показал, как заряжается обойма, как она вставляется, как ставить предохранитель и как этот предохранитель опускается, наконец, как сдвинуть дуло, чтобы патрон вошел в ствол, и как нажать курок.
Чичерин внимательно выслушал и проделал все это несколько раз, чтобы научиться обращаться с браунингом (конечно, кроме нажатия на курок…). Затем сказал: «Спасибо» — и спокойно пошел к себе на третий этаж».
На следующее утро его уже ждала машина. О каком же «инкогнито» могла идти речь, если на встречу с д’Аннунцио наркома сопровождал чуть ли не взвод полицейских? Впереди ехал автомобиль с фиумскими легионерами, вооруженными до зубов, затем шел автомобиль, в котором сидел Чичерин в окружении высоких чинов полиции, замыкал колонну автомобиль с вооруженными полицейскими.
В д’Аннунцио Чичерина поразила театральность речи и жестов: поэт значительное время проводил перед зеркалом и, как истый демагог, отрабатывал ораторские приемы.
Чичерин, отвергая модернистские выверты, выше всего в искусстве ставил реализм. Разговор как-то сам собой перешел к итальянской опере. Чичерин отдал должное итальянским артистам, но итальянскую оперу как таковую решительно осудил. Д’Аннунцио был поражен: Чичерин предпочитал Моцарта.
— Моцарт взорвал и seria и buffa, поставив на их место
В этом житейская мудрость музыки Моцарта, это именно сближает его с романом XIX века, особенно с Бальзаком, даже с Достоевским… Сущность моцартовской оперы в психологической правде, а не во внешней иллюзии.
Разговор, конечно, не ограничился литературой и музыкой. Да Чичерин и приехал сюда не для этого. В политической области д’Аннунцио развивал идеи объединения Италии с Германией для борьбы против Франции; говорил о Фиумской конституции, характеризуя ее как «протест против Версальского договора, распорядившегося народами без их ведома». Беседа длилась долго.
О встрече Чичерина с д’Аннунцио на следующий день широко растрезвонили газеты. Как вспоминал сам Чичерин, «поездка к д’Аннунцио произвела колоссальное впечатление» в Италии. Ему открыто говорили:
— За д’Аннунцио идет вся Италия. Как хорошо, что вы к нему съездили.
Однако миланская организация фашистов была далеко не в восторге от этой встречи: на собрании приняла резолюцию, порицавшую «легкомысленного» поэта.
Пребывание в Генуе подходило к концу. 3 июня 1922 года, закончив серию визитов, завершив правку стенограмм своих выступлений на конференции, Чичерин, к нескрываемой радости итальянской полиции, выехал в Германию, где собирался провести отпуск и пройти необходимый курс лечения.
И снова Берлин. Прием, оказанный на этот раз наркому, был иным: Рапалльский договор начал оказывать свое благоприятное влияние.
Здесь никто уже не вспоминал о скандальном «каннском плане» Ратенау, а некоторые даже делали вид, что вообще впервые о нем слышат. Сам же Ратенау теперь не решался открыто призывать к «колонизации России» и, кажется, начинал понимать свои просчеты.
Это не ускользнуло от внимания Чичерина. Он вновь обращается к истории.
— Вопрос о тесном сближении с Англией неоднократно ставился перед Бисмарком, — развивал он свои мысли при встречах с немецкими политиками, — но он тщательно избегал того, чтобы нарушить комбинации своей континентальной дипломатии ради прекрасных глаз островной империи. Бисмарк отлично понимал, что международное положение Германии определялось прежде всего континентальными политическими отношениями. Бисмарк сам рассказывает о том, что он ночей не спал, опасаясь соединения в одну коалицию Франции, России и Австрии против Германии, отлично сознавая, что такая коалиция могла бы нанести Германии смертельный удар, что бы при этом ни стала делать Англия.
Разъяснения наркома, сама логика вещей давали положительные результаты. Не сразу и не вдруг, но вот и Ратенау стал менять свои взгляды. Чичерин с удовлетворением отметил это: «Участник Рапалльского договора с германской стороны, Ратенау, наладив на твердом договорном основании отношения Германии с Советской республикой, вслед за тем старался о том, чтобы содействовать улучшению отношений между Советской республикой и Англией. Сближение с Англией для него непременно соединялось с прочной линией длительных дружественных отношений с Советской республикой, а не мыслилось отдельно от них. Ратенау точно так же понимал, что остаться без друзей на материке и опираться только на Англию значило бы для Германии повиснуть в воздухе».
Намечались интересные сдвиги на европейском дипломатическом фронте: появилась возможность некоторой нейтрализации антисоветских настроений во Франции, ослабления английских происков в Прибалтийских странах и поворота этих государств в сторону сближения с Советской Россией. В самой Германии Рапалльский договор приобретал все больше и больше сторонников сближения с Россией.
Георгий Васильевич не упускал момента. Светские приемы сменялись бесконечными встречами и беседами.
Нарком все время убеждался, как мало за границей знают действительное положение России, сплошь и рядом обнаруживалось невероятное невежество. Заблуждения надо исправлять, а злонамеренные утверждения опровергать со всей решимостью и упорством. По его твердому мнению, эта задача настолько важна, что должна занять прямо-таки первое место… «Было время, — писал он в Москву, — когда мы были отрезаны и печать была для нас закрыта, нас ежедневно обливали помоями, и мы не могли отвечать. Теперь положение совсем другое, нам открыты влиятельные органы, можно помещать статьи, корреспонденции, полпреды могут давать интервью. Публика это знает и серьезно относится к сообщениям газет».
Ни один факт клеветы на Советскую Россию не ускользает от его внимания, он упорно опровергает лживые нападки на советскую действительность и в беседах и в печати. С этой целью принимает различных посетителей, в том числе и журналистов. Правда, из журналистов к нему попадает каждый десятый — не больше: всех удовлетворить нет возможности, ведь надо лечиться. Здесь, на Западе, верят всяким небылицам, верят потому, что никто не раскрывает правды. Фальсификаторы не унимаются; прыткие газетчики пускают слухи, будто Чичерин при отъезде из Италии подарил каждому охранявшему его полицейскому по золотому портсигару, усыпанному бриллиантами, жемчугами, рубинами.
ВЦИК принимает исторические законодательные акты. На Западе о них никто не имеет ни малейшего понятия. А кто разъяснит политику Советского государства по отношению к церкви? Этот вопрос немаловажный, читают сочинения самозваных «специалистов» и ужасаются действиям большевиков.
Письма, много писем шлет нарком в НКИД, в представительства. Письма то гневные, то иронические и насмешливые, то поощряющие. Но небезразличные. Нет, не мог отдыхать Чичерин в такое бурное время.
В ответ товарищи просят, уговаривают, чтобы нарком прекратил работу и выполнял решение ЦК об обязательном для него отдыхе.
Но разве он не отдыхает? Как вообще представляют себе это товарищи в Москве? Ничего не делать, нигде не бывать, ни с кем не разговаривать? «Не вижу, почему я должен проводить вечер со скучной квартирной хозяйкой за скверным обедом, когда я могу съесть великолепный обед с великолепным вином и притом, провести вечер с профессором Эйнштейном, знаменитым архитектором профессором Вильцем, художниками, музыкантами, лидерами партий и т. д.», — пишет он Карахану. И насмешливо добавляет: ему-де говорят, что берлинские дамы только о нем и вздыхают. А ему пишут, что он не отдыхает и не развлекается. «Вовсе я делами не занимаюсь, всем твержу, что усиленно лечусь, и больше ничего».
Живет Чичерин в отеле «Экспланаде» под охраной полицейских агентов. Здесь спокойнее, чем в Генуе. Много времени проводит за письменным столом. В Москве прекрасно понимают, что «квартирная хозяйка», «берлинские дамы» — все это наивные выдумки. И все знают это, как знают о том, что Чичерин никогда не думал о своем здоровье.
И опять идут письма наркома с указаниями, что нужно опровергнуть и что нужно предпринять в отношениях с той или иной страной. Заодно достается и тем, кто хорошо носит фрак, но для серьезного дела не годится.
Чичерин сам, пренебрегая лечением, то идет на прием в министерстве иностранных дел, то у рейхсканцлера, то беседует с промышленниками, банкирами, журналистами, политиками. И везде активен, любезен, всегда готов к полемике.
Наконец не без воздействия берлинских товарищей он отправляется на отдых в Инсбрук. В Тироле он мог наслаждаться относительным покоем, пока его мало знали. «Могу свободно ходить! — почти с восторгом пишет он. — Это блаженство продлится, конечно, пару дней. В Италии просто собиралась толпа, неподвижно стояла и глазела на меня. В Берлине подталкивают друг друга локтем и потом смотрят мне в спину».
Здесь застало траурное сообщение: убит Ратенау, убит зверски националистом из террористической организации «Консул». На суде убийца заявил, что не мог допустить, чтобы в правительстве был еврей.
Прошло несколько дней. Чичерина начали узнавать и здесь. Стали повторяться случаи, когда вслед ему раздавались громкие ругательства. Это было результатом антисоветской кампании, которую развернула клерикальная печать. В тирольских деревушках большевики по-прежнему считались «исчадием ада». Дело дошло до того, что начальник провинции Тироля Штумпер посетил Чичерина и просил быть осторожным. Он специально приставил к нему четырех агентов для охраны. А через несколько дней забеспокоились и венские власти, было дано указание усилить охрану советского наркома.
«Меня уже узнают, — пишет он Карахану 29 июня. — Вхожу в ресторан — раздается шепот, на меня показывают. Это только начало». Чичерин попросил Штумпера, чтобы он дал указание газетам не писать о его пребывании в Тироле. Тот пожал плечами.
— Это поможет ненадолго. После Генуи вы известнейший человек в Европе. О вас все говорят.
Хозяин гостиницы, где жил Чичерин, как-то принес в его номер огромную корзину цветов и на удивленный взгляд Чичерина ответил:
— Я как немец восторгаюсь вашей смелой борьбой против Франции.
Чичерин поморщился, но пощадил патриотическое усердие немца.
Да, его безызвестность продолжалась слишком недолго. Штумпер дал указание газетам не писать о Чичерине. Но сельскохозяйственный еженедельник «Тиролер Фольксботе» все-таки сообщил о местопребывании наркома, и началось паломничество журналистов. Теперь уже каждый его шаг был на виду. Штумпер нервничал: поставил охрану в самом здании гостиницы, полицейские расхаживали по коридорам, следовали за наркомом по пятам. Прелесть тирольских гор поблекла, отдыха снова не получилось.
А товарищи все требуют, чтобы нарком отдыхал. Разве он сам не хочет этого? Вот из Вены прибыл влиятельный депутат д-р Матайя, его пришлось принять. Но разве можно отказать тирольским коммунистам, когда они приходят к нему с сияющими, восторженными лицами: эти несколько минут для них событие на всю жизнь. «Для одних я дьявол, для других святой», — заключает Георгий Васильевич.
Чичерин собирался съездить в Вену и встретиться там с членами австрийского правительства, но ему просили передать, что после убийства Ратенау в Вене «неспокойно». Истинная причина крылась в другом: австрийское правительство вело переговоры с Францией о займе и боялось, что появление Чичерина в Вене повредит переговорам. Чичерин от поездки отказался и через несколько дней возвратился в Берлин. Надо было довести до конца курс лечения.
Скоро он по настоянию врачей лег в больницу на операцию. Предстояло долгое и продолжительное лечение. Но и это не оторвало его от работы. Как-то в разговоре с корреспондентом «Известий» он признался: «Лежа в постели после операции, я изучал за несколько лет документы по репарационному вопросу и близко ознакомился с этими яркими памятниками империалистического хищничества. Результатом тяжелого, угнетенного положения Германии является в германском обществе сильная тяга к России и глубокое сочувствие нашей международной политике».
Противники советско-германского сближения воспользовались болезнью наркома. Они пустили слухи о том, что политика Чичерина потерпела крах, в Кремле победили «экстремисты». Ленин и Чичерин устранены. Пренебрегая обстановкой и требованиями протокола, 23 июля к нему явился будущий посол в Москве граф Брокдорф-Ранцау. Состоялась откровенная беседа.
Встреча положила начало многолетней дружбе Чичерина с Ранцау. Многие, знавшие Ранцау с его довольно нелегким характером, не переставали удивляться этой дружбе, но в ее основе лежали глубокие корни.
Потомок датских и немецких дворян, опытный дипломат старой немецкой школы, непримиримый враг Версаля Ульрих Брокдорф-Ранцау был последовательным сторонником рапалльского направления в германской политике. С 1922 по 1928 год он был послом Германии в Советском Союзе и все эти годы неизменно отстаивал линию на сближение обоих государств, что, по его справедливому мнению, отвечало национальным интересам Германии. «Россия не является побежденной страной и остается фактором силы не только в Европе, но и во всем мире», — убеждал он своих берлинских противников.
На второй день по приезде в Москву, 3 ноября 1922 года граф нанес визит наркому. Посол не скрыл своего недовольства простотой приема.
— Советская Россия, — заметил на это Чичерин, — не придает значения устаревшим формам дипломатического протокола.
Через два дня состоялось вручение верительных грамот. Во время церемонии Брокдорф-Ранцау заявил:
— Все мои силы и всего себя я готов отдать, чтобы доказать, что Рапалльский договор открыл новую эру между германским и русским народами и тем самым открыл ее не только для Европы, но и для всего мира.
Позже посол вспоминал: «После предусмотренных речей — сердечная интимная беседа с Калининым в присутствии Чичерина. Рота почетного караула под полковым знаменем прошла передо мною. Парадный марш после рапорта коменданта Кремля. Оркестр сыграл любимый мой марш «Hohenfriedberger». Калинин при этом церемониальном акте исполнял свои функции с естественным достоинством и большим тактом».
Между послом и наркомом с годами все больше крепли личные симпатии. Это легко объяснимо: оба государственных деятеля предпринимали усилия к развитию всесторонних дружественных отношений между Советским Союзом и Германией. Эта дружба, по их обоюдному мнению, должна и действительно стала важнейшим фактором во внешней политике обоих государств.
По поводу годовщины Рапалльского договора Чичерин писал Брокдорфу-Ранцау: «Глубокие исторические причины лежат в основе этого договора, которые делают его заметной вехой. Открыто перед целым светом, без всякого злого замысла, без тайных соглашений два народа заявили о необходимости дружественных отношений, сближения, экономического сотрудничества. Отказ от взаимных претензий, как известно, является для нашего государства единственно возможной основой длительных отношений доверия, и благодаря тому, что германское правительство вступило на этот путь, оно сделало возможным этот двусторонний исторический акт». А год спустя Чичерин отмечал: «Рапалло не будет побеждено и в будущем, на это я определенно надеюсь. Рапалло — это даже больше будущее, чем прошлое».
В этих словах заключен глубокий смысл, они звучат по-современному и сейчас, спустя полстолетия: Чичерин с научной прозорливостью видел историческую закономерность в развитии советско-германских отношений на много лет вперед, ибо в их основе лежат не конъюнктурные, а глубокие объективные факторы и прежде всего общность мирных интересов германского и советского народов.
И всегда были противники рапалльской политики. Министр иностранных дел Штреземан с его политикой балансирования между Востоком и Западом предпринимал многое, чтобы ослабить связи Германии с Советским Союзом. Весной 1925 года посол говорил Чичерину, что он уезжает и совсем не вернется, если окажется, что его правительство пошло по новому пути.
— Я, — сказал он, — готов играть трагическую роль, но не согласен играть роль комическую.
К счастью, в Берлине победили трезвые голоса: осенью того же года после длительных и упорных переговоров был подписан комплекс соглашений, включая торговый договор, сыгравших большую роль в расширении связей между обеими странами.
Чичерин высоко ценил деятельность Брокдорфа-Ранцау. В ноябре 1927 года произошло редкое событие: отмечался пятилетний юбилей пребывания на посту посла в СССР Брокдорфа-Ранцау. Был официальный приветственный адрес. Георгий Васильевич держал речь, в которой высоко оценил роль посла в развитии советско-германских отношений. Брокдорф-Ранцау ответил:
— Я знаю очень хорошо, что политику делают не сердцем, и все-таки я полагаю, что нельзя нанести ущерба политике, если при этом немного участвует сердце. Наша общность судеб и общие интересы привели меня к этому убеждению, с которыми я нес здесь свою службу.
Выписавшись из клиники, Георгий Васильевич провел еще несколько встреч и приемов. В это время в Берлин приехал Красин, и вместе с ним Чичерин начал переговоры с «франко-германской группировкой», которая добивалась получения концессий в России. Предполагалось оформить эти концессии на германских промышленников, поскольку французские политические круги продолжали проводить резко антисоветскую политику. Немецкие промышленники должны были работать под французским контролем. Чичерин и Красин видели в этом возможность установить связи с французскими кругами и добиваться переориентации французской политики.
Нарком был очень заинтересован в личном участии в переговорах. К сожалению, нужно было спешить в Москву. В сентябре он выехал на Родину.
Покидая Берлин, Чичерин мог с полным основанием отметить, что наконец-то заложен прочный фундамент для тесных отношений между Советской Россией и Германией. Его берлинские встречи пробили брешь и создали контакты там, где их раньше не было. В бесчисленных встречах и беседах с различными политическими и экономическими деятелями Чичерин смог также лично убедиться, насколько Советская Россия уже стала самостоятельной мировой силой, с которой считаются и о помощи которой усиленно хлопочут.
Важной вехой в истории советской дипломатии этого периода стало участие Советского Союза в Лозаннской конференции.
«Пятая годовщина Октябрьской революции, — писал Чичерин, — совпала с провозглашением нами активной политики, то есть вмешательства во все международные вопросы, затрагивающие советские республики. Отношения с великими державами из чисто экономических превращаются в глубоко политические, распространяясь на весь комплекс международных вопросов, связанных с реальными интересами советских республик. Эта активная политика провозглашается нами в связи с разрешением вопроса о проливах».
К концу 1922 года вырисовывались крупные провалы английской колониальной политики на Востоке. Этот факт ярко подтверждался турецким национально-освободительным движением. Ни один из азиатских народов не вел в то время освободительной борьбы с таким упорством и энергией, как турецкий народ. Англо-греческая интервенция в Турции закончилась позорным крахом.
Тогда Англия, Франция и Италия выступили за созыв международной конференции. Они высокоторжественно заявили, что именно эта конференция приведет к «окончательному восстановлению мира на Востоке». Им очень хотелось отстранить Советскую Россию от участия в конференции. Особенно старалась Франция. Ее политики создавали видимость искренней дружбы с Турцией, а втайне лелеяли мечту использовать ее и против Англии и против Советской России.
Но отстранить Советскую Россию от международной конференции было уже нелегко. Тогда 7 октября 1922 года три приглашающие державы обратились к Советскому правительству с предложением принять частичное участие в конференции, поскольку-де советско-турецкий договор 1921 года решил все проблемы, в которых может быть заинтересована Россия.
19 октября 1922 года английскому и итальянскому правительствам — организаторам конференции — был дан достойный ответ: «Стремясь к упрочению всеобщего мира и, в частности, к необходимому для достижения этой цели окончательному мирному улажению международных конфликтов на Ближнем Востоке, Российское правительство видит себя вынужденным решительно настаивать на своем участии в конференции по ближневосточным вопросам в целом, без всяких ограничений».
В ответной ноте правительства Франции, Англии и Италии в оправдывающемся тоне попросили Советское правительство «озаботиться о посылке своих представителей в Лозанну для принятия участия в обсуждении вопроса о проливах». Это была хотя и маленькая, но уступка. Нужно было воспользоваться ею. Чичерин начал добиваться, чтобы Россия была участницей разрешения ближневосточного вопроса во всех случаях. 2 ноября в ноте на имя приглашающих держав он протестует по поводу того, что русская делегация не приглашается на предстоящую конференцию в полном объеме.
К этому времени НКИД уже подготовился к Лозанне. Вспоминая об этом, Чичерин писал: «После моего возвращения осенью 1922 года из-за границы я пробыл в Москве 6 недель. Главным вопросом был турецкий, подготовлялась Лозаннская конференция. При живейшем участии Владимира Ильича была обсуждена и принята программа, которую мы защищали в Лозанне. Это было его последним крупным вкладом в нашу международную политику. Обсуждение вопроса о проливах с Владимиром Ильичем было последним, которое я с ним имел. Это было также моим последним свиданием с ним». 31 октября того же года Ленин пишет письмо Чичерину: «Думаю, что надо 2 и 3 раза проверить каждое слово с той точки зрения, чтобы оно не обозначало того, что мы откажемся от поездки на конференцию.
В этом смысле нота должна быть особенно «дипломатична»[44].
Это звучало как завещание советским дипломатам не бить в лоб, а быть гибче, зорче, осмотрительней.
В целях соблюдения международного престижа Советского государства было решено не являться в Лозанну раньше срока, чтобы не выглядеть просителями. В то же время, по замыслу Чичерина, советские дипломаты должны были часто напоминать о своем существовании и решительно разоблачать поведение западных держав. Что касается тактической позиции советской стороны, то, по мнению наркома, следовало усиленно подчеркивать, что цель советской политики — проведение принципа полноты суверенных прав народов, точнее, полного суверенитета Турции над проливами и их закрытия для всех военных судов в мирное и военное время. Сама Турция должна иметь право укреплять проливы, иметь флот и т. д. Для торгового мореплавания проливы должны быть открыты во всякое время.
Как и ожидалось, страны Антанты не пригласили советскую делегацию к открытию конференции, назначенному на 20 ноября. Они затягивали присылку приглашения даже на обсуждение вопроса о проливах, так им хотелось лишить турецкую делегацию естественного союзника — России и добиваться полной ее капитуляции. И все же 29 ноября русская делегация была приглашена на конференцию.
Чичерин узнал об этом, будучи в пути: воскресным вечером 26 ноября, не дождавшись сообщения об официальном приглашении на конференцию, он выехал из Москвы во главе русско-украинско-грузинской делегации, представляющей три республики, имевшие выход к Черному морю.
В Берлин прибыли с большим опозданием. Прямо с поезда наркома пригласили к Мальцану, где на скорую руку был сервирован чай. От Мальцана Чичерин поехал к канцлеру Куно. Вести какие-либо беседы было некогда, ограничились общей информацией о позиции сторон на Лозаннской конференции. Нарком спешил, до открытия заседаний комиссии по проливам оставался один день.
Генуэзские успехи советских дипломатов были учтены западными правительствами, и теперь на бой с ними был выдвинут опытный империалистический политик лорд Керзон.
Чичерин накануне первого заседания комиссии о проливах заявил Керзону решительный протест против отстранения Советской России от участия в конференции.
Так началась борьба. За спиной Керзона стоял многовековой опыт английской дипломатии, лагерь капитала, который, несмотря на все разногласия между отдельными группировками, был един в своей ненависти к стране социализма. Чичерин отстаивал интересы трудящихся масс, интересы революции. Но Советская Россия, защищая справедливые, благородные цели, была одна. Опыт подсказывал — надо использовать конференцию для разоблачения империалистических планов.
В отеле «Савой», где остановилась советская делегация, до утра горел свет, трещали пишущие машинки, велись жаркие споры. Эксперты изучали речи, документы, просматривали исторические исследования, читали научные статьи и обсуждали буквально каждую фразу, которую предстояло произнести. Необходимо было и на этот раз заставить историю служить сегодняшнему дню. Советский нарком применил против английской дипломатии ее же собственные лозунги, которые она провозглашала в XIX веке.
4 декабря 1922 года открылось первое заседание комиссии по проливам. Вначале стороны прощупывали позиции. Керзон дорого дал бы, чтобы заранее выяснить, с чем прибыл в Лозанну Чичерин. Открывая заседание, он попросил советскую делегацию ограничить свой численный состав. Это был мелкий булавочный укол. Он предложил выслушать сначала турецкую делегацию, а затем советскую. Предложение было принято. Глава турецкой делегации Исмет-паша (Иненю) выразил удовлетворение по поводу присутствия в зале заседаний русско-украинско-грузинской делегации, без участия которой вопрос не может быть решен, и кратко сказал о значении для Турции находящихся на ее территории проливов.
Керзон недовольным тоном спросил Исмет-пашу, не желает ли он чего-нибудь добавить, поскольку его выступление было слишком сдержанно. Исмет-паша уклонился от пояснений.
Выступивший затем Чичерин огласил текст советской декларации, требовавшей свободы торгового мореплавания через проливы, закрытия проливов для всех военных судов, кроме турецких, и предоставления Турции права укреплять проливы по собственному усмотрению по всем правилам современного военного искусства.
Когда Чичерин закончил чтение, Керзон, насмешливо улыбаясь, попытался иронизировать:
— Вероятно, господин Чичерин, кроме тех трех государств, которые он здесь представляет, представляет и четвертое, а именно Турцию…
Исмет-паша с достоинством отпарировал:
— Я не нахожу нужным в настоящую минуту развивать конкретные предложения и отмечаю лишь то, что среди сделанных заявлений русское наиболее соответствует турецкой точке зрения, хотя Турция примет в соображение и все остальные декларации.
Чичерин настойчиво потребовал, чтобы приглашающие державы изложили свою позицию. Лорд Керзон, разыгрывая недовольство, сказал, что приглашающие державы сначала хотели послушать прибрежные государства, и объявил первое заседание закрытым. Пока что он уклонялся от поединка.
Бой разгорелся на следующем заседании комиссии, когда Керзон решил «разгромить» советскую делегацию.
Он назвал советские предложения парадоксом, пытался искать в них какие-то ошибки. Каким-то странным образом позиции сторон оказались «перевернутыми», утверждал Керзон и пояснял: в отличие от своей позиции в XIX веке западные державы в настоящее время не имеют никакого желания препятствовать проходу русских военных судов через проливы, а Россия в отличие от своей прошлой позиции сама желает сделать такой проход невозможным.
— Чем тщательнее мы рассматриваем русскую программу, — уверял Керзон, — тем яснее обнаруживается, что она имеет в виду лишь одну цель, а именно: превратить Черное море в русское озеро с Турцией в качестве верного стража у дверей.
Делегаты Франции, Италии, США ничего нового не добавили. Чичерин же тотчас сделал свои замечания.
Верно, что роли России и западных держав перевернулись. Советская Россия отказалась от империалистических целей и внушает восточным народам лишь чувства дружбы и симпатии. После отказа России от Константинополя и проливов возможны две комбинации: или закрытие проливов и суверенитет Турции, то есть средостение, или международная комбинация, которая перенесет в эти места всеобщее соперничество…
Нарком игнорировал высокомерный тон Керзона, его амбицию, желание не предлагать, а только повелевать. Импровизированное выступление Чичерина было лишено салонных любезностей. Он назвал вещи своими именами:
— Слушая председателя, я имел впечатление, что его главная идея — создать систему, направленную против России. Мы вам предлагаем мир, а вы продолжаете борьбу. Революция сделала из русского народа нацию, вся энергия коей сосредоточилась в его правительстве с неслыханной в истории мощью. Если ему навязать борьбу, он не сдастся.
На третьем заседании комиссии, 8 декабря, сразу же, как только Керзон объявил его открытие, Чичерин вновь подверг сокрушительной критике позицию английской делегации. Он заклеймил империализм Англии, которая пытается диктовать условия всему миру и навязывать свои требования Советской России.
Отказавшись от агрессивных целей, новая Россия желает сохранить плотину против нападений других, говорил нарком, и та же Великобритания, которая когда-то стремилась защитить этой плотиной свою мировую мощь, желает сегодня воспользоваться кратковременным ослаблением России и установить эту старую плотину проливов. Мир не укрепляют, когда нагромождают военные силы, как в этом столь часто упрекали Бисмарка государственные люди приглашающих держав.
Мир укрепляют, когда разделяют враждебные силы.
На этом заседание было прервано, западные державы решили обсудить советскую точку зрения. На вечернем заседании Чичерин потребовал участия советской делегации в работе всех комиссий. Керзон нагловато заявил, что Россия «не имеет права» участвовать в обсуждении вопросов демилитаризации проливов. Почему? Керзон предпочел отмолчаться.
Чичерин заявил устный протест, а наутро подкрепил его письменным. Ответа не последовало. Позже стало известно, что именно в этот день начались сепаратные переговоры о режиме проливов между турецкой делегацией и представителями союзных держав. Советская делегация оказалась устраненной и от участия в работе комиссии. Чичерин потребовал создания подкомиссии для обсуждения всех внесенных проектов и разработки единой точки зрения. Его поддержали турки, но англичане и их союзники не согласились.
Почти каждый день Чичерин встречался с руководителем турецкой делегации. Он видел, как ей тяжело противостоять шантажу англичан. Используя состояние политических отношений в Европе и, в частности, на Балканах, Чичерин разоблачал англичан и показывал, что «руки у них не так уж длинны», что за спиной Англии Франция добивается заключения выгодного ей сепаратного договора с Турцией.
Да, между Генуей и Лозанной была большая разница. Английские дипломаты избегали встреч с советскими дипломатами. Керзон обставлял каждое предложение о такой встрече многими оговорками. Представитель английских нефтяных кругов Риккет откровенно рассказывал:
— Враждебная линия Керзона не соответствует настроениям английского общественного мнения. Последнее, как и само правительство, за исключением Керзона, горячо желает соглашения с Россией. Керзон будет, может быть, считать личным успехом, если он привезет договор с Турцией без участия России, но Англия увидит в этом неудачу, и это будет для него пиррова победа…
Прибывший из Лондона для переговоров с советскими делегатами крупнейший представитель английских деловых кругов Дж. Армстронг при встрече с Чичериным разъяснил, что без Керзона ничего нельзя сделать, так как в Англии правительство не желает вмешиваться в дела ведомства, которое ведает иностранными делами. С этим приходилось считаться.
Через третьих лиц Чичерин узнал, что Керзон готов с ним встретиться, но при условии, если советский дипломат попросит его об этом. Бывший вице-король Индии высокомерно давал понять, что не желает первый делать шаг навстречу «красному» наркому. Даже английских дипломатов шокировало поведение их министра. Они оправдывали его тем, что он хранит традиции Форин оффиса, да к тому же болен, страдает подагрой.
Встреча все же состоялась. Перед ее началом упрямый англичанин заставил Георгия Васильевича некоторое время ждать себя. Нарком не остался в долгу.
— Сэр, — были его первые слова, обращенные к министру, — в будущем прошу вас не забывать, что фамилия Чичериных была внесена в столбовые списки на столетие раньше, чем фамилия Керзонов.
— Что вы хотите сказать? — спросил опешивший Керзон.
Чичерин, бросая вызов английским дипломатическим традициям, без обиняков заявил, что ему крайне желательно знать, какую линию займет новое английское правительство, желает ли оно развивать отношения с Советским государством.
— Это зависит от России, — сухо ответил Керзон.
Наступило неловкое молчание. Керзон не выдержал:
— Мне известна масса речей, произнесенных русскими агентами против Англии на Востоке, если вы эту антианглийскую пропаганду прекратите, то через два месяца отношение Англии к вам радикально изменится.
— Что такое пропаганда? — спросил его Чичерин. — У нас имеется правительство, имеется официальный аппарат, служащие правительства, и правительство со всем своим аппаратом обязуется не вести никакой пропаганды; но правительство не может предусмотреть того, что какой-нибудь частный гражданин где-нибудь что-нибудь скажет… Мы не можем заставить члена Коммунистической партии перестать высказываться в качестве коммуниста.
Разговор принял острый характер. Чичерин все же высказал все претензии. Из ответов Керзона он понял, что тот не желает трезво оцепить положение, как это умел делать Ллойд Джордж.
Из этой единственной беседы нарком вынес одно впечатление — при Керзоне никаких серьезных соглашений с Англией вообще быть не может. Керзон с трудом скрывал свою ненависть к советским представителям, этого твердолобого английского политика нельзя было сдвинуть с места. Нужно было апеллировать к общественному мнению. Буржуазные круги страшились распространения правды о советских идеалах, о стремлении России к улучшению отношений. Чичерин и все члены делегации в свободное время встречались с журналистами, рассказывали им о целях советской делегации, комментировали ход конференции, разъясняли политику социалистического государства. В иностранной печати часто появлялись интервью наркома журналистам.
Противники не оставались в долгу. О советских делегатах сочинялись различные пасквили, черносотенные листки открыто призывали к расправе над ними, местные власти создавали нетерпимую атмосферу вокруг них.
18 декабря Керзон внес еще один проект о проливах, который якобы учитывал пожелания Турции. О советском проекте он, конечно, не сказал ни слова. Чичерин с большим вниманием выслушал английского делегата и, в свою очередь, выступил с заявлением. Он отметил, что исправленный проект проникнут антисоветскими устремлениями, угрожает России, ведет к морским вооружениям, препятствует миру.
Керзон разочарован, он сделал вид, будто рад пойти навстречу русским, но для этого нет никакой возможности.
На следующий день англичане от имени союзных держав отвергли советские предложения, несмотря на то, что накануне Керзон утверждал, что для их изучения потребуется полгода.
— Первый британский делегат, — комментировал Георгий Васильевич английский маневр, — хочет представить Россию и ее союзников как изолированных. Но мы имеем мощного союзника — это плательщик налогов во всех странах. Это наш союзник завтрашнего дня, он поймет, что система, которую хотят применить завтра, для увеличения сфер морских действий, система увеличения морских сил, система создания угроз против России приведет к увеличению расходов и крупным лишениям для масс.
Советская делегация, не имея возможности оказывать какое влияние на переговоры, небезучастно ожидала развития событий и энергично разоблачала махинации западных держав. 10 января 1923 года секретариат конференции вынужден был признать, что действительно западные делегации ведут закулисные переговоры.
В бесконечных стычках прошел январь, а 1 февраля Чичерин выступил с советской декларацией. В ней отмечалось, что после шести недель, проведенных в вынужденном бездействии, был выработан «Проект конвенции по вопросу о режиме проливов». В этом проекте много изменений, которые явились результатом «подпольных переговоров».
— Мы имеем дело с проектом конвенции о проливах, выработанным без участия России, Украины и Грузии, — отметил нарком.
В зале замешательство, Керзон спешит на выручку.
— Вы сами виноваты… С русской стороны произнесено много речей, значит, она могла сделать все для нее нужное.
Керзон лицемерил, не заботясь ни о личном престиже, ни о достоинстве своей страны. Он добивался поставленной английскими империалистами цели.
Ему ответил нарком. На этот раз его выступление продолжалось дольше обычного, но никто не перебивал его. Западные дипломаты разыгрывали деланное равнодушие, их лица выражали скуку: зачем ломать копья, когда все предрешено?
Не для сидящих в зале говорил русский представитель. Его выступление было рассчитано на народы, их беспристрастное суждение важнее оценок дипломированных чиновников.
— Что касается до существа вопроса, — говорил Чичерин, — то слишком поздно продолжать обсуждение его. Но я хочу сделать одно замечание. Слова председателя о том, что решение о морских силах зависит от России, означают, что Россия должна вооружаться. Вот совет, который нам дан. Если конвенция будет подписана без России, Украины и Грузии, они останутся совершенно свободными и сохранят за собой полную свободу действий, а вопрос о проливах и впредь останется открытым.
Делегации России, Украины и Грузии не согласились с проектом приглашающих держав. Они предупредили, что будут неизменно продолжать свое противодействие всякой политике порабощения и насилия, выражением которой явился этот проект. Это было последнее заседание. Конференция прервала свою работу, и через несколько дней советская делегация покинула Лозанну.
Борьба советской делегации внешне казалась безрезультатной. Многие задавались вопросом: неужели Чичерин, этот крупнейший дипломат, надеялся выиграть сражение, будучи в одиночестве? Нет, Чичерин не был столь наивен, он прекрасно понимал, что в Лозанне нельзя одержать победы с точки зрения рутинной дипломатии. Лозанна была трибуной, с которой Советская Россия обращалась непосредственно к народам капиталистических стран, вызывала у них чувства неприязни к политике своих правительств. Лозанна дала тот полезный опыт, который подсказал позже решение о пользе вступления Советского Союза в Лигу наций. Но не только в этом было значение Лозанны. Турции не удалось бы многого достигнуть, если бы она не испытывала моральной поддержки Советской России. Турецкая армия разгромила своих врагов на полях битв, с помощью России она добилась больших уступок у великих держав. Почему в моменты величайшего напряжения отношений между Турцией и Западом, в особенности в момент перерыва Лозаннской конференции, не была возобновлена война и громадные силы Англии не были брошены на маленькую Турцию? Из-за Советской России, говорил Чичерин.
Опять Берлин, опять беседы с самыми различными представителями. Чичерин не жалеет времени, он хочет уяснить себе здешнюю обстановку. Немцы были озабочены событиями в Руре. Лозаннская конференция и тем более заботы о проливах их не трогали, хватало собственных.
С момента возвращения из Лозанны и позже Чичерину не раз пришлось выступать против неправильных оценок германо-французских противоречий и их влияния на отношение этих двух стран к Советскому Союзу. Конечно, бурные события в Руре вызвали опасения, что в Европе назревает кризис. Но это отнюдь не должно было, как считали некоторые, привести к военному конфликту. Он был не согласен с таким выводом и тем более выводом, что нужно ввиду этого пересмотреть всю советскую внешнюю политику. Нарком настойчиво убеждал, что даже если принимать во внимание Рур, на первом месте стоят англо-французские, а не франко-германские противоречия. В этом его убеждала Лозаннская конференция, это подтверждали беседы в Берлине, многочисленные наблюдения, весь анализ сложившейся европейской обстановки. В ответ ему приводили исторические параллели, вспоминали 1871 и 1914 годы и утверждали, что Германия всегда имела столкновения с Францией и нынешняя ситуация повторяет прежние. Такие рассуждения выглядели академически, убедительно, но противоречили конкретной ситуации данного момента. Чичерин видел это и горячо отстаивал свою точку зрения.
— Для марксиста это весьма странная ссылка, это скорее напоминает Экклезиаста: нет ничего нового под солнцем. Думаю, что марксизм и Экклезиаст несовместимы. Что бы ни было в прошлом и что бы ни могло произойти в будущем, Германия сейчас не может вести войну с Францией, — утверждал он.
Одновременно нарком выступил против неоправданных опасений, возникших у некоторых его коллег под впечатлением воинственного поведения Керзона. Несмотря на всю непримиримость Запада и особенно Англии, Чичерин не верил в новую интервенцию. Свои выводы он обосновывал точным анализом противоречий империализма и убедительно доказывал, что единой коалиции, которая была бы необходима для интервенции против Советского Союза, уже не было, капиталистический мир раздирался противоречиями между странами-победительницами и странами-побежденными, между отдельными странами в каждой из этих группировок. Да и внутри каждой группировки была борьба, а внутри каждой страны действовали внутренние противоречия, сложные, жестокие, неразрешимые. Шумным угрозам не следует придавать значения! «Кое-кто склонен рисовать такую схему, — пишет Чичерин 13 мая 1923 года Крестинскому, — Запад надеялся на нэп, надеялся на наше обуржуазивание, теперь он в этом разочаровался, неожиданно мы укрепились, и он хочет этому помешать… С рабочим классом повсюду расправились, и поэтому остается последнее — устроить еще раз, но в более грандиозных размерах, интервенцию у нас. По совершенно понятным соображениям я отношусь к такой схеме, в особенности в ее последней части, с большим скептицизмом».
Неустанные разъяснения Чичериным международной ситуации, его выступления с яркими, по-научному обоснованными оценками расстановки политических сил в Европе помогали борьбе советской дипломатии против новых наскоков английских империалистов на Советский Союз.
8 мая английский представитель в Москве Ходжсон посетил НКИД и передал пространный меморандум, получивший название «ультиматума Керзона». В меморандуме в резкой, почти грубой форме излагались те же мысли, которые высказал Чичерину Керзон в Лозанне. Советская Россия обвинялась в антианглийской пропаганде и подрывной деятельности на Востоке. Керзон требовал отзыва советских полпредов из Ирана и Афганистана, возмещения ущерба, понесенного Англией в результате расстрела английских шпионов на территории России. Англичане бесцеремонно вмешивались в советские внутренние дела. Заканчивался меморандум так: «Правительство Его Величества не имеет ни желания, ни намерения вступать в длительный и, возможно, неприятный спор по какому бы то ни было из перечисленных вопросов: но, если в течение 10 дней по получении сего сообщения Комиссариатом Иностранных Дел Советское правительство не примет на себя полного и безусловного удовлетворения требований, предъявленных в сем меморандуме, Правительство Его Величества будет считать, что Советское правительство не желает поддерживать существующих между ними отношений».
«Ультиматум» вызвал волну антисоветских настроений в Европе, зашевелилось белогвардейское охвостье. В это время в Лозанне проходил второй этап переговоров с Турцией. Там находился советский наблюдатель Воровский. Для него были созданы невыносимые условия, враждебные элементы вели злобную кампанию, подстрекали к провокациям. Швейцарское правительство отказалось гарантировать неприкосновенность советских представителей. В печати велась усиленная пропаганда за то, чтобы «убрать из Швейцарии большевиков».
Вся эта кампания закончилась трагически. 10 мая 1923 года Боровский и два сопровождавших его сотрудника НКИД обедали в пустом зале отеля «Цецилия». В зал вошел человек, приблизившись, он неожиданно выхватил револьвер и выстрелом в затылок убил Воровского и ранил бывших с ним товарищей. Убийца — белогвардеец Конради — не был даже задержан.
Воровский в ночь перед смертью писал: «Мы сидим здесь в качестве наблюдателей. Однако нас хотят выжить если не мытьем, так катаньем. В воскресенье заявились в отель несколько юношей с каким-то аптекарем во главе и, объявив себя делегацией «национальной лиги», начали было речь о моей позиции по отношению к швейцарскому правительству. Я их не принял… Теперь они бегают по городу, кричат всюду, что заставят нас силой уехать из Швейцарии и т. п. Принимает ли полиция какие-либо меры для нашей охраны, нам неизвестно; внешне этого не видно».
На следствии выяснилось, что Конради до убийства Воровского ездил в Берлин, чтобы там выяснить возможность убийства Чичерина или Красина. Но там покушение не удалось.
Год спустя на открытии памятника Воровскому, сооруженного в Москве на средства, собранные среди сотрудников НКИД, Чичерин говорил:
— Товарищи, перед стенами нашего комиссариата этот памятник является вечным напоминанием той боевой роли, которую наша красная дипломатия играет на передовом посту нашей мировой борьбы. Она остается и всегда будет оставаться верна своему славному знамени. Она будет достойна того трагически погибшего товарища, утрату которого мы сегодня еще раз оплакиваем…
Советский Союз крепил свою экономическую и оборонную мощь. Но это делалось не для войны, что бы там ни кричали зарубежные обозреватели. «Мы нуждаемся в мире и желаем способствовать всеобщему миру, и мы первые не нарушим мира, но мы не толстовцы и непротивленцы, и, если нас принудят драться, мы будем драться», — говорил Чичерин.
Английская угроза не оказала влияния на развитие отношений Советского Союза со странами Востока. С большой энергией брался нарком за все, что было связано с восточной политикой. Он выдвинул задачу максимальной активизации этой политики и усиления помощи народам Турции, Персии, Афганистана, Монголии и Китая в их национальной освободительной борьбе. К этому времени с этими странами были установлены нормальные дипломатические отношения.
По указаниям наркома НКИД активно изучал все доступные материалы о национально-освободительной борьбе угнетенных народов Востока, готовит предложения о помощи этим народам в их борьбе. В письме полпреду СССР в Персии Шумяцкому 1 марта 1923 года Чичерин писал, что на почве совместной борьбы советских республик и восточных народов против мирового господства западного империалистического капитала возможно развитие отношений с народами Востока, что явилось бы одной из главнейших составных частей всей мировой политики и исторической миссии Советского государства в данный период. Царская политика в отношении Ирана преследовала цель не допускать его самостоятельного развития, задача же Советской страны — сделать все для развития Ирана, его производительных сил, помочь ему в борьбе против посягательств западных стран на независимость страны.
Рос международный авторитет Советского Союза, улучшилось его внутреннее положение. С особым удовольствием отмечал это Чичерин. Его попросили однажды выступить на Первой сельскохозяйственной и кустарнопромышленной выставке в Москве. Он охотно согласился, ведь выставка наглядно опровергала распространенную на Западе точку зрения, что Россия живет за счет прошлого, что большевики не умеют хозяйничать и стране грозит банкротство. По свидетельству очевидцев, когда над выставкой пролетел самолет — по тем временам необычайная новинка, — никто даже не шелохнулся, так захватила всех страстная речь наркома. Свое выступление Чичерин закончил словами:
— Ни на минуту мы не должны забывать, что мы являемся лишь одной Красной республикой, точнее Союзом республик в капиталистическом окружении, что время опасности для нас не миновало, что нам придется, может быть, еще жертвовать очень и очень многим для этой борьбы, но те необыкновенные жизненные силы, которые проявляются в творческой работе Советских республик, которые мы видим воочию на этой выставке, они служат нам порукой, что трудящиеся массы Советских республик так же победоносно пройдут через новые испытания, которые, может быть, для них готовятся, как они прошли через все прошлые испытания, и с этой уверенностью, с этой надеждой на будущее мы можем здесь,
Успехи Советского Союза, как никогда, стали ощутимы и на внешнем фронте. К концу 1923 года многие буржуазные государства готовы были пойти на установление дипломатических отношений. Ленинская дипломатия в результате упорной шестилетней борьбы добилась осязаемой победы, капиталистический мир отступал, признавая Советское государство, возглавляемое большевиками.
Зал заседания XI Всероссийского съезда Советов. Председательствует Калинин. Превозмогая себя, он объявляет:
— Товарищи, прошу встать… Я должен сообщить вам тяжелую весть. Здоровье Владимира Ильича в последнее время шло на значительное улучшение. Но во вчерашний день произошел с ним удар. Владимир Ильич умер…
Чичерин тяжело переживал смерть Ленина. С его именем была связана вся внешнеполитическая деятельность, вся жизнь наркома.
Ни одна даже самая циничная буржуазная газета не осмелилась кощунствовать. Лишь некоторые позволили себе высказать несбыточную надежду, что со смертью Ленина кончился период социализма в России и созданное им государство неминуемо развалится.
22 января от имени Советского правительства Чичерин принимал соболезнования дипломатического корпуса. Представители многих иностранных государств слали телеграфом и по почте свои соболезнования, непрерывным потоком шли сообщения о траурных днях за границей.
24 января НКИД посетил германский посол, бывший дуайеном в Москве. Он заявил, что дипломатический корпус будет присутствовать на гражданской панихиде в Колонном зале. Посол вручил наркому письмо:
«Значение личности Ленина и объем его влияния на преобразование судеб России и мира имеет столь огромное значение, что их беспристрастная и справедливая оценка может быть вынесена только разумом грядущих поколений.
У гроба этого человека, пожертвовавшего силы и жизнь делу служения своему великому народу и чье имя принадлежит истории, я прошу соизволить принять также и мое глубоко переживаемое сочувствие».
На следующий день Брокдорф-Ранцау от имени дипломатического корпуса возложил венок на гроб Ленина.
27 января состоялись похороны. В Колонный зал Дома Союзов пришли дипломатические представители.
Чичерин у гроба вождя. Едва скорбная процессия вышла из Дома Союзов, как огромнейшая толпа, прорвав все заграждения, оттерла его от гроба, и, сколько ни пытался, он так и не смог пробиться к нему.
На Красной площади, затерянный в огромном людском море, он стоял в скорбном молчании. С похорон вернулся в тягостном настроении. Все дни проходили под впечатлением невосполнимой утраты большого друга, старшего товарища.
Когда государственное издательство обратилось к наркому с просьбой написать воспоминания о Владимире Ильиче, Чичерин тотчас же принялся за рукопись, через несколько суток закончил ее и сел за статью для молодежи. Нужно, чтобы вое знали, каким был Ленин.
В выступлениях наркома, его письмах и телеграммах полпредам постоянно упоминается имя Ленина. В ленинском наследии он видел ценнейшие ответы на волнующие вопросы сегодняшнего дня.
До конца своей жизни Георгий Васильевич сохранил яркие воспоминания о постоянном дружеском и заботливом отношении к нему Ленина. Когда кто-либо пытался попрекнуть наркома дворянским или меньшевистским прошлым, Ленин решительно вставал на его защиту. Так было в 1918 году, так было в начале 20-х годов: не прошлый Чичерин, а Чичерин — большевик, дипломат, искусный политик был важен. Чичерин прав, с мнением Чичерина можно согласиться, предлагаю Политбюро утвердить все предложения Чичерина, — часто писал на многочисленных документах в своих записках Ленин[45].
История хранит многие следы внимательного отношения Владимира Ильича к Чичерину, его уважения к наркому иностранных дел. Как часто Георгий Васильевич бывал приятно удивлен прямым и откровенным обращением к нему за советом и помощью того человека, который, по его глубокому убеждению, мог бы с успехом обойтись и без них.
17 декабря 1921 года в связи с подготовкой отчета ВЦИК и СНК на IX Всероссийском съезде Советов Ленин обращался к Чичерину: «Можно ли рассказать о плане приглашения России и Германии на 2-ую конференцию в апреле 1922 года? На какой источник сослаться? Насколько это счесть достоверным или вероятным?»[46]
Как мало они, соратники Ленина, щадили своего вождя, не стеснялись обременять его всевозможными мелочами, отрывали от дел. А он всегда находил время на терпеливые объяснения, советовал, спорил, убеждал.
Сколько раз приходилось ему вмешиваться в текущие будничные дела НКИД! Приходилось, например, одергивать тех, кто бесцеремонно использовал слабость Чичерина не командовать другими, а все делать самому, и перекладывал на его плечи груз всевозможных мелочей. Досталось Горбунову за то, что он не проявил должной заботы о жилье для приезжавших иностранцев, ибо «он, а не Чичерин должен об этом писать всем и
Ленин всегда держал под своим наблюдением деятельность НКИД. Ни одно важное решение советской дипломатии не принималось без его живейшего участия. В любых трудных случаях Чичерин обращался непосредственно к нему и всегда мог рассчитывать на помощь.
Почти каждый вечер Георгий Васильевич разговаривал по телефону с Лениным. Эти часы были хорошо известны всем сотрудникам наркомата, и, как только они наступали, никто не решался мешать наркому. В приемной воцарялась тишина. Разговоры бывали длительными. Чичерин подробно докладывал обо всем, что случилось за день. Владимир Ильич ставил перед ним новые задания, подсказывал решение наиболее трудных вопросов.
В советах и указаниях вождя большевиков нарком всегда видел глубоко продуманную, ясную по целям и положительную по итогам линию партии. Авторитет Ленина в любой области был для него непререкаем. Владимир Ильич, в свою очередь, ценил Чичерина за его преданность делу рабочего класса, кипучую деятельность и мастерское претворение в жизнь новой советской внешней политики, за его железное правило считать свою деятельность партийным поручением. Без решения ЦК, без Ленина он не считал себя вправе принимать ответственные решения.
Беседы с Лениным обогащали Чичерина. Начиная такую беседу, он всякий раз клал перед собою на стол несколько листов чистой бумаги, которые к концу беседы сплошь покрывались торопливыми заметками, отдельными фразами.
После бесед обычно он или созывал коллегию для обсуждения возникших во время разговоров с Лениным вопросов, или диктовал стенографистке письма членам Политбюро, в том числе и Ленину.
Много работал Чичерин по ночам. Нарком здравоохранения Семашко как-то рассказал о таком эпизоде.
«При одной из встреч Владимир Ильич говорит мне:
— Жалуются, что Чичерин устраивает заседания после 12 часов ночи и продолжает заседания до 4–5 часов. Поговорите с ним: зачем он калечит и себя и других?
Я отправился к Чичерину и стал убеждать его в простой истине, что ночью нужно спать, а днем работать. Но Чичерин был своеобразный человек: он стал доказывать, что именно ночью, когда никто не мешает, надо работать, а днем спать. Он даже стал научно обосновывать это по только что вышедшей тогда книге о пении петухов, которую я перед этим перелистал по обязанности просматривать выходящую биологическую литературу. И как я ни доказывал Чичерину, что петухи ложатся спать «по-петушиному» и только потому у них в 2 часа ночи «приливает энергия», он остался непреклонен. При следующей встрече я говорю Владимиру Ильичу:
— Что я буду делать с Чичериным? Он явно в этом вопросе псих.
Через несколько дней получаю постановление ЦК: Чичерину, копия — мне. Чичерину запретили устраивать заседания коллегии после 1 часу ночи».
Конечно, слова «о сне петухов» — это всего лишь одна из обычных шуток Чичерина, которые он умел произносить с весьма серьезным видом. Истинные причины своей ночной работы Чичерин изложил в письме Ленину 5 мая 1920 года. Он писал тогда: «Вопрос стоит не о ночной работе, а о продолжительности моей работы, доходящей до 20 часов в сутки, что длительно не переносимо. Перенесение моего кратковременного отдыха в более ранние часы не уничтожит ночную работу, но, наоборот, продлит ее и сократит мой отдых еще больше ввиду абсолютной невозможности днем отгородить себя от телефонов и посетителей. Нормальная же продолжительность моей работы зависит от того, что наш эмбриональный центральный аппарат должен быть развит, для чего требуется: 1) другое помещение и 2) продовольственное удовлетворение сотрудников, при котором можно было бы привлекать хорошие силы. Я категорически отрицаю, чтобы мы не могли создать настоящий центральный аппарат: мы вполне способны это отлично сделать при условии необходимых предпосылок… Дела должны быть выполнены. Без этого республика не может существовать… Все министерства иностранных дел всего мира имеют ночную работу: поступают свежие известия и должны быть обработаны к следующему дню, по более спешным делам немедленно даются ответы, и в более важных случаях будят министра. Но самый аппарат ночной работы находится в руках чиновников, везде, где таковые имеются».
После решения ЦК коллегия НКИД после часа ночи собиралась лишь в крайних случаях, сам же нарком продолжал работать по-прежнему.
Но знал Чичерин и другого Ленина, непримиримо требовательного в том, что затрагивало коренные интересы Советского государства. 20 января 1922 года под впечатлением раздумий о необходимости раскола блока буржуазных государств Чичерин задает Владимиру Ильичу вопрос: может быть, можно было бы внести некоторые самые незначительные изменения в Конституцию РСФСР, в частности, не допустить ли в какой-то форме представительство в Советах также и нетрудящихся элементов? Чичерин выдвинул свое предложение отнюдь не в категорической форме и лишь для того, чтобы обсудить, возможна ли такая уступка за приличную компенсацию, поскольку лишение всей буржуазии политических прав шокирует американцев и затрудняет соглашение с ними. Ленин категорически отверг предложение наркома. «Сумасшествие!» — написал он на полях чичеринской записки. Естественно, это замечание не предназначалось для Чичерина, как и сделанный Лениным вывод, что Чичерин заработался, тяжело болен и его нужно отправить в санаторий.
Вряд ли надо говорить о том, что Чичерин не подвергся никакому наказанию, ему лишь в мягкой форме указали на несостоятельность его предложения. Товарищеские отношения между ним и Лениным нисколько не пострадали.
«Деловые соображения должны господствовать над личными, всякий личный момент должен отступать перед интересами дела, — писал Чичерин о Ленине, — этим принципом Владимир Ильич был настолько весь проникнут, что в разговорах с ним просто неловко было ссылаться на какие-либо личные соображения, когда речь шла об интересах дела; собеседник Владимира Ильича невольно чувствовал, что, когда говоришь о деле, стыдно думать о каких-либо личных соображениях. Я никогда не видел Владимира Ильича более раздраженным, чем в те моменты, когда личная склока привносилась в деловую работу, когда деловые аргументы заменялись личными нападками и склокой, когда вместо того, чтобы говорить о деле, говорили о личных обидах или о личных качествах тех или других участников дела. В такие моменты у Владимира Ильича вырывались наиболее резкие реплики или наиболее резко составленные записки. Думай только о деле, не думай о личных соображениях, пусть сознательно поставленная цель господствует над личными чувствами и над личными обстоятельствами — вот чему учились у него работавшие с ним. Вместе с тем он отличался самой тонкой деликатностью по отношению к своим сотрудникам, он умел даже неприятное облечь в такую мягкую и тактичную форму, которая совершенно обезоруживала собеседника. И от тех, кто с ним работал, он требовал такой же деликатности и тактичного отношения к окружающим. Государственные меры должны были проводиться безжалостно, всякое сопротивление, противодействие, саботаж, халатность, леность должны были караться безжалостно, но, поскольку люди работали друг с другом и удовлетворительно выполняли свою работу, он требовал деликатного отношения к сотрудникам и не допускал выражений нетерпения и резкостей».
Таким и остался в памяти Георгия Васильевича образ великого человека, перед гением которого он искренне преклонялся.
Ленин умер, но разработанная им программа советской внешней политики начинала давать практические результаты. Анализ исторических событий позволял считать, что неустойчивость международного положения, сужение европейского рынка и экономический кризис, охвативший страны Европы, внутренняя неурядица в этих странах — все толкало их на сближение с Советским Союзом. Предвидение Ленина, что капиталисты в силу экономических причин, в силу требований пролетариата их стран пойдут на установление связей с Москвой, сбывалось. Уже ни одно правительство не могло быть прочным, не провозгласив лозунга о признании СССР.
В феврале 1924 года пришедшее к власти лейбористское правительство Великобритании заявило о полном дипломатическом признании СССР. Начался год признания Советского государства. Заслугой Чичерина было ясное понимание ленинских идей в области внешней политики, и не будет преувеличением полагать, что один из крупных успехов внешней политики этого периода — отказ буржуазных правительств от бойкота Советской страны — был его личным успехом, хотя он никогда не признавал за собой этой заслуги.
Очень скоро дало о себе знать отсутствие Ленина. Кое-кто поспешил переоценить факт признания английским правительством Советского Союза, а также факт прихода к власти в Англии «рабочего правительства» Макдональда и выдвинуть в феврале 1924 года идею некоторой «переориентации» деятельности наркомата. Предлагалось на время забыть о Франции и форсировать развитие связей с Англией.
Нарком решительно воспротивился этому и вновь выдвинул свой тезис о взаимозависимости внешней политики отдельных стран. Апеллируя к ленинской практике, он разъяснял, что дипломатические успехи Советского Союза объясняются прежде всего тем, что советская дипломатия не шла на поводу ни у одной стороны. Она не позволила ставить себя в зависимость от политики какой-либо империалистической коалиции. Изучение политики Англии и Франции, их столкновений в Европе и на Ближнем Востоке показывает, что англо-французские противоречия все еще остаются сильнее франко-германских, несмотря на всю видимую обостренность последних. Можно полагать, что Франция неизбежно будет искать себе союзников на континенте, а следовательно, существует реальная возможность улучшения отношений с ней и странами, поставившими свою политику в зависимость от нее, в частности с Польшей.
Дальнейшие события подтвердили правильность концепции Чичерина. Английское правительство проводило прежнюю политику Керзона. Это оно санкционировало провокации против Советского Союза, в частности в Грузии и в Средней Азии, перешло в наступление против национально-освободительного движения на Востоке, организовало интервенцию в Кантоне и антисоветскую демонстрацию на Черном море.
Тем не менее в Европе сложилась обстановка, не исключающая новой советской инициативы по урегулированию отношений с Англией, установлению связей с Францией и подготовке торгового договора с Германией. Брокдорф-Ранцау способствовал организации переговоров с германским правительством. Возвратившись из отпуска, он сообщил Чичерину, что в германских кругах выражается опасение, не ослабит ли интерес к Германии соглашение Советского Союза с Англией.
Казалось, все предвещало удачу в советско-германских переговорах. Но неожиданно 3 мая берлинская полиция совершила грубую, в старопрусском духе провокацию. Под предлогом задержания двух бежавших арестантов полицейские ворвались в здание советского торгпредства, взломали столы и шкафы сотрудников и начали рыться в бумагах. Только решительный протест приостановил эту провокацию. Германский посол был в отчаянии. Его личным планам грозил провал. После долгих переговоров конфликт был все же улажен.
Чичерин в это же время не упускает возможности восстановить отношения с Францией. Настойчивые и последовательные усилия советской дипломатии в этом направлении давали свои плоды.
Вечером 28 октября 1924 года, когда Чичерин собирался идти на очередное заседание сессии ЦИК, ему вручили телеграмму от Эррио: французское правительство признавало Советский Союз де-юре и предлагало начать переговоры по спорным вопросам.
— Мы горячо приветствуем этот акт, — говорил нарком на заседании ЦИК. — Мы видим те перспективы, которые он раскрывает перед нами в дальнейшем для развития нашей международной политики и развития наших международных экономических отношений.
Я предлагаю Центральному Исполнительному Комитету принять это предложение и ответить согласием на немедленный обмен послами с Французской республикой. Нам предлагается также немедленно открыть переговоры в Париже для урегулирования всех спорных вопросов между обоими государствами и для того, чтобы положить начало между нами дружественным отношениям экономического сотрудничества, я предлагаю принять это предложение и, приветствуя шаг французского правительства, согласиться на немедленное открытие этих переговоров.
Предложение наркома было принято единогласно.
Это был еще один рубеж на трудном пути.
В Германии антисоветские круги в противовес советско-французскому сближению пытались демонстрировать мнимые симпатии к Англии. Они прервали московские торговые переговоры. Снова Ранцау в панике, снова Чичерин убеждает посла в прочности советско-германских отношений, покоящихся на Рапалльском договоре.
Сложные проблемы урегулирования отношений с Германией действительно требовали неустанного внимания. Нужно было очень осторожно подталкивать события, опрометчивый шаг мог испортить работу многих месяцев.
Отношения с Францией налаживались с большим трудом, нужно было и тут преодолевать все новые и новые барьеры. Полпред Красин сообщал, что встретили его в Париже холодно, вручение верительных грамот задерживалось. Антисоветские настроения стремился подогреть находившийся в Париже Чемберлен.
Вообще создавалась картина «грандиозного всемирного похода» против Советского Союза. Но, как отмечал нарком, на самом деле это не так страшно. «Если Чемберлен хочет, как пророк Илья, на огненной колеснице разъезжать среди грозовых туч и метать в нас молнии, — высмеивал его Чичерин, — то встает вопрос, не будет ли он в действительности больше похож на синицу, которая хотела зажечь море».
В начале 1925 года Чичерин был много времени занят подготовкой к III сессии ЦИК, в которой ему надлежало принять активное участие. Почти все дни он проводил на заседаниях, часто возвращался домой поздно ночью, усталый, разбитый.
20 февраля вместе с другими членами Советского правительства Чичерин выехал в Тифлис, где должна была проходить сессия. В Харькове весь вокзал, перрон и часть железнодорожных путей к приходу поезда были запружены народом. Чичерин на минуту появился на площадке вагона, ответил на приветствия и скрылся в своем купе. Но собравшиеся потребовали, чтобы он сделал доклад о международном положении. Ни просьбы, ни ссылки на то, что его не будет слышно, ничто не помогло. Пришлось, стоя на подножке вагона, рассказывать о событиях текущего момента.
Сообщение об этом импровизированном докладе попало в печать, и с того дня подножка вагона стала для Чичерина ораторской трибуной. На каждом полустанке в любое время дня или ночи ему приходилось выступать экспромтом, без конспектов и записок.
В Баку Чичерин выступил на торжественном заседании ЦИК Азербайджана. Он говорил о великой нерушимой дружбе советских народов, сбросивших ярмо капиталистического рабства, об их союзе с порабощенными народами Востока.
— Для нас Баку особенно дорог еще и тем, что он является пунктом, в котором мы непосредственно соприкасаемся с Востоком.
3 марта правительственный поезд прибыл в столицу Советской Грузии. На проспекте Руставели выстроились войска. Все застыли в ожидании. Калинин приветствовал их, в ответ несся грузинский боевой клич:
— Ваша-а-а! Ура-а-а!
А потом у дворца состоялись парад и демонстрация.
Вечером того же дня в здании государственного театра открылась III сессия ЦИК СССР. На втором заседании с большим докладом о международном положении выступил нарком Чичерин.
— Англия, — говорил он, — может рассматриваться как наиболее влиятельная из капиталистических мировых держав. Но она начала испытывать растущее недовольство доминионов и поднявшееся на большую высоту национально-освободительное движение колониальных народов. Появилась серьезная трещина в англо-американских отношениях, пытается обособиться Франция, двойственную позицию заняла Япония, на которую давят совместно и порознь Англия и Америка, в обиженной позе стоит в стороне Италия, тужится занять подобающее место среди сильных мира сего Германия и т. д.
Нарком, нарисовав яркую картину международных отношений, вынес на суд сессии предложение о советской внешней политике, направленной на налаживание мирных отношений.
К докладу Чичерина был проявлен огромный интерес. Сильный и образный язык его выступления приковывал внимание слушателей, а внутренняя логика и стройность выступления втягивали в совместное обдумывание международного положения.
Доминирующим началом во всех последующих выступлениях наркома было требование о сохранении мира.
— Основное содержание нашей международной политики, — говорил он, — ее первый постулат, ее первое требование, — это глубокое стремление к миру. Это связано и с общими основаниями нашего строя, и с целым рядом моментов политической обстановки.
Нарком говорил, что СССР вступил в полосу новой истории, которую характеризует мирный поединок двух систем.
Почти каждый день Чичерин держал отчет перед трудящимися Тифлиса. Нарком увязывал прошлое с настоящим и рисовал картины будущего. Он щедро делился своими мыслями. Это были блестящие импровизации, которые навсегда погибли: ни один, даже самый талантливый репортер был бы не в силах передать выступление Чичерина, который не читал прописные истины по заранее написанной бумажке, а сердечно беседовал со слушателями.
Однажды Чичерин выступил на площади перед университетом. Было много молодежи — проходило объединенное студенческое собрание всех вузов и рабфаков Тифлиса. Встреча была по-студенчески горячей. Чичерин долго ожидал, пока стихнут приветствия.
— В XVIII веке, — говорил он, — задача дипломатии сводилась к привлечению на свою сторону того или иного государя, общественные же факторы лежали вне сознания деятелей международной политики. В настоящее время вести политику значит двигать общественными, особенно экономическими факторами. В этом отношении мы имеем перед нашими противниками неизмеримое преимущество — марксистский анализ. В настоящий момент, когда наш спор разрешается не силой оружия, наша борьба заключается в том, чтобы достигнуть превосходства в области экономического творчества. Мы должны показать, что наша форма хозяйства есть высшая. Тем, что мы показываем преимущества нашего строительства, мы получаем перевес в нашем международном положении.
Отдыхал ли нарком в эти дни, трудно сказать. Его видели то на одном, то на другом собрании, то за письменным столом, то у памятников древней старины.
Вечером 7 марта члены правительства выехали в Армению. Поездка по Закавказью совпала с третьей годовщиной провозглашения ЗСФСР. Это был праздник народов Кавказа.
Георгий Васильевич часто повторял изречение Плиния, которое запало в память еще с гимназических лет: «Стыдно жить в отечестве и не знать его». Теперь представился великолепный случай своими глазами увидеть часть своей Родины, и он жадно пользовался этой возможностью. Станция Шагали, Ленинакан, селение Капы, Эривань.
Почти все население столицы Армении вышло встречать прибывших.
После парада осмотр города. И снова в путь, и снова на каждой остановке выступления. Как писала «Правда», «крестьяне, узнав, что правительственный поезд следует обратно в Москву, спешат к железнодорожным станциям, иногда больше, чем за 50 верст, идут пешком. Кругом станций крестьянская масса задерживает поезд подолгу и приветствует правительство».
Поездка на всю жизнь осталась в памяти Чичерина. Спустя много лет он яркими поэтическими красками описывал места, которые ему удалось посетить:
«Сакартвело, край жизнерадостности и красоты, ты будешь тамада нашего пиршества. Одна мысль о тебе возвращает юность и наполняет радостью. Пламенный Хайястан, твоя величественная культура возрождается в республике трудящихся.
Древняя Антропатена греческих и римских историков, где с незапамятных времен поклонялись священным огням, ты поддерживаешь огни современного производства на всем пространстве нашего Союза. И тут же Горный Карабах, который перестал быть ареной нескончаемого кровопролития и стал вместо того звеном братства народа, и Нахичевань, ставшая аванпостом нашего Союза. Имя аджарцев перестало быть признаком гонимых, теперь ваш край — жемчужина нашего Союза. И те, кто знаком с приветливыми берегами Аджарии, говорили нам о Генуе среди красот итальянской Ривьеры, что Батум куда прекраснее.
Абхазия, эта древняя страна, снова значится в семье народов как братская часть местного и общесоветского Союза. Привет вам, горные орлы Северного Кавказа, привыкшие издавна умирать за жен, за детей и за горные ущелья и ныне сумевшие славно пронести красное знамя трудящихся через величайшие испытания господства белогвардейцев и дворян. Привет вам, горные партизаны красного Кавказа, прибавившие к славным страницам деяний ваших геройских отцов и дедов славные страницы борьбы за всеобщее дело трудящихся.
Многоязычный Дагестан с его неприступными высотами, глубокими ущельями и древними памятниками, доблестная Осетия, мужественная Ингушетия, и вы, непобедимые адыге, и страна геройских боев Чечня, и упорный в труде Карачай, привет вам вольнолюбивые народы, в нашей республике свободного труда и свободных национальностей…»
Росло уважение широких масс к Чичерину. 5 мая 1925 года его выбрали почетным членом Бакинского Совета. 19 мая Кубанский окружной исполком избрал его почетным казаком. 10 июля Чичерин стал почетным студентом Коммунистического университета нацменьшинств Запада и т. д.
За время поездки накопилась огромная почта. Нарком занялся чтением неотложных материалов.
В мировой политике не бывает застоя, как не бывает и бесследных событий. Чичерин не оставлял без внимания даже самые незначительные из них. У него было поразительное чувство интуиции, основанное на глубоких знаниях процессов международного развития. И часто малозначащие события при вдумчивом отношении помогали вскрывать взаимозависимые явления мировой политики.
«Всюду, куда бы мы ни посмотрели, — писал Чичерин в 1925 году, — какую бы частность нашей политики мы бы ни взяли, мы всюду наталкиваемся в конечном счете на основные комбинации мировой политики, то есть на ту мировую политику мировых держав, которые своими щупальцами проникают повсюду, которые действуют и в Польше, и в наших западных лимитрофах, и на всем протяжении Ближнего и Дальнего Востока».
Чичерин начал с изучения донесений о политике английского правительства и вскоре пришел к твердому выводу, что Англия предпринимает усилия в целях изоляции Советского Союза и создания так называемой «оборонительной линии» вдоль его западных границ. С помощью всевозможных посулов она хочет оторвать от СССР страны-лимитрофы. Такова одна сторона вопроса. Одновременно Англия боится потерять Германию и ради сохранения ее на своей стороне готова принести в жертву Польшу.
Версальский мир не принес успокоения. Все крепче завязывался узел новых противоречий. Правительства капиталистических стран метались в поисках выгодных комбинаций. Иногда шла охота за двумя зайцами с перспективой не убить ни одного. Используя противоречия, советская дипломатия должна срывать планы, направленные на изоляцию Советского Союза и создание антисоветских блоков.
Чичерин видит: Германия боится разрушить свои отношения с Советским Союзом и оказаться один на один с Францией, которая усиленно вооружается. Польша опасается остаться лицом к лицу с недовольной Германией, Франция готова идти на соглашение с Советским Союзом, но боится экономических и финансовых контрмер Англии. Все чего-нибудь или кого-нибудь да боятся, все ищут партнеров и все ненавидят Советский Союз. Тем не менее в создавшейся обстановке интересы капиталистов толкают их на расширение связей с СССР.
Возобновились переговоры с немецкой делегацией о заключении торгового договора. Правда, было похоже, что немцы ведут переговоры в целях шантажа англичан. Глава германской делегации Кернер, пользуясь тем, что сторонник договора Ранцау был в Германии, упрямился, «выжимал» уступки, раздувал мелочи и вел дело на затяжку переговоров. Из Берлина приходили малоутешительные вести: немцы заявляли, что они по-прежнему придерживаются линии Рапалло, но от прямого ответа на вопрос о сроке окончания переговоров уклонялись.
Надо ли говорить, что режим Чичерина по возвращении из поездки не изменился, рабочий день оставался загруженным до предела. Личные секретари пытались избавить его от чтения материалов, но он замечал это, и тогда следовал разнос. И снова вся почта исправно шла к нему. Особенно его привлекали материалы из стран Востока, ибо, несмотря на заинтересованность политикой западноевропейских стран, руководство восточными делами он не хотел никому передоверить.
— Давайте мне почту не поздно вечером, а с вечера, чтобы я мог получше с ней ознакомиться, — теребил он своих секретарей, — а то теперь получается так, что днем я довольно свободен, а ночью вы меня нагружаете целой кучей материалов.
Секретари недоумевали: когда же это было «свободное» время? Его бывший секретарь Б. И. Короткий вспоминал: «Чичерин являлся образцом исключительной аккуратности и точности во времени. Эта аккуратность и точность у Георгия Васильевича носила характер исключительной педантичности. Составляя график своего рабочего дня на 3–5–7 дней вперед, он назначал время для приемов таким образом: одному в 11 часов, следующему в 11 часов 10 минут, третьему вдруг в 11 часов 18 минут и т. д., и этот график почти никогда не нарушался. Но если по вине кого-либо из работников или гостей нарушение точности во времени имело место, то это приводило прямо к драматическим результатам».
Несмотря на кажущийся беспорядок в рабочей комнате, здесь каждая папка, бумага имела свое место, дела в шкафах Георгий Васильевич раскладывал по своей системе, каждое интересное сообщение прятал в специальную папку, и если кто-нибудь из личных секретарей заводил новое дело, то он был обязан доложить об этом наркому и показать папку, чтобы он запомнил ее внешний вид. Газеты тоже не «валялись» где попало, как иногда пишут в воспоминаниях о нем: для прочитанных, но необработанных было место на диване, для непрочитанных — на столе. Ни одна мелочь не ускользала от его внимания.
Напряженная работа, отсутствие отдыха, полное безразличие к своему здоровью быстро свели на нет результаты лечения в Германии в 1922 году. Чичерин становился крайне рассеянным ко всему, что не касалось работы, частенько, выходя из кабинета, забывал ключ в дверях, английский замок защелкивался, и секретарям приходилось осваивать профессии «взломщиков». Раздражали мелочи, на которые раньше он не обращал внимания.
— Лампочки, — сказал он как-то недовольным тоном секретарю, — лукаво выглядывают из-под абажура. Мешают работать.
Однажды Чичерин узнал, что секретари не докладывают ему о частных письмах, в которых в основном содержались просьбы о визах (письма направлялись прямо в консульский отдел). Снова нарком выразил недовольство.
— Я уверен, — возмущался он, — что не на все, а скорее всего ни на одно такое письмо вы не отвечаете, а между тем у каждого порядочного министра иностранных дел есть своя канцелярия, на обязанности которой лежат ответы на запросы частных лиц. Тогда это получается и тактично и аккуратно!
Впрочем, гнев его быстро проходил, он не помнил зла и считал, что после замечания человек непременно исправится. Личных антипатий, не связанных с принципиальными вопросами, у него не замечалось. Если он бывал не прав, то, помучившись наедине, честно признавался в ошибке и просил извинений.
В августе Георгий Васильевич снова занемог.
Дела же требовали к себе внимания. Еще 27 июля из Берлина пришло обнадеживающее сообщение, что министр иностранных дел Германии Штреземан готов в ближайшем времени подписать торговый договор с СССР. Это, казалось, должно было дать энергичный толчок к переговорам в Москве. Но, увы, и на этот раз немцы под предлогом отсутствия ясных инструкций не особенно спешили. В Берлине были сильны влиятельные круги, которые продолжали ориентироваться на Запад, добиваясь прежде всего сближения с Англией.
Все время Чичерин проводил у себя в кабинете, никого не принимая. Врачи запретили двигаться, и большую часть времени он находился в постели. По договоренности между собой личные секретари неотлучно находились возле него, так как сейчас Георгий Васильевич мог работать только с их помощью. Он отдавал себе ясный отчет: в таком положении он не может эффективно руководить делами наркомата — и начал понемногу свертывать работу, а затем и совсем передал дела Карахану, которого по-прежнему высоко ценил за умение без суеты, деловито и не мешкая решать самые серьезные проблемы.
Карахан порой изумлял Чичерина тем, что быстро и легко писал дельные ответы на письма полпредов. Карахан показал также, что он может справиться со сложной работой центрального аппарата. Возвратившись из Генуи, Чичерин нашел все дела в полнейшем порядке, работа НКИД шла в обычном темпе. Чичерин с уверенностью считал, что Карахан с успехом заменит его.
Таким образом, главное было улажено. 20 сентября нарком сообщил всем членам коллегии, что доктор разрешил ему выезд, надо успеть обсудить политические вопросы, связанные с поездкой. Как и решено, к месту лечения он поедет через Варшаву, что будет вполне естественным. Конечно, не удастся уклониться от разговоров с польским министром иностранных дел Скшинским. Но свидание состоится только потому, что Чичерин едет лечиться, поэтому никто, особенно в Берлине, не должен заподозрить что-либо неладное.
25 сентября наступил день отъезда. На вокзал проводить Чичерина прибыл весь дипломатический корпус. Это было новым и неожиданным. Ранцау поторопился заверить в искренних чувствах, которые германское правительство испытывает к Советскому правительству. В Берлин он поспешил сообщить, что «уверен в лояльности советского наркома».
Остановка в Варшаве была истолкована немцами как демонстрация. Советник германского посольства в Москве Гильгер жаловался: «Вместо того чтобы ехать по своему обычному маршруту прямо в Берлин, Чичерин сделал остановку в Варшаве с явным намерением сыграть на противоречиях Германии с Францией и Польшей».
В польской столице накануне визита циркулировали слухи явно берлинского происхождения о том, что у Чичерина «дипломатическая болезнь», что он якобы отказался от поездки в Варшаву. Даже в день его приезда местные газеты все еще гадали, случаен ли приезд Чичерина в Польшу и не носит ли он особый, тайный смысл. Этому было свое объяснение. Польский народ устал быть объектом политических спекуляций иностранных правительств. Натянутость в англо-польских отношениях заставляла думать, что Англия пытается втянуть Польшу в какой-то новый конфликт в Восточной Европе. Прохладные отношения были и с Германией. От Чичерина ожидали многого.
Вообще с тех пор, как во Франции изменились настроения в пользу улучшения отношения с Россией, этот подувший с берегов Сены свежий ветерок оказал благотворное влияние на Варшаву. Если до 1924 года в Польше господствовали антисоветские настроения, то теперь атмосфера менялась к лучшему. Конечно, там имелись влиятельные круги, препятствовавшие сближению. В качестве одного из доводов они в свое время выдвигали «непримиримость польской общественности» к факту ликвидации семьи Николая II. В письме польскому министру иностранных дел Скшинскому 4 сентября 1924 года Чичерин с присущей ему увлеченностью историческими фактами разбил этот предлог: «Во время героической борьбы польского общества за освобождение руководители этой борьбы, обращаясь к представителям русского общества, выставляли лозунг «За свободу нашу и вашу». Я не помню момента в истории борьбы польского народа против угнетения царизмом, когда борьба против последнего не выдвигалась бы как общее дело освободительного движения Польши и России… Сотни и тысячи борцов за свободу польского народа, погибшие в течение столетия на царских виселицах и в сибирских тюрьмах, иначе отнеслись бы к факту уничтожения династии Романовых, чем это можно было бы заключить из Ваших сообщений».
Прием в Варшаве на этот раз превзошел все ожидания. Польское министерство иностранных дел настойчиво добивалось от советского полпреда Войкова согласия, чтобы нарком рассматривался как гость польского правительства, к границе был выслан специальный салон-вагон, в Столбцы на встречу выехали заведующий русским отделом и начальник столичной полиции. На варшавском вокзале наркома встретили Скшинский и почти все ответственные чиновники польского МИД.
С польским министром Чичерин встречался дважды. Беседы носили чисто информационный характер, но польская печать создавала впечатление, будто Чичерин приехал в Польшу прежде всего за тем, чтобы сдвинуть советско-польские отношения с мертвой точки.
Президент, который когда-то отказывался даже принимать верительные грамоты у советского полпреда, изъявил согласие встретиться с Чичериным, как только он намекнул на это. Для поездки Чичерина к нему был подан специальный поезд.
Печать разрисовывала мельчайшие подробности биографии Чичерина. Утверждалось даже, что чичеринский род имел прямые родственные связи с Радзивиллами. Это льстило дворянству. Газеты писали об эрудиции советского наркома, о его глубоко прочувствованных высказываниях о Шопене и польской музыке вообще. Не было также недостатка в восторженных статьях о его исключительной политической проницательности и огромном дипломатическом таланте. Газеты охотно припоминали случаи, которые имели место во время первого визита Чичерина в Варшаву после Генуэзской конференции, когда советским полпредом там был Оболенский. Бывший дипломат Н. А. Равич в своих воспоминаниях описал такой случай из тех времен.
«…Чичерин остановился на несколько дней в Варшаве, и его пригласили ознакомиться в числе прочих достопримечательностей города с национальной галереей. Директор этого музея, видный пан, получивший этот пост по протекции одного из всемогущих «полковников» из окружения Пилсудского, во фраке и с цилиндром в руках, на плохом французском языке давал объяснения. Чичерин посматривал на него близорукими птичьими глазами поверх очков, а Оболенский поглаживал свою пышную бороду.
И Чичерин и Оболенский были первоклассными знатоками музыки и превосходными пианистами. Но Чичерин был влюблен в Моцарта, а Оболенский — в Бетховена. Накануне между ними произошел спор по музыкальным вопросам, и польская обслуга Римского отеля, разумеется внимательно за ними следившая, оказалась в полной растерянности, когда из апартаментов «пана амбасадора», где находился и «пан министр», полились, перемежаясь с громкими голосами спорящих, бурные звуки разыгрываемых на рояле музыкальных пьес.
Какой нужно было из этого сделать вывод, никто не знал. Итак, директор музея, указывая на одну из картин, продолжал:
— Здесь пан министр может видеть две работы знаменитого испанского живописца Франциско Гойи — «Портрет знатной дамы» и офорт «Тореадоры»…
Георгий Васильевич взглянул на него, потом внимательно посмотрел на картины и своим высоким голосом вдруг произнес на превосходном французском языке:
— Вы ошибаетесь, господин директор: этот портрет не подлинник, а копия с картины Гойи, сделанная, надо думать, после смерти художника одним из его учеников. Подлинник — в мадридском музее Дель-Прадо. Что касается офорта, то и это тоже очень хорошая копия. Почти вся серия Гойи «Тореадорство со времен Сида», написанная им в тысяча восемьсот первом году и состоящая из тридцати листов, находится во дворце герцога Альбы… Впрочем, герцог мало интересуется картинами, он собирает коллекцию перчаток…
После этого наступила некоторая пауза. И пан директор уже молча повел гостей в остальные залы…»
После отъезда наркома варшавские газеты восторженно отмечали, что Чичерин великолепно знал историю Польши и проявил тонкое понимание национальных традиций, как будто он сам был поляком. Как бы то ни было, визит Чичерина способствовал благоприятному изменению в настроениях польской общественности. 30 сентября Чичерин покидал Варшаву.
Теперь предстояла встреча со Штреземаном. От нее зависело многое. Конечно, нарком не мог знать, что именно Штреземан отдал распоряжение затягивать советско-германские торговые переговоры и двурушнически поручил чиновникам министерства информировать английского посла лорда д’Абернона о существе этих переговоров. Больше того, он распорядился намекнуть, что переговоры будут свернуты, если англичане дадут гарантию эвакуации Рейнской области, возвращения Германии ряда территорий и получения мандата на колонии. Цена была неслыханно велика, и д’Абернон сделал вид, что не понял намека. Не мог Чичерин знать и о том, что, публично восхваляя германо-советское сотрудничество, германский министр 19 июля 1925 года занес в свой дневник: «По крайней мере, до тех пор, пока там господствует большевизм, я не в состоянии много обещать себе от такого сотрудничества». И уж конечно, Ранцау скромно умолчал при встрече с наркомом, как после просьбы германского посла в Москве ускорить переговоры Штреземан заорал на него:
— Пойти на брак с коммунистической Россией — это значит лечь в постель с убийцами собственного народа! Нынешняя Россия — это вам не Россия времен Бисмарка!
Чичерин прямо заявил Штреземану при первой же встрече, что его удивляет вся та дипломатическая возня, которая ведется за спиной Советского Союза. Честность остается честностью не только в отношениях между людьми, но и в отношениях между государствами. Штреземан заюлил. Оставшиеся до отъезда в Локарно дни он употребил на то, чтобы развеять подозрения наркома. В немецких газетах появились статьи о «духе Рапалло», начались бесконечные приемы.
Чичерин настойчиво говорил о советско-германском договоре и, конечно, о предстоящей конференции в Локарно. Немцы, в свою очередь, настойчиво домогались ответа на вопрос, в чем же, собственно говоря, советская дипломатия обвиняет Англию. Чичерин терпеливо разъяснял сущность советско-английских противоречий.
На завтраке у рейхсканцлера Лютера нарком прямо заявил:
— Вы хотите перехитрить Англию, но Англия перехитрит вас.
— Клянусь богом, — возразил Лютер, — этого никогда не случится. Германия не пойдет в Лигу наций без устранения для нее статьи шестнадцатой.
Речь шла о 16-й статье устава Лиги наций о применении коллективных санкций. В случае вступления Германии в эту организацию она легко могла быть втянута в агрессивные действия против Советского Союза и согласно той же статье была обязана пропустить через свою территорию войска, направляющиеся против СССР.
Штреземан, подхватив замечание Лютера, уверял, что Германия не примет эту статью и вообще у нее нет и не будет никаких соглашений с Англией, направленных против СССР.
Много говорили о торговом договоре. Штреземан и в этом случае клялся, что в договоре Германия видит одни лишь плюсы, а попутно безбожно торговался, стараясь добиться для германских концессий как можно больше привилегий. Было очевидным, что посещение Чичериным Варшавы и его непримиримая позиция по отношению к Локарнской конференции вызвали у немцев сильное беспокойство.
Германскому правительству не хотелось жертвовать своими отношениями с Советским Союзом ради пока что сомнительных выгод возможного сближения с Англией, и 12 октября в Москве наконец-то состоялось подписание советско-германского договора. Немецкие газеты писали об огромном значении договора. Некоторые сравнивали его с историческим Рапалльским договором. С неприличной назойливостью повторялась мысль о том, что именно Германия оказалась первой страной, подписавшей такое широкое соглашение с Советским Союзом.
Дела не позволили Георгию Васильевичу заняться собой, и только 9 октября он обратился к известному врачу Клемпереру. Однако это не помешало ему на следующий день пожаловаться в полпредство, что его плохо снабжают иностранной прессой, он не получил ни французской «Тан», ни английской «Дейли телеграф».
Георгий Васильевич и в клинике продолжал интересоваться международными событиями, особенно ходом Локарнской конференции.
Клемперер протестовал против пренебрежительного отношения пациента к лечению, рекомендовал ему переехать в Висбаден на минеральные источники. Но Висбаден — в зоне французского контроля, поэтому пришлось запросить Париж. Через несколько дней поступил ответ, что французские власти берут на себя все заботы о безопасности советского наркома.
16 октября нарком выехал в скучный Висбаден. Деятельному, энергичному человеку было здесь очень тягостно. «Только попав в здешнее стоячее болото, без обычных стимулов извне, я вижу, до какой степени я разбит и утомлен…» — писал он.
И все-таки снова политика! Без нее жизнь пуста и утомительна. Политика давно захватила его целиком, вытеснив все стремления и помыслы. От нее нельзя отказаться, даже будучи больным.
В висбаденском «стоячем болоте» продолжалась его деятельность. Он не мог пожаловаться на отсутствие внимания к себе. Особенно одолевали журналисты. Они без приглашения лезли в номер гостиницы «Четыре времени года», где он остановился, дежурили у подъезда, подкарауливали во время прогулок. В газетах то и дело появлялись вымышленные интервью. Часто, прочитав такое интервью, Чичерин хватался за голову и брался за перо, чтобы писать сердитое опровержение. Он жаловался Крестинскому: «Когда принимаешь журналистов, они врут, а когда не принимаешь журналистов, они… тоже врут. Не знаю, что хуже».
Его не покидала мысль, как бы поскорее наладить отношения с Польшей.
Вытерпеть курс лечения оказалось невозможным.
23 октября Чичерин в записке Крестинскому умолял похлопотать перед Москвой, чтобы ему разрешили прервать лечение и хотя бы на ноябрьские праздники приехать в Берлин. Не дождавшись согласия, после недолгих колебаний он решил самовольно выехать из Висбадена. И тотчас же болезнь забыта, настроение бодрое, почти веселое.
7 ноября Чичерин уже у ответственного чиновника германского МИД Криге. Они долго беседовали о Локарнских соглашениях. Георгия Васильевича особенно интересовала связь этих соглашений со статьей 18-й устава Лиги наций. Криге не скупился на объяснения.
— Если происходит спор между Германией и Польшей, этот спор разбирается советом Лиги наций, причем Германия и Польша не голосуют. Если остальной состав совета Лиги наций примет единогласное решение, таковому приходится подчиниться. Но если Германия оттянет от остальных хоть один голос, обязательного решения нет и могут быть начаты военные действия. В таком случае вступает в силу франко-польский союз; в силу статьи второй пакта Франция в таком случае имеет право помочь Польше и напасть на Германию. Англия же не обязана в таком случае вступаться за Германию против Франции, статут Лиги наций перестает применяться, и каждое государство поступает как хочет. Наша надежда заключается в том, что в таком случае СССР выступит на стороне Германии, и на этом именно казусе основаны пожелания некоторых националистов относительно создания германо-советского союза, равносильного по своему содержанию франко-польскому.
Шарады западных политических интриганов отлично подтвердили ленинскую характеристику Версальского мира, заложившего непримиримые противоречия в Европе. Теперь империалистические группировки готовы вцепиться друг другу в горло, если нельзя разрешить свои противоречия за счет Советского Союза, — отметил нарком.
В тот же день Георгий Васильевич был на приеме в советском полпредстве. Гостей собралось около 800 человек, среди них рейхсканцлер Лютер, министр иностранных дел Штреземан, генерал фон Сект, германский посол в Москве Брокдорф-Ранцау, представители финансовых и торговых кругов, журналисты, весь дипломатический корпус, за исключением американского посла. «Прием, — писала на следующий день одна из немецких газет, — оставил впечатление огромного общественного события, которое так редко можно увидеть в послевоенные годы даже в таком имеющем мировое значение городе, как Берлин».
Но Чичерин отнюдь не в восторге, ему не удалось выполнить задуманных планов. Суматоха и толчея при большом стечении гостей мешали беседовать откровенно.
Все же из доверительных бесед с некоторыми знакомыми он узнал, что германское правительство усиленно распространяет слухи, будто Советский Союз примирился с Локарно, хотя всем было ясно видно, что соглашения, заключенные в этом городе, своим острием направлены против Советского Союза. Беспочвенные утверждения немцев были похожи на провокацию. На следующий же день в письме в Москву нарком предложил усилить разоблачительную кампанию против локарнского сговора империалистических держав.
В Висбаден Георгий Васильевич уехал лишь 9 ноября. Утром в день отъезда ему показали только что поступившее анонимное письмо, в котором говорилось, что на наркома готовится покушение. Георгий Васильевич прочитал его и преспокойно уехал на вокзал.
В Висбадене ничего не изменилось. Потянулись дни со строгим режимом и надоедливыми, унылыми процедурами. Жизнь скрашивалась лишь неотнятой возможностью читать и писать. Скоро он закончил изучение Локарнских соглашений и написал подробные письма с их детальным анализом. А тут подоспело согласие Москвы на поездку во Францию с заездом в Париж. Был установлен также и обратный маршрут через Берлин и Ригу, а через неделю было сообщено, что можно заехать и в Ковно.
Во Францию Чичерин выехал тайно. Предосторожность была отнюдь не лишней. Слухи о готовящемся покушении становились все более упорными, казалось, угроза, о которой говорилось в анонимном письме, могла оказаться не пустой. Позже, когда на территории Советского Союза был арестован один из белогвардейских агентов, выяснилось, что в течение всего времени пребывания наркома во Франции ему угрожала серьезная опасность.
В год дипломатического признания Советского Союза многими странами усилилась террористическая деятельность эмигрантской контрреволюции, пытавшейся ухудшить отношение капиталистических стран с Советским Союзом. Был совершен ряд покушений на советских дипломатических работников. Очередной жертвой белоэмигрантов был намечен Чичерин.
Под предводительством бывшего великого князя Андрея Владимировича на юге Франции рыскали террористы-белогвардейцы из «Активной группы по борьбе с большевистским движением во Франции». Группа, как и парижская организация, имела задание обнаружить местожительство советского наркома и уничтожить его. Первую часть своего заговора террористы решили без затруднения, тем более что это легко было установить из газет. Вторая часть их кровавой затеи, к счастью, не удалась: Эльвенгрен, Вяземский и Волошин, на которых возлагалось это преступное задание, прозевали отъезд наркома в Париж.
Столица Франции, оправившаяся от военного времени, поражала посетителей множеством автомобилей и разнообразием обильных ночных реклам. Но за этой блестящей вывеской скрывалась трудная жизнь. От Чичерина все это не ускользнуло, он заметил обеднение населения.
Чичерин несколько раз встретился с Брианом. Французский министр упорно убеждал наркома в необходимости для Советского Союза вступить в Лигу наций. Разговоры на эту тему были скучно однообразны.
— Войдя в Лигу наций, — говорил Чичерин, — мы должны по всем вопросам занимать известную позицию… Мы не отказываемся участвовать в экономической конференции и конференции по разоружению, сохраняя все-таки нашу отрицательную позицию к самой Лиге наций.
Бриан не исключал отдаленной возможности более тесных отношений между Францией и Советским Союзом на основе, как он говорил, союза двух демократий. Но дальше отвлеченных рассуждений дело не шло.
5 декабря берлинское полпредство сообщило приятную новость: Чичерин избран на XIV съезд партии делегатом от партийной организации НКИД. Не откладывая дела в долгий ящик, Георгий Васильевич начинает готовиться к выступлению на этом съезде, усиливает переписку с полпредством в Берлине, откуда ему направляется международная и другая информация, а также необходимые материалы. Между прочим, Крестинский сообщил, что Штреземан выражает большое недовольство по поводу встречи Чичерина с министром иностранных дел Брианом.
В Париже состоялась еще одна более важная для советской дипломатии встреча. Сюда прибыл турецкий министр иностранных дел Тевфик Рюштю-бей, чтобы подписать советско-турецкий договор, переговоры о котором велись в течение всего 1925 года. Он говорил о желательности еще большего улучшения советско-турецких отношений, о чувстве личной симпатии турок к советскому наркому, который так много сделал для укрепления этих отношений.
— Новая Турция, — сказал он, — в настоящее время стремится по образцу СССР активно участвовать в борьбе азиатских народов против угрожающего им всем империализма.
В ответ Чичерин выразил твердое убеждение в ценности договора для советского и турецкого народов, готовность Советского правительства сделать все для улучшения добрососедских отношений между обеими странами.
17 декабря в Париже без особой торжественности, по-деловому, был подписан советско-турецкий договор. Реакция со стороны западных кругов была весьма бурной. Во французских политических кругах договор расценили как очередной удавшийся Советскому Союзу подкоп под Лигу наций, но сделать нельзя было ничего, договор стал реальностью.
Вскоре Чичерин благополучно выехал в Берлин. Покушение белогвардейцев на парижском вокзале не состоялось.
Сразу по приезде Чичерин послал визитные карточки Лютеру и Штреземану, давая понять, что на беседы не напрашивается, однако в порядке любезности сообщает о своем прибытии. На следующий день вопреки дипломатическому протоколу к нему прибыл Штреземан: так велико было его нетерпение узнать, о чем же все-таки Чичерин разговаривал с Брианом в Париже. Ушел он явно разочарованный. Ему казалось, что советский нарком что-то не договаривает и отделывается от него салонными любезностями.
Трогательной была встреча с Оскаром Коном, который в 1908 году защищал Чичерина перед прусским судом, а ровно через десять лет вел с ним по прямому проводу беседы о революционных событиях в Германии. Теперь Оскар Кон работал юрисконсультом в советском полпредстве.
22 декабря Чичерин выехал в Ковно. Визит советского всемирно известного политического деятеля вызвал здесь повышенный интерес. Литовское правительство хотело использовать визит как некий контрбаланс визиту советского наркома в Варшаву. Поэтому прием, оказанный Чичерину в Ковно, превзошел своей пышностью прием в Варшаве.
В 12 часов ночи нарком покинул Ковно. Отъезд ознаменовался неприятным событием: в Ковно вспыхнул чудовищный пожар, огромное зарево колыхалось над городом, освещая мрачный полог ночного неба. Некоторые усмотрели в этом дурное предзнаменование, и в последующие дни газеты усиленно раздували тревожные чувства обывателей, связывая воедино два факта: визит большевистского комиссара и страшный пожар.
Приезд наркома в Латвию был как нельзя кстати. Здесь активно действовали англичане, они усиленно вели антисоветскую кампанию. Визит Чичерина, конечно, не мог тотчас же обезвредить их подрывную деятельность, но мог способствовать установлению лучших отношений между СССР и Латвией, тем более что к этому, кажется, склонялось латвийское правительство.
Встреча Чичерина в Риге, правда, была менее пышной, чем в Ковно, но и здесь все было обставлено весьма торжественно.
Тяжелый протокольный день завершился приемом в Доме Черноголовых, организованным в его честь латвийским правительством.
После одного из тостов Чичерин произнес ответную речь. Присутствующие онемели от изумления: советский нарком говорил на чистейшем латышском языке. И хотя в самом выступлении не было чего-либо сверхособенного, оно то и дело прерывалось горячими аплодисментами…
Закончилось трехмесячное пребывание наркома за границей, но еще долго зарубежные газеты откликались на события, связанные с поездкой советского наркома. Чичерин никому ничего не обещал, ни с кем не вел переговоров, но каждый третий подозревал что-то, стремился разгадать дипломатическую тайну и своими действиями давал новые поводы к новым догадкам и домыслам.
Прибыв в Москву, Георгий Васильевич сразу же по своему обыкновению включился в работу. 27 декабря он выступил на XIV съезде партии. При его появлении на трибуне все делегаты встали и в зале долго не стихала овация: съезд приветствовал Чичерина и в его лице отдавал дань успешно претворяемой в жизнь активной ленинской внешней политике.
31 декабря 1925 года XIV съезд избрал Г. В. Чичерина членом Центрального Комитета ВКП(б).
Зима 1926 года с ее морозами показалась Георгию Васильевичу, вернувшемуся из западных стран, очень суровой. Пальто не грело, шарф, которым он по привычке старательно укутывал горло, не помогал. Он мерз не только на улице, но и в своем кабинете, где, как в былые годы, допоздна засиживался за работой.
Первое время Чичерин чувствовал себя довольно сносно. Может быть, болезнь отступила или он сжился с ней. Так или иначе, но упорный, всепоглощающий труд помогал.
Порядок работы наркома был прежний: чтение сообщений послов, материалов печати, затем подготовка и обсуждение на коллегии различных текущих вопросов, беседы с заведующими отделами, приемы дипломатов и представителей советских учреждений и организаций.
В течение дня нарком делал специальные пометки на четвертушках бумаги, а по окончании рабочего дня, точнее после 2–3 часов ночи, приглашал стенографистку и диктовал записки в ЦК партии, в правительство, готовил ответы на письма, проекты нот, замечания и указания членам коллегии и другим сотрудникам, а нередко и статьи в советскую печать. Все это расшифровывалось за ночь, а к утру тщательно проверенные материалы, с которыми уже успевали познакомиться соответствующие заведующие отделами и члены коллегии, раскладывались на рабочем столе в ожидании подписи наркома.
Работы было много. В январе 1926 года Советский Союз пригласили принять участие в конференции по разоружению. Согласие было дано, но затянулась переписка о месте переговоров, поскольку намерение провести такую конференцию в Швейцарии наталкивалось на все еще не урегулированный конфликт, возникший в результате убийства Воровского.
В это же время остро встал вопрос о приеме Германии в члены Лиги наций, что не могло не затронуть советско-германские отношения. Внушала серьезные опасения наметившаяся на недружественной для СССР основе возможность сближения Германии с Францией. В случае такого сближения Франция намеревалась интриговать Германию, толкая ее против Советского Союза. Пренебрежение этими опасностями грозило ухудшить советско-германские отношения.
Заботили наркома и отношения с Польшей, которым грозило ухудшение вследствие прихода к власти реакционных элементов. В Варшаве носились с планами сколачивания антисоветского прибалтийского блока.
Так нити международной политики затягивались в один запутанный клубок сложных противоречий. Нужна была максимальная бдительность, чтобы не допустить использования складывающейся обстановки против Советского Союза.
Конечно, можно было работать меньше. Наркомат окреп, многие сотрудники выросли до уровня зрелых политических деятелей. О временах 1918 года вспоминали как о древней истории. Казалось странным слышать, что тогда нарком был и руководителем и исполнителем.
Коллегия НКИД стала тем регулярно, почти ежедневно действующим органом, где в жарких спорах рождались контуры важных внешнеполитических решений.
Чичерин не ослабил темпов работы, проводил совещания, принимал посетителей, часто встречался с иностранными послами. Как и раньше, шутил, иронизировал, спорил, разъяснял. Словом, оставался прежним, каким его привыкли видеть всегда.
2 мая 1926 года приехавший из Германии профессор Норден осмотрел Чичерина и нашел, что здоровье его пациента значительно ухудшилось. Необходим повторный курс лечения.
Чичерин выслушал советы профессора, чтобы через день забыть о них. По-прежнему дни и ночи просиживал он в своем кабинете. Временами даже забывал, что другие люди работают иначе, и раздражался, когда поздно вечером не мог дозвониться до нужного ему сотрудника и приходилось вызывать его из дому.
Как-то в субботу вечером возник один из многочисленных дальневосточных вопросов. Георгий Васильевич решил узнать, что предпринято. Оказалось, что сотрудник, занимавшийся им, отложил дела на понедельник и уехал отдыхать в Пушкино. По приказанию наркома его разыскали и привезли в Москву. Чичерин посмотрел на него и не без иронии заметил:
— У англичан есть такое понятие — weekend, когда люди забывают о своих обязанностях и уезжают за город. Так вот существует такое крылатое выражение: если хотите напасть на Англию, то нападайте тогда, когда начинает weekend, до понедельника никто и пальцем не шевельнет.
Кое-кому такая требовательность наркома была не по душе, на него стали жаловаться. Чичерин искренне недоумевал: ведь дело должно быть выше личных интересов.
Сам он отказывался от многого. Вот врачи требуют, чтобы он бывал на воздухе, двигался. Для Чичерина это было проблемой. Решил он ее по-своему: по вечерам выходил на Кузнецкий мост в стареньком, наглухо застегнутом потертом пальто, в котелке, с тросточкой. Прогуливался возле здания НКИД. Но скоро прохожие стали узнавать его и по всему пути следования собирались группами. Было неприятно, он поеживался, ускорял шаг и часто, не закончив прогулки, скрывался в подъезде наркомата. Пришлось отказаться от таких прогулок. Тогда он придумал себе другое, стал своим собственным «курьером»: записывал на листочках бумаги те или иные соображения, а затем, запечатав их в конверт, поздно вечером разносил по кабинетам сотрудников, с тем чтобы, придя на работу, они могли сразу приступить к подготовке нужного дела. Каково было удивление сотрудников, задержавшихся на работе, когда к ним входил нарком и молча клал на стол пакет со своими указаниями. Ночные прогулки наркома быстро стали предметом шуток. Георгий Васильевич не сердился, так как знал цену шутки и считал, что лишний анекдот не подорвет его авторитета.
С середины 1926 года, несмотря на весь стоицизм, интенсивность работы Георгия Васильевича резко упала, значительно сократилось количество документов, написанных им самим, все реже появлялись его статьи в печати.
В разговорах с ближайшими сотрудниками у Георгия Васильевича стали проскальзывать грустные нотки, казалось, что-то сковывало его мысль, мешало. И вдруг вспышки гнева по пустякам, на которые он никогда раньше не обращал внимания. Видимых причин к этому нет, и многие склонны объяснять это повышенной чувствительностью, вызванной болезнью и огромной нагрузкой.
Пока все это носило эпизодический характер. Георгий Васильевич не менялся, по-прежнему с большим искренним оптимизмом переписывался с пионерами и красноармейцами. Трогательные симпатии проявлял к тамбовским землякам. Многие шли к нему за помощью, за советами. И он никогда никому не отказывал.
Вот он хлопочет о пенсии для правнучки полководца Александра Суворова, который был «инициатором внесения массового момента в стратегию и тактику, и можно даже сказать, что тактика нашей гражданской войны является во многом прямым продолжением методов Суворова».
Мало кто из его современников знал, что он пишет стихи, музыкальные произведения. Его интересовала молодежь, он даже завидовал ей. Однажды с грустью заметил о Горьком: «Его страстно влечет новая жизнь… Нужно лишь найти пути к ней, это нелегко для тех, кто не является с детства частью этой жизни, какой являются наши комсомольцы. Максим Горький страстно желает быть внутри этой жизни».
Чувства хорошей зависти к молодежи Чичерин пытался изобразить в стихах:
Невольною улыбкой вас встречаю,
Улыбкою счастливой, как заря.
Смотрю на вас и сам, как вы, пылаю —
Я снова юн, как вы, на вас смотря.
Редакция журнала «Прожектор», куда он однажды послал стихи, не пощадила чувства автора: напечатала дружеский шарж. Чичерин был изображен просителем перед редакторскими дверьми, на шляпе цветы, в руках пышный букет. И надпись: «Новые поэты — Г. В. Чичерин и Ю. Ларин. Их стихи за недостатком места приведены не целиком, а лишь в выдержках».
Чичерин больше своих стихов никуда не посылал, хотя от писания стихов «для себя» не отказался.
В занятиях музыкой Георгий Васильевич был значительно удачливее. Признания музыкальной даровитости Чичерина можно найти во многих мемуарах его современников. Он любил и понимал музыку, а в исполнении музыкальных пьес и сам достиг большого искусства. Латвийский посланник К. Озолс вспоминал: «Однажды по случаю концерта в Москве известного немецкого пианиста германский посол граф Брокдорф-Ранцау устроил diner[49]. Приезжий пианист сыграл, не помню, какую вещь, после него за рояль сел Чичерин и, как бы шутя, повторил то, что исполнил маэстро, и это вышло даже лучше — любитель Чичерин превзошел профессионала».
Георгий Васильевич собрал солидную нотную библиотеку. Была у него также небольшая, но содержащая все значительное, что было написано классиками, библиотека. Здесь же сочинения Ленина, книги по истории, сборники документов, журналы. Библиотека регулярно пополнялась новыми произведениями. Книги Георгий Васильевич расставлял в определенном порядке, терпеть не мог, когда их брали без его ведома. Один из секретарей в служебном дневнике, заведенном по указанию наркома, как-то записал: «После нескольких инцидентов с книжным шкафом я к нему и близко не подхожу и боюсь его как черт ладана».
Об энциклопедической эрудиции советского наркома ходили легенды. Некоторые вообще считали, что нет такого вопроса, на который бы он не дал исчерпывающего ответа. Его богатые знания были результатом большого систематического и многолетнего труда.
На протяжении всей жизни, начиная с детских лет, самым любимым занятием Георгия Васильевича было изучение энциклопедий и различных справочников. Весной 1926 года вышел в свет первый том Большой Советской Энциклопедии. Редактор издания О. Ю. Шмидт прислал этот том Чичерину. Чтение такой, казалось бы не особенно занимательной, книги доставило наркому истинное удовольствие, он прочитал ее от начала до конца.
«Позволю себе, — писал он Шмидту, — обратить Ваше внимание на то, что энциклопедии существуют для наведения справок, справки же бывают нужны независимо от монархического или республиканского характера упоминаемых действующих лиц. Если я занят какой-нибудь работой или мне нужно навести справку относительно какого-нибудь римского императора, то энциклопедия меня не удовлетворит, если я этого римского императора в ней не найду. У Вас, например, отсутствует император Аврелиан, сыгравший, однако, довольно видную роль в период борьбы императорской власти против преторианцев. А под «Аббасом» у Вас упомянуты только Аббасиды, и совершенно не упомянуты персидские шахи того же имени, а также не упомянут хедив Аббас Хильми. Дальше у Вас пропущен, например, Адли-паша, сыгравший чрезвычайно видную роль в последнем периоде истории Египта. Не упомянуты адамиты, сыгравшие видную роль в период отпочкования крайних левых течений от гуситов. Из спартанских царей Агисов упомянут только Агис IV. Между тем некоторые его предшественники того же имени играли роль во время персидских войн и Пелопоннесской войны. В самом тексте нужно избегать гипербол, производящих несерьезное впечатление. Житие протопопа Аввакума написано чрезвычайно живо, но совершенно недопустимо называть его одним из шедевров мировой литературы. Если Вы ясно помните текст этого жития, Вы поймете, что такая квалификация просто чудовищна».
Разносторонняя одаренность Чичерина, его увлеченность музыкой, литературой, искусством привлекали многих, с ним стремились устанавливать не только деловые, но и личные контакты. Среди иностранных дипломатов, поддерживавших тесные отношения с Георгием Васильевичем, наряду с германским послом Брокдорфом-Ранцау, о котором уже упоминалось, был литовский посланник Юргис Балтрушайтис. Но интересно отметить, что любезные отношения с ними никоим образом не влияли на политические позиции. Чичерин всегда помнил, какие государства они представляют. Однажды Ранцау обратился в НКИД с просьбой, чтобы нарком немедленно принял его по неотложному делу. Чичерин был занят и просил передать, что примет его только на следующий день. Посол упорствовал, тогда нарком согласился принять, но не раньше 12 часов ночи. В назначенное время Чичерин прошел в кабинет и попросил к себе визитера, но посла не оказалось, а на запрос по телефону из посольства сообщили, что г-н посол только что выехал. Действительно, в четверть первого ночи Ранцау прибыл в НКИД. Когда о его прибытии доложили, нарком ничего не сказал, молча оделся и с тростью в руке вышел через боковую дверь. Вернулся он к двум часам ночи. Все это время посол терпеливо дожидался, и, когда секретарь ввел его к наркому, оба сделали вид, что ничего не произошло. Спустя несколько лет Чичерин так объяснил этот инцидент:
— Я очень хорошо помню этот случай. Дело в том, что посол, будучи недоволен тем, что я не сразу согласился принять его в тот же день, упорно настаивал на приеме. Я решил ему назначить прием в 24 часа, то есть ни сегодня, ни завтра. Как видно, посол решил наказать меня за это опозданием на 15 минут, а ведь дипломаты, особенно немцы, очень пунктуальны. Ну, раз он меня наказал на 15 минут, я решил наказать его на два часа.
На беседы с наркомом вообще шли весьма охотно даже те, кто не питал симпатий к советскому строю. «Вести знакомство с Чичериным, — воскликнул как-то французский сенатор де Монзи, — это значит испытывать чисто дилетантское наслаждение, какое должен был испытывать Эрнест Ренан на обедах у Гонкуров!..»
Болезнь препятствовала теперь Чичерину поддерживать обширный круг знакомств, все чаще приходилось отказываться от встреч. В конце августа болезнь обострилась. Нужно было вновь начинать лечение. В Берлине знали об этом, его ожидали, причем стремились подчеркнуть нетерпение видеть русского наркома. В сообщениях полпреда Крестинского настойчиво повторялась одна и та же фраза: чиновники, промышленники, журналисты назойливо спрашивают: когда ожидать Чичерина? Официально уже объявлено, что нарком едет в Германию не для переговоров, а для лечения, но это малоубедительно. Граф Брокдорф-Ранцау по личным соображениям поставил свое возвращение из отпуска в Москву в зависимость от приезда Чичерина в Берлин и тянул с выездом.
С поездкой Чичерина германское правительство связывало довольно замысловатую дипломатическую игру. Берлин вел переговоры с Парижем о финансовой помощи, добивался прекращения оккупации, возвращения Саара, ликвидации союзнического контроля. Всякий раз, когда партнеры напоминали о том, что Германия должна гарантировать свои восточные границы, атмосфера накалялась. Немецкие дипломаты требовали возврата Польского коридора и пытались всячески осложнить отношения между Прибалтийскими странами. Приезда советского дипломата одни ожидали с искренней надеждой на улучшение обстановки, другие — с коварным желанием пошантажировать слабовольных демонстрацией «сердечного согласия» с Советским Союзом.
В это же время возник еще и другой вопрос, который занимал Чичерина: это советско-турецкие отношения.
Иностранная печать усиленно распространяла слухи, что наступил кризис в русско-турецких отношениях. Дипломатические обозреватели, не в малой степени виновные в распространении этих слухов, делали вывод, что началась кампания за отрыв Турции от Советского Союза. Поговаривали, что английское правительство боится, как бы Турция не привлекла на свою сторону Персию и, вступив в тесный союз с Россией, не блокировала черноморские проливы, усилив свое влияние на Балканах. В свою очередь, Турцию запугивали возможностью войны с Италией, тоже питающей надежды на усиление своего влияния в Балканских странах.
Казалось, все шло как в хорошо поставленной пьесе. Начали поступать сведения, что турецкое правительство колеблется, оно серьезно задумалось, как если бы намеревалось изменить отношения с Россией. И вдруг известие: д-р Тевфик Рюштю-бей, министр иностранных дел Турции, сделал Чичерину предложение посетить Анкару.
10 ноября пришло не менее интригующее сообщение, что Рюштю-бей выехал с группой дипломатов в Константинополь, якобы для отдыха и по своим личным делам. Когда газеты строили всевозможные догадки, турецкий крейсер «Гамидие», на борту которого находился Рюштю-бей, на полных парах шел к Одессе.
11 ноября одесские газеты сообщили, что с утренним поездом прибывают нарком Чичерин и уполномоченный Наркоминдела при Совнаркоме УССР А. Г. Шлихтер. К приходу поезда масса людей устремилась на вокзал. Одесситы хотели собственными глазами увидеть человека, ставшего почти легендарным.
Поезд запаздывал. Над головами встречавших раскачивались наскоро написанные транспаранты, алые пятна знамен скрашивали серость ноябрьского утра. На перроне шныряли юркие фоторепортеры. Операторы одесской кинофабрики размещали свою громоздкую аппаратуру, чтобы заснять короткометражный фильм «Чичерин в Одессе».
Поезд еще не успел остановиться, как в дверях вагона появились Чичерин и Шлихтер. С ними прибыл и турецкий посол Зекиа-бей. Многоголосое «ура!» взорвалось над перроном, толпа пришла в движение, все устремились вперед. Чичерин кому-то жал руки, кому-то кивал головой, кому-то говорил «здравствуйте», а сам, стараясь быть незаметным, настойчиво пробирался к выходу. Толпа нехотя расступалась перед ним.
Когда позже один корреспондент показал Георгию Васильевичу свое сообщение о встрече наркома, в котором имелись слова: «Одесса приветствовала выдающегося деятеля советской дипломатии», — Чичерин безжалостно вычеркнул их и вписал: «Одесса в лице тов. Чичерина приветствовала Советское правительство».
Турецкий посол не без умысла сообщил корреспонденту ТАСС, что «посещение крейсером «Гамидие» одесского порта является ответом на визит, нанесенный летом 1926 года Константинополю двумя советскими эскадренными миноносцами Черноморского флота. Министр иностранных дел Тевфик Рюштю-бей воспользовался случаем, чтобы посетить Советский Союз совместно с женой и дочерью».
Заявление посла облетело Лондон, Париж, Берлин, Прагу, Рим, Анкару, Тегеран, Варшаву. Оно заинтриговало, политики с еще большим нетерпением ожидали теперь результатов визита.
На следующий день Одесса торжественно встретила Рюштю-бея и сопровождающих его лиц.
Сразу же по приезде турецкий министр и советский нарком обсудили вопросы, стоявшие перед правительствами обеих стран. Вопросов было много, международная обстановка была сложна. Рюштю-бей прямо сказал, что только помощь Советского Союза помогла Турции сохранить свою независимость, совершить народную революцию. В отношении Лиги наций турецкий министр постарался быть предельно кратким и лишь сообщил, что для турецкого правительства этот вопрос не актуален, народные массы Турции по отношению к ней настроены резко отрицательно. Италия старается завязать более тесные отношения с Турцией, но он, Рюштю-бей, всегда подчеркивает при официальных и неофициальных встречах, что отношения с СССР для Турции более важны, чем отношения с Италией.
Беседу пришлось прекратить, так как нужно было ехать в Дом РККА и РККФ на прием в честь турецких моряков.
Там оба дипломата обменялись речами. Чичерин говорил о схожести судеб турецкого и русского народов, отстоявших свою независимость и свободу. Заключительную фразу «Да здравствует молодая Турция!» турецкие моряки встретили громом аплодисментов.
Поздно ночью после приема нарком знакомился с сообщениями из Москвы и Анкары, из далеких столиц Европы и Азии. С посеревшим от усталости и болезни лицом он продолжал трудиться.
Утром снова встреча с Рюштю-беем. Министр сообщил, что его правительство с тревогой следит за попытками англичан проникнуть в Персию. Турция не желает видеть себя окруженной Англией. Министр спросил:
— Если Турция будет сопротивляться приглашению в Лигу наций и если в связи с этим ей будет угрожать опасность, например, нападения на нее со стороны Лиги наций, то как к этому отнесется Советское правительство?
— Вы можете быть безусловно уверены, — ответил нарком, — что наши симпатии будут на стороне Турции, но в каких формах эта симпатия будет выражаться, невозможно сказать заранее, ибо это будет зависеть от всей обстановки и от обстоятельств момента.
Вечером в Колонном зале исполкома Одесского окружного Совета состоялся прием в честь турецких моряков. Чичерину снова пришлось произносить речь.
— Турецкое крестьянство, — сказал он, — занято тяжелым трудом по восстановлению своей страны. Турецкому правительству приходится переживать немалые трудности в условиях империалистического окружения. Нам это хорошо известно по собственным переживаниям. Поэтому наши сердца бьются в унисон, и мы отлично чувствуем, что переживает турецкое крестьянство, восстанавливающее хозяйство, ограждающее его от посягательств извне. Турецкие моряки — это тоже крестьяне, только в морской форме, которые на своих кораблях защищают пределы своей страны, чтобы дать возможность остальным крестьянам заниматься мирным производительным трудом.
Он говорил экспромтом, вся речь носила острый, злободневный характер. Вспоминая прошлое, нарком объяснял настоящее, заставляя слушателей глубже понять его. Порой речь звучала негладко, но это была живая речь человека, глубоко убежденного в своей правоте. Оттого она казалась весомой и убедительной.
Выступивший вслед за ним Тевфик Рюштю-бей подчеркнул:
— Я рад видеть в этой дружественной обстановке вместе советских и турецких моряков. Турция и СССР — это не только страны-соседи. Это страны, которые созданы для того, чтобы жить вместе в тесной дружбе. Это подтверждается всем тем, что мы видим здесь. Только путем дальнейшего развития этой дружбы будет идти Турция. СССР и Турция имеют такие правительства, которые эту задачу — довести до конца сближение обоих народов — сумеют выполнить целиком.
В последний день пребывания в Одессе Рюштю-бей вместе с турецким послом прибыл к Чичерину. Быстро согласовали заключительное коммюнике и приступили к обсуждению еще не решенных вопросов водопользования в пограничных районах. Не избежали собеседники вновь разговора о коварной политике Англии.
Еще не закончилась эта трехчасовая беседа, а радиостанции мира уже передавали одесское коммюнике. В нем разъяснялось, что в связи с предстоящей поездкой наркома за границу он не имел возможности принять приглашение турецкого правительства посетить Анкару. Поэтому Рюштю-бей приехал в Одессу. Особо подчеркивалось, что ни один из существующих вопросов не может изменить направления политики обоих государств и, следовательно, нарушить отношения, существующие между ними.
Одесское свидание закончилось 14 ноября. Это была последняя крупная международная акция, которую осуществил нарком иностранных дел Чичерин. Но тогда никто не предполагал этого.
Весь следующий день Георгий Васильевич оставался в Одессе, наслаждаясь относительным покоем. Черное море было тихо и ласково. На рейде стоял миноносец «Незаможник», недалеко от него пароход «Чичерин». Вместе с Шлихтером Чичерин поднялся на борт «Незаможника», оживленно побеседовал с матросами, обошел весь корабль, побывал в матросских кубриках. Перед уходом матросы преподнесли на память ему и Шлихтеру флотские ленточки. Из шлюпки Чичерину не дали ступить на землю, его подхватили на руки и, не обращая внимания на протесты, отнесли к автомашине. Шлихтер шел сзади и от души хохотал, глядя, как Чичерин тщетно пытается освободиться из дюжих матросских рук.
Поездка в Одессу усилила болезнь. Врачи советовали незамедлительно ехать лечиться в Германию. Еще до отъезда в Одессу нарком написал заявление о предоставлении ему отпуска по болезни. Его заявление всесторонне обсуждалось 5 ноября на коллегии НКИД. Предстояло тщательно выбрать маршрут — ехать ли через Прибалтийские страны или Польшу, решить, с кем встречаться из официальных лиц, оставаться ли все время в Германии или же посетить и Францию. Обсуждали долго, спорили, горячились. Наконец было решено, что нарком выедет в Германию через Ленинград, минуя Прибалтику и Польшу.
22 ноября коллегия вновь обсуждала поездку наркома за границу. Чичерин обратился к членам коллегии с просьбой отстаивать в период его отсутствия идею централизации архивного дела в Советском Союзе. Георгий Васильевич прекрасно представлял, какую огромную ценность будут иметь для будущих поколений документы бурного, сложного и великого времени, когда жили и творили его друзья и соратники. Чичерин приложил немало усилий, чтобы упорядочить не только архив НКИД, но и работу архивов в масштабе всего Союза. В этом он видел выполнение одного из заветов Ленина — бережно сохранить для потомков документы величайшей в истории человечества русской революции.
Наконец улажены все вопросы, чемоданы готовы, заказаны билеты, выписан дипломатический паспорт.
В пути его настигло грустное сообщение: в Лондоне скончался Леонид Борисович Красин. Ушел из жизни еще один замечательный человек. Им часто приходилось работать вместе, порой они спорили, но это спорили уважающие друг друга люди, любящие свое дело, стремящиеся к одной цели. Теперь все это стало прошлым, остались лишь воспоминания о прекрасном, честном человеке.
А вокруг бурлила жизнь. Пароход в море принял радиограмму: газета «Остзее-цейтунг» просила наркома ответить на вопрос о том, как Советский Союз относится к Лиге наций, не изменилась ли его позиция.
30 ноября появились отчетливые контуры древнего польского города Щецина, переименованного немцами в Штеттин. Георгий Васильевич готов был к встрече и с журналистами и с дипломатами.
На город уже падала тень зимних сумерек, когда пароход пришвартовался к причалу. Навстречу Чичерину, расплывшись в улыбке, спешили Криге и прибывшие из Берлина дипломаты. Среди встречающих были сотрудники советского полпредства. Вспыхнул магний, засуетились полицейские, отодвигая напиравшую толпу любопытных и осаждая не в меру прытких репортеров.
Вездесущие газетчики не дали поговорить с Криге. Особенно усердствовал корреспондент «Генераль-анцайгер». Пришлось уделить и ему несколько минут внимания. Его ревнивые коллеги тоже пытались получить интервью. Криге на правах старого знакомого поспешил на выручку, взял Чичерина под руку и повел к машине.
В Берлине список лиц, жаждавших встреч, был внушительным. У Крестинского побывал Гарриман, который пожелал обсудить с Чичериным вопросы советско-американских отношений и, конечно, хотя «это отнюдь и не главное», вопрос о концессиях в Советском Союзе. Граф Брокдорф-Ранцау так и не дождался Чичерина и уехал в Москву. Зато его брат настойчиво просил о встрече, чтобы познакомить советского дипломата с представителями немецких деловых кругов, весьма заинтересованных в советских рынках. За чашкой чаю Чичерин долго обсуждал с руководителем германского национального банка Гольдшмидтом вопрос о том, что Россия может дать и что может взять у германских промышленников.
После этой встречи немцы с удивлением спрашивали, действительно ли, что этот скромно улыбающийся, но весьма живой, умеющий так точно и логично мыслить человек тяжело болен. Еще больше удивляло их то, что он с легкостью оперировал точными цифрами, прекрасно знал положение на германском рынке и был знаком с германской машиностроительной промышленностью.
На следующий день нарком посетил Штреземана. Тот любезно принял его, но стремился уйти от обсуждения важных вопросов, особенно если они затрагивали далеко идущие намерения Германии в Прибалтике.
Чичерин прямо говорил, что и Германия и Советский Союз могут и должны оказать дипломатическое воздействие на тех, кто стремится раздувать конфликты в этом районе. Штреземан заверил наркома, что у Германии нет каких-либо агрессивных намерений, тем более в Прибалтике.
В полдень у германского министра состоялся малоинтересный прием, гости чванились и больше позировали, чем вели серьезные беседы. А газеты писали восторженные отчеты о приеме, печатали фотографии улыбающихся Штреземана, Вирта. Германская дипломатия нуждалась в большой рекламе.
Чичерин принял в полпредстве массу посетителей. В основном это были промышленники разных масштабов, но одинаково хищные, когда дело касалось коммерческих выгод. Разговоры с ними были не из приятных.
Пришел и Гарриман. Долго полунамеками американец развивал мысль о том, что он и его друзья пользуются в Штатах большим влиянием и могут подготовить общественное мнение Америки в пользу признания Советов, но для него лично важно получить концессию на разработку марганцевых руд.
— Я, — ответил ему Георгий Васильевич, — нахожусь здесь как частное лицо, не имеющее полномочий на ведение переговоров, да я и не вправе самостоятельно решить все эти вопросы и ответа на них, само собой разумеется, дать не могу.
9 декабря рано утром Георгий Васильевич уехал из Берлина во Франкфурт-на-Майне.
На следующий день был у профессора Нордена. Тот, освидетельствовав его, пришел в искренний ужас. Всплескивая руками, он несколько раз повторил:
— Ваше счастье, что вы хоть сейчас соизволили прибыть ко мне: через некоторое время ничего нельзя было бы сделать. Болезнь дошла до крайних пределов, уже начали разрушаться ткани. Я уверен, что вашей болезни уже много лет, только до двадцать пятого года вы ее не замечали.
Георгий Васильевич решил полностью переключиться на лечение. Каждый день выходил гулять, медленно шел по улице, тяжело опираясь на палку. Немного поодаль шли сыщики, официально приставленные для охраны, неофициально — для слежки. Вели они себя грубо, на глазах Чичерина отгоняли прочь желавших поговорить с ним людей. В последние дни пришлось засиживаться в номере. Каждый день стало поступать много писем с различными просьбами и самыми невероятными предложениями. Писали врачи — шарлатаны и известные профессора, прожженные политики и те, кто хотел получить рецепт, как наверняка добиться мировой славы. Чичерин аккуратно отвечал на письма, которые, по его мнению, заслуживали внимания, и, не желая того сам, увеличивал поток корреспонденции.
Далеко за полночь в его номере горел свет. Полулежа на подушках, больной работал. На тумбочке, на кровати, просто на полу лежали материалы документального сборника «Константинополь и проливы».
Работа началась еще в Москве. Тогда не было времени, теперь не хотелось упускать возможности заняться этим полезным делом. Он сверял варианты перевода документов с копией подлинника и часто бывал недоволен: переводчики, видимо, недостаточно хорошо знали свое дело. На гранках и машинописных текстах резкой чертой подчеркивал те места, которые искажали смысл подлинника. Там, где эти искажения были особенно вопиющими, делал свой перевод, выписывая искажения на отдельных листах бумаги. Почти ежедневно он отправлял письма в Москву, в Берлин. В них сообщал о замеченных недостатках в переводе, требуя нового перевода почти всех документов сборника. То, что переводчики именуют «стилистическим вариантом» текста, под его острым взглядом вскрывается как политическая неграмотность, сохранить которую значит нанести вред стране. И лишь в самом конце писем он иногда прибавлял несколько строк о своем здоровье.
Лечащие врачи огорчались: никакие запреты работать но оказывают должного впечатления на больного. Когда же, подчинившись им, Георгий Васильевич прекращал работу, то впадал в такую тоску, что врачи, махнув рукой, соглашались с ним. Они лишь умоляли побольше гулять.
Во Франкфурте Чичерин обошел и объехал все достопримечательные места, побывал в историческом музее. В знак особой любезности его сопровождал сам директор музея д-р Мюллер. Переходя от стенда к стенду, они беседовали о прошлом Германии. Георгий Васильевич был рад представившемуся случаю освежить в памяти историю этой страны. Мюллер усиленно советовал посетить развалины римской крепости Заальбург вблизи Франкфурта — любовь советского наркома к античности была всем хорошо известна. Чичерин охотно поехал туда.
Суета огромного Франкфурта, надоевшие бесцельные прогулки по городу прискучили. Когда все это стало невыносимым, Георгий Васильевич избрал местом прогулок городок Бад-Хомбург. В небольшом аккуратном парке, на краю которого расположена православная церквушка, подолгу сидел на скамейке. Ему нравилась эта церковь, о ней он часто писал друзьям, которые так сурово запрещали ему заниматься политикой.
Болезнь наступала. Она заставила прервать работу. Иногда врачи разрешали нарушать диету и немного полакомиться. Тогда радовался, как ребенок: «Икру мне разрешили, очень ею насладился!»
Снова упадок сил. Врачи гонят из Франкфурта в Баден-Баден. Георгий Васильевич понемногу готовится к отъезду. Он не теряет надежды выбраться отсюда, но не на модный курорт, а в Москву. Он даже настаивает, чтобы в Берлине для него подготовили программу встреч с политиками.
Но 1927 год Чичерин встретил в Баден-Бадене.
Диабет, осложненный другими болезнями, продолжал свое разрушительное действие. Временами Чичерину удавалось поработать, и все же он начал отрываться от большой политики. В последнее время стал замечать, что информации к нему поступает все меньше и меньше. Литвинов настойчиво советует в своих письмах поменьше думать о внешней политике и побольше о здоровье.
Не думать нельзя. Скверно, когда воображаешь наихудшее, отвечает он и в категорической форме требует прекратить публикацию неосторожных статей относительно Прибалтийских стран, не толкать Германию в объятия врагов Советского Союза. Нельзя же в самом деле разрушать собственными руками то, что с таким трудом было достигнуто. Этой теме он посвящает много писем. Он шлет и шлет записки в Москву с советами по различным вопросам международной жизни.
Болезнь прогрессировала, и, казалось, ее невозможно было задержать, сказывалось многолетнее напряжение.
Переезд в Висбаден был согласован с Москвой. Врачи все еще надеялись, что горный воздух Висбадена принесет улучшение. Чичерин соглашался, выбор только один: или ехать в Висбаден, или на все махнуть рукой, ехать в Москву и стать инвалидом.
Февраль 1927 года пробыл в клинике. Врач Жеронн прилагал немалые усилия, чтобы поправить здоровье русского пациента. И впрямь дело пошло на поправку. Георгий Васильевич стал совершать небольшие прогулки в город, а 18 февраля даже принял председателя висбаденского отделения германского общества мира Истеля.
Чичерин внимательно выслушал Истеля и, когда собеседник стал упрекать Советское правительство в том, что оно мало делает для широкого распространения идей пацифизма, сказал:
— Все зависит от того, как понимать пацифизм. В принципе мы реальные пацифисты, не верящие в красивые слова и ведущие практическую политику. Советская политика фактически содействует миру во всем мире.
А что касается международных организаций, то мы считаем, что при нынешних мировых отношениях всякая международная организация даже с принуждением и обязательным решением большинства будет орудием сильнейших держав и в первую очередь будет направлена против Советского Союза. В свое время я тоже думал, что стеной из резолюций можно оградиться от пушек.
Они ни о чем не договорились, и Истель раскланялся, оставив на столе, груду брошюр. Читать их Чичерин не стал, а завернул в бумагу, перевязал бечевкой и отправил в Берлин для возможного использования. Вместе с этими материалами были отправлены и гранки сборника «Константинополь и проливы» — врачи на этот раз категорически требовали, чтобы он больше отдыхал.
В марте наступило значительное улучшение. Предстояло еще дополнительное лечение, может быть, даже поездка во Францию.
«Не мог бы я сначала проделать берлинские приемы, а потом контрольное пребывание в клинике?» — спрашивает он совета у друзей. В письмах снова тоска по работе, нетерпеливое желание возвратиться на передний край советской дипломатии. С новым чувством бодрости он читает статьи в советской печати, из писем знакомых узнает о новостях в НКИД. Наркомат иностранных дел, его детище, выпестованное им по прямым указаниям ЦК партии и Ленина, постоянно приковывает его внимание.
Он решает, не заезжая в Берлин, ехать на юг Франции, может быть, это поможет быстрее восстановить здоровье, вырваться из рук врачей и возвратиться в Москву: он рвется к бурной деятельности. По его просьбе из полпредства в Берлине стали присылать больше материалов, увеличивалась и его почта, расширялись границы рабочего дня.
Чичерину издалека все отчетливее представляется, что за время его отсутствия плохо осуществляются ленинские указания по внешней политике. Его очень возмутила попытка Бухарина, Рыкова «подправлять» внешнеполитическую линию, а на деле разрушать благоприятные факторы, к каким принадлежали прежде всего отношения с Германией. Ведь разорвать Рапалльское соглашение мечтают враги, этого только и надо, например, Лондону, где в изобилии вынашиваются антисоветские планы. С полной определенностью можно предполагать, что курс на Англию в ущерб Германии непоправимо вреден.
«Я протестую против этого наивного и вредного самообольщения», — писал он Сталину и Рыкову. И когда встретил пренебрежение к своему протесту, он со свойственной ему принципиальностью послал Сталину и Рыкову новое, еще более категоричное письмо. Исчерпав все доводы, с болью и возмущением он заявляет в этом письме: «Я еду в Москву, с тем чтобы просить об освобождении меня от должности Наркоминдела».
Висбаден готовился к бетховенским дням, и в город каждый день прибывали музыканты и артисты. Прибыл известный музыкант Отто Клемперер. С ним Чичерин долго спорил о Бетховене.
Чичерин слушал его концерты, но «бурнопламенного Бетховена», которого хотел раскрыть этот пианист, не нашел и вполне согласился с высказыванием знатоков, что в его исполнении «больше Клемперера, чем Бетховена».
Еще сильнее привела его в раздражение купленная в Висбадене книга Шуринга о Моцарте. Она возмутила до глубины души.
— Подумать только, — почти выкрикивал он Клемпереру, — Шуринг вместе со всеми филистерами хочет урезать конец «Дон-Жуана». Филистериссимус!
Висбаден был пронизан музыкой, гремели симфонии великого Бетховена, здесь была поставлена опера «Фиделио». Концерты давались прямо в отеле. Чичерин не пропускал ни одного.
26 марта, возвратившись в отель из театра, он нашел на столе свой паспорт с французской визой. Можно было собираться в путь.
Франция… Лазурный берег, Сан-Рафаэль, беспредельно чистое голубое небо, залитые солнцем виноградники. Но тут же рядом враги: ненавидящие Советский Союз французские буржуа, потерявшие свои капиталы и вышвырнутые из России белоэмигранты, грызущиеся между собой, но единые в своей ненависти к Советской власти.
Французское правительство по-прежнему затягивало переговоры об окончательном урегулировании отношений с СССР, не шло ни на какие уступки и хотело только брать. Это французские представители организовали в Шанхае и Пекине налеты на советских представителей, цинично заявив, что налеты были организованы ввиду какой-то «большевистской агитации» на французских концессиях в Шанхае. Французские буржуа доходили до нелепостей: требовали прекратить коммунистическое международное движение. Они продолжали сколачивать антисоветские блоки, оказывали давление на Югославию, принуждая ее отказаться от установления дипломатических отношений с Советским Союзом.
Таково было положение, когда во Францию прибыл советский нарком. Здесь никто из официальных лиц не спешил с ним встретиться, а уж если и состоялись такие встречи, то собеседники говорили больше о состоянии его здоровья, погоде и о долгах России.
Георгий Васильевич предпочитал встречаться с простыми французами. Он подолгу разговаривал с ними о жизни в Советском Союзе, о советской политике. Беседы доставляли ему наслаждение. Приезжали французские коммунисты, навещали его старые друзья по партийной работе в довоенный период. Но многих уже не было в живых, а иные перешли в лагерь врагов. Появились новые лица — в основном, из интеллигенции, поклонники Шпенглера.
Георгий Васильевич, ободренный наступившим улучшением здоровья, много работал. Одних только газет читал по 20–30 в день.
Ни с чем не сравнимую радость доставила ему поездка 16 апреля к Анри Барбюсу. Там он встретился с Марселем Кашеном и Вайян-Кутюрье. Барбюс оживленно рассказывал о своих творческих планах, о намерении поехать в Китай. Чичерин отдыхал душой. Беседа с веселыми, искрометными шутками, сдобренная блестящими французскими афоризмами, радостно возбуждала. В заключение Барбюс поделился планами объединения всей творческой интеллигенции для борьбы за новое, прогрессивное, человеческое. Георгий Васильевич оживленно подхватил эту мысль и как бы в раздумье заметил, что не прослеживает пока четкой линии между тактикой и программой.
— Тактика по отношению к интеллигентским читателям, — заметил он, — должна быть весьма гибкой, но программа должна быть партийной, не эклектической.
Расстались тепло, с надеждой встретиться в недалеком будущем.
С южного берега Франции Чичерин переехал в Париж. Здесь новые люди, новые встречи, беседы, споры.
24 мая он у Пуанкаре. Тот осыпал обильными упреками: Советское правительство не хочет разрешить проблему царских долгов, русские коммунисты поощряют французских, помогают им бороться с законным правительством. И все в том же роде.
Через день встреча с военным министром Пенлеве и вновь поток жалоб на французских коммунистов. Чичерин корректно выслушал министра и заметил:
— Когда я проезжал через Авиньон, то на площади Жоржа Клемансо на подножии статуи Республики прочитал фразу из речи происходившего из Авиньона члена Конвента приблизительно такого содержания: «Франция создает законы для всех народов, и все народы подчинятся законам Франции». Никогда Советское правительство таких фраз не произносило.
Пенлеве прекратил свои наскоки.
Больше всех был, пожалуй, неприятен Бриан — пронырливый делец от политики, пытавшийся на международной арене лавировать между СССР и Англией, а на национальной арене между правыми и левыми. Из бесед с ним стало понятно, что Париж хотел бы наладить отношения, но внутренняя реакция сопротивляется, настаивает на выполнении нереальных требований, вроде признания царских долгов. И все же имелись признаки в пользу Москвы.
Георгий Васильевич часто и подолгу гулял по улицам Парижа, навещая старые знакомые места. Однако Францию покинул с легким сердцем: впереди ждала Родина, любимая работа!
В Баден-Бадене 7 июня нарком навестил Штреземана. Немецкий министр иностранных дел сообщил печальную новость: в Польше белогвардеец Каверда убил Войкова. Министр с деланным сочувствием подчеркнул, что обстановка складывается не в пользу Советского Союза. Говорил он много и на различные темы. Высказал интригующее предположение, что Франция идет на сближение с Германией, ругал литовское правительство, которое, по его словам, само не знает, чего хочет: то заигрывает с Берлином, то предпринимает антинемецкие акции, например, выселение немцев из Мемельской области. И конечно, не было недостатка в заверениях в дружбе к России. Это не помешало ему дать понять, что Германия не собирается расширять торговлю с русскими и предоставлять им кредиты.
Штреземан был артистически любезен, проводил наркома до выхода и уже на улице долго демонстративно тряс ему руку на глазах у собиравшейся публики.
16 июня состоялась краткая беседа с рейхсканцлером Марксом. Канцлер много говорил о хороших отношениях и только о кредитах ни слова. Однако подчеркнул, что Германия готова к экономическому сотрудничеству с СССР и, несмотря на статью 16-ю Устава Лиги наций, постарается в случае опасности не пропускать никаких войск через свою территорию.
В начале июля Георгий Васильевич съездил к профессору Нордену во Франкфурт и наконец выехал в Москву.
Налет полиции на торговую миссию в Лондоне и разрыв дипломатических отношений с Англией почти совпали с инспирированными империалистическими агентами погромами представительств СССР в Пекине и Шанхае, а убийство Войкова и дальнейшее ухудшение отношений с Польшей совпали с активизацией антисоветских сил в Германии. Казалось, назрела угроза нового похода интервентов.
Чичерин еще за границей с озабоченностью наблюдал за событиями. Он не раз предупреждал об опасности недооценки их развития. Положение Советского Союза осложнилось, перед НКИД опять возникли трудные проблемы.
Вновь ночи напролет горит свет в кабинете наркома, многое приходится изучать заново и взвешивать самым тщательным образом любой, даже малейший шаг советской дипломатии. Одностороннее направление в политике ничего, кроме вреда, не принесет, следует умело маневрировать. Это так надо сейчас, когда страна приступает к мирному строительству и начинается бурный процесс индустриализации с одновременным наступлением на аграрном фронте. От советской дипломатии, и Георгий Васильевич это не устает подчеркивать, нужна активная деятельность, чтобы помогать осуществлению этих внутренних целей. В ленинских принципах миролюбивой внешней политики заложены вдохновляющие начала наступательных плодотворных акций на международной арене. Никакого иного экспериментирования, только следуя ленинской тактике, можно успешно действовать на пользу Родине.
Нарком углубляется в вопросы экономики, в его библиотеке можно встретить специальные исследования. Перед советскими представителями за границей он настойчиво ставит требования — досконально изучать экономическое положение страны их пребывания, состояние отдельных отраслей промышленности, знать торгово-промышленные фирмы и монополии. С ними придется иметь дело. Он настойчиво рекомендует сплотить усилия дипломатов и торговых представителей, с тем чтобы действовать совместно, чтобы советская дипломатия не склонялась в сторону отвлеченного политического искусства. Конечно, враги будут мешать установлению и развитию торгово-экономических связей, не исключены провокации, и следует проявлять максимум осторожности и гибкости. Но осмотрительность не исключает, а предполагает активность. Вот инициатор антисоветских акций Чемберлен пытается взвалить вину за разрыв отношений на Советское правительство. Разве можно проходить мимо этого?
Чичерин собирает корреспондентов газет и рассказывает им, что сэр Остин Чемберлен вводит в заблуждение и широкие массы Англии, и ее деловые круги, когда утверждает, будто в условиях разрыва дипломатических отношений и полной неуверенности в целостности и сохранности советского имущества в Англии торговля может идти так же, как и прежде.
Наступательная тактика наркома, его апелляция к кругам, заинтересованным в развитии деловых отношений, дают свои положительные итоги. Его деятельность находит одобрение Объединенного пленума ЦК и ЦКК ВКП(б), состоявшегося 29 июля 1927 года. Георгий Васильевич, выступавший с докладом на пленуме, вернулся очень довольный, его позиция получила одобрение и была отражена в решении.
Он воодушевлен, у него масса замыслов, он надеется представить их в ближайшее время в Политбюро.
Прихрамывая — в последнее время часто давал себя знать ревматизм, — Георгий Васильевич выходил из подъезда НКИД с двумя толстыми портфелями, набитыми различными документами, справками и даже досье иностранной печати: в случае необходимости можно будет представить доказательства своей точки зрения.
Как правило, такой необходимости не возникало, нарком не страдал забывчивостью, легко оперировал данными, приводя на память целые куски из документов и заявлений. Многие не переставали восхищаться его феноменальной памятью. Очень уважительно относился он к участникам этих высоких заседаний, ценил их внимание и никогда не злоупотреблял им. Всегда терпеливо выслушивал советы и замечания. Сам выступал спокойно, не допуская никаких резкостей, пытаясь убедить слушателей фактами и трезвыми доводами. И всегда оставался самим собой. Иногда его точку зрения не разделяли, и тогда он, владея научным анализом международного положения, отстаивал свою точку зрения твердо и упорно. Некоторым давно не нравилась эта принципиальность и независимость Чичерина. Однако такое поведение ничего общего не имело с чванством, с амбициозностью. Нет, высокий пост, слава талантливого дипломата, повсеместная известность нисколько не испортили характера Георгия Васильевича. Все так же просто и душевно относился он к людям, к себе же был пренебрежителен, как в годы эмиграции.
По вечерам нарком занимался в маленьком кабинете (большой кабинет предназначался для приема послов и вообще носил чересчур официальный характер). Иногда прерывал работу, выходил к секретарям. И надо было видеть, как по-детски искренне радовался, когда поздней ночью заставал задержавшегося сотрудника! Взбодренный после короткого, в большинстве случаев шутливого разговора, возвращался в кабинет и долго засиживался там. Были случаи, когда он позволял себе незаметно для окружающих исчезнуть из наркомата. Тогда секретари сбивались с ног, разыскивая его по учреждениям, и нередко обнаруживали у Ильинских ворот у букинистов.
Как большинство книголюбов, он мог подолгу рыться в книжном старье, отыскивая какую-нибудь драгоценность. Однажды произошел комичный случай: Чичерин обнаружил книгу с дарственной надписью, обращенной… к нему самому. Автор прислал ему эту книгу в Покровское, когда он уже находился в эмиграции, и вот прошло почти двадцать лет, книга нашла его. Пришлось уплатить за нее большие деньги: плут-букинист, узнав наркома, повысил цену за автограф. Денег было не жаль. Георгий Васильевич охотно посмеялся вместе с букинистом — ведь это была необычная встреча с юностью, а такие встречи бывают в жизни не так уж часто.
Между тем приближался юбилей десятилетнего пребывания Чичерина на посту наркома иностранных дел. Сам он словно забыл о себе, хотя в иностранных газетах читал статьи, посвященные этой дате. В середине мая состоялось заседание коллегии НКИД, на котором нарком не присутствовал. Было принято решение отметить его юбилей. Но, зная его характер, никто не решился сообщить ему об этом.
Утром 30 мая 1928 года нарком, проходя в свой кабинет, взял у секретаря газеты и через минуту выскочил в приемную, страшно возмущенный.
— Кто разрешил? Почему не спросили у меня? Впрочем, я знаю, чья эта работа. Вызовите ко мне Карахана.
Чичерин бушевал долго. Карахан успокаивал его как мог.
С этого дня потоком шли приветственные телеграммы. Он сухо благодарил и во все свои ответы вставлял фразу: «Я должен, однако, заметить, что меня, так сказать, женили без меня. Эту дату я не признаю, и принципиально я не признаю юбилеев лиц, а только юбилеи учреждений. В самом существе юбилея отдельного человека есть нечто ложное, противоречащее моим основным взглядам».
На торжественное заседание Чичерин не явился: болезнь свалила его с ног. Профессор Бурденко, посетивший его в эти дни, нашел, что болезнь вспыхнула с новой силой и вряд ли поможет лечение в обычных условиях. Больной отчетливо понимал это и готовился мужественно встретить удары судьбы. Много теплых слов было сказано по его адресу на торжественном заседании. «Общее собрание, — говорилось в резолюции сотрудников НКИД, — находит необходимым отметить, что Ваша беззаветная и преданная работа на посту красного дипломата, руководителя внешней политики первого в мире пролетарского государства нас вдохновляет и служит примером в нашей работе. В сегодняшний торжественный день желаем Вам бодрости и силы для продолжения Вашей плодотворной работы на этом ответственнейшем посту».
Было также принято решение собрать материалы и написать научную биографию Чичерина.
А поток писем и телеграмм не иссякал. Среди них было и письмо Ранцау. Он жаловался, что на него сыпались упреки со стороны иностранных дипломатов за то, что он, будучи дуайеном дипломатического корпуса, не предупредил их об этой дате.
«Слегка обиженный и несколько опечаленный — не в качестве дуайена, теперь поставленного под угрозу, а как друг — тем фактом, что только из газет я смог узнать о сегодняшнем историческом дне, я посылаю Вам самые сердечные поздравления, — писал посол. — Я приветствую этот день как день счастья для Союза, как дань радости для Германии, так как Вашему государственному искусству и уверенному руководству обязаны не только недосягаемые для завистников успехи Советского Союза в области внешней политики, но и не в меньшей степени дружественные отношения с Германией».
Газеты всего мира откликнулись на юбилей Георгия Васильевича. 3 июня 1928 года германская «Роте фане» писала: «Имя Чичерина неразрывно связано с неуклонным нарастанием мощи СССР. Выдающиеся способности, проявленные им в качестве главы и творца красной дипломатии, защищающего на передовом посту интересы рабочего государства от окружающего капиталистического мира, энергия, гибкость, ловкость и тактическое умение, с которым Чичерин защищает эти интересы, превратили его в одну из наиболее популярных фигур СССР, в опасного противника капиталистической дипломатии, которой отлично известны его блестящие способности».
Должную дань талантам советского дипломата отдала буржуазная печать. Английская газета «Дейли ньюс» отмечала: «Какова бы ни была, однако, судьба его политики, он вел героическую борьбу. Арестант Брикстонской тюрьмы остался единственным министром иностранных дел в Европе, пережившим поток событий всех послевоенных лет. Он остается замечательнейшим продуктом величайшего социального переворота в истории — воплощенной идеей, — этот человек, ведущий уединенную жизнь в своем кабинете с закрытыми окнами, редко выходящий на прогулку, работающий ночи напролет, теряющий чувство времени, принимающий одного в час, другого в два часа ночи, чуждый привычкам и нравам обычного мира, символ Немезиды, карающей тиранию».
В последнее время скрашивал дни Георгия Васильевича «всесоюзный староста» Калинин. Он проявлял к больному трогательное, отнюдь не казенное внимание. Глядя на осунувшееся лицо Чичерина, на его нервные, опухшие в суставах руки, Михаил Иванович настойчиво уговаривал больше отдыхать, рекомендовал выехать за город, на дачу.
В ответ Чичерин отрицательно качал головой. Кто бы упрекнул его, если бы он, утомленный, больной человек, пожил за городом, на воздухе? Но Чичерин никого не хотел стеснять, а приобретение собственной дачи считал грубым и непростительным клятвопреступлением: ведь он раз и навсегда порвал со своим дворянским прошлым, с собственностью, и воскрешать его — значит отступить, обесчестить всю прожитую жизнь, героизм превратить в фарс. Решительно по тем же мотивам отказался он и от 5 тысяч долларов, полученных на его имя Государственным банком СССР из-за границы после реализации ценных бумаг, принадлежавших наркому со времен эмиграции.
В июне Георгий Васильевич подал заявление с просьбой о долгосрочном отпуске и начал готовиться к длительному перерыву в работе. Прежде всего он проявил заботу о книгах — своих лучших друзьях. На квартиру к нему доставили огромный книжный шкаф. Постепенно с помощью секретарей Георгий Васильевич перенес в него книги, альбомы, ноты из кабинета.
Затем сдал дела своему заместителю и 4 сентября выехал в Ленинград, сам договорился с капитаном датского парохода «Хадфунд» и в ночь на 11 сентября уже был в Штеттине. Здесь застало его печальное известие от Эрнста Ранцау:
«Мой близнец-брат, посол граф Брокдорф-Ранцау, — писал он, — призвал меня к своему ложу сегодня утром и просил сообщить Вам, народный комиссар, и г-ну Литвинову следующее: после заключения его врача он понимает, что в любой час может наступить его внезапная кончина: он просил меня в свой смертный час передать Вам, господа, что считал целью своей жизни доведение до желанного конца той политики, которую он проводил в последние годы. Он далее просил сказать Вам, что благодарит обоих комиссаров, особенно Вас, за ту веру в сотрудничество, которую он всегда встречал у Вас в трудные годы. Его последней и твердой надеждой, как он сказал, была надежда, что немецкий и русский народы могут, совместно достигнуть желанной для них цели».
Письмо запоздало: когда Георгий Васильевич распечатывал его, посол был уже мертв.
Чувствовал себя Георгий Васильевич отвратительно, морская поездка измотала его. Но все-таки он счел своим долгом принять корреспондента газеты «Генераль-анцайгер», когда тот попросил его сказать хоть несколько слов о Ранцау. Чичерин отметил большое участие посла в развитии советско-германских отношений и, подводя итоги, сказал: «Он много понимал, он много сделал, он оставил многое, и то, что он оставил, будет жить».
В Грюневальде, тихом и спокойном пригороде германской столицы, в клинике профессора Клемперера все располагало к отрешенности.
Книги, письма — все заброшено, болезнь отняла радость творчества. Он стал замечать, что пропадает память, путаются мысли… Иногда пальцы рук, лежавших поверх одеяла, начинали шевелиться, лицо светлело: он мысленно играл на пианино и пробуждался от чудного звучания любимых мелодий Моцарта. Когда болезнь ослабевала, он думал о творчестве великого композитора, старался глубже понять его. В письмах брату в Ленинград почти нет ничего о себе, зато много о Моцарте. Копии писем Чичерин бережно сохранял.
«Напомню рассказ эстета Рохлитца, друга Гёте, о прощании Моцарта с семейством кантора Долеса в Лейпциге, — говорится в одном письме. — В момент прощания с ним Моцарт написал два канона: один элегический — «Lebt wohl, Wir sehen uns wieder»[50], другой комический «Heult noch gar wie alte Weiber»[51]; каждый из них звучал прекрасно, а когда эти два канона спели вместе, то получилось не простое контрапунктическое сочетание разных тем, но полное органическое единство слившихся противоположностей, до того странное, особенное, глубокое, потрясающее, что все были страшно поражены, и сам Моцарт быстро закричал: «Прощайте, друзья» — и убежал. Дело не в техническом кунсштюке сочетания разных тем, а в
Из Берлина больного перевезли в Висбаден.
В последний день августа туда прибыл профессор Фёрстер, который когда-то лечил Владимира Ильича. Профессор провел у больного целый день, внимательно изучил историю болезни, расспросил Шеронна и затем поставил свой окончательный диагноз как смертный приговор: надежд на возвращение в строй нет. В официальной записи значилось: «Г-н Чичерин полностью нетрудоспособен. Восстановление работоспособности, если это вообще может произойти, только через очень продолжительный срок. Какой-нибудь срок для восстановления не может быть сейчас указан… В нынешнем состоянии необходим абсолютный покой, путешествие в настоящее время ввиду опасности паралича абсолютно невозможно. Я возражаю также против перевозки больного в санаторий и настоятельно рекомендую, чтобы было продолжено лечение в Висбадене, который благодаря своему климату и ваннам может содействовать улучшению состояния».
Все в мрачном, но по-научному реальном свете. Фёрстер жестоко откровенен, он бессилен предотвратить наступающую катастрофу. От больного заключение было скрыто, как было скрыто и то, что Фёрстер приезжал по сугубо деловой просьбе, полученной из Москвы, проверить состояние больного и определить возможность возвращения его в строй.
Вдруг немецкие газеты распространили сенсационную новость: русский нарком Чичерин решил не возвращаться в Советский Союз, его политика разошлась с нынешней политикой Кремля, и он решил навсегда поселиться в Германии. Новость подхватили, стали поступать запросы от знакомых.
Чичерин принимает легко объяснимое в его положении, но отнюдь не лучшее решение: немедленно возвратиться в Москву.
По просьбе больного Жеронн разработал программу переезда. Георгий Васильевич просит заказать вагон в Берлине, чтобы можно было доехать до советской границы без посторонних, незамеченным. Он словно боится, что кто-то увидит его в жалком, безнадежном состоянии. «В пути, — пишет он в Москву, — я буду невидим. Надо сообщить в Варшаву, чтобы там было дано согласие на пропуск немецкого вагона до Столбцов, а также чтобы меня никто не встречал и не приветствовал, ибо я буду невидим». В том же письме просит, чтобы в Негорелом были приготовлены носилки.
3 января 1930 года Чичерин отправился в свою последнюю поездку по Европе. Поезд в объезд Берлина следовал по маршруту: Франкфурт-на-Майне, Лейпциг, Бреславль, Катовицы, Варшава, Столбцы. В Негорелом ожидали доктор и секретарь наркома Б. И. Короткин.
В один из нерадостных дней уже в Москве Чичерин достал из чемодана свои бумаги о Моцарте и написал: «В промежутки болезни, когда она чувствуется менее остро, набрасываю разрозненные мысли о Моцарте, как я это делал в Висбадене, и соединяю в одно целое сделанные мною еще в Висбадене записи и заметки по прочтенным книгам и журналам на тему о нем же. Это не исследование, не самостоятельный труд. Для меня они невозможны. Записи плюс лирика…»
Он задумался. Для кого эти заметки? «Я теперь слишком безгранично слаб, чтобы что-нибудь изучать, обдумывать, мастерить, переделывать. Публично, конечно, не выступлю…» Выше на том же листе надписал: «Дорогой» и поставил три звездочки. И еще выше: «Не для печати». Это был его «Requiem». Здесь все о прошлом. Георгий Васильевич заново переживал свою жизнь.
Тамбов. Мать за роялем; в кресле, закрыв глаза, полулежит отец. С книжной полки саркастически улыбается гудоновский Вольтер. И льются прекрасные, неповторимые звуки…
Петербург. Он идет по заснеженной улице из театра с ватагой одноклассников-гимназистов. Шинель распахнута, фуражка чудом держится на затылке. Они спорят до хрипоты о новаторстве Вагнера и архаичности Моцарта…
Берлин. Он играет песню Папагено, потом встает, закрывает крышку рояля и дает себе клятву не притрагиваться к клавишам, пока страдает его Родина…
Москва. 1919 год. Уходят на фронт красноармейцы из караульной роты НКИД. Они просят наркома сыграть что-нибудь на прощание. И он играет им, идущим на смерть ради жизни…
Висбаден. 1927 год. «Еще не низверженный тогда Федор Шаляпин» ввалился в номер. Его окающий бас все заглушил. Большой и сильный, неутомимо ходил артист-певец и, глядя на Чичерина, примостившегося в кресле, грохотал:
— Входишь в большой, мрачный, торжественный дом: кругом самая тяжелая и мрачная обстановка: тебя встречает нахмуренный хозяин, даже не приглашает сесть, и спешишь скорей уйти прочь. Это Вагнер. Идешь в другой дом, простой, без лишних украшений, уютный, большие окна, море света, кругом зелень, все приветливо, и тебя встречает радушный хозяин, усаживает тебя, и так хорошо себя чувствуешь, что не хочешь уходить. Это Моцарт…
И снова Москва. Ночная тишина, он сидит за столом и выводит последние слова своей рукописи: «Прогрессирующая болезнь не дала мне возможности поработать самостоятельно над творчеством Моцарта. Я мог собрать и нанизать выписки из книг о Моцарте вперемежку с выражением личных переживаний, но я уже не мог составить свой труд о Моцарте, как я бы того хотел. Я самый ярый враг произвольного наклеивания шаблонных этикеток, лишенного серьезных оснований, исследование же, тем более исследование столь беспримерно сложного явления, как Моцарт, было для меня уже невозможностью, и эта перспектива все дальше от меня уплывает, я теперь об этом и мечтать не могу: не дано. Пусть же эти выписки из книг и эти разрозненные лирические излияния хоть немного свидетельствуют, о том, чем для меня был и есть Моцарт».
Все складывается против него; болезнь становится злее, нетерпимее. Георгий Васильевич вынужден просить освободить его от поста наркома. 21 июля 1930 года Президиум ЦИК СССР принимает постановление об удовлетворении его просьбы.
Для ближайшего окружения наркома его решение просить отставку и незамедлительное согласие верховного органа удовлетворить эту просьбу все же было неожиданным и до известной степени удручающим. Сам он тщательно скрывал свои мысли и настроение. Было лишь заметно, что он глубоко в душе переживал случившееся и готовился мужественно встретить удары судьбы.
Георгий Васильевич делает единственно в его положении правильный, как ему казалось, но горький вывод — не докучать. Никому, даже близким. 29 июля он пишет брату Николаю: «…постепенно прекращаю вообще переписку. Никаких свиданий, никакой переписки… Посылаю вам всем наилучшие приветы и пожелания. Надо делать так, как если бы меня больше не было».
И все-таки Георгий Васильевич пробует трудиться. Закончил обработку заметок о Моцарте и затеял большую работу об истории христианства. Нет-нет да и прорвется его не до конца иссякшая энергия, он улыбнется от теплой мысли, что не все утрачено, ведь нынешнее состояние — это временное недоразумение. Не так ли?
Он много читает, знакомится с новинками зарубежной печати.
Несмотря на страдания и тяжелые раздумья, у Георгия Васильевича не угасает любовь к жизни. Он познал ее во всех проявлениях и любил пламенно и постоянно. Его жизнь не была борьбой за тихое счастье, за удовлетворение мелких эгоистических страстей. Он много и жестоко боролся с самим собой, с проклятым дворянским прошлым, с интеллигентской мягкотелостью, неустойчивостью и колебаниями. Он обрел истину и пронес ее до конца жизни, чистую и ничем не запятнанную. Теперь остаток жизни заполнен жестокой борьбой с недугом…
Пришло лето 1936 года. Сухое, знойное, пыльное. Такой жары москвичи давно не знали. Георгий Васильевич задыхался и очень страдал. Приступы становились все длиннее и ожесточеннее, видно, приближался трагический конец.
За месяц до смерти Чичерин начинает диктовать свою автобиографию.
7 июля 1936 года новый, на этот раз небывало жестокий приступ обрушился на него. Появились признаки кровоизлияния в мозг, температура поднялась до 42 градусов. Начался бред. В бреду он метался и порывался встать, несколько раз начинал что-то быстро говорить. Какие видения мелькали перед ним? Плыл ли он на пароходе в Англию, гневно клеймя тех, кто ввергнул мир в кровавую бойню? Спешил ли по коридору Кремля к Ленину, озабоченный трудностями внешней политики? Или вспоминал о «лучшем, единственно настоящем друге» — Моцарте?
«Перед смертью, когда уже началась агония, Моцарт пытался тихо подпевать «Der Vogelfänger bin ich ja»[52], но уже не мог, бывший при нем друг его, капельмейстер Розер, сыграл эту песню на фортепиано и пропел ее, и на лице умирающего Моцарта выразилась радость, он просиял. Моцарт умирал с Папагено на устах, там, в немецкой народной стихии, в широких массах, были его глубочайшие корни. Так солдаты на полях сражений умирали, повторяя «мама». Так Бакунин, умирая, переносился в русскую деревню, где протекло его детство…»
Кончилась последняя страница рукописи Георгия Васильевича о Моцарте, а может быть, о нем самом? Оборвалась на полуслове: в половине десятого вечера 7 июля 1936 года Чичерин скончался.
«Долгая жизнь обещана делу политика, за которым стоят исторические силы» — так сказал он однажды. И это были вещие слова.
Нравственный подвиг, каким была вся жизнь Георгия Васильевича Чичерина, забыть нельзя, да и не может бесследно уйти в небытие человек, отдавший всего себя революции. Он принадлежит народу, а народ бессмертен.
Принимает участие в подготовке V съезда РСДРП.
«Документы внешней политики СССР», т. I–X, М., Госполитиздат, 1957–1965.
«История дипломатии», т. III. М., Политиздат, 1965.
«Историческое родословие благородных дворян Чичериных, собранное из достоверных известий Игуменом Ювеналием Воейковым». Тамбов, 1914.
«Отчеты о состоянии Тамбовской губернской гимназии за 1881–1886 гг.». Тамбов.
«Чичерин Георгий Васильевич — авторизованная биография». Энциклопедический словарь русского библиографического института, Гранат, т. 41—III.