Григорий Волчек
Виктор Курнатовский
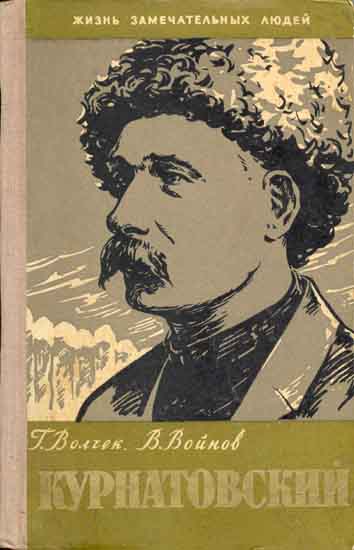
Остро пахнущий водорослями, пенькой, смолой и гниющим деревом ветер с Балтики обдувал островерхие крыши и, стремительно проносясь по узким улочкам старого города, ерошил кроны деревьев в. парках, садах и скверах, раскинувшихся на месте снесенных древних крепостных стен. В этот день, 28 июня 1868 года, в семье военного врача 116-го Малоярославского пехотного полка Константина Яковлевича Курнатовского появился новый ребенок…
В то время Рига считалась вторым после Санкт-Петербурга портом на Балтике. Полноводная Даугава делила город на две части.
На правом берегу лепились красные кирпичные дома, чем-то напоминавшие лютеранские церкви или старинные замки тевтонских рыцарей. В Митавском предместье в жалких лачугах ютились обездоленные пролетарии, ремесленники, городская беднота.
Рядом со старым городом, с его устоявшимся тихим, мещанским бытом бурлила новая Рига — город Петербургского и Московского предместий, как называли их тогда, город преуспевающих коммерсантов и купцов, которые снабжали Западную Европу первосортным русским зерном, льном, пенькой. Взамен они получали колониальные товары, мануфактуру, предметы роскоши и отправляли в глубь России. Хозяева новых предместий строили особняки, открывали богатые рестораны и увеселительные заведения.
У набережных и многочисленных, больших и малых, островов дельты Даугавы стояли на якорях корабли; в десяти километрах от тогдашней городской черты широкая, многоводная река впадала в Рижский залив, откуда лежал путь в моря и океаны, в чужеземные холодные и жаркие страны.
Рига привлекала своеобразной красотой, благоустроенностью, чистотой улиц и рынков, обилием зелени… Ее считали веселым городом, где легко живется, где нетрудно разбогатеть. Таможенные инспектора других пограничных районов Российской империи с завистью говорили о миллионных доходах рижской таможни. Многие офицеры, военные врачи, интенданты, служившие в захолустных гарнизонах, частенько вспоминали о своих коллегах, живших в Риге, — повезло же людям…
Издали все кажется хорошим. Так же думал в свое время о Риге и военный врач Константин Курнатовский. Но, поселившись там со своей семьей, он очень скоро разочаровался. Потомственный дворянин. По его представлениям, он мог и должен был жить иначе, а жил… Скромного жалованья полкового врача не хватало. Думы об этом всегда и тревожили и раздражали его. И дети — их было много. А сегодня появился на свет еще один ребенок. Его надо растить, кормить, дать ему воспитание — значит снова и снова отказывать себе и семье в самом необходимом.
Курнатовский шагал взад и вперед по кабинету, перебирая в памяти имена. Как же назвать новорожденного? Заглянув в стоявший на столе календарь — здесь каждый день был отмечен именем какого-нибудь святого, — Константин Яковлевич направился в комнату жены. Подойдя, сухо поцеловал в щеку, едва взглянул на новорожденного и тоном, не терпящим возражений, сказал:
— Мы назовем его Виктором.
Екатерина Семеновна, привыкшая ни в чем не перечить раздражительному и властолюбивому мужу, согласилась:
— Пусть будет по-твоему, Костя. Виктор — хорошее имя.
Шли годы. Так же тихо, как жила, Екатерина Семеновна скончалась. Вскоре ее место в семье заняла Амалия Васильевна Григорьева. Похоронив первого мужа, она тоже осталась с кучей ребятишек на руках. Может быть, именно поэтому остановил на этой женщине свой выбор военный врач Константин Курнатовский. Кто другой согласился бы воспитывать чужих детей из небогатой семьи? Теперь семья Курнатовских значительно увеличилась, средств же к существованию, конечно, не прибавилось. От скромного приданого Амалии Васильевны очень скоро не осталось и следа. Содержание детей, жены, посещение офицерского собрания рижского гарнизона — все это было не под силу военному врачу 116-го Малоярославского пехотного полка.
Постоянная борьба с нуждой надломила Константина Курнатовского. С годами он стал настоящим деспотом, считая, что семья, дети — главная причина его материальной неустроенности. Нет, не весело жилось ему в Риге. Мелочные придирки полкового начальства, монотонность и бесперспективность военной службы, одуряющая скука полковых порядков — все это вконец задергало Курнатовского.
Дети не радовали его. И не только потому, что воспитание было связано с непосильными для него расходами. Вырастая, дети выбирали свои пути в жизни, чуждые его представлениям о блестящей карьере, об обеспеченном будущем.
Вечно какие-то осложнения с полицией, вечные волнения и страх. Подумать только, дети дворянина Курнатовского — нигилисты, выступают против царизма! Старший сын Михаил хоть и пошел по стопам отца и стал так же, как Константин Курнатовский, военным врачом, но в 1888 году его исключили из университета за причастность к политике. Когда же Михаил получил диплом врача и поселился в Москве, ему пришлось жить там под надзором полиции. Ничего не скажешь — «карьера»… Другой сын, Яков, тоже не ладил с жандармским управлением, и опять виной тому были его революционные взгляды.
А дочери? Падчерицу Александру за связи с «Народной волей» выслали вместе с мужем в маленький провинциальный городок Демянск. Евгения, студентка Высших женских курсов в Петербурге, стала революционеркой.
Может быть, этот — Виктор, рождение которого было нежеланным, со временем станет достойным дворянского рода Курнатовских?
Но мальчик с самых ранних лет сторонился отца, боялся его, льнул к мачехе.
Подрастали дети, и Константин Яковлевич все позднее приходил домой: он был вынужден заниматься еще и частной практикой. По вечерам он, мрачный, усталый, вел бесконечные разговоры с женой о деньгах. Он упрекал Амалию Васильевну в расточительности, в том, что она балует детей. Случайно разбитый стакан, царапина на мебели — все вызывало у Курнатовского взрывы раздражительности. Он сурово наказывал детей за малейшую шалость, за самый невинный проступок. Терпеливая, безответная Амалия Васильевна, как могла, старалась смягчить эти вспышки беспричинного гнева своего мужа. Всех детей — и родных и неродных — она любила истинной материнской любовью. Но особенно ласково она относилась к Виктору. В свою очередь, и мальчик отвечал мачехе горячей привязанностью, жалел ее и осуждал отца.
При всей любви к детям Амалии Васильевне трудно было справляться с делами в такой большой семье. Большую часть времени Виктор, предоставленный самому себе, проводил на дворе, на улице. Он дружил со сверстниками из небогатых русских и латышских семей. Незаметно, еще в раннем детстве, научился болтать по-латышски и часто вставлял в русскую речь латышские слова. Амалию Васильевну это и забавляло и радовало.
— Ты будешь хорошо успевать в гимназии по иностранным языкам, — часто говорила она Виктору. И не ошиблась.
Научившись читать, маленький Виктор стал увлекаться повестями и романами о подвигах моряков, морскими путешествиями. Он спал и видел себя на палубе корабля, мечтал о мореходном училище. В Риге существовали тогда лоцманская школа и мореходные классы. И, возможно, Виктор Курнатовский и сделался бы впоследствии штурманом или капитаном, но одно непредвиденное обстоятельство навсегда отняло у него эту мечту. В те годы, о которых идет речь, по всей Прибалтике разразилась жестокая эпидемия скарлатины. Заболел и Виктор. Болезнь дала осложнения — мальчик начал терять слух. Родители этого не заметили. А сам Виктор скрывал начавшуюся глухоту, стыдился ее, не представляя, чем это заболевание грозит ему в будущем. Однажды, уже выздоровев, он отправился кататься на лодке. Это было одно из самых любимых его развлечений. Внезапно налетевший шквал перевернул утлое суденышко, и мальчик едва не погиб. Его спасло лишь то, что плавал он как рыба. Но вода проникла глубоко в уши и продолжила разрушительную работу, которую начала скарлатина. Слух у Виктора ухудшался с каждым днем. И все же долгое время он скрывал свое недомогание от отца и мачехи. Но болезнь прогрессировала, и, заметив, что с ребенком творится что-то неладное, Курнатовские обратились к врачу-специалисту. Однако к тому времени болезнь была очень запущена… О поступлении в морской кадетский корпус или в Рижские мореходные классы нечего было и думать.
Особенно плохо чувствовал себя Виктор в осеннюю непогоду. Он становился нелюдимым и замкнутым, избегал сверстников. В такие дни его часто можно было застать у окна погруженным в невеселые думы. Мальчик точно старался мир звуков заменить зримым миром. Порой ему казалось, что он слышит по-прежнему хорошо. Порой же он впадал в уныние и тоску. Это происходило всегда, когда голоса прохожих или стук экипажей доносились до него приглушенно, словно источники звуков находились далеко-далеко… Но возраст брал свое: стоило ему почувствовать себя лучше, как он вновь становился жизнерадостным непоседой — от природы Виктор был подвижен, общителен, приветлив.
О болезни, которая так угнетала его в осенние дни, он почти забывал во время летних каникул. Обычно Виктор проводил их у своей сводной сестры Александры Исидоровны Григорьевой, по мужу — Степановой, у той самой, которая вечно была не в ладах с полицией. Сдав последние экзамены, братья Виктор и Михаил в тот же день начинали собираться в поездку. Из чулана на свет появлялась заветная дорожная корзина, в которую укладывались скромные мальчишечьи пожитки. Виктор торопил, волновался. Мыслями он был уже там, в Демянске, в небольшом домике Степановых, на террасе, обвитой плющом, или в тенистом саду.
Сколько с этим городком Новгородской губернии связано было у Виктора чудесных воспоминаний, не покидавших его всю жизнь! В Демянске и дышалось по-иному, чем в Риге: здесь не было даже намека на ту гнетущую обстановку, которая сложилась дома, не было деспота отца.
В Демянске и началась сознательная жизнь Виктора — жизнь будущего революционера.
Александр Николаевич Степанов, муж Александры Исидоровны, рассказывал, что Демянск впервые упоминается в русских летописях XV века как поселение Демона на Явоне. Благозвучное название Демянск пришло значительно позднее, когда здесь построили монастырь.
— Неудобно было, — шутил Степанов, — отцам монахам жить в демонской дыре. Вот и получил тогда городок название Демянска в честь святого Демьяна.
Когда-то Демянск являлся частью Новгородских земель. Александра Исидоровна и ее муж часто рассказывали мальчикам о великом Новгороде, о вече, новгородских вольностях, мятежах, которые поднимали новгородцы против бояр и купцов-толстосумов. Как-то незаметно разговор переходил с древних времен на события текущего дня, и подростки узнавали о том, как живут простые русские люди, фабричные и крестьяне, о несправедливостях, обидах, которые терпит многострадальный народ.
Александра Исидоровна походила на женщин того поколения, из которого вышли Перовская и Ковалевская. Одно время она жила в семье выдающегося русского писателя, революционного демократа Глеба Ивановича Успенского. Красавица и умница, Александра Исидоровна страстно любила книги и много времени отдавала изучению литературы того времени.
Жизнь в захолустном уездном городишке под надзором полиции тяготила ее. По счастью Демянск находился сравнительно недалеко от Риги, где жила ее семья — мать, братья… Летом, когда на каникулы приезжали сводные братья, Александра Исидоровна оживала. Затевались шумные игры, дальние прогулки. И хотя подростки обычно не любят, чтобы в их развлечениях участвовали взрослые, Сашеньку они считали своей и жалели, если отправлялись на озеро-болото Невий мох или в другие не менее привлекательные места без нее. Много времени отдавал юношам и Александр Николаевич Степанов. Он был страстным рыболовом, охотником, ловко ставил силки на птиц.
Жили Степановы дружно и счастливо, несмотря на то, что за свои передовые политические убеждения им частенько приходилось расплачиваться: то арест, то запрещение пребывать в столицах Российской империи — Санкт-Петербурге и Москве, то еще какой-нибудь «подарок» от царского правительства.
Стоял мягкий августовский день 1881 года.
Маленький городок, насчитывавший тогда около трехсот деревянных домов и до дюжины каменных построек, включая три храма, еще не очнулся от послеобеденной дремы.
Александр Николаевич, Витя, Миша и Александра Исидоровна, разложив на столе карту, внимательно рассматривали ее.
Озеро Селигер… На нем сто шестьдесят островов и островков, бесчисленные протоки, покрытые кувшинками, — огромная водная гладь, напоминающая затихший пруд, а в ветреные дни — взволнованное море.
Степановы любили это озеро и часто бывали там: какое удовольствие искупаться, половить рыбу, провести ночь у костра!
В прошлом году Александра Исидоровна не пустила Виктора на озеро. Она боялась, что мальчик начнет плавать, нырять и болезнь вспыхнет с новой силой. Но этим летом он окреп, чувствует себя много лучше, почти не жалуется на глухоту. Ну как можно лишать его и Мишу такого удовольствия, как прогулка на Селигер?
Степанов сказал, что утром у него есть дела в Демянске, поэтому братья выйдут одни, а он их нагонит. Пусть подождут его в большом торговом селе Полнове, которое раскинулось по берегу озера. Там у церкви они встретятся.
До самого ужина велись сборы: вещей оказалось неожиданно много — еда, рыболовные снасти, жестянка из-под леденцов, которую Степанов предусмотрительно приготовил для мотыля, стеклянная банка с червями…
Спать легли в этот вечер очень рано. Виктор завел большой старый будильник и поставил его на пол у своего изголовья.
Около четырех часов утра будильник огласил комнаты таким неистовым звоном, что тотчас перебудил всех. Виктор и Михаил торопились, точно их подстегивал кто-то. Может быть, они боялись, что Сашенька передумает и не отпустит их одних на Селигер? Они мгновенно проглотили молоко, съели по большому ломтю свежего ржаного хлеба и, нацепив узелки с вещами на палки, почти бегом ринулись к калитке.
— Не опаздывайте, дядя! Жди рыбу, Сашенька! — весело звенели их голоса.
Городок еще спал, лишь кое-где лениво лаяли цепные псы. Заливались петухи, кудахтали разбуженные куры.
Мальчики быстро шли по едва заметной тропинке. У замшелых гранитных валунов стояли, покачиваясь на ветру, тонкие березки. Широко раскидывали ветви сосны-великаны. Дозревающие полоски ржи пестрели выгоревшими на солнце васильками.
На пути им попалось старое кладбище. Пробираясь среди холмиков, почерневших надгробий, Витя и Миша наткнулись на полуразвалившуюся плиту из известняка, заросшую плющом. Этот памятник чем-то отличался от остальных. Край плиты, отмытый добела дождями, сохранил следы надписи. Братья очистили плиту, и надпись выступила яснее. Она была высечена прямыми славянскими буквами, а не вязью и говорила о том, что под камнем погребен новгородский воин. Кем он был? Предводителем дружины? Простым землепашцем, который в годы нашествия врагов сменил соху на копье? Полуразрушенный камень молчал… Он ничего не сберег потомкам о жизни новгородца, о его заслугах.
Ребята молча постояли у могилы. Потом, не сговариваясь, набрали полевых цветов и украсили ими надгробие.
— Дядя обещал свезти нас на будущий год в Новгород, — вдруг вспомнил Михаил.
— Обещал… — задумчиво произнес Виктор. — А ты не запомнил, — обратился он к брату, — песню о Новгороде? Ее часто пела Сашенька с тем студентом, который в прошлом году гостил у нас в Демянске.
— Не приедет больше тот студент, — ответил Михаил.
— А ты откуда знаешь? — воскликнул Виктор.
— Слышал… Дядя и Саша между собой говорили. Тот студент вместе с другими студентами задумал царя убрать…
— Как это убрать? — поинтересовался Виктор.
— Ну, убить, — глухо ответил Михаил. — Но дядя говорит, что все это ни к чему: одного уберут, другой появится на престоле. Надо действовать по-другому…
— По-другому? А как это по-другому? — не оставлял его в покое Виктор.
— Ну это мне пока неизвестно.
Долгое время они шли молча. Потом Виктор тихонько запел:
Последние слова ребята пропели вместе. Из-за деревьев, вдоль которых вилась тропинка, вышел высокий худой крестьянин. Был он в лаптях, в поношенной домотканой рубахе. Мальчики остановились.
Мужик внимательно оглядел подростков.
— Издалека будете?
— Из Демянска, — ответил Михаил.
— Не Степановых ли сродственники?
— Братья Александры Исидоровны, — сказал Виктор. — А вы как догадались?
Крестьянин улыбнулся.
— Я, конечно, человек вам незнакомый. Хотите- слушайте, хотите — нет. Но в Полнове песенки этой не пойте. Туда урядник приехал. Вам-то ничего, а Степановым за такие песни ответ придется держать,
Подростки переглянулись.
— А как вас зовут?
— Федотом величают. Передавайте поклон Александре Исидоровне от Федота из Полнова, и супругу ее большое почтение.
И так же внезапно, как появился, он исчез. Слышно было только потрескивание ветвей.
— Так-то, Витя, — назидательно произнес Михаил, — романсы наши нужно оставить. Они урядникам не нравятся. А то ушлют, как того студента, в Сибирь…
Вскоре роща кончилась. За ней показались поля желтеющей ржи, на пригорке белела колокольня, рассыпались домики, покрытые щепой и почерневшей соломой.
Полново… Довольно богатое село, которое по своим размерам мало чем уступало Демянску. По Селигеру в Полново заходили пассажирские пароходы, буксиры с баржами. Шли они из Осташкова, Тверской губернии. Местные кулаки жили в Полнове припеваючи: торговали рыбой, лесом, дегтем, зерном, содержали чайные, постоялые дворы. Полново славилось различными ремеслами и, собственно, давно по своему экономическому развитию обогнало захолустный Демянск, за которым только и осталось, что слава административного центра. Бедняков в Полнове было не меньше, если не больше, чем в Демянске: где много богатых, там, как известно, нет недостатка и в бедняках.
В селе происходило что-то неладное. Путь к церкви, у которой братья должны были встретиться со Степановым, преграждала толпа крестьян, гудящая, как потревоженный улей. Запрудив дорогу, народ толпился около маленького покосившегося домика.
— Что-то, наверное, случилось, — забеспокоился Виктор.
Его слова потонули в крике, раздавшемся совершенно неожиданно. Голосила женщина лет тридцати. Она была одета в поношенную заплатанную кофту, порыжевшую от времени юбку, за которую держались мальчик и девочка, одетые, так же как их мать, в какое-то тряпье. Женщина цеплялась за коровенку, которую староста и понятые во главе с урядником пытались вырвать у нее из рук.
— Батюшка, — заливаясь слезами, кричала женщина, обращаясь к уряднику. — Пожалей, батюшка, сирот. Не отнимай последнего. Люди добрые, да что это такое? Мужа убили на турецкой, осталась одна с малолетками, а эти изверги…
— Я тебе покажу извергов! — набросился на нее урядник.
Вдруг из толпы вынырнули двое подростков. Тот, который был поменьше, пронзительно закричал:
— Не смейте ее обижать! Отдайте ей корову! Она солдатка, вдова, у нее дети. Дети голодать будут…
Урядник опустил занесенную руку и оторопело уставился на ребят. Толпа замерла.
Придя в себя, урядник с подчеркнутой любезностью и в то же время с явной издевкой спросил:
— С кем имею честь? Мальчики молчали.
— Ну ты, — обратился урядник к Виктору, — как фамилия, звать как?
— Виктор Курнатовский, — спокойно ответил мальчик.
— А сколько вашему благородию годков? — продолжал урядник, улыбаясь в рыжие усы и с явным интересом разглядывая мальчика.
— Тринадцать.
— Скажите на милость, всего тринадцать, а сколько от вас беспокойства народу!
— При чем тут я, — не унимался Виктор.
— Кто отец? — резко и требовательно оборвал обозленный урядник.
— Полковой врач.
— Так-с… Лекарь… Где изволите проживать?
— В Риге.
— Как в Риге? — окончательно вышел из себя урядник. — Ты что мне голову морочишь? Как вы сюда попали?
— Я вас прошу, — по-прежнему спокойно сказал Виктор, — во-первых, на меня не кричать, а во-вторых, не тыкать.
— Да, не тыкать, — поддержал брата Михаил. — А приехали мы сюда действительно из Риги, на каникулы. Живем в Демянске. Шли на Селигер удить рыбу, а тут вот какие дела творятся…
— Какие еще дела, молодой человек? — прохрипел урядник.
— А такие, что не по закону у бедняков коров отбираете, — сказал Виктор.
— Значит, в тринадцать лет вы все законы уже знаете, а я в пятьдесят, выходит, дурак?
— Это вам лучше знать, — ответил Михаил. По толпе пронесся смешок. Урядник побагровел и крикнул старосте:
— Веди в избу!
И он, и староста, и понятые забыли о женщине, о корове. Услужливо расчищая путь через толпу наседавших крестьян, староста протолкался к своей избе и накрепко закрыл двери перед любопытными. Но толпа не расходилась.
Урядник уселся за стол, взял лист бумаги, поданный ему старостой, и начал писать протокол.
— У кого гостите на каникулах? Поточнее назовите адрес…
— У Степановых, — ответил Михаил, — у нашей сводной сестры и ее мужа.
— Уж не Александрой ли Исидоровной зовут вашу сестрицу? — оживился урядник.
— Да, — подтвердил Михаил, — а что в этом дурного?
— А то, — назидательно произнес урядник, что почтенная ваша сестрица и ее супруг находятся под полицейским надзором. Известно вам это? Они мастера народ баламутить. Где же при таких родственниках вам понять, молодые люди, как себя следует вести с начальством?
— А кто тут начальство?
— Я начальство, — прогремел урядник, — я… И придется мне поучить вас, если ваша образованная сестрица и ее муженек не умеют или не хотят сделать этого. Запереть их в чулан, — приказал он старосте. — Посмотрите, что у них в узелках, а я закончу протокол — и в уезд: пусть там решают, что с ними делать.
Через несколько минут незадачливые рыболовы оказались в темном, пыльном чулане, где была свалена всякая рухлядь. Урядник сам проверил замок чтобы — упаси бог! — не убежали. Сквозь маленькое окошко, вернее, просто отверстие, выпиленное прямо в бревнах, пробивался тусклый свет. Привыкнув к полумраку, братья нашли среди хлама два ящика и уселись на них.
Но Виктор не умел оставаться без дела. Он подобрал валявшуюся на земле морковку и свеклу. На одном из ящиков огрызком карандаша начертил доску, и ребята начали играть в шашки. Время текло незаметно.
Вдруг Михаилу почудилось, что за стеной, за окном, кто-то царапается. Он прислушался. Звук повторился. Тогда Михаил подтащил к окошку ящик, встал на него и тихо спросил:
— Кто тут?
— Это я, Пашка. Ну, Пашка… У нашей мамки корову хотели отнять.
— Отобрали, наверное, все-таки? — поинтересовался Михаил.
— Да нет, цела она… Мы ее в лес загнали. Потом в другую деревню к мамкиной родне перегоним. Меня, — продолжал невидимый собеседник, — мамка к вам послала. Может, чего нужно? Воды, хлеба?
— Спасибо, Пашка. Ничего нам не надо. Или, пожалуй, вот что: сбегай к церкви, встреть там нашего дядю. Узнаешь его по соломенной шляпе и белой рубахе. Удочки у него будут в руках… Степанов его фамилия. Расскажи, где мы.
— Мигом слетаю, — согласился Пашка и убежал.
Не прошло и получаса, как за дверью чулана послышались голоса. Ребята узнали голос дяди. Степанов говорил с урядником, и речь шла, собственно, не столько об их проступке, сколько о том, какую сумму получит урядник за освобождение «бунтарей». Торг завершился довольно быстро: урядник получил пять рублей, а староста и понятые — по полтиннику. Двери чулана открылись, и урядник, улыбаясь, сказал:
— Все только из уважения к почтенному Александру Николаевичу. А то ведь страшно подумать — прямо бунт устроили…
Когда Степанов и братья Курнатовские отошли достаточно далеко от села, Александр Николаевич принялся отчитывать мальчиков за неосторожность.
— Хорошо, если все обойдется. А то отошлет он свой протокол в уезд приставу, а там неприятностей не оберешься… Ну, это вам наука.
Вечер и ночь провели на берегу озера. Жгли костер, рыбачили, варили уху. Рассказали Степанову о могиле новгородского воина, о встрече с Федотом.
— Это толковый мужик, умница, — заметил Степанов. — Таких все больше становится на Руси…
К вечеру следующего дня рыболовы возвратились в город. К их удивлению Александра Исидоровна уже знала о случившемся. Из Полнова в Демянск ежедневно отправлялись обозы с рыбой, и молва обогнала юных бунтарей, приукрасив и расцветив их подвиг.
— Такими и должны быть мои мальчишки, — сказала, обнимая их, Саша.
Урядник тем временем подробно доложил обо всем приставу, и протокол, составленный 14 августа 1881 года в Полнове, подшили в «Дело политической поднадзорной Александры Степановой».
— Это она подбила молокососов, — твердил урядник приставу.
Начав свой путь от избы полновского старосты, документ этот закончил его в департаменте полиции. Прошло несколько лет. Каждый раз, когда полиций необходимо было обвинить Виктора Курнатовского в революционной деятельности, на свет появлялся полновский протокол.
— Курнатовский начал бунтовать с тринадцати лет, — говорили жандармы. — Вот доказательство. И, конечно, — продолжали они, — он будет врагом царизма до конца своей жизни.
В этом представители департамента полиции не ошибались.
Многое изменилось за шесть с половиной лет в семье Курнатовских. Умер отец. Амалия Васильевна переселилась в Петербург. Пенсия, установленная ей и детям, была так мала, что семья едва сводила концы с концами. Но уже начинали работать старшие дети. И все в семье старались помочь Виктору получить образование. Помощь, о которой никто никогда не говорил вслух, он ценил и был очень привязан к матери, братьям и сестрам. Закончив гимназию, Виктор поступил на естественный факультет Санкт-Петербургского университета. В те годы болезнь напоминала о себе сравнительно редко. Лишь осенью и ранней весной, когда в Петербурге стояла промозглая погода, ему приходилось напрягать всю свою волю и внимание, чтобы слышать собеседника или угадывать слова по движению губ. Этому он научился давно.
В годы, когда учился Курнатовский, политическая борьба в университетах разгоралась в защиту студенческих прав, которые постоянно урезались университетским начальством и попечителями учебных округов. Как ни старались чиновники из министерства просвещения в союзе с политической полицией оградить высшие русские учебные заведения от «чуждых» влияний, в студенческую среду проникали новые веяния. Молодежь не могла оставаться равнодушной к забастовкам рабочих, к массовым волнениям крестьян. В крупных городах студенты стали чаще общаться с рабочими и посылать на фабрики и заводы своих первых пропагандистов. Вначале молодежь шла на заводы только для обучения рабочих грамоте. Но вскоре молодые пропагандисты начали разъяснять, чем вызывается общественное неравенство. Так шаг за шагом возникали революционные кружки, а русское студенчество втягивалось в широкую общественную жизнь. Первые тайные социалистические организации зародились именно в высших учебных заведениях, а затем были созданы студентами-революционерами на фабриках и заводах.
Курнатовский быстро освоился с университетской жизнью. Подружившись, он готов был идти за друзьями в огонь и воду. Если его друг нуждался в деньгах, Виктор умел тактично поделиться с ним последним. И делал это так, что никогда не обижал человека. Положит руку на плечо товарища, заглянет в глаза, прочтет в них невысказанное и полушутливо, полусерьезно скажет:
— А не нужно ли тебе денег, дружище? Я на днях разбогател… Мне брат из Москвы прислал. Истрачу. А ты возьми — у тебя они целее будут.
А потом «забывал» спрашивать о долге, если сам должник не вспоминал об этом. В студенческой среде, жившей очень скудно, займы были распространенным явлением.
Товарищи, с которыми дружил Виктор, преследовали одну цель: они хотели видеть свою родину, Россию, великой и свободной. И во имя этой благородной цели много молодежи в те времена готово было идти в тюрьмы, в Сибирь. Курнатовский дружил со студентами различных возрастов и разных факультетов. Некоторые из них входили в тайную народовольческую организацию, которую возглавлял Александр Ульянов. Они готовились к покушению на царя. Но Курнатовский еще не знал об этом. Его, как новичка, первокурсника, пока не посвящали в такие серьезные дела. Однако чувствуя в нем будущего революционера, ему давали важные поручения: было известно, что Виктор упорно изучает социалистическую литературу, и товарищи предложили ему заниматься с рабочими в нелегальных кружках за Александро-Невской заставой. Виктор был польщен этим поручением.
Помимо таких тайных кружков, в Петербургском университете существовала более широкая студенческая организация. Называлась она «Объединенный союз студенческих землячеств» и была создана по инициативе Московского университета. «Союзная организация» — так коротко называли студенты свое детище — охватила все университетские города России. Для непосвященных «Союз» являлся организацией вполне благонамеренной. Он объединял студентов разных землячеств. Эти землячества выбирали своих старост, имели библиотеки, кассы вспомоществования. Землячества помогали друг другу. Если в Москве, Казани или Киеве начинались студенческие волнения (а поводов для таких волнений было больше чем достаточно), землячества в других городах собирали средства на поддержку бунтующих киевлян, москвичей или студентов Казани. В своих собственных университетах они устраивали выступления в поддержку бунтарей. Земляки часто собирались на студенческие пирушки, где под звон гитары и декламацию лирических стихов читалась политическая литература, звучали революционные песни. Студенты создавали в складчину библиотечки, в которых можно было найти запрещенные книги, брошюры…
Виктор, поступив в императорский Санкт-Петербургский университет, попал в рижское землячество. Здесь единой семьей жили, помогая друг другу, русские и латыши из Риги и других городов Прибалтики. Особенно симпатизировал Курнатовский двум латышам — Янису Плиекшану и Петру Стучке. Они были года на три старше его. В университете их называли неразлучными. Веселые, остроумные, они постоянно приходили друг другу на помощь во всех спорах, затеваемых на студенческих сходках, придерживались передовых по тому времени взглядов. Любили Белинского и Чернышевского, увлекались поэзией, Ян Плиекшан писал стихи. Если бы Курнатовскому дано было заглянуть в будущее, он бы узнал, что студент Плиекшан — будущий Райнис — со временем станет великим революционным поэтом своего народа. Второй — Петр Стучка — займет пост наркома юстиции в первом рабоче-крестьянском правительстве Советской России, примет участие в составлении первых конституций Российской Федерации и Советского Союза.
В студенческих землячествах тех времен ведущее место занимали революционные народники, но встречались и марксисты. Идеи Маркса и Энгельса уже проникли в среду студенческой молодежи, и некоторые народовольцы искренне считали себя учениками Маркса, признавали и классовую борьбу и необходимость социалистической революции. Но в то же время они утверждали, что в условиях царской России необходимо использовать и индивидуальный террор. Террор, по их мнению, должен был революционизировать народ и явиться орудием возмездия царским прислужникам за преследования и казни революционеров. Неудачи «Народной воли» объясняли плохой подготовкой общественного мнения, ошибками в выборе времени для совершения террористических актов, в частности в выполнении главной задачи — убийстве царя.
Такая путаница в политических взглядах, попытка объединить необъединимое была весьма характерна для 80-х годов прошлого столетия, когда русская революционная мысль мучительно искала правильных путей.
И Виктор Курнатовский, познакомившийся в университете с работами Маркса и Энгельса, ставший горячим сторонником их учения, первоначально полагал, что без индивидуального террора в русских условиях не обойтись.
Какие это были времена, какие горячие споры! На студенческих сходках пели песни, за которые можно было угодить на каторгу. О чем только не спорили: о социализме и общине, живописи и революции, музыке и литературе. В этих спорах шаг за шагом рождалась истина. Усваивались правильные взгляды. В России начинала возникать революционная социал-демократия.
Жизнь Виктора Курнатовского целиком заполняли университетские лекции, чтение, дискуссии в прокуренных комнатах, тайные встречи с революционерами, нелегальные занятия в кружках с кадровыми питерскими рабочими.
Быстро, как-то незаметно прошли осень и зима 1887 года. Наступил март. И вот тогда в Петербургском университете произошло событие, изменившее судьбы многих его питомцев. Сначала вполголоса из одной аудитории в другую, затем открыто начала передаваться страшная весть: арестовали Ульянова, Генералова, Шевырева, Андреюшкина и других студентов. Им предъявили обвинение в том, что они готовили покушение на жизнь Александра III.
Темно-серые облака висели над крышами. Мокрый снег вперемешку с дождем падал на город. Торцовые мостовые покрылись скользкой кашеобразной массой. Ни зима, ни весна… Вечерело. Люди в грязном, засаленном платье замелькали на тротуарах — фонарщики обходили город, зажигая огни, тускло мигавшие в пелене снега и дождя.
В университете ярко светились окна актового зала. К широко распахнутым дверям, подняв воротники шинелей, группами и поодиночке спешили студенты. Сюда же одна за другой подъезжали пролетки, богатые кареты. Кучера и университетские служители помогали обрюзгшим, седобородым мужам науки выйти из экипажей. Все, от заслуженных профессоров до безусых первокурсников, чувствовали себя в этот день как-то неловко. У дверей толпились городовые и жандармы. Они бесцеремонно оглядывали с головы до ног каждого и, кажется, хотели не только увидеть, что находится в карманах, но и что таится в мозгу тех, кто переступал порог.
Актовый зал медленно заполнялся. Ректор университета Андреевский все время поглядывал то на часы, то на входивших. Он явно волновался: через несколько минут ему предстояло обратиться к собранию с речью. За зеленым столом уже заняли свои места важные сановники из министерства просвещения в синих вицмундирах с бархатными воротниками, попечитель Петербургского учебного округа. Сверкали звезды, пестрели орденские ленточки… Здесь собрался цвет российского просвещения.
Андреевский в зависимости от обстоятельств, как злословили студенты, то становился холопствующим либералом, то либеральствующим холопом. Ректор любил высокопарные речи, хлесткие слова о прогрессе, об университетских правах, о свободе преподавания, о привилегиях и реформах. Он искал популярности и в студенческой среде и у своего начальства. Короче, он был тем человеком, который пытался сидеть между двумя стульями. Трудная и неблагодарная роль. Многие знали, что Андреевский смертельно боится императорского двора, и, когда он разражался либеральными речами, не верили ни одному его слову.
Поднявшись на трибуну, Андреевский заговорил выразительно, взвешивая каждое слово, как опытный адвокат. Речь лилась плавно, гладко. Оратор любовался собой. Сидевшие за зеленым столом одобрительно покачивали головами в такт его речи.
— Прискорбные события последнего времени, — начал Андреевский, — заставили нас, господа, сегодня собраться здесь. Первого марта, пять дней назад, готовилось покушение на нашего возлюбленного монарха. Но провидение оградило его… Прискорбно думать, верить, тяжко говорить, что среди тех, кто готовился поднять руку на государя императора, были воспитанники и нашего университета, — оратор приложил платок к глазам. — Эти люди не пощадили своей alma mater, питавшей их живительными знаниями. Они забыли, что сами россияне, что Россия — их отечество…
Андреевский не назвал фамилий арестованных. Он пространно говорил о святом долге студенчества заниматься чистой наукой, а в дальнейшем — просвещением и не вмешиваться в политику. Студенты и преподаватели молчали. На неискушенных патетическая речь Андреевского произвела известное впечатление. Но революционно настроенные студенты сразу уловили в ней фальшивые ноты.
К концу речи главы университета среди сидящих в первых рядах произошло замешательство. Многие услышали, как кто-то отчетливо проговорил:
— Не терплю пошлых фарсов…
И тут же, во втором ряду, занятом профессурой, поднялся пожилой человек и направился по проходу между креслами к выходу. Попечитель округа, наклонившись к архиерею, который сидел рядом с ним за зеленым столом, прошептал:
— Вы ведь знаете, кто это, ваше преосвященство. Архиерей злобно посмотрел вслед удалявшемуся и ответил:
— Очень хорошо знаю. А вам, ваше сиятельство, по долгу службы следовало бы знать еще лучше… Не могу поздравить университет с таким профессором. Его мерзкая книга осуждена святейшим синодом. И таким людям императорский университет поручает воспитание молодежи!
— Профессор Сеченов — мировая известность, — возразил попечитель. — Сразу убрать его, поднимется крик: студенты начнут протестовать — снова беспорядки, европейская печать обвинит нас в семи смертных грехах, так называемое общественное мнение, конечно, осудит…
— Да, времена, — вздохнул пастырь, поправляя крест на груди.
Между тем Андреевский, справившись с волнением, вызванным репликой Сеченова, продолжал. Теперь его голос гремел:
— Эти люди не подумали о своих товарищах, которые идут в университет, томимые духовной жаждой, чтобы прильнуть к кристальному ручью науки. Влияния, чуждые целям, во имя которых создан наш университет, проникли в эти священные для нас стены и отвлекли часть нашей молодежи от прямого дела: учиться самим и просвещать, возвеличивать наше отечество… Политика, — повторил ректор, — не дело студентов. Легкомыслие, порождаемое молодостью, может привести и приводит к опасным заблуждениям. Не этим, господа, повернем мы к лучшему жизнь нашего народа… Я буду краток: в связи с событиями, которые известны всем, призываю вас, уважаемые педагоги, почтенные наши профессора, и вас, господа студенты, подойти к этому столу и подписать адрес государю императору, выразив тем самым радость по поводу его чудесного спасения.
Андреевский умолк. Он ждал. Ждали и все сидевшие за зеленым столом. Но того, на что они рассчитывали, не произошло. Вместо грома оваций раздались жиденькие аплодисменты. Это белоподкладочники, инспектора, а также небольшая часть педагогов робко поддержали своего руководителя. Кое-кто начал подходить к столу. Но все это продолжалось недолго. Внезапно, точно по команде, в зале вспыхнули крики:
— Долой «Адрес»!
— Стыдитесь, Андреевский!
— Вам не выслужиться, царский холуй! И снова:
— Долой, долой…
Особенно дружно неслись голоса с галереи. Там собралось много студентов из Союза землячеств. Руководил ими Виктор Курнатовский. В зале поднялся невообразимый шум. Кое-кто запел гимн «Боже, царя храни!». Но крики в зале заглушили это пение. Бледный как полотно Андреевский продолжал стоять на кафедре. Он понимал, что его университетская карьера закончена. Сидевшие за зеленым столом переглядывались. На их лицах можно было без труда прочесть страх, недоумение, злобу. Многие студенты спешили выйти из зала. Начали подниматься и те, кто сидел за столом: попечитель округа, архиерей… От греха подальше… И это императорский университет!
А на хорах возбужденный Курнатовский говорил окружившим его товарищам:
— Выходить надо всем вместе! По лестнице спускаться бегом и тотчас смешаться с толпой у шинельной. Янис и Петр, — обратился он к Плиекшану и Стучке, — становитесь в середину. Вы ведь выпускники. И нельзя позволить им исключить вас. Скорей, друзья, скорей!
Студенты бросились вниз, сбивая с ног инспекторов, которые уже поджидали их на лестнице. Молодежь, находившаяся в шинельной, расступилась перед лавиной бегущих. В этом круговороте все мгновенно смешалось. Но кое-кого наметанные глаза инспекторов заметили.
— Вот этот, — пробираясь к выходу, зашептал на ухо жандармскому ротмистру инспектор, похожий на облезшую лису, и указал на Курнатовского.
Ротмистр подал знак городовым. Те поняли его без слов и ждали.
На плечо Курнатовского опустилась чья-то рука. Виктор оглянулся и тут же облегченно вздохнул.
— Это ты, Янис.
— Я хочу, — прошептал тот, — поблагодарить и за себя и за Стучку. Но поберегись сам. Мне кажется, тебя заметили…
И действительно, в дверях, когда Курнатовский хотел выйти из здания, уже другая, отнюдь не дружеская рука схватила его за рукав шинели.
— Ваша фамилия, господин студент?
— Зачем это вам?
— Вы задержаны, господин Курнатовский, — обратился к нему подоспевший на помощь городовому жандармский ротмистр. — Можете не трудиться предъявлять свое удостоверение…
Вот и улица. Городовой подозвал свободного извозчика.
— Не для меня ли это? — усмехнулся Виктор. — Что ж, хоть в полицейский участок проедусь в экипаже.
В темном сыром карцере при полицейском участке он провел вечер, ночь и все утро следующего дня. Пожилой жандармский офицер с доброжелательным лицом долго и почти ласково беседовал с упорствующим студентом.
И не стыдно вам, молодой человек. Ведь вы потомственный дворянин. Я имел честь лично знать вашего батюшку — приходилось бывать в Риге. Назовите, мой друг, ваших товарищей, и мы выпустим вас немедленно. Тогда все обойдется благополучно.
А запирательство, предупреждаю, не сулит вам ничего хорошего…
Виктор отвечал односложно:
— Ничего не знаю. Никого не могу назвать, началась сутолока, все кричали, и я кричал, что кричал — даже и не помню.
Жандарм понимающе посмотрел на него и подумал: «Н-да, штучка…»
В полдень Виктора выпустили из участка до решения дела, взяв с него подписку о невыезде из Петербурга. Однако он уже чувствовал, что в столице пробудет недолго. Решение состоялось через несколько дней.
В канцелярии университета ему вручили документ, где говорилось, что он исключается без права поступления в другие высшие учебные заведения России. Получил он также и предписание полиции, в котором ему предлагалось в пятидневный срок покинуть Петербург.
Что скажут дома? Ведь за его обучение в университете платили немало денег из мизерной пенсии, получаемой мачехой за отца. Она, братья и сестры отказывали себе во всем, чтобы дать ему образование. Но мог ли он поступить иначе, будучи честным человеком? Мог ли участвовать в издевательстве над товарищами, которых, быть может, ждет петля? Подписать холопский адрес царю-палачу!
С такими мыслями он шел из полицейского участка, когда его кто-то окликнул:
— Виктор!
Курчатовский обернулся и снова увидел неразлучных Плиекшана и Стучку.
— Не горюй, Виктор, — заговорил Янис, — делу можно помочь. Отправляйся поскорее в нашу добрую старую Ригу. Оттуда поезжай в Дуббельн. Есть там один великолепный полицмейстер. Десять-двадцать рублей, и свидетельство о благонадежности будет у тебя в кармане. А с этим документом ты поступишь в любой университет, кроме Петербургского конечно.
— Документик, что и говорить, унизительный даже с точки зрения римского права, — заметил Стучка. — Но что поделаешь: рабский строй — рабские порядки!
— Сразу виден будущий юрист, — рассмеялся Янис и, обернувшись, не подслушивают ли их, продолжал: — Ты, Петр, будешь когда-нибудь заседать в революционном трибунале и будешь судить царей и богатеев за все их прегрешения.
— А что ты думаешь, — ответил Стучка, — так оно и будет.
— Так как насчет Риги, Виктор? — вновь обратился к Курнатовскому Янис.
— Поеду и в Ригу и в Дуббельн…
— Тогда услуга за услугу: возьмешься выполнить одно наше поручение? Побывай в Рижском политехникуме. Там есть кое-кто из нашей гимназии. На днях мы получили письмо. В политехникуме намерены создать социалистический кружок, но не знают, с чего начать. Поможешь?
— И ты еще спрашиваешь! — воскликнул Курнатовский.
Вышли на Невский, свернули в переулок, в другой. Стучка все время шел чуть поодаль, охраняя собеседников.
Дом Финляндского в Стрелецком переулке возле Патриарших прудов был хорошо известен многим московским студентам. Он славился не красотой своей архитектуры, не комфортом и удобствами, а тем, что здесь можно было получить дешевую комнату, снять угол или даже только койку. Кроме того, дом находился сравнительно недалеко от университета: пройдешь по Малой Бронной, потом по Никитской, и вот он, самый старый русский университет, основанный Ломоносовым.
Патриаршие пруды и окружавшие их переулки были в те времена Латинским кварталом Москвы. Здесь жили неимущие студенты. В занимаемых ими домах редко топились печи, еще реже готовилась горячая еда. Студенты обедали в дешевых кухмистерских — маленьких ресторанчиках или же перебивались всухомятку. Эти юные жильцы вечно были в долгу у домохозяев. Все зависело от того, сколько присылали родные из дому, удавалось ли раздобыть частный урок.
Курнатовский приехал в Москву в августе. В кармане у него лежало свидетельство о благонадежности. Правда, дуббельнский полицмейстер взял с него больше, чем предполагал Райнис, но зато не докучал расспросами. Он дал понять, что его вполне удовлетворяет копия бумаги о смерти врача Малоярославского полка Курнатовского, потомственного дворянина, считавшегося верным слугой царя и отечества.
В Риге Виктор выполнил все, о чем его просили Райнис и Стучка: он создал кружок в политехникуме.
В Москве также быстро удалось устроиться. Экзаменовавшийся вместе с ним Кашинский порекомендовал поселиться у Финляндского. Жизнь улыбалась! Юность ведь так невзыскательна. С Кашинским Виктор познакомился в университетском коридоре, когда они оба ждали очереди, чтобы подать прошение на естественный факультет. Взглянув на свидетельство о благонадежности, Кашинский усмехнулся и понимающе заметил:
— С таким аттестатом, коллега, можно попасть и в рай!
Виктор в тон ему задал вопрос:
— А чем вы запаслись?
— У меня не хуже, — ответил Кашинский и показал ему выданное каким-то священником свидетельство, в котором подтверждалось, что Кашинский выполняет церковные обряды.
— Ну, значит, и вам быть в раю! — сказал Курнатовский, и оба рассмеялись.
Кашинский и Курнатовский быстро сдружились. Они часто встречались, гуляли, посещали Кремль и художественную галерею Третьякова.
Беседа о «Былом и думах» Герцена навела новых приятелей на мысль побывать, на Воробьевых горах. По Арбату до шумного Смоленского рынка они дошли пешком. Наняли за гривенник полуразвалившуюся пролетку и поехали вдоль берега реки. Дорога лежала мимо лавок, трактиров, маленьких деревянных домишек, утопавших в кустах сирени: ни деревня, ни город. На Воробьевых горах они долго простояли на том месте, где когда-то Герцен и Огарев поклялись посвятить всю свою жизнь борьбе за свободу. Смотрели на огромный город с его золотыми куполами.
Курнатовский давно уже не переживал такого духовного подъема, как в эту осень 1888 года. Порою ему казалось, что он и не покидал Петербургского университета — в Москве студенты жили теми же чувствами и настроениями. Скоро наладилась связь с Петербургом. Оттуда Виктор и Кашинский начали случать марксистскую литературу. Распространяли они ее с большой осторожностью, внимательно приглядываясь к окружавшей их молодежи, передавая запрещенные книги и брошюры только самым надежным.
К зиме Курнатовский и Кашинский создали в Московском университете довольно крупный марксистский социал-демократический кружок. Этот кружок с первых же месяцев своего существования стал оказывать воздействие на другие революционные кружки, организованные народниками различных толков. Иногда это были смешанные кружки, которые объединяли и народников и марксистов. Иногда — только марксистские, но последних было еще немного. Приходилось объединять усилия всех выступавших против царизма, пользоваться общими тайными явками, шифрами, типографиями. В итоге такой совместной деятельности в Москве возник Революционный Красный Крест — полулегальная организация, которая собирала средства в помощь политическим заключенным, ссыльным и их семьям. Виктор Курнатовский являлся душой этого нового дела. Его работа в Красном Кресте сильно подняла престиж немногочисленных московских социал-демократов в глазах прогрессивной части московского общества.
Действовали революционеры, но не дремал и департамент полиции. Обширная переписка Курнатовского со студентами Петербурга и Риги привлекла внимание полиции. За Виктором и его друзьями установили негласное наблюдение.
В один из зимних вечеров — в доме Финляндского, в комнатке, которую занимал Курнатовский, коротали время несколько студентов. Они сидели, закутавшись в одеяла, — было холодно, точно в леднике.
— Финляндский хочет выморозить всех должников, — проворчал кто-то.
Как всегда, на помощь пришла коллективная изобретательность: Кашинский вымолил у неравнодушной к нему кухарки самовар, у двоих из студентов оказались черствые сдобные бублики. Виктор выложил последний запас сахара.
В это время кто-то постучал. Дверь открыл Кашинский. На пороге стоял незнакомый студент с большим чемоданом в руках.
— Здесь ли живут земляки? — спросил он.
— Земляки отсюда не уезжали, — ответил Кашинский.
Это был пароль, известный петербуржцам и москвичам. Кашинский взял у приезжего чемодан и засунул его под кровать.
— Ребята у нас собираются хорошие, — сказал Кашинский, выведя студента в коридор, — но мы не всех достаточно знаем. Поэтому лишних разговоров вести не следует. Я представлю вас как своего старого друга. Как, кстати, вас зовут?
— Владимиром, — отвечал тот, — и запомните, что я встречался с вами у моей тетки, когда она жила в Москве. — Петербуржец весело подмигнул Кашинскому.
Они возвратились в комнату. Посыпались вопросы: как и чем живет столица? Закончив чаепитие, разошлись: раз к Кашинскому и Курнатовскому приехал знакомый, надо дать им поговорить…
Владимир сообщил, что он прибыл прямо с Николаевского вокзала. По дороге за ним, кажется, никто не следил. Однако долго он здесь не останется. Таковы были неписаные правила революционной конспирации. Вытащив из-под кровати свой чемодан, Владимир передал москвичам большой сверток, завернутый в мешковину.
— Поскорее раздайте, как бы все-таки чего не вышло. — И, попрощавшись с Кашинским и Курнатовским, он исчез.
После его ухода друзья немедленно развернули посылку. Первое, на что они наткнулись, были репродукции с картин Рафаэля, Веласкеса, Мурильо; дальше лежали носовые платки, пара простынь, и лишь под ними они нашли книги: Плеханова «Наши разногласия», о которой много говорили в Москве, «Социализм и политическая борьба» Энгельса… Курнатовский и Кашинский тотчас углубились в чтение и оторвались от новых книг только тогда, когда лампа начала чадить. Пора было ложиться спать. Виктор вновь завернул книги в мешковину, сверху положил гравюры, обернув их в белье. Сверток с литературой он спрятал под подушку. Кашинский ушел. Он жил в соседней комнате.
Едва Виктор успел улечься в холодную постель, как послышался стук в парадную дверь. Сначала стучали сравнительно тихо, потом все сильнее, настойчивее.
«Полиция! — мелькнуло в сознании Виктора. — Что же делать?»
Студенты не торопились открывать двери: во-первых, никому не хотелось в такой холод вставать с постелей, во-вторых — если это полиция, а обыски случались довольно часто, нужно было оттянуть время и помочь тем, у кого хранилась нелегальная литература.
Виктор действовал стремительно. Окно в его комнате не было замазано. Он сунул сверток с литературой за раму, забросал его снегом и постучал в стенку Кашинскому. Тотчас получил ответ, понял, что друг его начеку, и снова юркнул в постель.
Наконец кто-то открыл городовым двери, послышались топот, голоса. Вот постучали и к нему. В комнату ввалились дворник, заспанный Финляндский и несколько городовых. Курнатовскому предложили встать, зажечь лампу. Он ответил, что, к сожалению, в лампе нет керосина. Городовые, дождавшись, пока Финляндский принес свечу, начали шарить по всем углам. Нашли сверток с гравюрами. Руководивший обыском вахмистр начал их рассматривать, и на лице его появилось выражение крайнего изумления.
— Хороша… Хороша… — сказал он, глядя на изображение Мадонны Рафаэля. — Однако баловник вы, господин студент. Где только такую красотку откопали…
Курнатовский рассмеялся.
— Да ведь это Мадонна, божья матерь, написанная итальянским художником Рафаэлем.
— Как же так, — возмутился полицейский, — вы что, смеяться надо мной изволите? — Но, разыскав на гравюре указание о том, что она выпущена печатным двором Санкт-Петербурга, он мог лишь сказать: — Попадись этот Рафаэль нашему московскому благочинному, он бы его, верьте слову, в Соловки отправил.
Перелистав «Основы химии» Менделеева и ряд других учебников и найдя среди них катехизис, вахмистр успокоился.
— Похвально, господин студент, — удовлетворенно заметил он, — что читаете божественные книги. Это теперь среди вашего брата не часто встретишь.
— Для экзамена в университете требовали, — ответил продолжавший приветливо улыбаться Виктор.
Окна полицейские не открывали. Обыск кончился через десять-пятнадцать минут. Когда полицейские, дворник и домохозяин вышли из комнаты, Виктор торопливо прикрыл дверь, прильнул к стеклу и обмер: свертка не было. Трудно себе представить, что пережил он, пока не захлопнулась парадная дверь в доме Финляндского и не затихли шаги городовых… В этот же момент к нему в комнату без стука вошел Кашинский. В руках он держал заветный сверток.
— Я перетащил его к себе. У меня ведь раньше кончили обыск. По скрипу оконной рамы я догадался, куда ты спрятал книги.
Наутро литературу решили раздать в университете и в Петровской сельскохозяйственной академии, где работали надежные, крепко спаянные революционные кружки.
В это утро занятия на естественном факультете начинались с лекции профессора Тимирязева. Это было одно из последних его выступлений по так называемой дарвиновской серии. Климент Аркадьевич позднее объединил эти лекции в своей замечательной книге «Чарльз Дарвин и его учение». Лекции Тимирязева всегда привлекали много слушателей. В аудитории, где он читал, как говорится, яблоку негде было упасть. Заняли не только все места, но и в проходах между скамьями стояли студенты. Курнатовский и Кашинский быстро роздали часть принесенной ими литературы. Некоторым товарищам поручили немедленно разнести ее по адресам. И, как ни жаль, пришлось покинуть лекцию Тимирязева, — многие ушли из университета, унося с собой книги и брошюры, прибывшие из Петербурга.
И Курнатовский и Кашинский прекрасно понимали, что ночной обыск, произведенный у них, не случайность. Видимо, полиция кое-что узнала. Следовательно, можно ждать обыска на Моховой, в самом университете, полицейские теперь часто заглядывали сюда. Во всех центрах России, где находились высшие учебные заведения, именно в это время вспыхнули протесты против введения нового реакционного устава, который ликвидировал те немногие права, которыми пользовались студенты по сравнительно либеральному уставу 1863 года. Эти права отбирались исподволь, но настойчиво и методично: то отменят студенческие товарищеские суды, то так называемую университетскую автономию. В высших учебных заведениях вменялось в обязанность посещать церковь для исповеди и причастия. А что такое в действительности была «тайна исповеди», хорошо знали и студенты, и священники, и… охранка.
Курнатовский и Кашинский не ошиблись: в университете появилась полиция. Тимирязев еще стоял на кафедре, когда ему передали записку. Он прочел ее и нахмурился.
— Господа студенты, — обратился он к аудитории. — Боюсь, что я не смогу закончить лекцию. Впрочем, все основное о Дарвине мною сказано. Я хотел поделиться с вами своими воспоминаниями о встрече с этим замечательным человеком, о тех теплых чувствах, которые он питал к русскому народу. Но в университет пожаловала полиция, и это, несомненно, отвлечет и мое и ваше внимание. Прошу извинить меня и на этом закончить.
Аудитория, переполненная молодежью, стоя аплодировала Тимирязеву. Студенты благодарили любимого профессора и за блестящую лекцию и за то, что он как бы предупредил: будьте начеку — враг на пороге!
Курнатовский переглянулся с Кашинским: как быть? У них еще осталось несколько книг и брошюр. Попадись эта литература в руки полиции — горя не оберешься.
— Рядом профессорская, — шепнул Курнатовский. — Давай попытаемся…
Они быстро вышли из аудитории и почти бегом направились в профессорскую. Там они увидели Тимирязева, который укладывал бумаги в портфель. Кашинский стал у двери, а Курнатовский стремительно подошел к Тимирязеву.
— Климент Аркадьевич, — взволнованно сказал Виктор, — мы знаем вас как защитника и друга. Если полицейские найдут этот сверток, некоторым из ваших учеников грозит тюрьма…
— Вы хотите, — сказал Тимирязев, — чтобы я унес его в своем портфеле?
— Мы просим, просим вас, Климент Аркадьевич.
— А что там: гремучая ртуть, нитроглицерин? — с улыбкой спросил Тимирязев.
— О, значительно сильнее! — возразил Курнатовский. — Маркс, Плеханов!
Тимирязев рассмеялся.
— Старые знакомые! — и, уложив литературу в портфель, уже на ходу, направляясь к двери, сказал Курнатовскому: — Пришлите завтра надежного человека в Петровскую академию. После трех я буду работать в теплице.
Он пошел, провожаемый влюбленными взглядами Курнатовского и Кашинского. Гордо подняв голову, профессор миновал полицейский заслон: во избежание скандала профессоров и преподавателей не обыскивали.
Минуло несколько дней. Революционные прокламации, брошюры появились у ткачей Трехгорной мануфактуры, на красильных и мебельных фабриках, у железнодорожников и печатников.
Социал-демократическая организация Московского университета с каждым днем становилась активнее. В Москве ждали Бруснева, видного петербургского социал-демократа. Курнатовский и Кашинский решили тотчас же после приезда Бруснева создать в Москве крупную социал-демократическую организацию, чтобы охватить другие учебные заведения, а также вовлечь в нее рабочих.
Но не дремала и полиция. Между департаментом полиции в Петербурге и московским обер-полицмейстером шла усиленная переписка. Начиная с января 1889 года интерес к личности Виктора Курнатовского со стороны жандармов и агентов охранного отделения настолько усилился, что донесения о каждом его шаге отправлялись из Москвы в Петербург по два-три раза в неделю. Даже его увлечение химией рассматривалось как нечто связанное с антиправительственной деятельностью. Из Москвы писали в Петербург, что студент Курнатовский, видимо, готовит бомбы для террористических актов.
И тогда, это было 20 марта 1889 года, из Петербурга пришел лаконичный приказ обыскать и арестовать.
Виктор не ожидал, что развязка наступит так скоро, хотя и чувствовал, что за ним следят.
Как-то вечером, после лекций, он сидел у себя дома. Примостившись у стола, заставленного химической посудой, Виктор читал книгу Менделеева. Стояла непривычная тишина — все куда-то разбрелись.
Виктор задумался, перечитывая несколько раз слова Менделеева: «…убежденный в том, что исследование урана… приведет еще к новым открытиям, я смело рекомендую тем, кто ищет предметов для новых исследований, особенно тщательно заняться урановыми соединениями…»
И вдруг — стук в дверь. Он умел распознавать этот стук среди множества других: властный, повелительный.
— Откройте, Виктор Константинович, к вам опять пожаловала полиция, — послышался голос Финляндского.
Дверь комнаты была заперта на ключ. Виктор воспользовался этим и мгновенно сжег несколько крохотных листков бумаги с адресами, шифрами, явками.
— Сейчас, сейчас открою…
И вдруг ребячливая улыбка появилась на его лице: развлекусь напоследок. Он взял один из лежавших на столе пакетиков и направился к двери. На пороге стоял знакомый ему вахмистр, тот самый, который собирался отправить в Соловки Рафаэля. А за его спиной — человек пять-шесть полицейских.
— Господин вахмистр, — воскликнул Курнатовский, — не входите, пока я не закончу опыта! Иначе я ни за что не отвечаю.
Но полицейские рвались в дверь. Тогда Курнатовский быстро высыпал из пакетика белый порошок. Раздался треск. Вспышка… Полицейских точно вымело из комнаты.
— Я же предупреждал вас, господа, — сказал, едва сдерживая смех, Курнатовский.
— Побойтесь бога, господин студент, — прохрипел откуда-то из темноты коридора вахмистр. — Здесь дети живут, женщины…
— Я просил, — снова властно сказал Курчатовский, — не входить без разрешения в комнату. Пусть пока сюда войдет господин Финляндский, а вас прошу подождать несколько минут. Тем более, — снова обратился он к вахмистру, — что вам видно все, что я делаю. И, кстати, ничего незаконного я не собираюсь делать, успокойтесь.
Финляндский с некоторым опасением вошел в комнату.
— Да не бойтесь, — тихо шепнул ему Виктор.
Он достал деньги и расплатился с хозяином за комнату. Вынул из-под постели чемодан, уложил в него вещи и книги и попросил Финляндского отослать все сестре, которой он напишет.
А химическую посуду прошу вас передать соседям-студентам. Хорошо, если бы они ее продали, а деньги переслали мне в тюрьму. Там деньги тоже нужны. — После этих слов Курнатовский жестом пригласил полицейских войти.
— Плохо вы кончите, господин студент, — сказал ему вахмистр. — Мое начальство не зря считает вас опасным человеком. И божественные книги, как видно, вам впрок не пошли.
— Бомбы ищете, бомб боитесь? — спросил, глядя на него с улыбкой, Курнатовский. — Народа надо бояться. Всех в тюрьму не пересажаете. Придет время, когда и вы все поймете это…
Глубокой ночью, окруженный конвоем, он шагал по тихим переулкам уснувшей Москвы. В эту ночь началась новая жизнь, жизнь революционера-профессионала.
Далекий север России. По календарю июнь, а в лесах кое-где лежит почерневший снег: здесь в Шенкурске, крохотном городке, затерянном среди лесов и болот Архангельской губернии, должен отбыть Курнатовский три года ссылки.
В процессе следствия безнадежно провалились обвинения в принадлежности Курнатовского к революционной народнической террористической организации. Виктор был очень доволен своим поведением во время допроса: ему удалось отвлечь внимание охранки от социал-демократического кружка Московского университета. Он не назвал ни одной фамилии, не подтвердил ни одного факта, который мог скомпрометировать его или его товарищей. От первоначального обвинения в подготовке террористических актов ничего не осталось. Это прекрасно поняли те, кто стремился отправить его на каторгу. Ему вменили в вину участие в сборе средств для помощи политическим заключенным, припомнили старые петербургские и рижские связи. Но все это выглядело скорее мальчишеством, чем преступлением. Материалов для судебного процесса не оказалось, и тогда по решению так называемого особого совещания, созданного царским правительством для внесудебных расправ с революционерами, против которых полиция не могла собрать достаточных улик, его направили в Шенкурск, в ссылку.
Городок мало чем отличался от большого села. На высоком правом берегу реки Ваги раскинулось около двухсот деревянных домов и несколько каменных строений. Достопримечательностью города был Троицкий женский монастырь. Он же являлся и главным украшением Шенкурска. Большой ручей — приток Ваги — делил город на две части. Немощеные улицы, тротуары, сбитые из нестроганого теса, грязные казенки, трактиры, лавки, тюрьма и ни одного промышленного предприятия. Таков был этот город, стоявший в стороне от больших дорог, затерявшийся в лесной глуши Северной России.
Но Шенкурск нельзя было назвать в полном смысле захолустьем. Бывали места и похуже. В Шенкурском уезде работали сотни маленьких кустарных смолокурен, мельниц, лесопилок. Шенкурские купцы бойко торговали дегтем, скипидаром, лесом, соленой и копченой рыбой. Еженедельно в городе устраивались базары, а раз в году — большая Сретенская ярмарка. Так и жили от ярмарки до ярмарки, которая являлась самым главным событием. По деревням постоянно сновали скупщики-заготовители, купеческие приказчики, которые за гроши скупали у крестьян все, что только можно было купить.
В этом городе государеву службу несли чиновники, попавшие на Север главным образом за казнокрадство. Они охотно роднились с семьями местного купечества и снова начинали брать взятки, но теперь уже безнаказанно. Каждый купец, каждый предприниматель знал, что без узаконенной подачки чиновнику ничего не продашь. Вот и платили дань. Попойки, картежная игра, входившее тогда в моду лото были главным развлечением местного общества. Сплетничали, пили, обкрадывали друг друга, вымогали, дрались — так и жили в городе, именуемом Шенкурск.
Маленькая колония политических ссыльных, состоявшая из десяти-двенадцати народников и трех-четырех марксистов, жила обособленной жизнью, но тоже невесело. Народники и марксисты часто спорили между собой по тем основным вопросам, которые разделяли оба революционных течения, существовавших в России. Споры принимали иногда такую острую форму, что участники неделями ходили по разным тротуарам, встречаясь, не раскланивались друг с другом и доставляли этим удовольствие полицмейстеру и его подручным.
Однако бывали в жизни шенкурской колонии моменты, когда и марксистам и народникам приходилось объединяться для защиты своих гражданских интересов. Самодурство шенкурской администрации не знало пределов. Всякая жалоба, где говорилось о бесчинстве местных властей, направленная в Петербург или к архангельскому генерал-губернатору, либо перехватывалась в самом Шенкурске почтовыми чиновниками, либо оставлялась без последствий высшими инстанциями.
Не успел Курнатовский поселиться в Шенкурске и перезнакомиться со ссыльными, среди которых встретил двух единомышленников-марксистов — Машицкого и Ворпеховского, как к нему явился исправник. Он принес предписание, по которому ссыльным запрещалось во время прогулок переходить установленную для них в трех верстах от города границу.
— Распишитесь, господин Курнатовский, что читали, ознакомились, поняли.
— И не подумаю, — вспылил Курнатовский. — Вашу черту произвола соблюдать не собираюсь.
— Как вам угодно, — ответил исправник, — но если вздумаете перейти установленную границу, мы отправим вас в тюрьму вместе с ворами и бродягами.
— Ну и сажайте, а подписывать этой дурацкой и совершенно незаконной бумаги я не собираюсь.
Исправник ушел от него обозленный, а Курнатовский тотчас встретился с Машицким и Ворпеховским.
— Так что будем делать, товарищи, подчинимся, угодливо склоним головы перед урядником?
Тут же решили собрать совещание всех ссыльных. Народники, услыхав о том, что предстоит поссориться с начальством, замялись. Глава народников Водовозов долго ораторствовал о бесплодности коллективного протеста. И, наконец, предложил:
— Давайте бросим жребий, кому из нас расправиться с одним из шенкурских самодуров. Только это на них подействует…
Машицкий подтолкнул Курнатовского и шепнул:
— Не возражайте. Вы увидите, сколько храбрости у друзей Водовозова.
И действительно, народники один за другим стали выступать против плана Водовозова: «Ну, стоит ли жертвовать жизнью одного из товарищей за убийство шенкурского полицмейстера или исправника? Вот если бы убить архангельского губернатора…»
И Курнатовский и его товарищи прекрасно понимали, что все это пустая болтовня. В конце концов сами народники пришли к мысли, что коллективный протест в данном случае наиболее подходящая форма борьбы.
— Тогда, — сказал Курнатовский, — давайте точно назначим день и все вместе перейдем установленную для прогулок границу.
День был назначен. Как только солнце согрело землю, двинулись в путь, но, дойдя до границы, народники начали юлить: захотелось отдохнуть… Улеглись на землю, прошло полчаса… час…
— Что же, — сказал, наконец, Машицкий, — пора и в путь. Надо пройти еще верст пять-шесть.
— А, собственно, в каких целях нужно тащиться куда-то? — заявил Водовозов.
— Но ведь это ребячество! — вспылил Курнатовский. — Сидя здесь, мы можем сказать, что не нарушили правила, установленного этими негодяями, да и они сами не подумают подымать дела — так им удобнее.
— Но дальше мы, народники, — заявил Водовозов, — не пойдем.
Тогда Курнатовский и Машицкий (их третий товарищ — Ворпеховский, был болен) встали и двинулись дальше. Они долго гуляли и в город возвратились поздно вечером. А три дня спустя предстали перед шенкурским судом — их осудили на три месяца пребывания в тюрьме. Судья не преминул заявить, что столь мягкий приговор он выносит, принимая во внимание молодость и житейскую неопытность обвиняемых. А мог бы сослать в каторжные работы за сопротивление приказу властей.
Курнатовский и Машицкий обжаловали приговор в Петербургскую судебную палату. На этот раз ответ пришел необычайно быстро: решение суда оставить в силе.
Их поместили в грязную камеру шенкурского острога. Вместе с ними отбывали наказание несколько воров и конокрадов. Но сидели здесь и рабочие с лесопилок. Обитатели камеры встретили политических дружелюбно. Молодые социал-демократы не теряли времени даром: не умеющих писать и читать обучали грамоте, исподволь рассказывали об отношениях рабочих и хозяев, о том, кто такие капиталисты и пролетарии. Все было бы терпимо, но из-за тюремной сырости болезнь Курнатовского обострилась. Он начал быстро глохнуть и впал в обычное в такие периоды мрачное настроение. Начались сильные головные боли. Виктору казалось, что слух к нему уже никогда не вернется.
Кому нужен революционер, лишенный слуха, какую пользу принесет он делу?
Машицкий решил вывести своего друга из состояния отчаянной подавленности, и так как никакие увещевания на Курнатовского не действовали, Машицкий решил:
— Здесь нужна какая-то встряска!
Однажды ночью Машицкий вскочил на свою койку и на всю тюрьму закричал: «Караул!» Сбежались все: и начальник тюрьмы и надзиратели. С коек повскакали арестанты.
— Что с тобой случилось? — спросил выведенный из оцепенения Курнатовский.
— Случилось не со мной, а с тобой, — ответил Машицкий, наклонившись к самому его уху. — Всякий раз, когда ты, Виктор, начнешь хандрить или просиживать ночи без сна на койке, я буду кричать «караул».
Курнатовский рассмеялся. Смеялись и все собравшиеся. Даже начальник тюрьмы ушел из камеры, милостиво улыбаясь. С этого дня Курнатовский стал чувствовать себя легче.
Когда он вместе с Машицким покинул тюрьму, на Улицах Шенкурска уже лежал снег.
Зима пролетела быстро: Курчатовский много занимался, читал. К большой радости ссыльных, через Архангельск наладилось поступление нелегальной литературы. Городские власти оставили политических в покое: не до того — кутили и бесчинствовали с купечеством.
Но вскоре этот зыбкий покой нарушила запоздалая, но тяжелая весть, которая пришла из далекого Якутска. Группа ссыльных революционеров, протестуя против отправки без теплой одежды в самые северные, холодные районы, заперлась в одном из домов Якутска. По приказу местных властей солдаты якутского гарнизона осадили дом. Среди политических ссыльных были убитые, тяжело раненные, а некоторых казнили по приговору военного суда за сопротивление власти. Прав оказался шенкурский судья, говоривший о «мягком» приговоре. Распоясавшиеся царские охранники по своему произволу чинили суд и расправу над неповинными людьми. Якутское дело не осталось незамеченным. По всей России прокатилась волна протестов против якутской бойни. Много писали об этом деле и в зарубежной печати.
В Якутске пострадали главным образом революционные народники. Но против произвола царских слуг выступили все честные борцы с царизмом, независимо от их политических взглядов. Колония шенкурских политических ссыльных собралась на этот раз в полном составе. Исчезло недружелюбие, порожденное летним происшествием. Кто-то из народников предложил: двоим или троим ссыльным бежать, добраться до Якутска и убить губернатора Осташкова, главного виновника кровавой бойни.
— Я сделаю это, — неожиданно для всех сказал Курнатовский.
Народники так и ахнули: противник индивидуального террора, марксист и вдруг…
— Да, я, — подтвердил Курнатовский. — Есть преступления, которые нельзя прощать. Осташкова надо казнить.
И он начал готовиться к побегу. Но задуманному не суждено было осуществиться: шенкурские ссыльные получили известие о том, что для приведения в исполнение смертного приговора над Осташковым в Якутск уже выехала группа революционеров, отбывавших ссылку неподалеку от этого города. Следом пришла весть об отставке Осташкова. Он буквально бежал из Якутска. Якутская бойня вылилась в слишком большой политический скандал, и царь поспешил замять всю эту историю.
Тянулись месяцы шенкурской ссылки… Курнатовский и его товарищи не долго ладили с народниками: они не могли простить им терпимого отношения к безобразиям, творимым шенкурским начальством. И все же марксистам довелось дать народникам еще один урок революционной солидарности.
Однажды к дому, где жил Курнатовский, прибежал ссыльный народник. В этот день они провожали Водовозова. Окончился срок его ссылки.
— Во имя революционной солидарности, — заговорил посланец народников, еле переводя дух, — помогите! На переправе через Вагу скандал. Полиция не разрешает нам проводить Водовозова на другой берег реки. Что делать? Товарищи послали меня за вами.
Трое марксистов во главе с Курнатовским бросились бегом к переправе. Там они увидели полицейских, которые не пускали на паром друзей и знакомых Водовозова, пришедших проводить его.
Курнатовский, точно коршун, налетел на полицейских.
— По какому праву вы не пускаете людей проводить товарища? — закричал он. — Долго ли вы будете издеваться над нами?
Полицейские растерялись, а тут еще на них набросились Машицкий и Ворпеховский. В разгаре спора полицейские забыли о тех, кто пришел проводить Водовозова. Они воспользовались этим, перебрались на паром, сообща взялись за канат, и когда полицейские опомнились, паром находился чуть ли не на середине Ваги.
Через несколько недель в кармане Курнатовского лежал паспорт с перечислением городов Российской империи, где ему запрещалось жить. Хоть и урезанная, хоть и плохонькая, но все-таки это была свобода! Куда же ехать? Слежка за ним не прекращалась. И тогда он решил запутать следы, сбить своих преследователей с толку. Его искали в Петербурге, а он жил в селе Глухове, под Вышним Волочком, где временно поселилась его мачеха. От нее он умчался в Москву, где жили тогда Степановы. Там быстро получил явку в Воронеж и исчез, растворился в степных просторах России.
Друзья советовали ему временно покинуть родину, завершить образование и наладить связи с русскими социал-демократическими организациями за рубежом, в первую очередь — с плехановской группой «Освобождение труда». После долгих раздумий Курнатовский решил именно так и поступить. На юге России у революционных народников существовала хорошая подпольная типография, изготовлявшая документе для революционеров. Ее помог создать Алексей Николаевич Бах, живший в то время уже в Швейцарии. Этой типографией пользовались и марксисты. Здесь можно было найти бланки паспортов, выкраденные в полиции, штампы виз, различные штемпеля, печати.
Получив в Воронеже безукоризненный паспорт со всеми необходимыми визами для беспрепятственного выезда за границу, Курнатовский направился в Харьков, из Харькова — в Варшаву… А его искали в Москве, под Москвой. От Варшавы до границы рукой подать, и когда поезд миновал столб с двуглавым орлом, Виктор Константинович почувствовал, что ему больше нечего опасаться сыщиков и полицейских.
Цюрих, куда направил свой путь Курнатовский, был центром обширного промышленного района. В предместьях города, который живописно раскинулся по берегу озера, носившего то же название, дымились трубы машиностроительных заводов, химических предприятий, текстильных фабрик. Здесь зарождалась электропромышленность.
В 30-х годах XIX века в Цюрихе основали университет, в 50-х — политехнический институт. По тому времени это были первоклассные учебные заведения. Хороший состав профессуры, превосходно оборудованные лаборатории привлекали в стены этих учебных заведений молодежь из многих стран мира. К тому же Цюрих славился как большой культурный центр — много музеев, общедоступных библиотек. Да и жизнь в этом городе-труженике стоила значительно дешевле, чем в курортной Женеве, переполненной туристами, или в столице Швейцарии — чиновничьем Берне.
Рабочие Цюриха относились с большим сочувствием к революционерам-эмигрантам, среди которых встречалось немало русских. Первые социал-демократические организации Швейцарии появились именно в этом городе, где учение Маркса и Энгельса нашло благодатную почву. Если по всей Швейцарии соблюдалось право политического убежища и власти терпимо относились к эмигрантам, которые приносили доходы домовладельцам и торговцам, то в Цюрихе борцов за свободу, политических изгнанников окружало особенное участие: трудовое население Цюриха старалось чем могло облегчить судьбу людей, покинувших родину. К тому же здесь хорошо знали, что большинство политэмигрантов имеет очень скромные средства.
Покидая Россию, Курнатовский запасся несколькими рекомендательными письмами и адресами. По одному из таких адресов он и отправился, сойдя с поезда. Русский студент Цюрихского политехникума Скорняков встретил его приветливо, точно старого друга. Они проговорили до полуночи, а утром Скорняков пошел с Курнатовский подыскивать жилье поближе к политехникуму. На Зонненштрассе им попалась комнатка, которую сдавала старая фрау Шох. Плата оказалась вполне подходящей. Шох жила одиноко, работала на текстильной фабрике, дети ее давно разбрелись по свету в поисках счастья, муж умер несколько лет назад. Фрау Шох была не менее бедна, чем ее будущий постоялец. Вот почему она сдавала одну из двух маленьких занимаемых ею комнат. Дом принадлежал муниципалитету. И практически то, что хозяйка желала получить за комнату, равнялось плате, которую она сама вносила в муниципальную кассу Цюриха.
Первая зима в Швейцарии прошла сносно. При содействии Скорнякова и других политических эмигрантов Виктор Константинович поступил в политехнический институт и получил урок в одной богатой русской семье. Это было пределом мечтаний для каждого студента-эмигранта из России.
Со Скорняковым они встречались почти ежедневно. — Тут обстановка любопытная, — сказал ему уже в первые дни знакомства Скорняков. — Среди русских эмигрантов молодежь — все больше марксисты, среди стариков преобладают народники. Споров здесь множество, но озлобления нет. Молодые зачитывают до дыр книги Плеханова. Все — и молодежь и старики — поругивают нынешних народников, которые остались в России.
Споры о путях революционного развития, по которым пойдет дальше русский народ, велись в Руссише лезециммер — маленькой библиотеке-читальне. Книгами этой библиотеки пользовались и марксисты и народники. Вскоре Курнатовский стал не только завсегдатаем библиотеки, но и фактическим ее заведующим. Разумеется, работал он бесплатно. Средства на жизнь добывал уроками.
Мучило Виктора Константиновича то обстоятельство, что он не мог никак попасть в Женеву. Курнатовский мечтал увидеться с Плехановым и его товарищами из группы «Освобождение труда». Но занятия в институте и отсутствие денег на дорогу мешали ему съездить в Женеву. Однако через цюрихских марксистов ему все же удалось связаться с руководителями группы и по их поручению заняться организацией социал-демократических кружков среди русских студентов-эмигрантов. А когда в Женеве убедились, что имеют дело с образованным, серьезным и вполне надежным человеком, ему стали поручать транспортировку нелегальной литературы в Россию. Студенты политехнического института Кричевский и Теплов стали его помощниками в этой трудной работе.
Лишь по вечерам он отдыхал, забираясь в библиотеку. Нравы здесь царили поистине демократические. В центре комнаты на большом столе среди книг и журналов лежала старая коробка из-под сигар. Каждый посетитель оставлял в коробке (если ему удавалось раздобыть хоть немного денег) любую, какую он пожелает, сумму. Это не было абонементной платой. Коробка служила своеобразной кассой взаимопомощи. Нуждающийся брал сколько ему нужно, а заработав деньги или получив их от родных, возвращал «ссуду». Часто с процентами. И не было случая, чтобы кто-нибудь злоупотребил доверием товарищей, не возвратил долг.
В один из зимних вечеров, когда Курнатовский собирался закрывать читальню, дверь внезапно отворилась и на пороге появился человек в черном поношенном пальто. Посетитель неуверенно оглядел комнату, видимо, он сомневался — туда ли он попал. Вглядевшись в незнакомца, Курнатовский вдруг бросился к нему, обнял.
— Да не может быть! Откуда ты, Яковенко? Как попал в эти края?
Яковенко был товарищем Курнатовского по Петербургскому университету. Они вместе участвовали в протесте, организованном против нашумевшего адреса Андреевского. Но Яковенко избежал тогда " репрессий. Лишь позднее полиция докопалась до фактов, говоривших об участии Яковенко в этом деле и его конспиративных связях. И тогда Яковенко прошел тернистый путь, напоминавший усеянную мытарствами дорогу Курнатовского. С трудом выбравшись за границу, он решил завершить свое медицинское образование в Цюрихском университете. Вскоре Яковенко поступил на предпоследний курс медицинского факультета.
Нужно ли говорить, как счастлив был Яковенко, встретившись с Курнатовским, как был он ему благодарен за теплое, товарищеское участие.
Яковенко, наблюдательный человек и уже почти сформировавшийся врач, обратил внимание на странное поведение Курнатовского. «Почему Виктор часто переспрашивает слова? Почему он во время беседы прикладывает ладонь к уху? Почему он так замкнут?» Яковенко решил проверить возникшие у него опасения. Однажды он очень тихо задал Курнатовскому вопрос. Тот не ответил. Яковенко повторил вопрос чуть громче. Курнатовский переспросил его. Тогда Яковенко громко повторил тот же вопрос и настойчиво заговорил с приятелем:
— Ты что, стал плохо слышать? У тебя что-то неладное с ушами?
Курнатовский смутился. Он не любил жаловаться на свое недомогание.
— Да нет, это случайно, скоро пройдет. Но от Яковенко трудно было отделаться. Шаг за шагом он выведал у Курнатовского все о его болезни и узнал, что глухота то усиливается, то становится порой слабее, а иногда и совсем исчезает. Рассказ Виктора взволновал Яковенко. Среди преподавателей факультета он разыскал швейцарца-специалиста по ушным болезням, душевного человека, который согласился бесплатно осмотреть Курнатовского — ведь, собственно, отсутствие денег всегда мешало Виктору прибегнуть к медицинской помощи.
Доктор подтвердил основательность опасений Яковенко.
— Положение вашего друга действительно очень серьезно. Если болезнь не приостановить, он скоро совсем потеряет слух.
Но весной 1893 года Курнатовский неожиданно почувствовал себя значительно лучше. Глухота почти исчезла. Благодатный климат Швейцарии сделал свое. У Виктора изменилось настроение. Он много работал, не пропускал ни одной лекции, семинара.
— Химия нужна нам, революционерам, — говорил Курнатовский, — химические чернила для тайнописи, химические краски для мимеографов, изготовление взрывчатки для бойцов революционных баррикад.
1893 год был годом подъема не только в жизни Курнатовского, но и в жизни всего рабочего Цюриха. С наступлением весны сюда съехались многие деятели международного рабочего движения. Город готовился к очередному конгрессу II Интернационала. Проходили оживленные рабочие собрания. Политические деятели выступали перед рабочими с лекциями. Общественная жизнь била ключом.
Но именно в это время пришла весть, которая взволновала всех: президент США Кливленд готовился вместе с русским императором Александром III подписать трактат о взаимной выдаче преступников. Печать всего мира откровенно писала, что и Кливленд и Александр III, ведя переговоры, имеют в виду не только убийц, аферистов, взломщиков, но и политических противников русского царизма.
Обеспокоенные этим сообщением, русские эмигранты решили организовать митинг протеста. Вожди германской социал-демократии Август Бебель, Вильгельм Либкнехт и Пауль Зингер, которые находились тогда в Цюрихе, согласились принять участие в митинге. От группы «Освобождение труда» из Женевы приехали Аксельрод и Засулич. Назревало крупное политическое событие. И мальчишки, продавцы газет, с утра до позднего вечера оглашали улицы Цюриха криками:
— Купите «Нейе Цюрих цейтунг»! Сенсационное сообщение. Америка ведет переговоры с русским царем о выдаче политических эмигрантов! Готовится митинг протеста! Купите, купите газету!
На митинг пришли рабочие, студенты, швейцарские и немецкие социал-демократы, политические эмигранты, главным образом, конечно, русские.
Митинг был непродолжительным, но бурным. Тон задали ветераны германского рабочего движения — Либкнехт и Бебель. Выступали и другие ораторы. Среди них оказался и Курнатовский. Он недавно сам прошел через тюрьму и ссылку и мог, как очевидец, рассказать собравшимся о том, что творится в его несчастной стране, где царит произвол, где секут и вешают, гноят людей в тюрьмах и ссылках.
Когда Курнатовский спустился с трибуны, к нему подошел человек лет пятидесяти с очень привлекательным лицом.
— Пауль Зингер, — представился он и, взяв Курнатовского под руку, подвел его к Вере Ивановне Засулич. Познакомив их, он продолжал: — Вы прекрасно говорили. Немецкие рабочие — а я хорошо знаю их сердца и думы — на вашей стороне. Как депутат рейхстага сделаю все, чтобы у нас в Германии протест против этого гнусного трактата стал всеобщим.
Курнатовский впервые встретился с Зингером, но знал о нем давно. Ведь это он, Зингер, в разгар франко-прусской войны 1870 года открыто выступил против захвата полчищами кайзера Вильгельма 1 Эльзаса и Лотарингии. Немногие в тогдашней Германии, охваченной шовинистическим угаром, могли решиться на это!
Курнатовского и радовало и смущало знакомство с Зингером. А тут еще рядом сидела Засулич, имя которой было известно всей революционной России. Смущаясь, он с трудом вел беседу, отвечал невпопад. Однако очевидное расположение к нему новых знакомых ободрило Курнатовского, и он постепенно разговорился. Засулич обещала познакомить Виктора Константиновича с Плехановым.
— Георгий Валентинович, — сказала она, — слышал много хорошего о вашей работе.
В начале августа 1893 года Плеханов приехал в Цюрих на совещание представителей русских социал-демократов, проживавших за рубежом. Обычно сдержанный, Плеханов, знакомясь с Курнатовский, был приветлив, почти ласков с молодым человеком, наговорил ему много лестного. А такое с Плехановым случалось не часто. Георгий Валентинович подробно расспрашивал Курнатовского о возможностях распространения марксистской литературы в России. Внимательно выслушал он и отзыв Курнатовского о своей работе «Наши разногласия». Виктор Константинович искренне хвалил этот труд Плеханова, но заметил, что такого рода работу следовало бы дополнить примерами из русской жизни, тогда ее ценность, безусловно, возросла бы. Плеханов согласился с ним, сказав, что, к сожалению, материалов из России поступает очень мало. Прощаясь, он просил Курнатовского присылать критические замечания на все издания женевской типографии русских социал-демократов.
Спустя несколько дней Плеханов прислал Виктору Константиновичу билет на Цюрихский конгресс II Интернационала. А затем пришел тот незабываемый день, когда Виктор Курнатовский увидел Энгельса. Переполненный зал стоя встретил друга и сподвижника Маркса. Казалось, что овациям не будет конца. Никто тогда не предполагал, что это его последнее выступление перед посланцами рабочего класса всего мира.
Великий Энгельс, тяжело опираясь на край трибуны, поднял руку. Он просил тишины. Он был уже серьезно болен. Когда смолкли последние аплодисменты, в зале зазвучал, голос, который Курнатовский запомнил на всю жизнь.
Энгельс призывал всех истинных социалистов опираться на массовое рабочее движение. Именно в этом движении, в его развитии находился ключ к победе.
— Социалисты, если они, конечно, истинные социалисты, не должны забывать о конечной цели всего движения. Это завещал нам бессмертный Маркс…
Курнатовского точно подменили. Жизненные неурядицы, недоедания, болезнь — что все это по сравнению с той великой минутой, которую он только что пережил! Пусть снова тюрьма, каторга, пусть даже смерть, но до последнего своего часа он будет верен делу пролетариата. Он ушел с заседания конгресса, тоскуя по родине, думая о том, что ему необходимо как можно скорее вернуться туда и принять участие в разгоревшейся битве против царизма.
Последний год в Цюрихе тянулся томительно долго. Курнатовский окончил политехникум и работал в химической лаборатории одного из заводов. Он рвался домой, в Россию, но где взять денег на поездку? А между тем в Цюрих приходили все новые и новые вести о пробуждении российского пролетариата. Газеты сообщали о петербургской стачке ткачей, о том, как тридцать тысяч человек, доведенных до отчаяния нищетой и издевательствами хозяев, бросили работу. Однажды ему попалась прокламация, привезенная кем-то из Петербурга. Прокламацию выпустила неизвестная Курнатовскому организация — «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». Чья-то светлая голова, твердая, умелая рука направляли движение русской социал-демократии. Курнатовский сразу почувствовал это, прочитав листовку, где ясными, простыми словами говорилось о причинах бедственного положения рабочих и о том, как бороться с царем, с заводчиками. Вскоре пришли вести, что в Петербурге прокатилась волна арестов. Среди схваченных называли Владимира, брата казненного Александра Ульянова. Курнатовский уже слышал о младшем Ульянове в 1887 году после событий в Казанском университете — о них говорила вся студенческая молодежь. Неужели это он? Неужели «Союз борьбы за освобождение рабочего класса» также дело его рук?
Под влиянием петербургских событий Курчатовский написал брошюру «Рабочий день». Она многим понравилась. Теплый отзыв прислал и Плеханов. В 1897 году брошюру отпечатала женевская типография Союза русских социал-демократов и тайно переправила ее в Россию.
Гонорар за брошюру, небольшие сбережения… Теперь у него есть деньги. Он может вернуться на родину. Из Женевы пришло согласие на его отъезд. Вскоре удалось получить паспорт и необходимые визы. Напутствуемый добрыми пожеланиями друзей, он сел в поезд, который шел на восток.
Конец апреля 1897 года. Алмазными искрами сверкают лучи солнца. отражаясь в снежных вершинах Альп. Склоны гор покрылись изумрудной зеленью, запестрели цветами парки и улицы чистеньких швейцарских курортных городков. Но Курнатовского не трогали сейчас красоты природы. Стоя у окна вагона, он думал о другом: все его мысли сосредоточивались на одной крохотной географической точке — русской пограничной станции Вержболово. Только бы проскочить благополучно, а там…
Прошло четыре года с того дня, когда он выступал на митинге протеста, направленного против американо-русского трактата. Если бы тогда он не увлекся беседой с Зингером и Засулич, то, может, и заметил бы, как пристально поглядывал на него один человек, сидевший в зале. По временам он что-то записывал на листке бумаги. Может быть, речи ораторов? Да, речи интересовали его. Но еще больше привлекали его внимание люди, которые их произносили, особенно русские политические эмигранты. Человек этот приехал из Карлсруэ. Он называл себя русским студентом-эмигрантом. Фамилия? У него их было столько, что всех не запомнишь. В Цюрихе «студент» старался войти в доверие к русским (как-никак соотечественник). Иногда он куда-то исчезал, потом вновь появлялся. К нему постепенно привыкли. Кто тогда мог разгадать, что Евно Азеф — один из опытнейших агентов русской охранки. Шпион и провокатор, ставший со временем во главе русской политической партии социалистов-революционеров, руководителем ее боевой террористической организации, Евно Азеф на протяжении долгих пятнадцати лет (с 1893 по 1908 годы) творил черное дело.
Охранное отделение с апреля 1893 года начало получать от Азефа самые исчерпывающие сведения о деятельности революционных эмигрантов за рубежом. В числе прочих он доносил и о Викторе Курнатовском, которого так долго и так неудачно искали в России. Департамент полиции очень интересовался Курнатовским, так как, судя по его выступлению в Цюрихе, он не отказался от своих политических взглядов. Исполнительный Азеф, все время наблюдая за Курнатовским, по нескольку раз в год слал донесения.
И вот теперь, когда Виктор Константинович возвращался в Россию, телеграмма Азефа с точным описанием наружности Курнатовского и документов, по которым он едет, опередила на один день поезд — в Вержболове Курнатовского ждали.
Весна пришла и сюда. Растаявший снег растекся грязными водами по придорожным канавам. На железнодорожных путях блестели лужи. В воздухе висела копоть — чадили стоявшие на запасных путях паровозы. Поезд медленно громыхал на стрелках, приближаясь к станции. За окном мелькнул столб, к которому был прикреплен желтый металлический щит, а на нем — черный двуглавый орел. Граница Российской империи. Мимо вагонов медленно плыла платформа, заполненная людьми. Вержболово…
Станция постоянно была набита множеством полицейских, жандармов, тайных агентов департамента полиции. Одни из них жили в Вержболове, другие приезжали сюда в особенно важных случаях, когда тайная полиция, осведомленная своими агентами, ожидала выезда за границу или возвращения из-за Рубежа видного революционера. Работали здесь и агенты особого назначения. Их деятельность заключалась в том, чтобы садиться в проходившие поезда и наблюдать за пассажирами уже в пути, подслушивать их разговоры.
9 апреля 1897 года поезд, в котором Курнатовский пересек границу, подошел к Вержболову.
Вначале работникам политического сыска не везло. Агент, присланный в Вержболово специально для того, чтобы задержать Курнатовского, указал жандарму на человека средних лет, который вышел из вагона на перрон вместе с нарядной дамой. Но задержанный оказался известным петербургским аристократом и устроил полиции скандал. Жандармский подполковник минут пятнадцать извинялся, упрашивал простить за беспокойство…
Затем жандармы привели к своему начальнику молодого человека в щегольском коричневом костюме. В одной руке он держал трость с тяжелым набалдашником, в другой — новенький чемодан. Едва взглянув на него, подполковник узнал профессионального карманника Эмиля Веткина. А через несколько минут в комнату ворвался разъяренный пассажир, у которого в поезде вытащили золотые часы. Пришлось составлять протокол. Кое-как успокоив потерпевшего, подполковник выставил его, наконец, из своего кабинета. Пора было отправлять поезд, и только тут, в эти последние минуты, жандармы ввели высокого молодого человека в черном костюме. Он держал себя с достоинством, с жандармами ни в какие пререкания не вступал. Подполковник потребовал у него паспорт, сличил карточку, приклеенную к паспорту, с фотографией, которая лежала у него в столе, усмехнулся, довольный удачей, и, вставая из-за стола, заявил:
— Вы арестованы, господин Курнатовский. Потрудитесь следовать за полицейскими.
Так после долгой разлуки встретила его родина.
Через Москву, Самару, Заволжье, Уфу ехал Курнатовский на этот раз к месту второй ссылки. Вместо паспорта ему выдали проходное свидетельство. Оно избавляло ссыльных от путешествия в арестантском вагоне. Такие свидетельства давали, конечно, только тем, чья вина была или не доказана, или не очень велика. Но проходное свидетельство не избавляло от слежки агентов охранного отделения. Плюсом являлась свобода передвижения, минусом — то, что ссыльные брали на себя дорожные расходы.
За Уфой потянулись степи, а за ними-предгорья Уральского хребта. Проехали Челябинск, пересекли Иртыш, и поезд со всех сторон обступила тайга. Вагоны бежали по бесконечному зеленому коридору из сосен, елей, пихт, раскидистых лиственниц, могучих кедров. Воздух, напоенный одуряющим лесным ароматом, вливался в открытые окна вагона. Виктор Константинович любовался чудесными пейзажами и порою забывал о том, что стараниями царской охранки было уготовано ему впереди. Сейчас Курнатовский чувствовал себя значительно бодрее. Позади остались и сырая тюремная камера, в которую он попал после Вержболова, отвратительная тюремная пища, бесконечные нудные допросы и почти годичное ожидание приговора. К обвинению в революционной деятельности во время его пребывания за границей департамент полиции попытался прибавить неизвестно откуда появившееся на свет дело о снабжении им нелегальной литературой ученика Херсонского сельскохозяйственного училища Гуго. Но полицейская затея не удалась. Выяснилось, что Гуго душевнобольной, и департамент полиции сам отказался от более чем шаткой версии обвинения. Документов в деле Курнатовского было недостаточно. В основном все состряпали на основании тайных доносов Азефа, имя которого, разумеется, нигде нельзя было назвать. Во время следствия, как и после первого ареста в Москве, Курнатовский очень осторожно вел себя на допросах. Приговор вынесли сравнительно мягкий — ссылка на три года в Минусинский округ Енисейской губернии с зачетом предварительного тюремного заключения.
Железнодорожный путь кончался в те времена в Красноярске. По совету товарищей Виктор Константинович разыскал в городе фотографию Кеппеля, которая служила своеобразным справочным бюро для политических ссыльных. Здесь за ширмой стоял стол с альбомами, в которые Кеппель педантично вклеивал портреты ссыльных, направлявшихся в места отдаленные. Перелистывая эти альбомы, можно было всегда узнать, кто именно из политических единомышленников находился в здешних краях.
Ознакомившись с кеппелевскими «справочниками», Виктор Константинович не нашел никого из знакомых. Он снялся здесь сам — следовало хранить традиции ссылки. От Кеппеля направился в полицейское управление, чтобы предъявить там свое проходное свидетельство. И тут произошло неожиданное: к его удивлению, ему предложили немедленно отправиться в пересыльную тюрьму.
— Вам придется подождать там распоряжения, в какой именно части Минусинского округа вы должны будете поселиться, — заявил ему хмурый полицейский чиновник.
— В тюрьму? Да ведь я прибыл сюда свободно, не под конвоем…
— Таков порядок, — сухо, не глядя на него, ответил чиновник и занялся своими бумагами, показывая тем самым, что разговор окончен.
Курнатовский попытался выяснить, долго ли ему придется отсидеть в тюрьме.
— Придет время, отправим, — сказал чиновник и, прочитав его фамилию на проходном свидетельстве, добавил: — Кстати, о вас мы еще должны получить телеграмму от его превосходительства иркутского губернатора Горемыкина. Вот получим ее, тогда и отправим…
Красноярская пересыльная тюрьма стояла за высокой оградой из толстых, заостренных вверху бревен сибирской лиственницы. Она напоминала старинные остроги. Грязь здесь была невероятная. Особенно в камерах для уголовников.
Курнатовского поместили в небольшую камеру, где уже находились двое политических заключенных. Они вежливо приветствовали нового товарища. Соседом Виктора Константиновича по койке оказался молодой адвокат из зажиточной семьи, общительный, разговорчивый человек. Второй заключенный больше отмалчивался и если не выходил на прогулку, то почти все время лежал, повернувшись лицом к стене. Обоих осудили сравнительно недавно по процессу народоправцев, и они тоже ожидали партии, чтобы отправиться к месту ссылки — куда-то за Абакан.
Виктор Константинович попытался выяснить, каковы политические взгляды его новых товарищей. Однако адвокат говорил о чем угодно, только не о деле, из-за которого попал в тюрьму. Второй сосед молчал.
«Правильно поступают, — думал Курнатовский, — ведь они меня не знают, а подсадить в тюремную камеру агента охранки ничего не стоит».
И тогда он решил заговорить первым, сказать, что он марксист, социал-демократ и примыкает к ставшей известной тогда группе «Освобождение труда».
Едва он произнес эти слова, как в камере разразилась буря.
— Ваши теории, — чуть не взвизгнул адвокат, — чистейшая утопия! Экономическое неравенство было, есть и будет. Слышите! Было, есть и будет, что бы ни писал ваш Маркс. Люди от природы — стяжатели… Ради чего же вы тогда сами находитесь в тюрьме? — спросил Курнатовский. — Против кого и за что вы боретесь, объясните мне.
— Не обижайтесь, милостивый государь, но вы, видимо, дитя в политике. Ведь не с промышленниками, которые ведут страну к прогрессу, мы должны бороться. Политическое бесправие, бюрократическая машина самодержавия — вот что обрекает Россию на отсталость, а наш народ — на невежество, — гремел он, шагая по камере…
Его товарищ кивнул головой в знак согласия и добавил:
— России нужна республика, парламент, правительство деловых людей — вот чего добиваемся мы, народоправцы…
«Хорошо еще, что они, — подумал Курнатовский, — не прикрываются болтовней о народном социализме», — и быстро перевел беседу на обыденные темы. Да, не таких революционеров ждал он встретить в Сибири.
Через три дня объявили, что пора готовиться в дорогу. На следующий день в полдень партия ссыльных, с которой отправляли и их, должна была погрузиться на пароход. Курнатовский узнал, что жить ему придется в селе Курагинском на реке Тубе, притоке Енисея.
От Красноярска поплыли по могучему полноводному Енисею. На пароходе Курнатовский внимательно присматривался к уголовникам, которых избегали его спутники — народоправцы. Он знал, кого иногда в России превращают в уголовников. Когда власти хотели расправиться с непокорными крестьянами — участниками аграрных беспорядков — или теми, кто протестовал против царящего произвола, но делал это бессознательно, стихийно, они всегда находили статью в Уголовном кодексе. Что тут стесняться: неграмотных людей, не искушенных в законах, можно и судить и засудить по любому поводу. Так было и на этот раз. Среди воров и убийц находилось немало крестьян, осужденных за порчу помещичьего имущества, захват земли, оскорбление полицейского, священника или землевладельца.
Внимание Курнатовского привлек светловолосый паренек, меньше всего походивший на человека, который мог совершить уголовный проступок. Курнатовский заметил его еще тогда, когда партия шла от тюрьмы к пристани. Увидев попавшегося навстречу священника, паренек довольно громко сказал:
— У долгогривый пес!
За это он получил от стражника удар в бок.
Каждый раз, когда среди уголовников речь заходила о духовенстве, тихий и такой привлекательный парень разражался ругательствами. Уголовники смеялись и снисходительно похлопывали его по плечу.
Виктор Константинович, выбрав момент, разговорился с ним. У паренька были старые счеты с церковниками. А тот случай, из-за которого он попал в ссылку, произошел в далекой кубанской станице во время похорон его дяди.
— Пришли мы в церковь, — рассказывал Курнатовскому Егор Гвоздев. — Поп за отпевание запросил пять рублей. Отец дал: надо так надо. Стали дядю отпевать. Дьякон покрыл гроб синим покрывалом, на котором изображены ангелы, и покрыл-то гроб ровно наполовину. Стали гроб из церкви выносить — поп еще два рубля требует. «За что же, батюшка?»- спрашивает отец. «За святое покрывало, — отвечает поп, — чтобы брат твой, невежа, прямо в рай попал». — «Так уж дайте, батюшка, нам это покрывало на кладбище…» А священник показал отцу кукиш, требует денег и не дает гроб вынести из церкви. Слово за слово… Я — за отца. За попа — дьякон, звонарь. Чуть гроб не перевернули. Ну, тут я попу клок бороды вырвал. Он первым ударил отца. Судили нас. Дьякон и звонарь врали, будто я ругал бога и святых, осквернил храм божий. Отца выпороли на сходе и по старости лет простили, а меня вот на три года в Сибирь, чтобы не кощунствовал, не перечил духовному пастырю…
Они подружились. Под конец пути Егор ни на шаг не отходил от Курнатовского, присматривал за его вещами, «чтобы ребята не забаловали».
Енисей нес свои прозрачные воды, в которых точно в зеркале отражались берега, заросшие дремучей тайгой, высокие скалы. Чем ближе к Минусинску, тем река заметнее мелела… Вахтенный матрос все чаще подходил к борту промерить шестом глубину и покачивал головой. У села Сорокино бросили якорь. Дальше двигаться было невозможно — мешали почти сплошные мели. Кое-как по мосткам, сколоченным на живую нитку, пассажиры перебрались на берег. Сопровождавшие партию жандармы, ругая мелководье, отправились разыскивать подводы. Арестанты расположились на берегу, кто мылся, кто стирал белье. Запылали костры, закипели видавшие виды чайники, котелки, покрытые копотью.
После полудня вернулись жандармы с подводами, и партия выехала в Минусинск.
И вот он, город. Деревянные дома напоминали маленькие крепости: окна закрывались толстыми ставнями на железных болтах, дворы были обнесены заборами в два, а то и три человеческих роста. Из подворотен скалят зубы злющие псы. Улицами завладели свиньи, разлегшиеся поперек дороги, и множество уток.
Партию осужденных остановили на большой площади около церкви. Часть конвойных направилась к начальству за приказаниями. Вскоре возвратились два жандарма и объявили, что политические до отправки к месту ссылки могут жить в гостинице. Уголовников повели дальше — в городскую тюрьму.
Егор Гвоздев со слезами на глазах прощался с Курчатовским.
— Может быть, где и встретимся еще, Виктор Константинович.
Курнатовский быстро вынул из мешка с книгам томик стихов Алексея Толстого и «Капитанскую дочку» Пушкина. Гвоздев спрятал книги под рубашку еще раз пожал Курнатовскому руку и бегом догнал уходившую партию.
Гостиница занимала большое деревянное здание, выстроенное из лиственницы. В номерах было уютно, тепло. Бросив под кровать мешок с книгами, ружье, чемодан, Виктор Константинович разделся и быстро забылся крепким, долгим сном. Утром его разбудил жандарм.
— Политическим разрешено ходить куда угодно и делать что угодно, — сообщил он. — Здешнему начальству мы вас сдали — теперь дело не наше. Не забудьте только отметить в канцелярии свое проходное свидетельство. — И он ушел с видом человека, которого освободили от тяжкой ноши.
Хозяином гостиницы оказался бывший ветеран польского восстания 1863 года. В Сибири он обжился, разбогател. Дела его шли неплохо. Русским политическим ссыльным, останавливающимся в Минусинске, он явно симпатизировал. Узнав, что его новые гости пробудут в городе несколько дней, владелец гостиницы посоветовал обязательно посетить музей Мартьянова.
— Неужели вы никогда не слыхали о нашем музее? Ведь это гордость Сибири… Его и за границей знают. — И он рассказал о Николае Михайловиче Мартьянове, который с помощью ссыльных организовал местный музей. Многозначительно поглядев на Курнатовского, хозяин гостиницы добавил: — Музей знают многие известные люди. Вот и господин Ульянов тоже побывал в нем. Очень хвалил…
— Это не тот ли Ульянов, который судился по делу о петербургской забастовке?
— Тот самый, брат Александра Ульянова, казненного за покушение на царя.
— Куда же сослан Ульянов?
— В село Шушенское.
— А это далеко от Курагинского?
— Верст семьдесят-девяносто. По сибирским масштабам это пустяки. Да вы сходите сами в музей. Там увидите карту Минусинского округа — она вам пригодится.
В Красноярске — фотография Кеппеля, в Минусинске — этот словоохотливый хозяин гостиницы, Виктор Константинович начинал понимать, что здесь, в Сибири, немало людей, готовых оказать содействие Революционерам.
Музей разместился в большом кирпичном здании.
Богатейшие коллекции привлекали каждого, кто интересовался развитием Сибири: тут были орудия человека времен каменного и бронзового веков, найденные в Енисейской губернии, коллекции сибирских минералов, чучела таежных и степных зверей и птиц, прекрасно подобранные гербарии. Но больше всего Курнатовского поразили муляжи плодов — огромные свеклы, арбузы. «Таких и на юге не сыщешь», — заметил один из народоправцев, которые тоже заинтересовались музеем. Эти арбузы, овощи вывели украинские переселенцы. На стендах, под стеклом лежали крупные самородки золота, найденные в Минусинской тайге.
Огромную карту Минусинского округа Курнатовский изучал долго, внимательно. Вот оно, Курагинское. Тесинское, Шошино, Минусинск лежат к югу от него. Еще южнее по Енисею расположено то самое Шушенское, где отбывает ссылку Ульянов. Юго-восточнее Шушенского еще одно большое село — Ермаковское, на реке Ое. А дальше, вплоть до монголо-китайской границы, населенных пунктов почти совсем не было. Какая глушь!
Осмотрев музей, Курнатовский направился с визитами к местным политическим ссыльным. Их адреса он получил еще в Москве. Кое-что к его списку прибавил хозяин гостиницы. Визиты эти были обязательны для каждого революционера, попадавшего в ссылку. Старожилы, как живительной влаги, ждали вестей из России, а вновь прибывшие, в свою очередь, узнавали все о местных правилах полицейского надзора, о своих будущих соседях по ссылке. Их снабжали явками, шифрами, выработанными специально для данной местности.
Первым, к кому отправился Курнатовский, был Тырков, ветеран минусинской ссылки. Узнав, что Курнатовский сослан в Курагинское, Аркадий Владимирович улыбнулся.
— Так и следовало ожидать — вы ведь марксист. В департаменте полиции поумнели: народовольцев высылают в города, подальше от мужиков, а вас, марксистов, расселяют по деревням, чтобы не общались с рабочими. Что ж, логично! Правда, и мы, народовольцы, не чуждаемся рабочих, — продолжал он. — Но они нуждаются еще в серьезном моральном воспитании. Жил здесь рабочий — марксист Райчин. Он недавно бежал из ссылки, не предупредив товарищей о дне побега. Поступок не из важных. Ведь Райчин мог навлечь на всех нас, политических ссыльных, незаслуженные репрессии со стороны властей. Из-за его необдуманного побега произошел, как это ни печально, разрыв между марксистами и народниками… — О Райчине и вообще о рабочих Тырков говорил барски-покровительственно (Ну что возьмешь с них, что они понимают?).
Тон этот возмутил Курнатовского. Он заговорил резко, Тырков, человек умный, заметил свою ошибку и тотчас заявил примирительно, что сам он хорошо относится к рабочим и в свое время не без успеха вербовал их в ряды «Народной воли».
— Вот мой товарищ по ссылке, Николай Сергеевич Тютчев, в революционные настроения фабричных не верит. Они, по его мнению, участвуют в революционном движении лишь во имя прибавки жалованья. Но Тютчев, — продолжал он, — не революционер. Народоправец… Вы слышали о таких?
— Не только слышал, но даже провел с представителями этой, так сказать, партии несколько дней в пересыльной тюрьме, — усмехнулся Курнатовский.
Узнав от Виктора Константиновича, что в Петербурге он был близок к кружку Александра Ульянова и первый раз попал в ссылку по делу, связанному с пресловутым адресом Андреевского, Тырков оживился, переменил тон.
— С братом казненного Александра Ульянова, с Владимиром Ильичем и его политическими друзьями меня разделяет многое. Однако Владимира Ильича я глубоко уважаю. С месяц назад через Минусинск проехала его невеста — Надежда Константиновна. Девушка она одаренная, полностью разделяющая Убеждения своего будущего мужа. Откровенно говоря, я считаю, что если бы Владимир Ильич пошел по пути казненного брата-героя, «Народная воля» в его лице получила бы замечательного руководителя. Это человек необыкновенного ума и энергии.
Старый народоволец Тырков рассказал Курнатовскому много интересного о Перовской, о Желябове и о других членах Исполнительного комитета «Народной воли», участвовавших в исполнении приговора над царем-«освободителем» Александром II. Особенно взволнованно он говорил о Кибальчиче.
— Кибальчич мечтал посвятить свою жизнь созданию летательного аппарата, с помощью которого люди могли бы попасть на другие планеты. Вечно занятый математическими вычислениями и химическими опытами, пламенно влюбленный в свободу, он, вероятно, и на эшафоте думал не о смерти, а о республиканской социалистической России, стране, где расцветут науки. Товарищи, видевшие его в эти страшные минуты, говорили, что он проявил такое мужество, словно чтение смертного приговора и происходящее вокруг него Кибальчича абсолютно не касалось. Да, — задумчиво сказал Тырков, — это был Архимед, решающий математическую задачу под занесенным над ним мечом римского воина.
Воспоминания старого революционера Курнатовский слушал с огромным интересом, так как знал, что Тырков был непосредственным участником событий первого марта. Ему поручили наблюдать за выездами царя из дворца. И виселицы Тырков избежал почти чудом: может быть, благодаря хлопотам своей аристократической родни, а может быть, потому, что на допросах вел себя умно, говорил всякую чушь, симулируя психическое заболевание.
Простившись с Тырковым, Курчатовский отправился к Феликсу Яковлевичу Кону. Тот жил неподалеку от Мартьяновского музея, где работал библиотекарем. Прежде они никогда не встречались, но когда разговорились, Курнатовскому показалось, что он знает этого обаятельного человека уже много лет. Кон всегда слушал очень внимательно, не перебивая собеседника. Если с чем-нибудь не. соглашался, отстаивал свое мнение спокойно, обстоятельно.
Здесь снова зашел разговор о Райчине, о его побеге. Видимо, это событие очень взволновало минусинских ссыльных.
— Мои товарищи, — сказал Кон, — погорячились и в пылу полемики обидели марксистов, которые, конечно, не знали о готовящемся побеге. Впрочем, все это уладится. Время возьмет свое. Лично меня с Ульяновым почти ничто не разделяет. Я попал в ссылку по делу польской партии «Пролетариат». А эта партия, как известно, признает марксизм, но не отрицает и пользы индивидуального террора.
У Кона Виктор Константинович засиделся до глубокой ночи. Он ушел от него уверенный, что Феликс Яковлевич рано или поздно примкнет к марксистам.
На следующий день Курчатовский начал готовиться к отъезду в Курагинское.
Остался позади Минусинск. Договорившись с возчиком, Курнатовский уже один, без всякой охраны, рано утром покинул город. Под вечер кошевка добралась до реки Тубы. Когда переправились на плоту на правый берег и миновали густые заросли тальника и черемухи, Курнатовский увидел серые бревенчатые строения, растянувшиеся вдоль реки.
— Курагинское, — сказал возница.
Кошевка въехала на прямую длинную улицу без деревца, без кустика. У дома старосты остановились.
Возница положил на землю чемодан и полотняный мешок с книгами, Виктор Константинович бережно вынул ружье. Взошли на резное крыльцо, постучали. Дверь открыл сам староста. Из-за его плеча выглядывал сотский, на груди которого поблескивала медная бляха. Курнатовский вручил старосте полицейское предписание. Тот молча передал его сотскому, который долго рассматривал документ, шевеля губами. Видно было, что в грамоте он не очень силен. Наконец последовала фраза:
— Все в порядке. — И, вернув предписание старосте, добавил: — Что ж, будем определять на жительство…
Курнатовского поселили вместе с Ковалевским — ссыльным социал-демократом из Жирардова.
— Это временно, пока к ним, — сказал староста, указывая на Ковалевского, — супруга не прибыли.
Ковалевский приветливо встретил нового товарища и тут же засыпал его вопросами о жизни в России и за рубежом. В Курагинском до приезда Курнатовского, кроме Ковалевского, не было ссыльных, и ему не с кем было поговорить. Тоска по семье, оставшейся в Польше, тоска по друзьям преждевременно старила этого далеко не старого еще человека. Они засиделись за самоваром до поздней ночи. У Ковалевского были свои герои, о которых он мог говорить без конца. Над его постелью висели две старые литографии: Гарибальди и генерала Юзефа Захарья Бема — одного из руководителей польского восстания 1830 года и участника революции 1848 года в Венгрии.
— У Бема, — волнуясь, словно он сам присутствовал там, рассказывал Ковалевский, — был маленький отряд конной артиллерии, в котором служили поляки-эмигранты. Бем имел всего пять пушек. Однако с такими силами и с помощью венской рабочей гвардии ему удалось три дня удерживать укрепления, против которых австрийский фельдмаршал Виндишгрец выставил сто орудий. Вот это революционер! — восклицал Ковалевский.
Курнатовский мог часами слушать его и, в свою очередь, рассказывать Ковалевскому о Марксе и Энгельсе, о борьбе русских рабочих.
Через несколько дней после приезда в Курагинское перед домом, где жил Виктор Константинович, с лошадей соскочили двое неизвестных. Один — человек среднего роста, худощавый, с небольшой темной бородкой и зачесанными назад гладкими волосами, лет двадцати восьми — тридцати. Другой — моложе, плечистый, голубоглазый, веселый русский парень.
— Шаповалов Александр Сидорович, — представился первый.
— Николай Панин, — сказал второй, протягивая Курнатовскому руку.
С Ковалевским они были уже знакомы. Гости и хозяева вошли в дом, и Шаповалов
— Вы познакомились с Ульяновым, видели его?
— Нет еще, — ответил Виктор Константинович. — Разрешение на поездку в Шушенское я еще не получил.
— Как же это можно? — с ноткой укора ответил Шаповалов. — Вы, марксист, и до сих пор не виделись с Владимиром Ильичем? А ведь совсем недавно Ульянов был в Тесинском. Это ведь недалеко. Нет, вы должны как можно скорее повидать его.
Виктор Константинович тотчас сел писать записку к Владимиру Ильичу — из Тесинского ее могли переслать в Шушенское. В записке он просил Ульянова известить его о месте встречи или, если Владимир Ильич не возражает, назначить время, когда Курнатовский может приехать в Шушенское.
Шаповалов и Панин пригласили Курчатовского в Тесинское.
— У нас там столица. Ссыльных — целая компания: Глеб Максимилианович Кржижановский и Василий Васильевич Старков со своими женами. Вскоре ждем приезда других политических…
Действительно, в Тесинское съезжались время от времени ссыльные марксисты из всех окрестных сел Минусинского округа. Приезжал туда и Владимир Ильич, беседовал с товарищами, ходил с ними на охоту, играл в шахматы. Он привозил своим друзьям-единомышленникам новые книги, брошюры и свои собственные работы, вышедшие в свет.
Вскоре и Курнатовский отправился в Тесинское. Дорога лежала вдоль русла быстрой и шумливой Тубы. Шуршание перекатываемой водой гальки служило хорошим ориентиром для путников даже в самые темные ночи, когда трудно было различить дорогу. Курнатовский проехал верст тридцать, почти не встречая жилья. Да, сибирские масштабы были особенные. Наконец показалась узенькая речонка Протока — приток Тубы. Около Протоки вдоль берега тянулись высокие заплоты, почти скрывавшие бревенчатые избы. Тесинское.
Вечер Курнатовский провел у Кржижановских и Старковых, куда он явился вместе со своими новыми знакомыми — Паниным и Шаповаловым. Атмосфера товарищества царила в этой маленькой колонии. И хотя годичное пребывание в тюрьме вновь обострило его болезнь и он стал опять хуже слышать, Виктор Константинович не сторонился здесь людей. Много говорили о делах, по которым попали в ссылку (большинство было осуждено по делу «Союза борьбы за освобождение рабочего класса»), обсуждали, содержание прочитанных книг. Говорили без умолку, спорили.
Потом как-то незаметно организовали импровизированный хор. Под аккомпанемент гитары, на которой прекрасно играл Старков, полились песни. Кржижановский был знатоком польских революционных песен и для некоторых из них написал русские тексты. В далеком сибирском селе Курнатовский впервые услышал «Варшавянку». Слова и торжественная строгая мелодия этого гимна свободы буквально потрясли его. После «Варшавянки» пели русские и украинские песни.
Кржижановский оказался интересным рассказчиком, и вечер прошел взволнованно, радостно. Были забыты и Сибирь, и глушь, и непогода, которая бесновалась за толстыми стенами бревенчатого дома.
В Тесинском Виктор Константинович заночевал у Шаповалова. Курчатовского удивило обилие книг, которые имел этот петербургский слесарь, научившийся в ссылке свободно читать и переводить с немецкого.
Шаповалов был действительно незаурядной фигурой. Когда они сблизились настолько, что стали поверять друг другу свои заветные мысли, Шаповалов рассказал Курнатовскому о себе.
Биография его была необычной. Проповедник слова божьего, фанатик, изнурявший себя постами и молитвами, человек, которого священники постоянно ставили в пример другим рабочим как образец христианской кротости и послушания, Шаповалов постепенно превратился в ярого врага религии.
В восьмидесятых годах, — рассказывал Шаповалов, — священники Слепян и Петров открыли в Петербурге на Боровой улице, около Новой бумагопрядильни, Общество трезвости. Говорить духовные пастыри умели хорошо, особенно Слепян. Действовали они ловко: в своих проповедях осторожно поругивали богатых; говорили, что все люди равны; описывали ад, которого не миновать всем взяточникам и стяжателям; упоминали о вреде пьянства… Я хочу, Виктор Константинович, чтобы вы поняли… Куда было деваться рабочему человеку? Каждый день ходить в казенку? А откуда доставать деньги? Закладывать целовальникам одежду и на вырученные от заклада деньги пить… А дальше что? После убийства Александра Второго за каждое неосторожное слово — ссылка, каторга. Социалисты к рабочим не заглядывали. Да и кому заглядывать — мало их осталось тогда на свободе. Вот и шел рабочий в церковь слушать поповские проповеди.
Как-то и я зашел на Боровую. Попал, поверил, и меня засосало. Я и сам стал проповедовать.
Пришло время, и хозяин начал снижать расценки. Рабочие, как они ни были в те времена забиты, подняли шум. Мои пастыри говорят: «Не противься злу, терпи». А рабочие и слушать ничего не хотят. Пойти против товарищей, против своего же брата рабочего? Ну, на такую подлость я был не способен. Стал я постепенно отходить от Общества трезвости, и представьте — отрезвился!
Записался в вечернюю школу и там окончательно излечился. И вот однажды, придя на завод, я заявил товарищам: «Братцы, не ходите больше на Боровую. Все это обман». Некоторые подумали, что я с ума сошел. Нет, просто знания вывели меня на правильную дорогу.
В начале девяностых годов по фабрикам и заводам вновь заработали нелегальные кружки. С нами, рабочими, занимались студенты, учителя. Ну и здесь на первых порах мне не повезло: попал к народникам. Называли они себя, как и прежде, «Народной волей». Но эти народовольцы мало чем походили на Перовскую, Желябова, Кибальчича.
Я просил как можно скорее использовать меня в деле. Готов был не только с бомбой, но и с рогатиной идти на смерть, лишь бы кончилась горькая, беспросветная жизнь.
Однако мне не пришлось участвовать в терроре, подвернулось другое дело: решили создать подпольную типографию для того, чтобы с помощью пропагандистских листовок сначала подготовить общество к предстоящим террористическим актам.
Так возникла знаменитая Лахтинская типография, которую полиция долгое время не могла раскрыть. Типография находилась в руках рабочей группы партии «Народной воли». Из-за границы мы получили печатный станок. Но тут же его забраковали. Мой товарищ, слесарь Тулупов, предложил станок своей конструкции, небольшой и удобный для конспиративной работы. Станок Тулупова и наборная доска со шрифтами разбирались почти мгновенно и умещались в ящике комода. Дело у нас пошло на лад.
Стали посещать Тулупова и марксисты. Они уговорились с народниками, что будут печатать здесь свои прокламации. Многие товарищи начали к тому времени понимать, что социал-демократы предлагают правильные. методы борьбы. Это были годы, когда в Петербурге начал работу Владимир Ильич. Возник «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». Когда вспыхнула знаменитая стачка ткачей, я работал слесарем на Франко-русском заводе, где и вступил в «Союз борьбы». Но окончательно с народниками еще не порвал: нельзя было уйти из типографии. Во время стачки ткачей народники и марксисты заключили соглашение о помощи друг другу, о совместном использовании Лахтинской типографии.
На Франко-русском заводе я работал на сборке машин строившегося броненосца «Севастополь». Здесь, в отсеках броненосца, я расклеивал прокламации, которые мы печатали в своей типографии. Помогали мне два финна — Михаил Паянен и его отец. Оба они состояли в «Союзе борьбы». Полиция с ног сбилась, не могла понять, откуда это в корпусе нового царского броненосца появляются прокламации. Но через провокаторов жандармы все же нашли дорожку к типографии. Арестовали руководителей «Союза борьбы» и всю лахтинскую группу. Вот тогда-то я и попал в крепость, а оттуда — сюда, в Сибирь… — закончил Шаповалов.
О Владимире Ильиче Шаповалов не мог говорить спокойно. Для него этот человек являлся образцом революционного деятеля. Вот почему он сердился на Курнатовского, что тот все еще не повидал Ульянова. Но такая возможность представилась только в конце лета.
Наступил август 1898 года. Курнатовский уже обжился в ссылке. Теперь все его мысли были направлены на то, как попасть в Шушенское. Повидаться с Владимиром Ильичем неожиданно помогла местная администрация. Однажды к Виктору Константиновичу зашел сам господин сотский. Посещение сотского всегда настораживало ссыльных. Но на этот раз нежеланный гость был приветлив:
— Вам бумага, господин Курнатовский, из губернии…
Виктор Константинович быстро вскрыл конверт. В нем лежало письмо — купец Гусев, сахароваренное предприятие которого находилось в деревне Ивановке Ермаковской волости, предлагал Курнатовскому временную работу на этом заводе. Так как разыскать инженера-химика было трудно, Гусев обратился в губернскую канцелярию с просьбой выяснить, нет ли среди ссыльных нужного ему специалиста. Там вспомнили о Курчатовском. И, стремясь угодить Гусеву, предупредительно заготовили и выслали ссыльному разрешение на временный выезд в Ивановку «на случай, если господин Курнатовский примет предложение господина Гусева».
Ехать в Ивановку можно и через Шушенское. Вот и представился желанный случай повидаться с Владимиром Ильичем.
1890–1898 годы были, как их называли, золотой эпохой в жизни ссылки. После нашумевшего якутского дела на смену губернатора Осташкова прислали Скрипицына. Требовалось срочно спасать престиж российского самодержца перед цивилизованной Европой и умиротворить ссыльных. С этой целью с монаршего одобрения Скрипицын издал циркуляр, по которому всем политическим ссыльным разрешалось занимать служебные должности в музеях, библиотеках, на фельдшерских пунктах, на промышленных предприятиях…
— Там, в Центральной России, — говорил Скрипицын, — революционеры — зло. Но, находясь в Сибири, они, как большая культурная сила, могут принести этому глухому краю много пользы. А если действовать умело и исподволь приручать их, то, пожалуй, они помогут и в руссификации инородцев. — Так презрительно называли прислужники русского самодержавия представителей нерусских народностей, населявших империю.
Ссыльные решили использовать возможности, предоставленные им циркуляром. Но ничто не могло заставить их оказывать помощь царской администрации в притеснении шорцев, эвенков, якутов, бурят. Лишь небольшая группа ссыльных, преимущественно из народников, случайно попавшая в революционное движение, начала сотрудничать с губернатором в деле «упорядочения» земельных отношений якутов и тунгусов. Это «упорядочение» сводилось к тому, что малые народности лишались значительной части принадлежавшей им земли, которая передавалась царской казне. Совершалось это беззаконие под тем предлогом, что якуты и тунгусы ссорятся между собой из-за лесных угодий, что они не умеют обрабатывать землю.
Вся ссылка заклеймила позором тех, кто начал сотрудничать со Скрипицыным.
Но в то же время решили, что ссыльные, если такая возможность представится, пойдут работать фельдшерами, библиотекарями, препараторами в музеях; не откажутся они и от работы на заводах или строительстве железных дорог. Такой труд не только избавлял ссыльных от тяжелой материальной нужды, но и позволял им налаживать тесные связи с местным населением, особенно с рабочими. И многие ссыльные успешно воспользовались поблажками губернатора для целей, о которых царские чиновники и не подозревали.
Попрощавшись с Ковалевским и наняв у хозяев лошадь, Виктор Константинович помчался в Шушенское, с тем чтобы оттуда, после свидания с Ульяновым, явиться для переговоров на Гусевский завод. Впрочем, он заранее знал, что никаких переговоров не будет и он согласится на любые условия…
Солнце уже клонилось к западу, когда Виктор Константинович увидел речку, иссеченную отмелями. По берегу раскинулось большое село. Это и было Шушенское, известное тем, что здесь когда-то жили некоторые участники восстания декабристов. В Шушенском отбывал ссылку один из первых социалистов-утопистов Буташевич-Петрашевский. Здесь коротали свои дни поляки — участники революционных восстаний 1831 и 1863 годов… Почти у самого Шушенского дорогу преграждали горы навоза. Крестьяне считали излишним вывозить его на поля. Земля пока что родила здесь и без удобрений, а там что будет, то и будет. С трудом одолев эти завалы, Курнатовский добрался, наконец, до села.
У околицы он остановил мальчика и спросил его, где живут Ульяновы. Белобрысый парнишка, утонувший по самые уши в отцовском картузе, охотно проводил его, и вскоре Виктор Константинович уже постучал у ворот сибирского деревенского жилья.
- Володя, это, наверное, к нам, — раздался приветливый женский голос.
Дверь отворилась, и Курнатовский впервые увидел Владимира Ильича.
До нас не дошли подробности этого первого свидания Виктора Курчатовского с человеком, который на всю жизнь остался для него учителем и другом. Но о том, что Владимир Ильич после первой встречи почувствовал большую симпатию к Курнатовскому, нашел в нем единомышленника, говорит письмо Ленина от 16(28) сентября 1898 года к М. Ульяновой.
Полный неизгладимых впечатлений от встречи с Владимиром Ильичем, направился Виктор Константинович в Ивановку, расположенную в двух часах езды от Шушенского.
В Сибири промышленные предприятия, поселки располагались, как правило, по берегам рек. Ивановка не составляла исключения. Неподалеку от речушки, впадающей в Енисей, высилось несколько каменных и деревянных построек. Это и был сахароваренный завод, принадлежавший сибирскому купцу Гусеву. Директор, выхоленный господин, один из удачливых предпринимателей, которых в Сибири становилось все больше и больше, принял Курнатовского любезно.
— Да, да, — подтвердил он, — инженер-химик нам, безусловно, нужен. — Узнав же, что Виктор Константинович получил образование в Цюрихе, он заявил, что лучшей кандидатуры им желать нельзя.
«Как эти господа раболепствуют перед заграничными дипломами», — подумал, усмехаясь, Курнатовский.
Директор завода пояснил, что инженер понадобится предприятию до начала зимы, так как завод или закроют, или он перейдет к другому владельцу.
— Так, — доверительно пояснил директор, — сложились обстоятельства у господина Гусева…
Продолжая вводить Курнатовского в курс дела, он подчеркнул, что, конечно, Гусеву желательно извлечь в этот последний сезон максимальный доход. От инженера-химика многое зависит. Курнатовский понимал это не хуже директора. О жалованье он не спорил.
Потянулись дни, недели, месяцы поистине каторжного труда. Работать в заводской лаборатории приходилось от зари до зари: брать пробы, делать анализы. Директор держал себя с ним очень вежливо, но умел давать столько поручений, что их хватило бы и на троих. Но этот опытный делец знал, что сильный инженер попал на Гусевский завод не от хорошей жизни и будет дорожить этим, хотя бы и временным, местом.
С рассвета начинали громыхать телеги: рабочие подвозили и разгружали свеклу. На заводе широко использовался женский и детский труд. Восьми-девятилетние ребята целыми днями перебирали свеклу, перетаскивали ее в ведрах и больших корзинах от сортировочного склада к цехам. В цехах стояла я страшная духота: о вентиляции, об охране труда здесь заботились мало. И директор и мастера ежеминутно подгоняли рабочих. Дней отдыха — воскресений — не соблюдали. Сезон есть сезон. Деньги есть деньги. I
Впервые за всю свою жизнь Виктор Константинович увидел воочию, что такое капиталистическое предприятие, что такое эксплуатация человека человеком, корыстная, проникнутая эгоистическими целями обогащения. Совершенно измученный приходил он в свою маленькую комнатку, которая находилась около конторы. Здесь стояла кровать, напоминавшая тюремную койку. Он зажигал лампу, пытался читать, но от усталости мысли путались, и, перелистав одну-две страницы, Курчатовский засыпал тяжелым сном, чтобы с рассветом начать все то же.
В двадцатых числах сентября 1898 года из письма минусинских товарищей он узнал, что скоро;с? Красноярска вернется Владимир Ильич и вместе с ним поедет жена ссыльного Лепешинского, которая устраивается на работу в Курагинское на фельдшерский пункт. Виктор Константинович тотчас послал письмо Ковалевскому, чтобы тот помог ей как можно лучше устроиться в Курагинском. В начале октября, с нетерпением ожидая Владимира Ильича, Курнатовский направил ему письмо, в котором напоминал об обещании приехать на завод. «Здесь много материала для вашего «Развития капитализма», — писал он.
Незаметно бежали дни. 11 октября после полудня в лабораторию заглянул посыльный из заводской конторы и сообщил:
— К вам гости, Виктор Константинович!
Несмотря на холод, Курнатовский как был, без пальто, бросился к конторе. Там он увидел кошевку, запряженную парой лошадей, а рядом Владимира Ильича в шубе и валенках и Надежду Константиновну, закутанную в тулуп. Взволнованный, обрадованный приездом дорогих гостей, он повел их к себе — отогреться с дороги. На ходу крикнул посыльному, чтобы два-три часа в лаборатории его не ждали — он занят.
— Оторвали вас от работы? — лукаво улыбаясь, спросил Ильич.
— Вы не знаете, как это хорошо, что я вновь встретился с вами, — не стараясь даже скрыть своего волнения, ответил Курнатовский. — А хозяева подождут. Я уже с лихвой отработал право на перерыв в работе. Они здесь готовы семь шкур содрать и с меня и с других.
Пока Курнатовский помогал Надежде Константиновне снять громадный тулуп, Владимир Ильич, сбросивши шубу, потирая руки, оживленно расхаживал по комнате. Казалось, этот человек ни минуты не мог оставаться спокойным. Он тотчас рассказал Курнатовскому, что в Курагинское приехала очень милая женщина.
— Знаю, знаю, — воскликнул — Курнатовский, — Лепешинская!
— Ничего не скроешь от этих болтунов, — смеясь, воскликнул Владимир Ильич.
Курнатовский повел гостей знакомить с директором. Тот, увидев Владимира Ильича и Надежду Константиновну, всполошился: кто, откуда, быть может, заезжие иностранцы? А чего доброго, фабричные инспектора? Беседуя с гостями, директор был крайне предупредителен, сам пододвинул табурет, смахнув с него пыль, и, несмотря на то, что его никто не расспрашивал, завел разговор об условиях труда рабочих на заводе, о необходимости улучшения обстановки в цехах. Как директор ни пытался избежать осмотра цехов, ему пришлось обойти с гостями завод. Все же он постарался провести их так, чтобы им как можно меньше попадались на глаза женщины и дети. Разгадав эти маневры, Курнатовский вдруг попросил директора на минутку по одному неотложному делу, отвел в сторону и начал рассказывать о неполадках в работе перегонного куба. Владимир Ильич и Надежда Константиновна воспользовались тем, что их «опекун» отвлекся, и заговорили с работницами, таскавшими корзины со свеклой. После этой беседы Владимир Ильич, погрузившись в свои мысли, плохо слушал словоохотливого директора. И, лишь собираясь уезжать, он задал несколько вопросов о производственной мощности завода, продолжительности рабочего дня, длительности сезона переработки. Поинтересовался он и тем, из каких именно сел набирают на Гусевский завод работниц, сколько часов трудятся дети.
Смеркалось. Гости торопились в дорогу. Но Кур-натовский заставил их разделить с ним обед, присланный из конторы. Владимир Ильич хмурился, был явно сконфужен и заявил, что ест только, чтобы не обидеть хозяина…
— Оторвали мы вас от дела и еще оставили без обеда, — извинялась Надежда Константиновна.
— Да как вам не совестно! — воскликнул Курнатовский. — Неужели вы не чувствуете, как я соскучился? Да и эта работа, этот каторжный труд… Но через месяц все кончится: я снова стану «свободным» человеком.
Перед отъездом Владимир Ильич попросил Курнатовского заглянуть к ним в Шушенское, почитать, взять книги, вместе поохотиться. Он рассказал, что надеется организовать встречу товарищей на рождество и в дни Нового года. Такая встреча намечалась в Минусинске. Он полагал, что наступил момент, когда необходимо собраться всем ссыльным социал-демократам. Владимир Ильич поинтересовался, что читает Курнатовский, есть ли книги, газеты.
— Какие газеты? — воскликнул Курнатовский. — Да здесь и поесть толком некогда.
— Ну, ничего… Ваша каторга скоро кончится, а встреча в Минусинске будет интересной. Туда перекочевывают Старковы и Кржижановские. Видимо, у них на квартире мы и устроим совещание марксистов.
Уже усаживаясь в кошевку, Владимир Ильич развеселился, припомнив, что директор все беспокоился, не заметили бы гости, как плохо живется рабочим. Владимир Ильич сказал, что такая боязнь знаменательна, если даже здесь, в сибирской глуши, капиталисты стали побаиваться, как бы их не обвинили в жестокой, грубой эксплуатации рабочих. То ли еще будет…
Долго стоял Курнатовский, глядя вслед кошевке, слушая удалявшийся звон бубенчиков. Его сердце рвалось за уехавшими, и как хотелось ему вот сегодня, сейчас же, сию минуту перекочевать в Шушенское!
Пришла зима. Пришел и конец работе на заводе, а следовательно, и заработку. И все же Виктор Константинович с нетерпением ждал этого часа, ждал встреч с Владимиром Ильичей и Надеждой Константиновной, с товарищами.
К тому времени, когда он вернулся из Ивановки в Курагинское, туда вслед за женой прибыл еще один ссыльный — Пантелеймон Николаевич Лепешинский. До места ссылки Лепешинский плыл по Енисею, уже затянутому «салом». Это был последний рейс парохода «Модест». С часу на час ждали ледостава. Как назло, под конец путешествия на пароходе лопнула рулевая цепь, и он наскочил на подводный камень. Авария оказалась серьезной: оторвало корму. «Точно ножом отрезало», — рассказывал потом Лепешинский. «Модест» начал тонуть. Поднялась паника. Но Пантелеймон Николаевич не растерялся: успокаивал пассажиров, спас грудного ребенка, кем-то забытого в панике. Он поддерживал порядок до тех пор пока пассажиры не покинули парохода. Капитан и Лепешинский спрыгнули в лодку последними. Нагляделся я там всякого, — рассказывал Лепешинский. — Один толстый купчина выскочил из каюты и пополз за мной на коленях, призывая на помощь Николая-угодника, деву Марию и всех святых. «Помилуйте, — говорю ему, — я обычный пассажир, а вовсе не угодник. Перестаньте кричать и прыгайте немедленно в лодку». Не лучше вел себя и жандармский полковник: цеплялся за каждого, умоляя спасти его. Ну, а пассажиры кто? Большинство — ссыльные, он на них в пути и смотреть не хотел. Представляете его положение! Когда все мы очутились на берегу и пришли в себя, решили отблагодарить крестьян: ведь это они в утлых лодчонках, с риском для жизни пробирались между льдинами к тонущему пароходу. Вот мы и задумали собрать деньга по подписному листу. Когда очередь дошла до жандармского полковника, он старательно вывел на листе имя, отчество, фамилию, звание и прописью — «один рубль». Следующим подписался я: «Политический административно ссыльный Пантелеймон Лепешинский- два рубля». Надо было видеть физиономию полковника: он покраснел, побелел и забормотал, что рубль он пожертвовал на всех крестьян, а для тех, кто спас его, он не пожалеет и десяти…
В Курагинском жили теперь две семьи ссыльных — Лепешинские и Ковалевские. Жена, наконец, приехала к Ковалевскому из Польши вместе с ненаглядным Стасиком. Она много рассказывала друзьям мужа о проводах в Жирардове. Подруги, узнав, что она решила ехать в Сибирь, всячески отговаривали ее.
— А как же русские женщины едут к мужьям в Сибирь, — отвечала я им.
— Русские бабы и черта не побоятся, а ты с ребенком едешь…
Виктор Константинович снял комнату неподалеку от Ковалевских и коротал вечера то у них, то у Лепешинских.
Суровые сибирские холода сделали свое дело: глухота снова усилилась. Курнатовский стал раздражительным, замкнутым и опять, как всегда во время обострения болезни, ушел в себя, избегал людей. Только книги и книги. Их он поглощал одну за другой. Перечитал почти все, что сохранилось после путешествия у Лепешинского, то, что удалось достать у товарищей в Тесинеком. Маркс, Гегель, Кант, Олар, Чернышевский — все это читалось, перечитывалось, составлялись выписки, конспекты. Но иногда и книги не приносили успокоения. Охватывала тоска по живому делу. Угнетала снежная пустыня, раскинувшаяся вокруг села. Тогда он начинал ходить… Ходил часами по комнате, заложив руки за спину. Тишина заброшенного сибирского села усиливалась глухотой. Сколько нужно было нравственных сил, чтобы побороть гнетущее состояние, сколько нужно было истинного мужества!
По счастью пришло избавление: в один из пасмурных дней спаситель предстал перед ним в образе старосты. Он показался ему чудесным Дедом Морозом. Шутка ли сказать: староста вручил разрешение на поездку в Минусинск.
— Магарыч с вашей милости, — сказал он, видя, в какое веселое настроение пришел Курнатовский.
Момент для просьбы был более чем подходящий, и он тут же получил пятиалтынный на водку.
Такое же разрешение на поездку в Минусинск выдали и семье Лепешинских.
В последних числах декабря Курнатовский и Лепешинские двинулись в Минусинск. По случаю рождества под дугой упряжки звенели бубенчики, гривы лошадей украшали цветные ленты. В Минусинске все собрались на квартире Кржижановских и Старковых, которые добились перевода из Тесинского в Минусинск. Не успели сани остановиться у крыльца двухэтажного дома, как открылась дверь и в облаках вырвавшегося из них пара показался Владимир Ильич без шубы и шапки. Быстро сбежав по ступенькам, Владимир Ильич стал помогать товарищам, которые путались в длинных тулупах, выбраться на землю.
Лепешинский так и ахнул:
— Вы что, Владимир Ильич, здоровья своего не алеете! Плохо же жена за вами смотрит.
Но Владимир Ильич пропустил его замечание мимо ушей и потащил гостей в дом. Поднялись на второй этаж. Здесь было тепло и шумно. Владимир Ильич заговорил с Паниным и Шаповаловым, расспрашивая их о стачке 1896 года. Шаповалов рассказывал о Лахтинской подпольной типографии. Владимир Ильич очень заинтересовался печатным станком, сконструированным слесарем Тулуповым.
— Знаете, — вспоминал Шаповалов, набрасывая схему станка, — даже жандармский полковник, производивший обыск в типографии, сделал Тулупову комплимент и назвал его одаренной личностью.
Владимир Ильич захлопал в ладоши от удовольствия и заявил, что такому делу, как постановка типографии, и у народников не грех поучиться. Зашла речь о «Народной воле», и Владимир Ильич заметил, что шифры, явки, вся конспиративная работа, создание подпольных типографий, изготовление фальшивых документов — все это было у революционных народников отлично организовано. Годами складывалось их умение, годами накапливался опыт. Эти знания и опыт пригодятся и марксистам.
В комнатах, застеленных домоткаными дорожками, убранных простой, но добротной сибирской мебелью, теперь уже собрались почти все участники встречи. Помимо Ленина и Крупской, здесь находились Кржижановские, Шаповалов, Панин, Старковы, Лепешинские, Курнатовский. Были и совсем новые для Курнатовского люди, как, например, петербургский металлист Оскар Энгберг — финн по происхождению. Он работал до ссылки на Путиловском заводе в Петербурге.
В комнате стоял смутный гул многих голосов. Гости играли в шахматы, помогали женщинам накрывать на стол, листали свежие журналы, беседовали, обменивались новостями, узнавали об общих знакомых, не сумевших попасть в Минусинск. Владимир Ильич подходил то к одному, то к другому, принимал живейшее участие в беседе. Иногда он останавливался около Шаповалова и Кржижановского, следя за борьбой на шахматной доске. Чувствовалось, что ему и самому не терпится заняться любимой игрой. Потом он подсел к Курнатовскому и начал расспрашивать, как тому работалось последнее время на заводе. Интересовался он и тем, как в Курагинском обстоят дела с книгами, журналами. Узнав, что с литературой плохо, Владимир Ильич посоветовал Курнатовскому просить перевода в Шушенское.
— Книг и газет здесь хватит на всех.
Когда сели за стол, начался разговор о делах, из-за которых, собственно, все и собрались в Минусинске. В случае, если бы полиция заподозрила неладное и нагрянула бы сюда, то все выглядело бы невинно: друзья сидели за праздничным столом.
Первым Владимир Ильич попросил обсудить вопрос о товарищеской кассе взаимопомощи. Местные власти, используя случай с побегом Райчина, пытались перессорить марксистов-рабочих с марксистами-интеллигентами. Исправник не переставал грозить ссыльным-рабочим, что все они будут или совсем лишены пособия, или его сократят в два-три раза. От сибирских властей всего можно было ожидать. Кроме того, стало очевидным, что если теперь кто-нибудь убежит, то материально будут отвечать все ссыльные. Но главное заключалось не в этом — власти не преминули бы тогда заявить ссыльным-рабочим: «Видите, вам сокращают пособие, а интеллигенты живут припеваючи». И Владимир Ильич поставил вопрос так: если с нового года эта угроза будет действительно выполнена, то революционеры-интеллигенты должны делить свои пособия поровну с рабочими. С этим предложением все согласились. Согласились также отчислять в организуемую кассу взаимопомощи известную сумму для поддержки нуждающихся.
Владимир Ильич внимательно приглядывался к собравшимся, словно взвешивал, на что способен тот или иной товарищ в грядущей борьбе с царизмом, какая область революционной деятельности ему по силам.
С Курнатовским и Лепешинским Владимир Ильич разговорился о своей новой книге, где он предполагал использовать данные русской фабрично-заводской статистики. Работая над рукописью «Развитие капитализма в России», Ленин убедился, что в официальной статистике сведения часто подтасовываются. Чтобы скрыть, жестокую эксплуатацию рабочих на русских фабриках и заводах, все цифры по крупным, средним и мелким предприятиям объединялись и выводились средние цифры, которые не отражали истинного положения вещей. Владимир Ильич доверял земской статистике, как более беспристрастной, но и она имела погрешности.
— Если найдется издатель, — обратился Ильич к Курнатовскому и Лепешинскому, — не согласитесь ли вы помочь мне — стать счетчиками? Придется составить около двадцати тысяч карточек. Труд огромный. Одному мне это не под силу.
Курнатовский и Лепешинекий согласились принять участие в работе.
Новый 1899 год встретили в Минусинске революционными песнями. Вспоминали прошедший год как год основания Российской социал-демократической рабочей партии. Владимир Ильич поддержал тост за создание партии, но предостерег всех присутствующих от излишнего оптимизма. Для того чтобы партия стала боевой организацией пролетариата, предстояло проделать еще много работы. Ленин понимал партию как спаянный единой целью коллектив, способный повести народ на штурм самодержавия, способный возглавить победоносную социалистическую революцию.
В эти зимние дни, когда в далеком Минусинске вождь грядущей социалистической революции говорил о том, какой должна быть партия, из Женевы тайно переправлялись в Россию сотни экземпляров брошюры Владимира Ульянова «Задачи русских социал-демократов». Она была написана в Сибири, а теперь возвращалась отпечатанной в Россию для того, чтобы указать путь русскому пролетариату к величайшей цели нашей эпохи. Эта работа предсказывала, что недалеко то время, когда пролетариат пойдет впереди всего прогрессивного человечества и проложит ему широкую дорогу к счастью…
Из Минусинска Курнатовский уезжал в прекрасном настроении.
«Какой человек! — думал он об Ульянове. — Даже здесь, в глуши Сибири, он сумел наладить связи с борцами за свободу и объединить их, здесь, несмотря на трудности, он пишет статьи и книги, в которых последовательно отстаивает учение Маркса, его правоту. И человек он чудесный — скромный, сердечный, простой, смелый, прямой. Именно поэтому вокруг него и собираются хорошие люди. А как его любят все рабочие, находящиеся в ссылке! Именно такой вождь нужен рабочим».
Курнатовский пытался сравнить Ленина с Плехановым.
Да, Плеханов крупный теоретик. Но можно ли согласиться, что Ульянов уступает ему в этом? Оба стремятся к одной цели, оба воодушевлены одним учением. Но у Плеханова во всем подчеркнутая непогрешимость, у Ульянова, наоборот, при поражающей глубине знаний и суждений совершенно отсутствует это чувство превосходства над товарищами. Передавая им свои знания, Владимир Ильич стремится одновременно посоветоваться с ними, проверить правильность намечаемых шагов, мыслей, действий. Он видит силу в единстве многих и добивается этого единства мнений и действий, убеждая, споря, не жалея времени для того, чтобы все, наконец, прониклись сознанием, что действовать надо именно так, а не иначе.
Припоминая всех, кто окружал Владимира Ильича в Минусинске, Виктор Константинович подумал и о Екатерине Ивановне Окуловой, молодой девушке, которая появилась среди ссыльных в последние дни праздника.
Да неужели она дочь крупного золотопромышленника? Какая страстная уверенность и убежденность звучала в каждом ее слове о правоте общего дела! И каким образом она, при ее богатстве и связях, тоже попала в ссылку в село Шошино — по месту жительства родителей?
Знаменательное явление, — думал Курнатовский. — К марксистам теперь тянутся люди и из других классов, которым, казалось бы, должны быть чужды интересы пролетариата. Да, — вспомнил он, — Екатерина Ивановна звала нас в Шошино. Что ж, надо не откладывать этой поездки. Говорят, интересная семья. Не о таких ли семьях писал в своих романах Мамин-Сибиряк?»
Приехав из Минусинска в Курагинское, Виктор Константинович, не откладывая, засел за прошение, адресованное минусинскому и енисейскому начальству, о переводе его в Шушенское. В этом прошении он ссылался на то, что в Шушенском, как он слышал, собираются открыть промышленное предприятие, на котором он, как инженер, сумеет получить работу. Прошение о переводе в Шушенское отправили и Лепешинские. Поближе к Ленину просились и Ковалевские…
Вскоре на имя Курнатовского пришло письмо.
Однако это была записка от Шаповалова, а не ожидаемое разрешение на перевод в Шушенское.
«Все званы в Шошино. Хозяева ждут. Собираемся в субботу на воскресенье. Выезжайте с Лепешинскими сразу же после обеда…»
В назначенный день двинулись в путь. Лепешинские были легки на подъем. Миновав деревню Шошино, въехали в широкую аллею, обрамленную могучими деревьями. В конце аллеи стоял большой дом. Над крышей приветливо струился дымок.
— Вот оно и есть это самое окуловское гнездо, — сказал крестьянин, правивший лошадьми.
Сани подкатили к крыльцу.
— Да, большой домина, хоть театр в нем устраивай, — сказал Пантелеймон Николаевич Лепешинский.
Двери открыл старичок — то ли управляющий, то ли камердинер. За ним показались две закутанные в шали девичьи фигурки. Старичок стал распоряжаться: куда поставить сани, куда отвести лошадей. Девушки — Екатерина Окулова и ее сестра Глафира — повели гостей в дом. В просторной гостиной, устланной дорогими коврами, они встретились с тесинцами, которые примчались буквально за несколько минут до их приезда.
— Вот, Сидорыч, — шепнул Николай Панин Шаповалову, — ты и попал в логово сибирской знати…
— Помолчи, Коля, не болтай по пустякам, — так же тихо ответил ему Шаповалов, видимо смущенный не меньше Панина непривычной обстановкой.
Но смущение длилось недолго. Младшая Окулова — миловидная и веселая Глафира — затеяла танцы. Она слышала, что Панин не плохой танцор, и пригласила молодого человека на вальс. Кто-то сел за фортепьяно, и первая пара заскользила по паркету.
Панин действительно славился у тесинских девушек своим умением танцевать. Шаповалов не раз говорил ему:
— Брось, Никола, ты танцульки и ухажерства. Добра не будет. Намнут тебе деревенские парни бока. А еще революционер!
Но Панин только смеялся в ответ.
Закружились и другие пары. Не выдержал и Виктор Константинович. Он пригласил Екатерину Окулову.
Курнатовекий осторожно расспрашивал девушку, как она, дочь золотопромышленника, стала революционеркой. И оказалось, что путь их в революцию во многом совпадал. Оба начинали с участия в студенческих сходках, с чтения запрещенных революционных книг.
Окулова предложила Курнатовскому осмотреть отцовскую библиотеку. Самого Ивана Петровича не было в Шошине — он уехал на один из своих приисков. Дела у него шли неважно, и ему приходилось часто самому вмешиваться в руководство предприятиями.
Библиотека понравилась Курнатовскому. Здесь он нашел много технических книг, преобладали труды по геологии и минералогии. Были книги по химии, и среди них — новое издание «Основ химии» Менделеева. Иван Петрович Окулов был подлинным самородком. Крестьянский сын, переселенец из Пермской губернии, Окулов благодаря огромному трудолюбию серьезно изучил рудное дело и из простого старателя стал крупным и образованным золотопромышленником. Об Иване Петровиче с уважением рассказывали как о человеке, который с большой долей вероятности умеет определять места залегания золотых россыпей. Но деньги у него так же легко исчезали, как и появлялись: Окулов то богател, то разорялся. Недавний пожар на паровой мельнице сильно пошатнул его дела. На восстановление предприятия ушло много средств… Обо всем этом Курнатавскому рассказала Екатерина Ивановна во время осмотра отцовской библиотеки.
Роясь в шкафах, она вынула книгу Гумбольдта, затем нашла «93-й год» Гюго, «Кто виноват?» Герцена.
— Именно эти книги заставили меня впервые подумать об общественных отношениях, — сказала она Курнатовскому. — Потом пришло знакомство с трудами Маркса и Энгельса.
— А как родители относятся к вашему увлечению марксизмом? — спросил Виктор Константинович.
— Во-первых, это не увлечение, а смысл моей жизни. А родители мои придерживаются либеральных взглядов. Они не мешают нам мыслить, как мы хотам.
— Почему вы говорите «нам»? Разве и сестру вы тоже успели совратить в нашу веру?
— Сестра разделяет мои убеждения, — твердо ответила Екатерина Ивановна. — Она недавно ездила в Красноярск и познакомилась там с членами марксистской группы, о которой знает и Владимир Ильич. Летом он был в Красноярске и дал ценные советы тамошним социал-демократам.
Закончив осмотр книг, Курнатовский и Екатерина Ивановна присоединились к другим гостям. Все чувствовали себя теперь непринужденно. Сели ужинать и за столом познакомились с хозяйкой дома Екатериной Никифоровной Окуловой. Она сказала молодым людям, что ей очень приятно повстречать людей, думающих так же, как и ее дети.
На следующий день мороз приутих. Отправились гулять. Осмотрели все, что осталось от сгоревшей мельницы. Долго бродили около местной достопримечательности — горы Ойки, на которую, однако, никто не решился взобраться, так как, было очень скользко. Под вечер собрались в обратный путь. Сестры Окуловы настойчиво просили приезжать к ним без стеснения и обещали познакомить с братьями, которые в этот день отсутствовали.
— Братья вам, наверное, понравятся, — сказала Екатерина Ивановна, прощаясь с Курнатовским и задерживая его руку в своей. — Они ведь тоже сочувствуют нашему общему делу…
Поездка в Шошино была для Курнатовского новой вехой в жизни. Мысленно он часто возвращался к встрече с Екатериной Ивановной и ловил себя на том, что она, как живая, стоит перед ним.
Наконец пришел ответ на просьбу о переводе из Курагинского: Курнатовскому и Лепешинским разрешался переезд, но не в Шушенское, а в село Ермаковское.
— Ничего, — утешал товарища Лепешинский. — Это ведь все-таки ближе к Владимиру Ильичу. Ермаковское южнее, и местность там чудесная.
В феврале курагинцы начали готовиться к переезду.
Ермаковское находилось, если считать не на глазок — по-сибирски, — а по карте, в сорока верстах от Шушенского и в тридцати — от нетронутого массива тайги. Отсюда были хорошо видны вершины Саян, покрытые вечными снегами и льдами. Причудливые изломы горных кряжей в зависимости от погоды или времени дня то окутывались лиловой дымкой, то окрашивались в нежно-розовые тона, то нависали серыми, хмурыми громадами. Они манили вдаль, напоминали о смелых путешественниках-первооткрывателях. В отличие от Тесинского и Курагинского в Ермаковском было много зелени. Но в то время года, когда ссыльные переехали в Ермаковское все скрывалось под огромными снежными сугробами; горная речка Оя, впадавшая в Енисей, несла свои воды под толстым ледяным покровом. В Ермаковское приехал ссыльный марксист Силывин, приехали на время Старковы. Только Шаповалову и Панину исправник запретил поселиться в Ермаковском. Виктор Константинович тосковал по своему другу Сидорычу, грустил, что и Шошино теперь дальше. Позднее в Ермаковское перевели с севера тяжело больного туберкулезом Ванеева. Курнатовский очень сблизился с ним.
В марте, когда начало пригревать солнце, а на полях появились первые проталины, Виктор Константинович достал у крестьян лошадь и верхом отправился в Шушенское. Владимир Ильич и Надежда Константиновна радушно встретили гостя. Они засыпали его вопросами о ермаковцах (теперь там находилась целая колония социал-демократов марксистов).
За обедом говорили о книге Каутского «Аграрный вопрос». Владимир Ильич получил два экземпляра. Один он отдал Курнатовскому. Едва закончив обед, они углубились в чтение новинки. На охоту не поехали. Если у Владимира Ильича бывали более важные дела, а знакомство с книгой Каутского он считал таким делом, всякие развлечения откладывались. Курнатовский уже знал об этой черте Ильича.
— Некогда, — говорил Ленин. — Готовлю статью о капитализме в сельском хозяйстве. Раньше апреля не кончу.
Кроме Каутского, Курнатовский получил от Владимира Ильича книжку немецкого профессора неокантианца Штаммлера и журналы «Вестник Европы», «Русское богатство».
В апреле, когда весна начала входить в свои права, в Ермаковское приехал Владимир Ильич. Он захватил новое охотничье ружье, которое получил от брата.
Забрав сумку с провизией, Владимир Ильич и Курнатовский на целый день ушли в тайгу на охоту. В Ермаковское вернулись поздно ночью, промокшие, усталые, но с дичью. Подошли к дому — темно, ворота на запоре.
«Хозяйка ворчать будет», — с досадой подумал Курнатовский.
Владимир Ильич, хорошо знавший местные нравы, указал на светившееся неподалеку окно.
— Смотрите, — сказал он, — Сильвин не спит. Не надо стучать к вам. Зайдемте к нему. Он меня еще утром к себе приглашал.
Сильвин обрадовался гостям и тут же начал хлопотать: принес чугунок с кашей и чайник, стоявший в печи среди дотлевавших углей.
Владимир Ильич запротестовал:
— Чай пить будем, если сам хозяин еще не пил…
Сильвин усадил их и, заверив, что сам он голоден и хочет поесть и попить чаю, устроился вместе с гостями за столом.
Когда собирались ложиться спать, Владимир Ильич категорически отказался занять единственную кровать. После долгих споров решили все улечься на полу. Но долго не спалось.
— Владимир Ильич, — попросил Курнатовский, — вы давно обещали рассказать нам о своей поездке за границу, о своих впечатлениях.
— Я надеялся тогда, — задумчиво сказал Ленин, — встретиться с Энгельсом, побеседовать с ним. Но опоздал. Энгельс был уже при смерти.
— А как ваши встречи с Плехановым? — поинтересовался Сильвин.
Долго рассказывал Владимир Ильич о Плеханове. Он считал, что Плеханов, как ученик Маркса и Энгельса, на одну-две головы выше многих западноевропейских теоретиков марксизма. Владимир Ильич дал высокую оценку книге Плеханова «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю».
— Кто после смерти Маркса и Энгельса мог бы осуществить подобное? Поколения революционеров будут учиться по его книгам.
Плеханов, по словам Владимира Ильича, произвел на него хорошее впечатление, хотя и держался он несколько свысока, как учитель с учеником, давая понять, что между ними существует разница и в возрасте и в знаниях, и в практическом опыте.
Он похвалил Владимира Ильича за выступления против народников, но в то же время стал отчитывать за статью против Струве. Плеханов утверждал, что Владимир Ильич поворачивается к либералам спиной…
— И большой был спор? — спросил Курнатовский.
Ленин не отрицал, что они поспорили, но как же иначе: ведь Плеханов о крестьянах и слышать не хотел. Какие, говорил он, это союзники рабочего класса? Плеханов считал крестьян собственниками, мелкими помещиками, капиталистиками. Плеханов считал, что с либералами нам по пути.
— И кто же победил в этом споре? — снова задал вопрос Сильвин.
Владимир Ильич ответил, что каждый в этом споре остался при своем мнении. Но по другим вопросам он договорился и с Плехановым и с остальными членами группы «Освобождение труда». Обсудил вопрос об издании «Работника», серии популярных сборников для рабочих-пропагандистов.
Сильвин и Курнатовский начали расспрашивать о западных социалистических партиях.
Владимир Ильич говорил о том, что его тревожит поведение многих вожаков социалистического движения в Европе. При жизни Энгельса они чувствовали себя связанными. Энгельс всегда предостерегал социалистов от оппортунизма, от забвения истинных целей революционного движения. Но после смерти Энгельса часть лидеров распоясалась. Энгельс еще лежал на смертном одре, когда Владимиру Ильичу попался в руки номер журнала «Нейе цейт». С удивлением и возмущением прочитал он в этом журнале предисловие к работе Маркса «Классовая борьба во Франции». Кто же написал это предисловие, неужели Энгельс? В статье не было ни одного слова о революции, о восстании. Владимир Ильич понял, что здесь что-то нечисто. Вскоре он узнал, что редакция «Нейе цейт», помещая предисловие, выбросила все, что ей казалось «опасным». Бисмарк не додумался бы до этого…
Как только Энгельса проводили в последний путь, Бернштейн предложил социал-демократам блок с реакционными партиями.
— Ничего себе, социалистический вождь! — с возмущением прошептал Курнатовский.
Все это, по словам Владимира Ильича, было лишь цветочками. Новая работа Бернштейна «Предпосылки социализма» — чистейшая проповедь оппортунизма.
— К сожалению, подобная «литература» имеет хождение и в России, — сказал Сильвин.
Левин подтвердил, что и у нас появились ренегаты. Это так называемые «молодые», или «экономисты», которые проповедуют: долой Маркса, долой политическую борьбу, да. здравствует копейка! Владимир Ильич уже столкнулся с ними один раз. В феврале 1897 года, рассказал он, перед ссылкой осужденных выпустили дня на три из тюрьмы. Тогда Ленин повидался с новыми руководителями «Союза борьбы». Проспорили целый вечер о судьбах рабочего класса. «Молодые» прямо заявляли: экономические стачки, кассы взаимопомощи — вот и все! Никакой политической борьбы. И Бернштейн даст этому новому течению свое идеологическое теоретическое оружие.
— Что же следует предпринять? Не отмалчиваться же нам, Владимир Ильич? — сказал Курнатовский.
— Молчать и не будем, — ответил Ленин. — Как только получу более обстоятельные сведения из Центральной России, нужно будет сообща обсудить этот вопрос…
Беседовали до петухов. Под самое утро утомленные охотники и хозяин заснули крепким сном. Разбудили их проголодавшиеся за ночь собаки, которые затеяли в сенях отчаянную возню.
Владимир Ильич уехал из Ермаковского под вечер, предварительно побывав у всех ссыльных. Договорились, что скоро встретятся в Шушенском. Ленин ждал, что в мае он получит авторские экземпляры своего труда «Развитие капитализма в России», и обещал подарить каждому свою работу.
Весной время идет быстро. Через месяц после посещения Владимиром Ильичем Ермаковского вскрылась Оя, налились почки на деревьях, затоковали тетерева. Курнатовский и часто приезжавший из Тесинского Панин по целым дням пропадали в тайге на охоте. Иногда к ним присоединялся Лепешинский.
Все было бы сносно, если бы не болезнь Ванеева. Большие, точно голубые озера, глаза его светились лихорадочным блеском. Он как-то особенно жадно вглядывался во все окружающее. Иногда, выйдя за ворота, Ванеев подолгу сидел на скамейке, стараясь напоить весенним воздухом свои легкие, изъеденные туберкулезом. Ничто не могло спасти его. Длительное пребывание в сырой камере предварительного заключения и тяжкий путь в Сибирь подорвали его слабое здоровье. Курнатовский старался как можно больше бывать с ним, развлекать его. Они беседовали о новых книгах, о рабочем движении, о сибирской деревне, об охоте. Иногда к Ванееву заходили Панин и Лепешинские. Панин особенно веселил больного. Этот балагур так упоительно врал о своих необыкновенных успехах в рыбной ловле, о покорении сердец сибирских красавиц, о лихих подвигах, которые он совершал, объезжая диких коней, что все, даже больной Ванеев, смеялись до упаду.
В мае ермаковцы получили письмо от Владимира Ильича. Ленин вызывал всех, кто может приехать, в Шушенское. Письмо содержало намек на какую-то неприятность. Из опасения, что письмо могут прочесть на почте, Ильич не сообщал подробностей, но призывал товарищей к осторожности. Припрятали лишние бумаги и письма, уничтожили все, что могло компрометировать кого-либо из ссыльных.
В Шушенское выехали Курнатовский с Лепешинским. На квартире Ульяновых застали Лентника и Барамзина, которые приехали из Тесинского. Все были встревожены. Один лишь Владимир Ильич хранил обычное спокойствие.
— Что случилось? — спросил, позабыв поздороваться, Курнатовский.
— Обыск был на днях, — ответил Владимир Ильич. — Придрались к письму, присланному мне из Кургана. Ротмистр, проводивший обыск, интересовался, кто такой Знобин, — оказывается, у него изъяли квитанцию об отправке письма на мое имя в Шушенское. Письма они не нашли, а я прикинулся удивленным и заявил, что никакого Знобина не знаю. Забрали письмо, полученное еще в ноябре от ссыльного Ляховского. Но и оно не содержало ничего предосудительного. Тем не менее я счел необходимым предупредить вас всех.
Надежда Константиновна с большим юмором рассказала о том, как проходил обыск.
— Нелегальную переписку и средства для тайнописи мы держали раздельно. Переписка лежала на нижней полке шкафа. Когда явились жандармы, мы сообразили, в чем дело, и решили немножко задержать их. Как только они вошли, Владимир Ильич услужливо пододвинул к шкафу стул, чтобы осмотр начали сверху. А на шкафу лежали статистические сборники, журналы, папки с разными вырезками и выписками. Они, бедные, так умаялись, разглядывая всю эту коллекцию, что нижнюю, полку и осматривать не стали. «Что у вас там?» — спросил ротмистр. «Моя личная библиотека», — ответила я. Ротмистр махнул рукой и начал шарить в другом углу дома. Даже химические составы для тайнописи удалось спасти. Около шкафа на полу стоял небольшой чугунок, в котором мы хранили свою «химию». Вошла моя мама с ухватом и прямо направилась к чугунку. «Ах я, старая, — говорит, — опять забыла чугунок. Печь уже растоплена…» Подхватила чугунок и пошла с ним на кухню. Жандармы на весь этот спектакль не обратили никакого внимания.
Однако, несмотря на отсутствие компрометирующих данных, обыск у Ульяновых мог кончиться плохо, если бы жандармы начали доискиваться связей Владимира Ильича с другими городами Сибири. Именно в это время благодаря энергии Ленина, его поездкам в Красноярск и Минусинск, а главное, регулярной переписке с ссыльными и марксистами Сибири, находившимися на свободе, здесь повсюду начали возникать социал-демократические группы. Железнодорожное строительство, увеличение числа промышленных предприятий ускоряли процесс формирования рабочего класса. Это была благоприятная среда для создания широкой марксистской организации.
— Поговорим кое о чем более интересном, — переменил тему Владимир Ильич, — а то вы что-то приуныли. Каждый приехавший получит небольшой подарок. — С этими словами он подошел к столу, на котором лежала стопка книг. — Вот каждому по экземпляру. А эту книгу, — Владимир Ильич обернулся к Курнатовскому, — прошу вас передать Ванееву.
Работу Ленина все ждали с нетерпением. Ведь почти каждую главу обсуждали сообща. Все знали, что в апреле ее начали печатать. И вот книга у них в руках — «Развитие капитализма в России».
Владимир Ильич был доволен оформлением.
— Смотрите, как хорошо сделаны таблицы: дроби напечатаны особым шрифтом и ниже целых величин. Ни одна таблица не сверстана боком — нет надобности переворачивать книгу. Это все Анна Ильинична, умница, — говорил он о своей сестре, которая в Петербурге правила корректуру. — Это она убедила статистика Ионова, с которым ей пришлось работать, не портить, как это часто бывает, вида таблиц.
Заговорили об «экономистах».
— Когда я получу так называемый «Манифест» Кусковой, Прокоповича и других, мы обязательно обсудим создавшееся положение, — сказал Ильич.
— Здесь, в Шушенском? — спросил Курнатовский.
— Нет, Виктор Константинович, эту встречу мы проведем в Ермаковском. Ванеев добраться сюда не сумеет, а лишать социал-демократа возможности решать дела партии, даже если он находится на пороге смерти, неправильно… Кроме того, приезд товарищей подбодрит Ванеева.
Вечером все тронулись в обратный путь. В Ермаковском их ждал сюрприз: сюда для составления карты Минусинского округа прибыла партия топографов из Красноярска. Это были молодые, веселые люди — сибиряки, москвичи, петербуржцы. Ранним утром уходили они, нагруженные своими инструментами, на съемку. С ссыльными подружились быстро. Особенно им пришелся по душе Курнатовский. Перед отъездом они предложили ему отправиться вместе в Саянскую тайгу и в предгорья Саянского хребта, верст за двести от Ермаковского. Виктор Константинович немедленно попросил разрешения у минусинского исправника на двухнедельный отпуск.
Это было замечательное путешествие. Тайга раскрывала перед экспедицией самые неожиданные тайны. На третий день пути им встретился большой раскольничий скит, который не значился ни на одной карте России. Топографы решили запастись здесь продуктами. Виктор Константинович взял эту задачу на себя. Когда он подошел к одной из изб и попросил вышедшего на стук старика продать ему немного яиц и кувшин молока, старик вскинул на него подслеповатые глаза:
— Продать? Мы, батюшка, здесь не продаем. Мы меняем или же дарим бедным братьям.
Курнатовский сказал, что менять ему не на что, и вынул из кармана три рубля. Старик долго рассматривал зеленую бумажку и, наконец, сказал:
— Таких не помню… При царе Миколае другие ходили.
В молодости, было это в царствование Николая I, старик жил в Енисейске. Потом он поселился в таежном скиту и не знал, что творилось за последние пятьдесят лет в России. Лишь после долгих уговоров старик взял деньги за молоко и яйца.
Двигаясь дальше, топографы обнаружили еще несколько сел и скитов, не нанесенных на карту. Люди здесь жили по своим, ими созданным законам, не зная ни полицейских, ни царя-батюшки. Крестьяне, по преимуществу старообрядцы, не платили никаких податей. Они сами раскорчевывали тайгу, охотились, ткали, выделывали кожи, тачали сапоги. Работа топографов переполошила местное население. Навстречу экспедиции выходили старцы с хлебом-солью, обещали одарить медвежьими, волчьими, лисьими шкурами, лишь бы скит или село не попали на карту. О деньгах местная молодежь не имела никакого представления. Некоторые старики помнили о них смутно и пользоваться считали грехом.
Через две недели дошли до Саян, и начался подъем в горы. Курнатовский чувствовал себя превосходно, даже слышать стал лучше. Чудесный горный воздух, дикая, суровая природа словно переродили его. Он стал общительнее, очень внимательно присматривался к работе топографов.
«Революционеру все надо знать, — думал Виктор Константинович. — Что, если придется бежать и скитаться в тайге?»
С помощью новых товарищей он учился ориентироваться в лесу и позднее, через семь лет, с большой благодарностью вспоминал этих людей, давших ему знания, которые так пригодились во время его смелого побега из нерчинской тюремной больницы.
В Ермаковское Виктор Константинович вернулся один, друзья-топографы проводили его только до края тайги, а сами остались в Саянах еще месяца на полтора — продолжать съемку.
В Ермаковском первым, кого он навестил, был Ванеев. Виктор Константинович долго рассказывал соскучившемуся Анатолию о своей чудесной прогулке в Саянах, о тайге и неожиданных встречах. Ванеев выглядел плохо. Он не отходил от окна или сидел на скамейке перед домом, не сводя глаз с тайги, с белевших вдали гор. Он чувствовал, что это его последнее лето. Понимая состояние Ванеева, Виктор Константинович, забросив охоту, буквально не отходил от него. Курнатовского удивляла глубина суждений Анатолия. И от этого становилось еще грустнее — революционное движение теряло выдающегося человека.
В июле Курнатовский выбрался в Тесинское. Он избрал такой маршрут, что по дороге мог заехать в Шушенское. Как и всегда, его радушно встретил Владимир Ильич и сообщил, что время общей встречи в Ермаковском приближается. Радовало, что обыск, которому подвергся Владимир Ильич, последствий не имел.
Так же радушно встретили старого друга и тесинцы. Двинулись дальше, в Шошино, к Окуловым. Здесь гостей ждали обе сестры и их братья. Екатерина Ивановна, с которой Курнатовский не переставал переписываться, встретила его как старого друга.
Много гуляли, взбирались на крутую гору Ойку, — катались на лодках по Тубе, пели песни. Под вечер разбрелись по старому окуловскому саду. Наступало время задушевных бесед, песен, шуток.
Шаповалов и Курнатовский не отходили от сестер Окуловых. Найдя большую скамью, с которой открывался восхитительный вид на долину Тубы, залитую лунным светом, молодые люди, притихнув, подолгу просиживали здесь. Кто знает, какие мысли бродили в головах этих людей с такими разными судьбами! Но, может быть, именно здесь, в Шошине, в эти часы возникла та дружба, которая связывала их всю жизнь, была источником радости, скрашивала тяжелые невзгоды, выпавшие на их долю.
Наступил август — пора прощания с летом… В один из дней ермаковскую тишину нарушил стук тележных колес… Приехали Владимир Ильич, Надежда Константиновна, Кржижановский, Невзорова, Старковы, Ленгник, Барамзин, Шаповалов, Энгберг, появился Панин. На квартире у одного из ссыльных сообща организовали обед, во время которого Владимир Ильич зачитал текст так называемого «Кредо» «экономистов» и написанный им проект протеста. Долго обдумывали резолюцию. Подписать решили на квартире Ванеева.
Анатолий Александрович уже не поднимался с постели. Он лежал бледный, исхудавший, и все же, когда увидел приехавших товарищей, лицо его озарилось радостной улыбкой. Не позволяя ему встать, они осторожно подняли кровать и перенесли больного в соседнюю, более просторную комнату. Владимир Ильич еще раз, специально для него, зачитал текст кредо и ответ-протест. Первым ответ подписал Владимир Ильич. За ним поставила свою подпись Надежда Константиновна Крупская, потом — товарищи Энгберг, Старков, Старкова, Кржижановский, Шаповалов, Панин, Ленгник, Барамзин…
Владимир Ильич взял документ и подошел к постели Ванеева. Осторожно поправив подушку под головой больного, он положил ему на одеяло книгу, а на нее лист с текстом ответа, Присев на край постели, Владимир Ильич помог Ванееву подписать этот известный в истории Коммунистической партии «протест семнадцати». Следом за Ванеевым свои подписи поставили жена Ванеева, Сильвин, Курнатовский и Лепешинский.
Владимир Ильич не отходил от Ванеева. Он тихо беседовал с ним, часто гладил руку больного, безжизненно лежавшую поверх одеяла: прощались двое друзей, двое революционеров, один из которых уходил навеки, а другой, полный сил и энергии, готовился принять на себя всю тяжесть борьбы с самодержавием и долю труда товарища, такого близкого, дорогого ему.
Приближался вечер. Легкий ветерок колебал занавеску. Ванеев просил не закрывать окна, хотя становилось прохладно. Разговаривали очень тихо, чтобы не мешать Владимиру Ильичу и Ванееву, — все понимали, что это их последняя встреча. Когда уходили, Ванеев каждому пожал руку. Это было едва ощутимое прикосновение — человек угасал…
В пасмурный сентябрьский день все снова съехались в Ермаковское. На этот раз для того, чтобы отдать последний долг ушедшему из жизни Анатолию Ванееву. На скромном сельском кладбище Владимир Ильич произнес прощальную речь. Он говорил об одаренном, талантливом человеке, которого погубил царизм. Ленин призывал всех собравшихся так же честно служить великому делу грядущей революции, как это делал Ванеев.
После похорон Ванеева Курнатовского охватила тоска. Недели две он просидел, запершись дома, не навещал товарищей. А тут начались дожди…
«Буду просить о переводе в Минусинск», — думал он, шагая из угла в угол своей комнаты.
Это было тем более важно, что зимой заканчивался срок ссылки Владимира Ильича и он уезжал из Шушенского.
В октябре Курнатовский получил записку: его вновь звали в Шушенское. Он прожил там два дня. Побывал на охоте вместе с Владимиром Ильичем, а главное, здесь Виктор Константинович впервые услышал от Ульянова о плане создания общерусской политической газеты, которая должна была послужить делу объединения и сплочения партии. Владимир Ильич размышлял о том, как распределить силы, куда направить товарищей, которые заканчивали срок ссылки. Заговорили и о Курнатовском. Виктор Константинович перечислил города, где ему разрешалось жить после отъезда из Сибири. Их оказалось немного. Остановились на Тифлисе.
Ленин просил Курнатовского побывать у него за границей. Он собирался обосноваться в Женеве, где должна была печататься газета.
Говоря о Кавказе, Ленин отметил, что там очень нужны образованные марксисты, нужны вожаки, которые бы повели многонациональный кавказский пролетариат по правильному революционному пути, На Кавказе много идеологической путаницы. Владимира Ильича беспокоили и проявления национализма и шовинизма, попытки разъединить рабочих разных наций.
Курнатовский на долгие годы запомнил советы Ленина о том, что профессиональный революционер должен уметь обманывать охранку, быть умнее и хитрее ее агентов, никогда не терять связей с рабочими, с теми, кто ненавидит самодержавие и сочувствует делу революции.
— «Союзом борьбы» в Петербурге руководила крохотная группа, — говорил Владимир Ильич. — И жандармы, конечно, переловили бы, революционеров очень быстро, если бы они не имели тесной связи с рабочими. Это рабочие оберегали их, защищали, укрывали, когда в этом была нужда, помогали распространять прокламации.
Как должна работать группа конспираторов, ядро руководителей партии? Как они должны действовать, чтобы дела шли без провалов? Они обязаны окружить себя преданными людьми, которые всегда готовы помочь припрятать оружие, революционную литературу, шрифты для подпольных типографий, помогать следить за шпионами, полицией… И такие верные люди, истинные друзья, у марксистов есть повсюду. Ленин советовал не забывать обо всем этом.
А газета? Ее распространение? Организация корреспондентов? И это потребует напряженнейшей работы, и какой работы! Вокруг будущей газеты начнет складываться настоящая рабочая социалистическая партия…
Виктор Константинович слушал, стараясь не упустить ни одного слова из этих драгоценных советов. Не забыли они обсудить и детали транспортировки новой газеты на Кавказ из-за рубежа через черноморские порты.
В начале зимы Курнатовского перевели в Минусинск. А вскоре, в конце января, он, Барамзин, Лепешинские, Сильвин и другие ссыльные простились с Владимиром Ильичем, Надеждой Константиновной, Старковым, Сильвиной, которые возвращались в Центральную Россию. Они отбыли срок пребывания в Сибири.
А Курнатовскому еще нужно было жить в этих краях полгода. Долго тянулись последние месяцы ссылки. Он ездил в Тесь, в Ермаковское… Шошино зимой пустовало: разъехалась молодежь из окуловского гнезда.
В начале лета ссыльных встревожили события в Китае: русский царь отправил в Китай войска для подавления народной революции. Возмущение охватило всех ссыльных, всех передовых людей России. Почувствовав это, власти усилили надзор. Монголо-китайская и русская границы в Минусинском округе ранее никогда не охранялись. Переход границы не считался преступлением. На таежных охотников — единственных нарушителей государственных рубежей — никто не обращал здесь внимания. Но в связи с событиями в Китае из местного кулацкого населения организовали отряды, возглавляемые сотскими и урядниками. Они начали нести сторожевую службу на границе.
В конце мая в Минусинск приехала Екатерина Ивановна. Курнатовский был дома, читал, сидя у окна, когда знакомый голос заставил его вздрогнуть и от неожиданности выронить книгу…
— Хватит вам портить глаза в такой день. Доставайте лошадь, едемте за Шаповаловым, а потом на Минусинский тракт. Сегодня Глафира приезжает из Красноярска. Вот мы ее и встретим.
На Екатерине Ивановне был темно-синий костюм для верховой езды, на голове синяя шапочка, напоминавшая головной убор китайских мандаринов — чиновников старого феодального Китая.
Взяв у хозяина лошадь, захватив ружье и патроны, Курнатовский со своей спутницей помчался в Тесь. Шаповалов, узнав о том, что приезжает младшая Окулова, не заставил себя долго просить. Превосходно зная все местные пути-дороги, он взял на себя роль проводника. Миновали бесконечные тесинские заплоты, выехали в степь, залитую солнцем. Показались знакомые курганы… Но вдруг все одновременно осадили лошадей.
— Стой, стой! — кричали им из-за кургана. Навстречу Шаповалову, Курнатовскому и Окуловой выехала большая группа местных крестьян во главе с сотским.
— Стой, стрелять будем! — кричали крестьяне. Все они были вооружены.
— Да ты что, Иван Кузьмич! — закричал Шаповалов, узнав сотского. — С ума, что ли, спятил? Ведь это я, Шаповалов.
— Мы видим, что Шаповалов, — отвечал ему сотский. — А вот почему ты китайцу дорогу показываешь?
Шаповалов удивленно обернулся. Виктор Константинович, желая защитить Окулову, снимал с плеча ружье. Шаповалов все понял: именно ее, Екатерину Ивановну, крестьяне приняли за китайца. Зная, что Курнатовский плохо слышит, Шаповалов во весь голос закричал, чтобы он немедленно опустил оружие. Опустили свои ружья и крестьяне.
— Что же вы, люди добрые, — укоризненно спросил Шаповалов, — дочку Ивана Окулова не узнали, что ли?
Бдительные стражи государевой границы пригляделись и удивленно зашумели:
— А и вправду окуловская дочка! А нарядилась как мандарин! Вот мы, Сидорыч, и хотели стрелять. Да, наделали бы делов…
Крестьяне расступились и дали всадникам дорогу.
Начался Минусинский тракт. Вскоре впереди показалось облачко пыли. Это мчалась кошевка с Глафирой Ивановной. Повзрослевшая, еще более похорошевшая, Глафира стремительно бросилась к сестре, обняла ее, горячо пожала руки товарищам. Друзья двинулись дальше, в Шошино.
Вокруг расстилалась безбрежная сибирская степь, зеленели курганы, ворчала Туба, гнавшая в стремительном беге гальку по песчаному дну.
Попал Курнатовский в Тифлис осенью 1900 года. Возвращаясь из ссылки, он ненадолго задержался в Воронеже, где выполнил поручение Владимира Ильича, связанное с предстоящим выходом в свет «Искры», той самой русской марксистской политической газеты, которая явилась организационным центром для создания партии.
Курнатовский давно мечтал попасть в крупный промышленный город. Кроме того, Тифлис привлекал его и потому, что там предстояло работать среди пролетариев разных национальностей, преимущественно южан — горячих, деятельных. Люди эти говорили на разных языках, но их мысли, думы и действия были едины.
Правда, некоторые местные лидеры пытались разъединить рабочих и развести их, как говорил Ленин, «по национальным закоулкам». Они призывали к борьбе за копейку, отстаиванию местных национальных прав и тем помогали царизму действовать по принципу «разделяй и властвуй».
Но революционно настроенные рабочие Кавказа инстинктивно чувствовали, что настоящая борьба за свободу заключается в ином.
В Центральной России хорошо знали о стачке рабочих и служащих тифлисской конки, о волнениях в тифлисских железнодорожных мастерских… Печать либерального направления довольно пространно сообщала об этих событиях.
Но настоящих революционеров-вожаков на Кавказе явно не хватало. Слабость местных марксистских организаций, их недостаточный опыт часто Давали знать о себе. Так, стачка в железнодорожных мастерских кончилась неудачно, хотя рабочие боролись за свои права на редкость мужественно.
…Курнатовский поднимался по лестнице дома номер 19 по Арагвинскому переулку. Квартира сосланного на Кавказ Ипполита Яковлевича Франчески давно уже служила местом сборища «молодых» (так называли себя кавказские социал-демократы марксисты, не согласные с оппортунистическими взглядами Ноя Жордания и некоторых других лидеров местного национального движения).
Курнатовский нажал кнопку звонка. После долгих переговоров через полуоткрытую дверь его ввели в просторную комнату, окна которой были закрыты плотными шторами. Над столом, застеленным тяжелой тканой скатертью, висела лампа с зеленым абажуром. В комнате плавали слои табачного дыма — курили здесь, видимо, давно и много.
Франчески представил Курнатовского, подробно рассказав о его жизни, революционной деятельности. К Виктору Константиновичу потянулось множество дружеских рук. Минуту назад незнакомые люди, улыбаясь, здоровались с ним, называли себя: Филипп Махарадзе, Караджан, Скорняков, Скорнякова, Иван Лузин, Александр Цулукидзе, Иосиф Джугашвили, Платонов, Кецховели…
Курнатовского засыпали вопросами: как здоровье Ленина, давно ли его видел Курнатовский, когда намечается выпуск первого номера «Искры», каковы возможности доставки газеты через черноморские порты, каково будет политическое направление «Искры», кто войдет в состав ее редакции…
Вопросов было множество.
Виктор Константинович предупредил товарищей, что плохо слышит, и извинился, что иногда ему придется переспрашивать, — пусть не обижаются. Говорить в этот вечер пришлось очень много, и когда наступило время расставаться с новыми друзьями, Курнатовский почувствовал себя очень утомленным. Но он был безгранично счастлив: все выглядело так, как и предсказывал Владимир Ильич, — Курнатовский попал в среду дельных и преданных революции товарищей.
Крепко пожимая Курнатовскому руку, Филипп Махарадзе сказал:
— Если наладится пересылка «Искры» на Кавказ, мы обязательно организуем перепечатку ее в местных подпольных типографиях. У нас уже появились такие. Будем переводить отдельные статьи и материалы газеты на армянский, грузинский и другие языки народностей Кавказа.
Виктора Константиновича очень порадовало, что кавказские товарищи правильно поняли значение и задачи «Искры» и сами, не дожидаясь указаний из центра, начали думать о том, как распространять газету, как лучше использовать ее пропагандистские материалы для обучения рабочих, для сплочения их в нараставшей революционной борьбе.
Ночевать Курнатовский остался у Франчески.
Утром Виктор Константинович отправился на поиски работы — она была ему необходима как воздух. Проводив Франчески до редакции газеты «Новое обозрение», где Ипполит Яковлевич в то время сотрудничал, он пошел в управление министерства земледелия и государственных имуществ. Руководитель управления, старичок генерал в отставке, встретил его довольно приветливо, но… «пока ничем не мог быть полезен господину Курнатовскому»: штатный химик управления действительно собирался покинуть Тифлис, но еще не закончил какие-то личные или служебные дела. Генерал думал, что место освободится в декабре. Курнатовский усмехнулся, вежливо попрощался. Он понял, что все это — отговорки. Он долго бродил по Тифлису в бесплодных поисках работы.
Вечером к нему заглянул один из участников вчерашней встречи — Караджан. Это был армянин средних лет, необычайно располагавший к себе. Товарищи ласково называли его Бидза (по-армянски «дядюшка»). Это прозвище стало партийной кличкой Караджана. В печати он выступал под псевдонимом — Аркомед. Как и другие товарищи, он с первой же встречи почувствовал большую симпатию к Курнатовскому. Они разговорились. Выяснилось, что оба получили образование в Швейцарии, участвовали в работе группы «Освобождение труда», знали Плеханова. Но Караджан жил в Женеве, а Курнатовский — в Цюрихе. Они и тогда кое-что слышали друг о друге, но лично никогда не встречались.
Караджан не сразу стал марксистом. В Женеве он сблизился со студентами-армянами, которые издавали журнал «Гнчак» («Колокол»), названный так в честь «Колокола» Герцена. Однако эту группу студентов-армян связывали только узконациональные интересы. Их волновала борьба за освобождение армян, живших в Турции, где во время погромов уничтожали десятки тысяч ни в чем не повинных людей. Индивидуальный террор — таков был смысл политической программы молодых революционеров, объединившихся вокруг редакции журнала «Гнчак». Руководили этой группой молодежи некто Назарбек и его жена. Эту супружескую пару в шутку называли «царем и царицей» Армении. Супруги Назарбек всячески стремились изолировать студентов-армян от общения с русской молодежью, с революционерами-болгарами, грузинами и другими.
— Однако я, — рассказывал Караджан, — как и многие мои товарищи, быстро отошел от партии Назарбеков и стал марксистом. Супруги Назарбек и их последователи в дальнейшем основали политическую партию «Гнчак». Эта партия армянской мелкой буржуазии приняла в Закавказье название Армянской социал-демократической партии. Но рабочие уже научились отличать гнчаковцев от подлинных социал-демократов марксистов. Армянская молодежь, — продолжал Караджан, — горячо сочувствовала братьям армянам, над которыми глумились в Турции. Но в то же время многие из нас, ставшие социал-демократами марксистами, понимали, что только совместная борьба рабочих различных национальностей поможет нашим братьям освободиться, то есть завоевать гражданские права. Истинные социал-демократы армяне должны были бороться против капиталистов и крупных землевладельцев плечом к плечу с русскими, грузинскими и турецкими пролетариями. Ведь не турецкие рабочие или нищие крестьяне — враги армянского народа. Капиталисты и феодалы — вот наш истинный враг.
Караджан ввел Курнатовского в курс тех национальных переплетений, которые существовали на Кавказе. Он разъяснил, как ловко используют в своих интересах местная буржуазия и русский царизм национальную рознь, которую сами они сеяли между армянами, азербайджанцами, грузинами, натравливая один народ на другой.
Караджан оказался высокообразованным марксистом. Он участвовал в издании прогрессивного журнала «Мурч» («Молот»), который привлек на свои страницы таких передовых демократически настроенных писателей, как Ширванзаде, Прошян, Туманян, Исаакян. «Мурч» пропагандировал произведения русских классиков и лучшие произведения западноевропейских писателей. На страницах журнала можно было прочесть превосходные переводы Пушкина, Лермонтова, Толстого, Чехова, Горького, Петефи, Щедрина, Гейне, Гёте, Руставели… Тот же Караджан добился, чтобы в журнале помещались публицистические статьи. В этих статьях анализировалось рабочее движение с позиций марксизма. О многом, конечно, приходилось писать намеками, чтобы полиция но указанию цензуры не закрыла журнал. Курнатовский узнал от своего нового товарища и о том, как борется их журнал за реализм в армянской литературе, как пропагандирует народный разговорный язык ашха-рабар.
Караджан любил Хачатура Абовяна и Микаэля Налбандяна, Герцена и Чернышевского. Биографию Налбандяна — друга Герцена — Караджан знал до мельчайших подробностей. Он рассказал Курнатовскому о таком интересном факте: Налбандяна, умершего в ссылке, хоронили в Нахичевани. Друзья Налбандяна — и русские и армяне — подговорили, а может быть и подкупили, церковных служек, и в день похорон Налбандяна разом зазвонили на всех колокольнях Нахичевани. Это был сигнал — похороны Налбандяна вылились в революционную демонстрацию. Почти два года святейший синод и департамент полиции вели следствие по этому делу, но так и не нашли виновных.
Расставаясь с Курнатовским, Караджан посоветовал ему не тратить попусту времени и не ждать места в управлении министерства земледелия, а постараться устроиться на работу где-нибудь в пригороде. Караджан правильно рассчитал, что в винодельческих хозяйствах часто нужны были химики.
Прошло несколько дней. Дважды за это время собирались «молодые» в квартире Франчески. Обсуждали вопрос о первомайской демонстрации, о создании комитета РСДРП, о проведении массовой пропаганды идей марксизма. Махарадзе, Курнатовский, Кецховели, Иосиф Джугашвили, Караджан и многие другие выступали на этих собраниях, призывая участников революционного движения к энергичным действиям. Цулукидзе и Махарадзе предложили распределить между товарищами работу. По их плану Курнатовскому предстояло вести два кружка — в городской типографии и железнодорожных мастерских, где один кружок уже вел Джугашвили. А если обстоятельства будут благоприятствовать, то Виктор Константинович должен постараться организовать у железнодорожников еще несколько социал-демократических кружков.
Иосиф Джугашвили и Виктор Константинович попали в мастерские в обеденный перерыв. За грудой старых, заржавленных вагонных частей Джугашвили быстро разыскал двоих рабочих. Увидав гостей, они радушно поднялись, приветствуя их.
— Вот мой учитель, — сказал Джугашвили, указывая на пожилого рабочего.
— Аракел Окуашвили, — назвал себя тот.
— Нинуа, — представился молодой паренек.
Джугашвили обратился к рабочим с просьбой помочь Курнатовскому в организации кружка: подобрать надежных людей, познакомить Виктора Константиновича с обстановкой в железнодорожных мастерских. Потом заговорили о первомайской демонстрации.
— Демонстрация нам очень нужна, — согласился Окуашвили, — рабочие должны, наконец, поверить в свои силы. И на занятиях в кружках следует настойчиво готовить рабочих к проведению демонстрации. Но в этом деле необходима осторожность, большая осторожность, чтобы полиция преждевременно не догадалась о готовящемся первомайском сюрпризе.
Обеденное время близилось к концу, когда к ним подошел рабочий невысокого роста, лет двадцати пяти.
— Михаил Калинин, — представил его Нинуа. — Токарь, очень хороший токарь из Петербурга, — с непосредственностью южанина заявил Нинуа.
Калинин, не ожидавший такой аттестации, смутился.
Нинуа, оглядев собравшихся хитрыми черными глазами, сказал:
— Ну, конечно, он не сам приехал из Петербурга. Его оттуда вежливо попросили…
Все рассмеялись.
— За мной опять началась слежка, — предупредил Калинин. — Как бы не угодить в Метехский замок. Будьте осторожны, товарищи.
В этот же день Курнатовский вместе с Франчески и Караджаном зашел в типографию и познакомился со своими будущими кружковцами — печатниками и наборщиками.
Вечером на квартире у Аракела Окуашвили договорились: где и в какое время проводить занятия и о том, как начать подготовку к первомайской демонстрации.
Утром к Курнатовскому вновь зашел Караджан. Ему посчастливилось найти Виктору Константиновичу работу: одному виноделу нужен был химик-лаборант. Они быстро собрались и отправились за город. Хозяйство винодела находилось неподалеку от астрогеофизической обсерватории, где счетчиком-наблюдателем работал Джугашвили.
- Это удобно, — заметил Курнатовский. — Нам легче будет поддерживать связь.
Договорившись о работе и о жалованье, Курнатовский, не желая дальше стеснять Франчески, подыскал себе комнату. О том, какая это была комната, можно судить по тому, что хозяева удовлетворились задатком в один рубль.
По вечерам Виктор Константинович начал заниматься с печатниками и железнодорожниками. Теоретические положения учения Маркса Курнатовский умело подкреплял примерами из жизни, обращался к событиям сегодняшнего дня. Он говорил о том, что теория и практика неразрывно связаны между собой, что необходимо активно вмешиваться в события, бороться за свои права. И если его ученики сообщали, что защитили обиженных или уволенных рабочих, распространили прокламации или завербовали нового товарища в кружок, Курнатовский чувствовал, что он не зря отдает им свои силы и знания.
Прошло несколько недель. Короткая грузинская зима близилась к концу. Но, увы, близилось к концу и пребывание Виктора Константиновича на свободе. Уже в начале 1901 года товарищи начали подозревать, что в их среду пробрался провокатор. В Метехский замок попал Михаил Калинин. Вызвали на допрос в жандармское управление некоторых из железнодорожников. Чувствовалось, что полиция нашла какие-то нити, но до времени решила не трогать основное ядро тифлисских социал-демократов. Жандармы явно выжидали. Чего? Этого никто не знал.
В феврале через один из черноморских портов в Тифлис прибыла, посылка, адресованная сотруднику редакции «Новое обозрение» Франчески. Ее доставили в редакцию — так было условлено по конспиративным соображениям, — а вечером Франчески отвез ее домой, сделав при этом большой крюк. Ночью посылку вскрыли — это был первый номер ленинской «Искры». 24 февраля Курнатовский принес несколько экземпляров «Искры» в типографию. Он поздравил рабочих с выходом новой марксистской газеты, объяснил задачи «Искры» и прочел вслух несколько статей и заметок. Впечатление было огромное. Рабочие приняли решение об участии в первомайской демонстрации и дали обещание набрать и отпечатать несколько листовок.
На другой день «Искру» читали в железнодорожных мастерских. Со всех сторон сыпались просьбы к руководителям кружков о том, что необходимо собраться где-нибудь за городом, чтобы вновь послушать материалы газеты, обменяться мнениями, а заодно окончательно решить вопрос о предстоящей демонстрации. Такая сходка состоялась в начале марта в большом железнодорожном карьере. Здесь выступил Курнатовский. 11 марта он вновь выступал перед рабочими на сходке в Ортачалах, а неделю спустя — на горе Святого Давида, в самом центре Тифлиса.
Неподалеку от гробницы Грибоедова собрались рабочие и учащаяся молодежь: грузины, армяне, русские. Под горой расстилался большой многонациональный город.
— Товарищи, — заговорил Курнатовский, — этот город, столица древней Грузии, пережил не одно нашествие завоевателей и не раз поднимался из развалин. Он возрождался, как весна возрождает землю. Рабочий класс всей России, всего Кавказа, подобно весне, несет обновление обществу. Скоро улицы Тифлиса увидят нечто небывалое. Впервые за всю тысячелетнюю историю грузинской столицы под красными знаменами социализма пройдут по его улицам рабочие, плечом к плечу грузин и армянин, русский и азербайджанец, народы-братья. Пройдут люди общей судьбы, общих идей, имеющие общих друзей — рабочих всего мира. У них и общие враги — самодержавие, хозяева фабрик и заводов, помещики, жандармы. Пусть рабочие и студенты славного города Тифлиса Дружно готовятся к Первому мая. Российская социал-демократическая партия зовет их под свои знамена.
Последние слова его короткой речи слились с пением «Марсельезы». Кто-то поднял красное знамя с портретами Маркса и Энгельса, знамя Тифлисского комитета РСДРП. Комитет возник недавно — одновременно с появлением в Тифлисе первого номера ленинской «Искры».
Сходка на горе Давида всполошила полицию, которая давно уже имела в руках списки всех руководителей тифлисской социал-демократической организации. В этих списках, помимо революционных социал-демократов, находились и имена нескольких лидеров легального марксизма (кто их разберет, может быть, и эти за демонстрацию!). Полиция решила не медлить. 22 марта около двух часов ночи Курнатовский проснулся от знакомого еще со студенческих лет стука. Он быстро сжег несколько компрометирующих документов — первомайскую листовку, два-три письма… Стук усиливался…
— Сейчас оденусь! — крикнул он и открыл дверь.
Аресты в Тифлисе шли всю ночь. Схватили Франчески, Кецховели, Скорнякова, Лузина и других товарищей. У Караджана произвели обыск, но сам он скрылся.
Успел скрыться и Иосиф Джугашвили. В обсерваторию пристав с отрядом полицейских прибыл под утро. Сторож-грузин в темноте не мог рассмотреть, кто ломится в двери.
— Что за люди? — кричал он.
— Отворяй, полиция!
— Какая такая полиция? По ночам только разбойники ходят!
— Я тебе покажу разбойников! — прохрипел, грубо выругавшись, пристав.
Узнав знакомый голос, сторож открыл дверь и, низко кланяясь, сказал:
— Ваше благородие, вы бы сразу выругались, я бы понял, что это сам господин пристав. За чем пожаловали, милостивец? Может быть, на звезды посмотреть? Плохо сейчас видны звезды.
— Хватит болтать! — оборвал его пристав. — Показывай, где живет счетчик-наблюдатель Джугашвили? Где его комната?
Сторож с готовностью распахнул дверь в небольшую комнату… она была пуста.
— Зря беспокоились, ваше благородие, ночь не спали… Молодой человек еще вчера ушел с узелком. Убил кого? Или фальшивые деньги делал?
Пристав накинулся на сторожа:
— Тебя бы, каналья, надо убить, ты видел, как он уходил с узелком? Почему не сообщил полиции? Почему, спрашиваю?
Старик продолжал прикидываться дурачком:
— Откуда мне знать? Может быть, в Гори к родным поехал. Может быть, в баню ушел. Разве это мое дело — бегать в полицию? А сторожить кто будет?
Пристав махнул рукой. Полицейские вели обыск.
— Там очень много книг, ваше благородие, — сообщил один из них. — Дежурный говорит, что все научные книги, по астрономии, просит не трогать.
— Да, — подтвердил дежурный наблюдатель, обращаясь к приставу, — ваши люди, увидев таблицы со знаками зодиака, стали утверждать, что это шифр революционеров. И ради таких «открытий» разорять научную библиотеку?..
Пристав подумал, остановил обыск, созвал полицейских и вместе с ними покинул обсерваторию.
На другой день в Тифлис приехал Александр Сидорович Шаповалов, отбывший срок ссылки. Узнав об аресте друга, он отправился в жандармское управление просить, как родственник, свидания с Курнатовским. Получив отказ, Шаповалов затеял спор. Но жандармы с ним не церемонились: избили и выставили за дверь.
Для Курнатовского потянулись томительные дни пребывания в тифлисской бастилии, как называли Метехский замок грузинские революционеры. Два с половиной года провел он в этой тюрьме. Курнатовский и Ладо Кецховели организовали несколько коллективных протестов против царившего в тюрьме невыносимого режима. Виктора Константиновича не пугал даже знаменитый Метехский карцер, в который его сажали за нарушение тюремных порядков. В этом страшном карцере нельзя было встать во весь рост, не хватало воздуха. Он имел двойные стены, чтобы отсюда до камер, где сидели заключенные, не доносились стоны истязуемых — из карцера выносили без сознания.
Непримиримость Курнатовского и Кецховели чрезвычайно тревожила тюремную администрацию, и поэтому отправку партии заключенных, в которую входил Курнатовский, решили провести тайно, без свидания с родственниками и друзьями. Узнав об этом, Курнатовский и Ладо Кецховели организовали последний протест. Узники забаррикадировали двери в камеры койками, скамьями, табуретками. Перевязали все это жгутами из простынь. Тюремщики сдались. Они разрешили свидания с родными и друзьями. Но в ссылку приговоренных отправили не через Тифлис, где на вокзале собрались тысячи рабочих с красными знаменами, а через станцию Навтлуг, находившуюся неподалеку от города. Трогательно простился Курнатовский с Ладо Кецховели, оставшимся в тюрьме. Этим людям, непримиримым борцам за дело рабочего класса, не пришлось уже больше встретиться.
Как ни тяжело было в Метехском замке, Курнатовский и его товарищи провели годы заключения не зря: много читали, вели горячие споры с противниками «Искры» и Ленина. А после II съезда партии — со сторонниками меньшевизма. В новую ссылку в далекий Якутск, куда их отправили по этапу в кандалах, как уголовных преступников, Виктор Константинович ехал убежденным, прошедшим тяжелую школу революционной борьбы большевиком.
Приближалась революционная буря. Вся Россия кипела. Рабочие открыто выступали на массовых митингах, несли на демонстрациях красные знамена, на которых было написано: «Долой самодержавие!», «Да здравствует демократическая республика!» Следом за Обуховской обороной произошли бурные события в Екатеринославе, Одессе, Баку, Николаеве, Киеве. Массы пробуждались, ширилась борьба за свободу. Профессиональные революционеры могли теперь с гордо поднятой головой говорить, что в итоге неслыханных муки жертв, понесенных ими в борьбе с царизмом, факел, зажженный еще Радищевым и героями 14 декабря 1825 года, пронесенный через годы безвременья, через ряды виселиц и казематов каторжных тюрем, зажег яркое пламя революционного сознания, осветившего всю Россию.
Партия ссыльных, в которую входил Курнатовский и его товарищи, к моменту прибытия в центральную пересыльную тюрьму — знаменитый Александровский централ — значительно выросла: царизм в страхе перед революцией судил и отправлял в ссылку сотни, тысячи людей. По мере того как арестантские вагоны, в которых ехали Курнатовский и его товарищи, подвигались на восток, к ним присоединяли все новые и новые вагоны, в которых везли рабочих, осужденных за участие в массовых политических стачках и демонстрациях. Были здесь и крестьяне, и интеллигенты, и студенты. Попадались порою солдаты и офицеры, отказавшиеся стрелять в демонстрантов.
В руках у некоторых уже побывала ленинская брошюра «Что делать?». Ее читали, передавали друг другу. Вокруг этой работы Ленина завязывались горячие дискуссии. Однажды, когда кто-то из «экономистов», угодивших в ссылку, в споре неуважительно отозвался о Владимире Ильиче, назвав его главой раскольников, товарищ Курнатовского по Тифлису Сильвестр Джибладзе, обладавший бурным кавказским темпераментом, чуть не избил его.
— Это ложь! — закричал Джибладзе. — Ульянов всегда идет прямым путем. Употребляйте и в спорах и в борьбе честные приемы.
Виктор Константинович подошел к спорившим.
— Успокойся, Сильвестр! — Он положил руку на плечо Джибладзе. — Помни библейское изречение о свиньях и бисере. К тому же сюда идет полицейский…
В пересыльной тюрьме прибывших разместили в нескольких больших камерах. И сразу же заключенные повели борьбу за свои права. Каждая попытка тюремщиков уменьшить срок прогулки, запретить переписку вызывала бурные протесты: объявляли голодовку, стучали в стены и двери камер. Надзиратели, стражники, да и сам начальник тюрьмы, видя, что народ это все боевой, за свои права постоять умеет, для собственного спокойствия махнул на все рукой. Политические стали пользоваться такими поблажками, каких история Александровского централа не знала за все время его существования. Двери камер были открыты круглые сутки, заключенные виделись друг с другом, прогулки заканчивались лишь с наступлением темноты. Политические сами хозяйничали в тюремной кухне и столовой. Бумага и чернила выдавались им по первому требованию.
Заключенные единодушно уполномочили Виктора Константиновича вести все переговоры с администрацией. И когда он, обросший густой бородой, появлялся в сопровождении стражника у тюремной конторы, двери перед ним немедленно открывались.
В числе других прав, отвоеванных у тюремных властей, было разрешение, позволявшее всем беспрепятственно фотографироваться — группами и в одиночку, — для себя, для родных.
Нашелся, как в шутку говорили политические, придворный фотограф — Марк Оржеровский. Впрочем, его все звали почему-то не Марк, а Миша. Миша был родом из Одессы. В ссылку он попал за распространение революционных прокламаций и за помощь, которую оказывал подпольным революционным организациям в изготовлении фальшивых паспортов и других документов. Тоненький, совсем еще юный — ему шел тогда двадцать первый год, — Миша пользовался всеобщей любовью. Особенно благоволили к Оржеровскому неунывающие кавказцы, с которыми Миша лихо отплясывал лезгинку. Он ухитрился захватить с собой фотоаппарат, ванночки, кассеты — все, что мог взять из маленькой одесской фотографии. Товарищи охотно помогали ему переносить объемистый багаж.
К Виктору Константиновичу Миша привязался с первого дня знакомства. Курнатовский забывал о приступах глухоты, становился менее замкнутым, чаще улыбался, когда Миша начинал свои бесконечные рассказы о любимой Одессе и жизнерадостных одесситах. В одном только Курнатовский всегда отказывал Мише — он не любил фотографироваться. Но однажды Оржеровский подкараулил Виктора Константиновича, когда тот вместе с другими заключенными колол дрова около тюремной кухни. Миша незаметно заснял всю группу.
В Александровском централе Курнатовский написал брошюру «1903 революционный год». Рукопись удалось переправить в Иркутск. Вскоре ее напечатал Иркутский комитет РСДРП, который был большевистским, и организовал распространение брошюры. В своей работе автор отстаивал ленинские идеи о революционной борьбе.
Наступил ноябрь. Заключенные потребовали от тюремной администрации, чтобы им сообщили, наконец, куда и когда они будут отправлены в ссылку. Но тюремщики имели на этот счет строжайшее распоряжение — держать все в тайне. Курнатовский, который не раз пытался, но безуспешно, выяснить у тюремного начальства вопрос о том, как сложится их будущее, понял, что наступил момент для решительных действий. Собравшись и обсудив положение, заключенные выработали план действий: запастись продовольствием, прибегнув к помощи товарищей, находившихся на воле, и, «позаимствовав», что возможно, в тюремной кладовой, забаррикадироваться в камерах — не пускать в них никого из служащих тюрьмы. Затея была рискованной. Несколько лет назад такие действия заканчивались избиениями, карцерами, а порой и виселицами. Тюремщики расценивали такие происшествия как бунт. Но в 1903 году применять к политическим такого рода репрессии уже не решались. Царские охранники чувствовали, как реагирует общество на каждую весть о самочинной расправе над борцами за свободу. Общественные протесты, забастовки, демонстрации в поддержку заключенных, кампании, в печати… Вот к чему прибегал народ для защиты тех, кто томился в тюрьмах. И когда в один из дней заключенные перегородили двери камер койками, столами, матрацами, поленьями дров, тюремное начальство вступило в переговоры. По два-три раза в день Виктора Константиновича приглашали в контору. Начальник тюрьмы убеждал его, что рад бы сказать о сроках отправки и месте ссылки, но ему самому ничего не известно. Однако от товарищей, находившихся на воле, ссыльные знали, что распоряжение от иркутского губернатора уже давно получено. Поэтому Курнатовский продолжал требовать, чтобы заключенным сообщили интересующие их сведения. В конце концов на одиннадцатый день тюремные власти капитулировали и объявили о времени отправки к месту ссылки — в город Якутск. Тогда политические устроили пир, истратив все оставшиеся у них продукты. Надзиратели и стражники не осмеливались показываться в камерах.
Правой рукой Курнатовского в дни «осады» был Антон Антонович Костюшко-Валюжанич, присоединившийся к тифлисцам с одной из попутных партий ссыльных. Он ведал сооружением баррикад и вообще всей «военной стороной» дела. Это был очень своеобразный, яркой индивидуальности человек, беспредельно преданный революции, мечтавший о создании хорошо дисциплинированной и вооруженной армии.
Великие идеи, которые нес с собой борющийся пролетариат, привлекали наиболее честных и умных людей и из других классов тогдашнего общества. Одним из таких людей и был Костюшко-Валюжанич — сын полковника, потомственный дворянин, питомец аристократического Павловского военного училища (кроме того, он окончил и Екатеринославское высшее горное училище). Его ожидала блестящая карьера. Однако глубокие раздумья над жизнью России, судьбами людей труда, знакомство с марксизмом шаг за шагом привели его в лагерь революционеров. Под влиянием екатеринославской искровской организации, основанной И.В. Бабушкиным, он встал в ряды русской социал-демократии. В Екатеринославе Валюжанич познакомился с девятнадцатилетней работницей Стефанидой Федоровной Жмуркиной, приехавшей в Екатеринослав из глухой орловской деревеньки. Молодые люди горячо полюбили друг друга. В декабре 1901 года они участвовали в известной екатеринославской рабочей демонстрации. Стефанида, или Таня, как звали ее и сам Валюжанич и его товарищи, во время этой демонстрации несла красное знамя с лозунгом «Долой самодержавие!». За участие в демонстрации они больше года просидели в тюрьме. Вместе их отправили и в ссылку. Здесь они отпраздновали свою свадьбу в кругу друзей-единомышленников.
Новое революционное крещение Валюжанич и Таня получили на баррикадах Александровской тюрьмы.
Костюшко-Валюжанич быстро сошелся с Курнатовским. Они часами беседовали о бомбах, пулеметах — военной новинке того времени, — о Парижской коммуне и военных действиях, которые вели якобинцы против королей Европы в 1792–1794 годах.
Таня Жмуркина любила слушать их беседы, старалась не пропустить ни одного слова. Многого она еще не понимала и часто обращалась то к одному, то к другому с расспросами. Виктор Константинович относился к Тане с особой нежностью: он чувствовал себя как бы членом их молодой семьи.
Вскоре наступил день отправки к месту будущей ссылки — в Якутск. Мы не будем рассказывать о всех трудностях пути. Напомним только, что после якутской бойни в 1889 году царское правительство под влиянием массовых протестов и в России и за рубежом вынуждено было несколько смягчить условия сибирской ссылки для политических.
Но в начале XX века положение ссыльных вновь ухудшилось. В последние годы поднялась могучая волна рабочего движения, и лицо ссылки, социальный состав отбывающих наказание изменились. До 1897 года преобладающим элементом являлись революционеры-интеллигенты. После этого года в Сибирь во главе с Ульяновым попала значительная группа рабочих и интеллигентов-марксистов из «Союза борьбы». Ленин и его соратники рассматривали тюрьму и ссылку как «временный отпуск из армии революции», который следовало использовать, чтобы отточить идейное оружие для новой борьбы. Но не только идейным самообразованием занимались революционеры-ленинцы, находясь в ссылке. Они продолжали, если позволяли обстоятельства, вести революционную работу среди местного населения. Правда, делать; это приходилось очень осторожно. В 1901–1903 годах в связи с подъемом рабочего революционного движения резко увеличилось число рабочих, попавших в ссылку. Но одновременно увеличилось и число побегов не только с места ссылки, но и из тюрем. В столице империи — Петербурге — заволновались. Военного генерал-губернатора Восточной Сибири Пантелеева заподозрили в либерализме, он подвергся опале и получил отставку. Покидая свой беспокойный пост и желая хоть чем-то обелить себя в глазах царского двора, Пантелеев издал циркуляр, нарушавший даже законоположения, разработанные министерством внутренних дел о порядке содержания ссыльных. По этому циркуляру политические ссыльные после окончания срока наказания должны были ехать в Центральную Россию не за казенный, а за свой счет.
«Пусть еще поживут в Сибири, — рассуждал ретивый царский служака Пантелеев. — Если у них нет денег на проезд, что ж, тем лучше».
Но это решение Пантелеева было лишь цветочками. Ягодки ожидали ссыльных впереди. На место Пантелеева по рекомендации одного из самых черносотенных царских министров, фон Плеве, назначили графа Кутайсова. Еще в пути новый генерал-губернатор Восточной Сибири обратил внимание на недозволенное общение политических (которых гнали по этапу в Сибирь) с местным населением. И, добравшись в августе 1903 года до Иркутска, Кутайсов разразился потоком циркуляров, возвращавших политическую ссылку к «добрым временам» якутской бойни. Чего только не запрещал Кутайсов: общение на железнодорожных станциях всех следующих в ссылку с теми, кого сослали раньше, встречи ссыльных с местным населением, запрещалось отлучаться без специального разрешения местных властей с места ссылки. Их появилось много, очень много этих циркуляров, которые отнимали у людей последние права. За нарушение новых правил ссыльных отправляли в самые отдаленные, самые тяжелые по климату и бытовым условиям районы Якутии. А следом из Иркутска прислали новые циркуляры: о наказаниях ссыльных за попытки установить связи с местными рабочими организациями или подпольными социал-демократическими комитетами. Потом родилась на свет «форма сведений» о политических ссыльных, которая ежедневно направлялась в Иркутск. Надзирателей и инспекторов обязали по нескольку раз в день посещать ссыльных и в письменном виде Докладывать: кто у них бывает, какие ведутся разговоры, каково поведение ссыльного. Видавшие виды полицейские и жандармы и те пришли в смятение от требований нового начальства. В конвои для сопровождения ссыльных по инструкциям из Иркутска назначили самых озлобленных царских служак.
Бурная деятельность графа Кутайсова не замедлила принести свои плоды: начались столкновения политических с конвойными и жандармами. Канцеляристы Кутайсова уставали подшивать к делу то донесение об избиении поднадзорных в Верхоленске, то сообщение о заключении политических в «холодную» в Якутске, то доклад об избиении ссыльных конвойными в пути… На всех этих документах обычно красовалась кутайсовская резолюция: «Продлить ссыльным срок пребывания в ссылке». Делалось все это без суда и следствия, и революционеров ссылали куда-нибудь на «полюс холода».
Особенно возмутило всю ссылку усть-кутское дело. В конце января 1904 года партия ссыльных, продвигаясь по Ленскому тракту, обратилась к конвою с просьбой сделать остановку у села Усть-Кут, так как в дороге заболел один из товарищей. Но в Усть-Куте жило, несколько ссыльных. Поэтому, руководствуясь инструкциями Кутайсова, конвойные отказали в законной просьбе. Ссыльные запротестовали. Стража, набранная из местных казаков-кулаков, по приказу урядника зверски избила всю партию. Весть об избиении в Усть-Куте мгновенно разнеслась по всей Сибири и переполнила чашу терпения ссыльных. Особенно много скопилось их в это время в Якутске после революционных событий на юге России и известной ростовской стачки. Кое-как разместившись в городе, ссыльные ждали решения своей судьбы: оставят ли их здесь или отправят в далекие якутские улусы, затерявшиеся в снежном безмолвии.
В сентябре 1903 года Кутайсов отстранил за либерализм от должности якутского губернатора Скрипицына. На его место назначили Булатова — человека, близкого графу Кутайсову по своим убеждениям и методам действий. Булатову приказали немедленно отправить ссыльных, скопившихся в Якутске, в самые дальние улусы, где ссыльные, в большинстве южане, должны были жить в юртах, не имея ни медицинской помощи, ни достаточных запасов продовольствия, так как местное население само едва сводило концы с концами. Короче, их послали на смерть.
Усть-кутское побоище, приказ об отправке ссыльных в улусы, высылка в Нижне-Колымск политического ссыльного Каревина, вина которого заключалась лишь в том, что он из села Павловского, где отбывал ссылку (за 18 верст от Якутска), пришел в город за покупками, — все это было наглым вызовом, который бросил Кутайсов ссыльным революционерам. И тогда они решили дать отпор.
Курнатовский, сосланный в Батурусский улус (230 верст от Якутска), получив письмо от товарищей о готовящемся протесте, немедленно возвратился в город. Губернатор Булатов, которому поручили разослать ссыльных по улусам, то ли побоявшись, что в Якутске может вспыхнуть бунт, то ли посчитав, что выполнить в срок приказ Кутайсова невозможно, решил, чтобы снять с себя ответственность, покинуть Якутск и выехал «по делам». Расхлебывать все пришлось вице-губернатору Чаплину.
Еще в сентябре 1903 года якуты, у которых жили русские ссыльные, сообщали, что с одним из последних пароходов по Лене приехали два больших тойона (начальника). Оба они спустились по сходням на берег под руку, о чем-то дружелюбно беседуя. Один тойон — среднего роста (наверное, по мнению якутов, не самый главный), другой — высокий, плечистый (этот, надо думать, главный).
Однако якуты ошиблись. Самым главным тойоном оказался человек среднего роста, лет тридцати — новый вице-губернатор Якутска Николай Николаевич Чаплин, назначенный в помощь Булатову. Чаплин не был искушен ни в административных, ни в полицейских делах. И обязанности свои представлял довольно смутно. Он предполагал, что ему придется заботиться о просвещении края, о развитии скотоводства и ремесел. Но про себя решил (хотя и слышал о ссылке), что грязными делами заниматься не станет, — это он предоставлял Булатову.
Еще по пути в Якутск Чаплин решил обзавестись хорошим ветеринарным врачом, который мог бы работать при губернаторской канцелярии и разъезжать по улусам. Ему порекомендовали политического ссыльного Льва Львовича Никифорова, отбывавшего ссылку в Ачинске. Чаплин быстро устроил его перевод в Якутск и захватил Никифорова с собой. На пароходе они много беседовали о скотоводстве на Севере и о разных других вопросах, — Никифоров был еще и литератором и большим любителем театра. Никифорова-то, обладавшего представительной внешностью, якуты и приняли за главного начальника.
Чаплин, попав на свою хлопотливую должность в самый разгар кутайсовских реформ и потока циркуляров, растерялся. А после отъезда Булатова он вообще потерял всякое представление о том, как следует себя вести и действовать в моменты столкновений с ссыльными. Его мечты о цивилизации и просвещении быстро сменились мыслями о неукоснительном выполнении кутайсовских приказов. Он понял, что в противном случае ему не удастся удержаться на месте.
Именно в это самое время Курнатовский приехал из улуса, где он отбывал ссылку, в Якутск. Прибыли в город и другие политические. Все они разместились на квартирах у ссыльных. Партия, с которой пришел в свое время Курнатовский, считалась самой боевой — вместе с ней в Якутск попали и резолюции II съезда РСДРП, которые живо обсуждались в городе.
Как только Курнатовский и его товарищи зарегистрировались в губернаторской канцелярии, Чаплин попытался отправить их в якутскую тюрьму, а затем, как этого требовали указания графа Кутайсова, разослать по улусам. Однако вице-губернатор получил такой энергичный отпор со стороны ссыльных, что, растерявшись, велел полицейским отпустить прибывших на все четыре стороны, обязав явиться к полицейским властям через неделю.
Курнатовский поселился в «ивановке», в большом доме-общежитии, который ссыльные арендовали у домовладельца Иванова. К завтраку собрались ссыльные, жившие коммуной. Они страстно обсуждали события последнего времени: кутайсовские распоряжения, дело Каревина, усть-кутское избиение и т. д. Все настаивали на решительных действиях, и якутские старожилы и ссыльные, которые, так же как и Курнатовский, самовольно бросили свои улусы и приехали добиваться приема у губернатора, чтобы протестовать против невыносимых условий, в которые их поставили.
С этого дня Курнатовский уже не знал покоя. Нервы его были напряжены до предела. Сначала ссыльные собирались отдельными группами в домах, где они жили. Во время этих встреч одни предлагали поднять восстание в Якутске, разоружить гарнизон и полицию, затем создать нечто вроде революционного партизанского отряда, к которому постепенно присоединятся политические из других районов ссылки. Другие настаивали на том, чтобы направиться к порту Аяну, захватить там какой-нибудь корабль и бежать за границу. Один план, одно предложение сменялись другими. Но пора было уже от планов переходить к действиям. И вот по инициативе большевиков — Теплова, Костюшко-Валюжанича, Матлахова и других — решили собраться все вместе и обсудить, что следует предпринять. Инициаторы разослали всем ссыльным извещения о предстоящем собрании. Встречу назначили на 14 февраля 1904 года в доме якута Романова, где, так же как и в «ивановке», жило много ссыльных.
В столовой дома Романова стлались сизые клубы табачного дыма. Было душно. В комнату набилось до восьмидесяти человек. Курнатовский, сидя у края стола, внимательно слушал Павла Федоровича Теплова, своего старого товарища по Цюриху и работе в группе «Освобождение труда». Судьба снова свела их, но теперь уже в далеком Якутске. Теплов неторопливо разбирал различные варианты протеста. Когда он предложил выбрать какой-нибудь дом в Якутске, забаррикадироваться в нем, предварительно сделав запасы оружия и продовольствия, из-за его спины внезапно прозвучал чей-то ехидный голос:
— Вот вы, социал-демократы, пригласили сюда нас, социалистов-революционеров. А известно ли вам, что ваш второй съезд запрещает вам действовать вместе с нами, считая, по мнению ваших руководителей, что мы приносим, вред революции? Как с этим быть?
Теплов повернулся к говорившему, оглядел его с головы до ног. Это был худощавый высокий человек с нервным, подергивающимся лицом. Курнатовский попросил слова.
— Социал-демократы действительно пригласили сюда и эсеров и представителей других партий. Все мы находимся в царской ссылке. Вопрос о кутайсовском терроре и попранных человеческих правах касается всех нас. Так к чему же этот неумный выпад против нашего съезда? Социал-демократы борются не только за себя. Они выступают в этом деле представителями всех подвергнувшихся насилию. Если трусость удерживает некоторых господ от участия в протесте, пусть они прямо скажут об этом, а не ссылаются на второй съезд…
Не найдя, что возразить, эсер спрятался за спинами и больше не проронил ни слова.
К вечеру участники собрания договорились провести вооруженный протест или в доме Романова, или в доме Иванова. Условились встретиться на следующий день и обсудить детали организации протеста.
На второе собрание пришло только пятьдесят человек. Не успели все рассесться, как неожиданно появился вчерашний эсеровский оратор. Он положил на стол большой конверт и, не сказав ни слова, не простившись, вышел из комнаты. Теплов разорвал конверт и начал читать. Это был гнусный документ: все двадцать членов партии социалистов-революционеров, находящиеся в Якутске, заявляли о «принципиальном несогласии с протестом». Они писали, что признают только тактику «террористических актов», направленных непосредственно против виновников репрессий, и предупреждали, что массовый протест будет стоить политическим ссыльным многих жертв и якобы не достигнет цели… Раздались возгласы возмущения. В дальнейшем выяснилось, что эсеры обошли квартиры ссыльных и уговаривали их не участвовать в этом деле, ссылаясь на трагический опыт якутской бойни 1889 года. Нашлось два десятка трусов, примкнувших к ним. Так образовалась группа из сорока двух человек, которые заявили, что снимают с себя всякую ответственность за действия остальных ссыльных. Но участники второго собрания, руководимые большевиками, решили не отступать. Тут же постановили: запасаться оружием и продовольствием. Местом проведения протеста окончательно избрали дом купца Романова, где в это время жили ссыльные Шебалин, Виленкин и другие. Фасадом этот дом выходил на Поротовскую улицу. Участок земли позади дома был застроен амбаром и навесами. Этот участок примыкал к Мало-Базарной улице, а дальше — к берегу Лены, покрытой тогда льдом. Дом Романова был виден со всех концов города. В то же время, если бы возникла перестрелка с полицией, жителям других домов не грозила серьезная опасность. В городе решили оставить нескольких участников протеста — для помощи осажденным извне, для снабжения продовольствием, а если осада затянется — для передачи необходимых сведений о том, что говорят в городе, что предпринимают или намерены предпринять полиция, губернатор. По предложению большевиков определили и общественно-политический смысл протеста: путем вооруженной демонстрации добиться отмены возмутительных циркуляров графа Кутайсова.
— Кутайсовщина, — говорил, обращаясь к товарищам, Курнатовский, — не личное изобретение военного генерал-губернатора, а целая система угнетения людей, несогласных с произволом царизма, продуманная во всех деталях русским самодержавием. И хотя Кутайсов привнес в эту систему элементы личного самодурства и злобы, протест должен явиться коллективным выступлением не только против него, а главным образом против царского самодержавия.
Такова была точка зрения большевиков. Участники будущего протеста единодушно с нею согласились. Тут же распределили обязанности: одни должны закупать продовольствие, другие — проволоку, гвозди, третьи — оружие. Решили снова встретиться 17 февраля, чтобы подсчитать накопленные ресурсы и договориться о начале действий.
Два дня прошли в лихорадочной работе: Курнатовский с друзьями составляли шифр для световой сигнализации, ходили с длинным списком по лавкам и лабазам, не забыли и аптеку, где запаслись перевязочными материалами. Делать все это приходилось с величайшей осторожностью, чтобы полиция не обратила внимания на подготовку к протесту. Льва Никифорова, принятого в свое время якутами за большого тойона, освободили от всех организационных дел. Ему, как человеку, хорошо владеющему пером, поручили подготовить текст послания к губернатору. В этом послании перечислялись законные требования ссыльных.
17 февраля собрались в третий и последний раз. Избрали исполнительную комиссию, в которую вошли Кудрин, Теплов, Курнатовский, Костюшко-Валюжанич, Никифоров, Коган… Большинство в ней принадлежало большевикам. Возглавить комиссию предложили Курнатовскому. Но он, ссылаясь на то, что плохо слышит, предложил кандидатуру Кудрина и настоял на своем. Участники, будущего протеста поклялись не отступать и на следующий день начать решительные действия против якутского губернатора, а в его лице — против кутайсовщины и самодержавия.
Ранним морозным утром 18 февраля Курнатовский шагал по Поротовской улице. Он прошел мимо караульного помещения, расположенного по соседству с домом Романова. Стояла тишина. В морозном воздухе лишь отчетливо слышались шаги часового. Приставив ружье к стене, караульный хлопал рукавицами. Согревшись немного, солдат вновь начинал ходить…
С Поротовской улицы, которая вела на Монастырскую, была видна колокольня монастыря, покрытая инеем. К Монастырской улице прошагал городовой. Ничего не подозревая, он не обернулся, не посмотрел в сторону дома Романова.
«Значит, они ничего не знают», — с удовлетворением подумал Виктор Константинович.
Пользуясь тем, что улицы пустынны, Курнатовский решил внимательно изучить район возможного столкновения с полицией и войсками. На противоположной стороне Поротовской, как раз против Романовки, находился дом купца Кондакова, где жили Мария Савельевна Зеликман и жена политического ссыльного Ергина, который находился в то время в одном из улусов. Организаторы протеста были уверены в этих женщинах — именно им поручили передачу световыми сигналами всех важных новостей из города.
На всякий случай обеспечили и другой вид связи. Ергина имела ездовую собаку. Обычно Иголкин важно лежал на крыльце кондаковского дома, но достаточно было кому-нибудь из обитателей дома Романова поманить собаку, показав кусок рыбы, как она срывалась с места и бежала за лакомством. Вот эта собака и должна была переносить записки, спрятанные за ошейник.
Расставаясь 17 февраля с Ергиной и Зеликман, Курнатовский сказал:
— Возможно, мы поднимем над домом красное знамя. Если кого-нибудь из нас убьют, рядом с красным знаменем появится кусок черного крепа. Если среди нас окажутся раненые, слегка приспустим знамя, но на короткий срок, а потом подымем его вновь.
Мария Савельевна, покачав головой, ответила:
— Не желаю вам ни того, ни другого…
А Ергина даже прикрикнула на Курнатовского:
— Я не хочу об этом слышать!
Курнатовский обошел со всех сторон дом Романова, осмотрел высокий забор. Во дворе его внимание привлекли поленницы дров, заготовленные для отопления дома. Критически оглядел он и самый дом. Нижний, полуподвальный этаж занимала семья якута Слепцова.
«Надо будет его предупредить, — подумал Виктор Константинович, — чтобы успел выехать, помочь ему деньгами».
Заскрипела калитка. Во двор вошли Кудрин, Костюшко, Теплов, Наум Коган.
— Значит, ты раньше всех поднялся? — приветствуя Курнатовского, спросил Костюшко.
— Я давно здесь. Пока наших приготовлений, кажется, никто не заметил, — ответил Курнатовский.
— Ну, раз все собрались, пора приниматься за дело, — сказал Павел Федорович Теплов, пензенский землемер, воспитанник известного докучаевского Ново-Александрийского училища.
Николай Николаевич Кудрин, горный техник по образованию (родители его крестьянствовали в Оренбургской губернии), понимающе оглядел лиственничные поленья, лежавшие во дворе, и воскликнул:
— Хороший материал для баррикад!
— Часть дров используем на укрепление, часть — для отопления дома, — заметил Костюшко. — Как только участники протеста соберутся, начнем переносить лесины в дом.
Вскоре появился Никифоров.
— Проспал, а? — встретил его вопросом Теплов. — А еще член исполнительной комиссии…
Вслед за Никифоровым пришел Оржеровский с большим мешком, из которого торчал штатив фотоаппарата. Как он мог обойтись без него! Ведь не каждый день приходится фотографировать эпизоды настоящего бунта ссыльных.
Один за другим собирались участники протеста. Пришли Александр Федорович Журавель и Тимофей Трифонович Трифонов — молодые смоленские рабочие-большевики, неразлучные друзья, которых товарищи ласково называли Журкой и Тришкой. Появился любимец всех ссыльных Егор Павлович Матлахов, которого все звали не Егором, а Юрием. Еще мальчиком Матлахов ушел вместе с отцом из родной деревни и поступил на завод. Девятнадцати лет он уже принимал активное участие в революционном движении, работал в социал-демократических организациях Киева, Одессы, Николаева, Екатеринослава. В январе 1902 года с галерки Одесского театра Матлахов разбросал над партером множество листовок и крикнул:
— Долой самодержавие! Да здравствует политическая свобода! Да здравствует социализм!
Он случайно избег тогда ареста, но позднее в Екатеринославе его выдал провокатор, и Матлахов попал в Якутск. Беззаветная преданность партии, смелость, жизнерадостность привлекали к нему сердца революционеров.
Пришла Таня Жмуркина, жена Крстюшко-Валюжанича.
К девяти утра в доме Романова собралось уже сорок два человека.
Послышался скрип подъезжающих саней. Это подвозили мешки с хлебом, мясные туши, круги замороженного молока, ящики с гвоздями, мотки проволоки, топоры — все, что закупили по тщательно продуманному списку. Ссыльные встали цепочкой, и поклажа пошла по рукам в кухню, коридоры, комнаты романовского дома-крепости.
Костюшко и Матлахов в одной из комнат сортировали оружие. Ссыльные собрали 25 револьверов, из них — треть браунинги, десять охотничьих ружей, две старые берданки (ворон пугать!), дюжину топоров с длинными рукоятками, финские ножи.
— Не густо, — ворчал Костюшко. — Против винтовок якутского гарнизона, прямо сказать, скудно. Но воевать надо.
— Надо, — подтвердил Курнатовский, зайдя в «арсенал». — Может быть, еще поднесут или добудут те товарищи, которые оставлены в городе?
— Дай бог…
В разгар приготовлений во двор романовского дома внезапно зашел казак. Увидя стоящего у ворот Кудрина, он назвал нескольких ссыльных, которых ему поручено увезти в улусы. Кудрин пожал плечами и соврал:
— Здесь таких нет.
Казак постоял минуту и, не обращая внимания на то, что происходит во дворе, ушел — видимо, он решил, что ссыльные запасаются на зиму продовольствием, дровами.
Наума Когана, обладавшего канцелярским почерком, усадили переписывать обращения: к якутскому губернатору и якутскому обществу. Как только эти документы были готовы, Курнатовский, Кудрин и Теплов созвали всех участников протеста — подписывать документы.
Дом наполнился стуком топоров и визгом пил: укрепляли стены плахами лиственниц и поленьями, сбивая их, перевязывая проволокой. Когда все фортификационные работы закончили, настало время вручить ультиматум. Это вызвался сделать Тимофей Трифонов. Ему передали пакет на имя губернатора Булатова и «Обращение к якутскому обществу», которое Трифонов должен был вручить надежному товарищу, оставленному в городе для связи. Кроме того, ему передали много писем, адресованных к родным, чтобы он сдал их по дороге на почту.
— Теперь мы перешли Рубикон, — торжественно заявил Кудрин. — Как начальник обороны, приказываю забаррикадировать вход в дом и заднее крыльцо.
Около трех часов дня вернулся Триша. На него обрушился град вопросов.
— К губернатору меня не пустили, — рассказывал Триша. — Говорят, что Булатов в отъезде. Обещали срочно передать пакет вице-губернатору Чаплину, как только его превосходительство отобедают. Письма и воззвание к обществу передал по назначению.
А в это время в губернаторской канцелярии происходило следующее: после обеда Чаплин зашел в свой кабинет и увидел на столе большой пакет с пометкой «срочно». Распечатав его, он углубился в чтение документов. Перелистывая обращение ссыльных к якутскому губернатору, Чаплин все больше мрачнел.
«Черт бы побрал Кутайсова и его циркуляры! — думал он. — Вот заварилась каша! Да и Булатов хорош — уехал накануне этой истории. Теперь придется расхлебывать самому».
Несколько минут вице-губернатор обдумывал создавшееся положение.
«Пожалуй, лучше покончить дело миром, — решил он, — не доводя до всероссийского, а возможно, и всемирного скандала».
Чаплин вызвал полицмейстера Березкина и показал ему послание ссыльных.
— Наверное, они уже сообщили обо всем родным, — сказал вице-губернатор. — Тогда весть о протесте дойдет до России.
И Чаплин приказал Березкину немедленно отправиться на почту. Минут через сорок полицмейстер возвратился с объемистой пачкой писем. Чаплин вскрыл первый конверт, затем второй, третий… В своих письмах романовцы прощались с родными и друзьями, заявляли, что они будут бороться против произвола, не останавливаясь ни перед чем: их не испугают штыки и пули солдат, они готовы умереть за свободу, за свои человеческие права и права других ссыльных. Тон писем поразил Чаплина. Мысли о скандале, который могли вызвать письма там, в Центральной России, сменялись другими. Что-то человеческое шевельнулось в его душе. Он представил себе отцов, матерей, сестер, детей, родных и друзей, читающих эти послания, быть может, последние, которые они получат от дорогих им людей.
— Не отправлять! — воскликнул Чаплин и запер письма в ящике своего стола.
Он предложил Березкину направиться вместе с ним в дом Романова.
— Это, кажется, где-то на Поротовской? Березкин подтвердил и спросил у вице-губернатора, брать ли охрану.
— Не надо, — ответил Чаплин. — Постараемся уладить дело миром.
В шестом часу вечера, когда романовцы уже пообедали и сменили часовых, перед воротами дома появились две фигуры: одна в полицейской шинели, другая — в шубе.
— Лев Львович, — обратился Курнатовский к Никифорову. — Кажется, это ваш «приятель», с которым вы путешествовали по Лене, пожаловал, а с ним полицмейстер Березкин.
— Черт бы побрал этого, с позволения сказать, приятеля, — процедил сквозь зубы Никифоров. — Однако поговорить с ним придется.
— Вот и начинайте, Лев Львович, без дальнейших проволочек. «Друзья» всегда ведь быстрее договорятся, — пошутил Кудрин.
Стоял тридцатиградусный мороз. Вице-губернатора и полицмейстера впустили в сени дома и даже предложили им помочь перелезть через баррикаду, чтобы обстоятельно побеседовать. Но Чаплин и Березкин отказались. Отказались они и от предложенных стульев. Вице-губернатор внимательно выслушал ссыльных и обещал удовлетворить два требования: восстановить существовавший порядок отправки отбывших ссылку на родину за казенный счет и не применять никаких репрессий к участникам протеста.
— Только прошу скорей разойтись по домам, — несколько раз повторил Чаплин.
Что касается остальных требований, то он, Чаплин, считает, что не вправе решать их, и рекомендовал послать бумагу в Иркутск лично графу Кутайсову.
Романовны отрицательно ответили на предложения Чаплина.
— Вы и Булатов должны сами поставить перед Кутайсовым вопрос об отмене незаконных циркуляров, по которым мы лишаемся минимальных человеческих прав, — заявил от лица ссыльных Никифоров. — И пока циркуляры не отменят никто из нас не покинет этот дом даже под угрозой обстрела.
Переговоры длились дольше часа. Все сильно замерзли. Соглашение не было достигнуто.
— Даю вам срок до завтра, подумайте, — заявил, уходя, Чаплин.
На обратном пути вице-губернатора и полицмейстера встретила целая воинская команда во главе с полицейским надзирателем Олесовым. Усердствуя перед начальством, полиция распустила по Якутску слух, что политические ссыльные арестовали вице-губернатора и полицмейстера. Тогда Олесов решил направить солдат гарнизона на выручку высокого начальства. Отругав Олесова за неумеренное усердие, которое могло помешать умиротворению ссыльных, Чаплин вернулся домой.
На другой день романовцы решили никого к вице-губернатору не посылать. К полудню к дому Романова вновь пришел Березкин — теперь уже один — и стал просить «господ политических разойтись по-хорошему».
Ему ответили, что завтра дадут ответ.
В город романовцы выходили пока беспрепятственно, хотя у ворот стоял городовой. На третий день в Романовну, пришли еще несколько ссыльных, решивших участвовать в протесте. 20 февраля к Чаплину отправили его «приятеля» Никифорова. Лев Львович добился у вице-губернатора разрешения дать в Иркутск графу Кутайсову телеграмму с требованием об отмене циркуляров. Затем в кабинете Чаплина вновь началась беседа.
— Неужели вы думаете, — спросил Никифорова вице-губернатор, — что я не смогу восстановить порядок, применив силу?
— Мы в этом нисколько не сомневаемся, — отвечал Никифоров. — Мы не сомневаемся ни в превосходстве сил якутского гарнизона с его винтовками над нашим скромным вооружением; не сомневаемся, что нас можно расстрелять, взорвать, поджечь дом и осуществить это при полной безопасности для нападающей стороны.
— Так в чем же дело? — изумился Чаплин.
— А дело в том, — продолжал спокойно Никифоров, — что эти меры принесут гораздо больше вреда тому порядку, для охраны которого в нашей стране существуют пули, виселицы и ссылки.
— Я не собираюсь вас расстреливать, — ответил после короткого раздумья Чаплин. — Но не могу и допустить свободных отношений ссыльных с городским населением. Предупреждаю: сегодня же дом оцепит полиция…
Чаплин и Никифоров расстались более чем холодно. А к вечеру двадцать полицейских заняли посты вокруг дома Романова на Поротовской, Монастырской, Мало-Базарной улицах и на набережной Лены — видимо, романовцев решили взять измором.
Теперь в Романовке насчитывалось пятьдесят семь человек. Они с трудом разместились в трех больших и двух маленьких комнатах дома. Спали на полу, не раздеваясь. Через каждые два часа меняли караулы. Дежурные и разводящие с фонарем отыскивали место, куда поставить ноги, чтобы разбудить очередной наряд и не наступить на спящих. Женщины несли службу наравне с мужчинами, но и мужчины были обязаны выполнять женскую работу, стряпать, убирать… Миша Оржеровский, казалось, ни на минуту не разлучался с фотоаппаратом. Он делал один снимок за другим.
Иголкин аккуратно доставлял по три-четыре раза в день записки из дома купца Кондакова. Таким образом, осажденные были довольно подробно информированы о том, что происходило за стенами дома Романова. Впрочем, в первые дни участники протеста могли еще свободно гулять по двору под охраной специально созданного для этих целей отряда, вооруженного берданками. Городовые и не пытались заглядывать во двор.
В Романовку проскальзывал то один, то другой товарищ из города, пользуясь тем, что полицейские часто оставляли свои посты и ходили погреться в соседние дворы, а порою исчезали и на более длительные сроки в ближайших трактирах. Последним пополнением (они вошли в счет пятидесяти семи) был лихой въезд на санях веселых грузин: Мирзабека Габронидзе, Ираклия Центерадзе и Мираба Доброжгенидзе — крестьян из Озургетского уезда Кутаисской губернии, сосланных в Якутск за организацию аграрных беспорядков. Под бурками, с которыми они не расставались и в Якутске, товарищи-грузины привезли ружья и большой запас патронов. Вместе с ними в дом Романова прибыл офицер Владимир Петрович Бодневский. Он был осужден за то, что призывал солдат не стрелять в демонстрантов. Вместе с Бодневским появился и его друг — Виктор Яковлевич Рабинович, еще совсем молодой человек. Он недавно окончил реальное училище и был сослан в Якутск по делу Одесского комитета РСДРП.
В Романовке собрались представители почти всех народов, населяющих Российскую империю. Тон, как говорится, задавали большевики вместе с ссыльными, которые примыкали к ним по своим политическим убеждениям. Затем шли бундовцы. Остальные принадлежали к различным группировкам и национальным социал-демократическим партиям или же вообще не состояли ни в каких партиях. Они попали в ссылку за сочувствие и помощь революционерам или за участие в революционных демонстрациях. Среди беспартийных внимание привлекал Бодневский. Дворянин Бодневский в молодости увлекался учением Льва Толстого. Но со временем он из толстовского вероучения выбросил христианскую формулу непротивления злу. Владимир Петрович сохранил лишь презрение к тунеядцам и тунеядству, ненависть к завоевательным войнам, к порабощению других народов, ко всякому насилию и произволу. Участвуя в бесславном походе, который русский царизм предпринял вместе с другими, империалистическими державами для подавления народно-освободительного боксерского восстания в Китае, Бодневский своими глазами увидел, что творили английские, немецкие и иные «цивилизаторы». Человек честный, справедливый, он не мог оставаться равнодушным, бесстрастным наблюдателем и всячески старался удержать подчиненных ему солдат от насилий над свободолюбивым китайским народом, народом-тружеником.
Вернувшись из Китая, Бодневский немедленно подал в отставку, отказавшись, как и Костюшко-Валюжанич, от блестящей карьеры гвардейского офицера. Взяв за образец героя романа «Что делать?» Рахметова, Бодневский вскоре после своей отставки ушел из дому. Как и Рахметов, он работал грузчиком на пристанях, был бурлаком, скитался по всей стране. И всюду он призывал людей к братству, безбоязненно разъяснял народу то зло, которое несет служба в армии, жандармерии, полиции, то есть служба, поддерживающая угнетение народов. Свои поучения Бодневский облекал в форму евангельских проповедей. Полиция косилась на него, несколько раз сажала в тюрьмы. Однако помня о дворянском происхождении и чине поручика запаса, Бодневского считали просто выжившим из ума, блаженным барином, который впал в сектантство или иную религиозную ересь… Поэтому, продержав небольшой срок в заключении, его, как правило, выпускали до какой-нибудь очередной истории. Так продолжалось до тех пор, пока Бодневский не начал призывать солдат переходить на сторону рабочих. Тогда-то его и сослали в Сибирь.
В тюрьме он получил первые уроки революционной теории от социал-демократов марксистов. Конечно, бродягу-мечтателя, бунтаря-одиночку не сразу приучишь к дисциплине. Курнатовский с первого же дня знакомства деликатно и умело, но в то же время упорно занялся воспитанием Бодневского в духе большевизма — его энергию следовало направить в правильное русло, а знания военного дела обратить на пользу революции. И, несомненно, Виктор Константинович добился бы многого, если бы располагал большим временем и не случись в дальнейшем катастрофы, которая навсегда разлучила этих людей.
Несмотря на полицейскую блокаду, настроение у романовцев по-прежнему оставалось бодрым. Запасов провизии пока было достаточно. Но думать о том, чтобы пополнить их, стали заранее. Подвезти из города? Теперь это сделать очень трудно. Однако 22 февраля выход нашли. В полуподвале жил якут Слепцов. Он отказался выехать из дома, несмотря ни на какие уговоры и обещания денег. В этот день романовцы, члены исполнительной комиссии, спустились к нему и предложили продать продукты, которые Слепцов хранил во дворе, в амбаре. Якут, сочувствовавший им, охотно согласился. Это давало возможность значительно пополнить запасы мясом и рыбой. Но чай, хлеб, сахар были на исходе.
— Берусь добыть, — с таким заявлением выступил двадцатитрехлетний Михаил Логовский, скромный служащий земства, обвиненный в подготовке убийства одного из реакционнейших представителей правящих кругов того времени — обер-прокурора Святейшего Синода Победоносцева.
Для выполнения плана Логовскому понадобился белый халат. Женщины смастерили его из простынь. Логовский оделся и, прижимаясь к сугробам, прополз вдоль забора, счастливо миновав полицейских, которые грелись у костров. Зайдя в какой-то переулок, Логовский снял халат, спрятал его под шубу и благополучно прошел через полицейские кордоны, окружавшие дом Романова. Но возле губернской канцелярии его схватила полиция. В участке он так нахально божился и клялся, что не имеет никакого отношения к «бунтовщикам», что заглянувший под утро в участок полицмейстер Березкин, у которого не оказалось под рукой списка осажденных, велел выпустить Логовского. Так как Михаила не догадались обыскать, его маскировочный халат уцелел.
Целый день пробыл Логовский в городе, делая необходимые покупки, собирая новости. К вечеру он нанял у хозяина своей квартиры коня. В сумерках, надев белый халат, приторочив к седлу мешок с чаем и сахаром, Миша вскочил на лошадь и вихрем помчался к заветной цели. Не успели городовые поднести свистки к обледеневшим усам, как Логовский уже слезал с лошади во дворе дома Романова. Затем он подозвал одного из полицейских, приоткрыл ворота, вручил полицейскому уздечку Кобчика и записку, в которой был указан адрес хозяина лошади. И тотчас закрыл ворота. Обескураженный страж повел коня по указанному адресу, а романовцы накинулись с расспросами на Логовского.
— Что слышно в городе? Что нового?
— Вести не совсем хорошие, — рассказывал Логовский. — Власти, видимо, готовятся к бою. Рассказывают, что полицейский надзиратель Олесов снял с парохода «Лена» пушку. Он намерен установить ее на колокольне, что на Монастырской улице. Правда, в городе утверждают, что из этой пушки стрелять нельзя — взорвется. На «Лене» она стояла скорее для украшения.
На другое утро во дворе монастыря, который был хорошо виден из окон Романовки, действительно появились солдаты. Они поднялись на колокольню и осматривали оттуда мятежный дом. «Военные руководители» — Бодневский и Костюшко-Валюжанич — отдали приказ: укреплять бревнами и мешками с песком сторону дома, обращенную к Монастырской улице.
26 февраля романовцы направили через полицейских записку Чаплину с требованием немедленно снять полицейскую блокаду дома. В этот же день по предложению Курнатовского и Костюшко решили поднять красное знамя. Все участники протеста собрались во дворе, охраняемые своим «летучим отрядом». Это была торжественная минута. Несмотря на мороз, все сняли шапки. Под пение «Марсельезы» красное полотнище плавно поднялось по флагштоку — первый случай в истории якутской ссылки, когда красное знамя развевалось над городом. Полицейские наблюдали за всей этой сценой молча, злобно переглядываясь.
На другое утро у дома Романова вновь появился полицмейстер Березкин. Он принялся уговаривать ссыльных спустить флаг. Кроме того, он сообщил, что дело о кутайсовских циркулярах «кажется, решается в угодную для ссыльных сторону». Но романовцы не поверили полицмейстеру. Ежедневно в шесть часов утра они поднимали над домом флаг и опускали его только на ночь.
28 февраля выйти на разведку в город решился Лев Львович Никифоров. Его долго отговаривали: «У вас такая представительная фигура, что полицейские немедленно обратят на вас внимание»… Крайне обидчивый Никифоров решил, что его подозревают в попытке дезертировать. Он дал понять, что именно так расценивает нежелание товарищей отпустить его в город. Курнатовский и Кудрин махнули рукой — пусть попробует… К сожалению, предсказание романовцев оказалось верным: Никифорова заметил надзиратель Олесов. Льва Львовича тотчас схватили и отправили в один из отдаленных якутских улусов.
В тот же день на разведку в город, а также с поручением раздобыть продукты направили еще двоих: Бодневского и Лурье. Лурье имел большой опыт в конспиративной деятельности. Он не раз обводил полицию вокруг пальца. Обманул ее и на этот раз.
Дом Романова выходил на набережную. Выследив момент, когда по берегу Лены проходил обоз, загородивший на несколько минут от полицейских постов забор, Бодневский и Лурье отодвинули в заборе одну из досок и прошли за гружеными санями до Мало-Базарной улицы. Там они смешались с прохожими. Им удалось купить десять пудов печеного хлеба, масла и другие продукты. В полдень зашли к знакомому ямщику и попросили приготовить двое саней, запряженных парой и тройкой лошадей.
— Званы на свадьбу в селе Тулугинцы, — соврал Бодневский.
Рассчитались с ямщиком и попросили его держать коней в упряжке. Затем с помощью, двух ссыльных, находившихся на воле, они спрятали купленные продукты в одной из надежных квартир. Закончив работу, вышли из дому и буквально наткнулись на полицейского.
— Вы не встречали политических из дома Романова? — спросил их страж порядка.
— Нет, а зачем они вам?
— Если увидите, — ответил полицейский, — скажите, пусть зайдут за письмами в участок.
Бодневский и Лурье переглянулись: они тотчас разгадали ловушку…
— Думают, что романовцы дурачье!
Подождали пока полицейский отошел на значительное расстояние и, спрятавшись за углом, начали наблюдать за домом, где оставили продукты. Через некоторое время показался тот же полицейский. Он вошел во двор, но скоро вернулся, явно разочарованный.
— Ничего, — сказал Бодневский. — Смелость города берет! Наверное, за этим домом перестанут следить и станут разыскивать нас в другом месте.
Отправились к ямщику. Ямщик сообщил, что лошади для господ ссыльных готовы. Бодневский сел в одни сани, Лурье — в другие и погнали. Вдруг их кто-то окликнул.
«Ну, пропали», — подумал Лурье.
— Да это же наши! — воскликнул Бодневский. Остановили сани. Подбежали Павел Макарович Дронов, оружейник Ашхабадского арсенала, и студент Московского университета Алексей Дмитриевич Добросмыслов. За ними торопился Мирзабек Габронидзе.
— Вы откуда здесь? — удивился Бодневский.
— Посланы вслед за вами, на случай если произойдет неудача. Нам тоже удалось купить кое-что, — ответил Дронов.
Оставив лошадей в переулке, соблюдая большую осторожность, вошли поодиночке в дом, где Бодневский и Лурье оставили мешки. Поклажу погрузили на сани. Все было в порядке. Смеркалось…
— Пожалуй, пора, — сказал Бодневский. Распахнули ворота, Габронидзе лихо присвистнул, и лошади, рванувшись с места, вихрем понеслись по обезлюдевшим улицам. Вот и Поротовская. Кое-где маячат полицейские. Остальные, видимо, ушли греться.
— Смотрите, — сказал городовой Тихомиров своим товарищам, — верхоянская почта… Бубенцы-то как звенят! Ямщики у них лихо правят.
Но он обознался… Полицейские опомнились только тогда, когда распахнулись ворота Романовки и на улице показался «летучий отряд» с берданками наперевес. «Верхоянская почта» влетела во двор. Полицейские с проклятиями бросились к заплоту, но было поздно: ворота закрылись.
— Двадцать пудов провизии! Да это целое богатство! — ликовали романовцы.
Когда мешки перенесли в дом, Бодневский подозвал из-за забора одного из полицейских, дал ему гривенник на водку и попросил взять лошадей и вернуть их хозяину. «Летучий отряд» открыл ворота и выпустил лошадей. Полицейские и не пытались воспользоваться благоприятным мгновением и ворваться во двор — ружья «летучего отряда» действовали на них отрезвляюще.
— Даром эта вылазка нам не обойдется, — сказал Кудрин.
— Конечно, они нам этого не простят, — согласился с ним Костюшко-Валюжанич. — Теперь надо готовиться к настоящему сражению.
И 2 марта с утра все население Романовки принялось укреплять внутреннюю часть стен бревнами, каменными плитами, всем, что можно было еще собрать на территории двора. В двенадцать часов этого памятного дня около дома появился начальник якутской воинской команды Кудельский. Он действовал вначале очень осторожно. Через щели калитки заглянул во двор. Убедившись, что там никого нет («летучий отряд» в это время был в комнатах, занимался укреплением дома), Кудельский, осмелев, прошелся мимо Романовки. Затем исчез. Но уже в два часа дня появился вновь с отрядом солдат. Из окон дома их пересчитали: в команде было двадцать три человека. За солдатами к дому приблизились полицейские. Потом подъехало много саней, груженных лесом. Солдаты и полицейские начали заваливать ворота бревнами, перегораживать улицу специально заготовленными козлами, на которые также укладывались бревна.
— Да, это уже правильно подготовленная осада, — сказал Бодневский, наблюдавший с Кудриным и Курнатовским за действиями солдат и полиции. — Но стрелять пока нельзя. Подождем, что будет.
Солдаты работали до самых сумерек. Они разобрали заплот между зданием караульной и двором Дома Романова. Некоторые из солдат вели себя чрезвычайно нагло: подходили к окнам, стучали в них, бранились площадными словами. Все это были кулацкие сынки, которых начальство опаивало водкой и сулило награду за расправу над «бунтовщиками». Но романовцы не поддались на провокации. Костюшко высказал предположение, что солдаты и полиция могут разбить стекла и, подвезя пожарные насосы, начать поливать осажденных ледяной водой. Тогда взялись за новую работу: сколотили дощатые щиты, обили их кошмой и тряпками. Потом этими щитами загородили окна и поставили возле них дежурных, которые сменялись через каждые два часа. Ночью солдаты повели себя совсем непристойно. Они начали швырять камни и осколки льда в красное знамя, пытаясь сбить его. Особенно распоясались иркутские и енисейские солдаты, набранные из казацких кулацких семей. Это они составляли тот самый конвой, который избил усть-кутскую партию политических ссыльных. Кудельский вел гнусную работу: натравливал солдат на романовцев — говорил, что конвой задерживают в Якутске из-за «бунтовщиков».
— Выходите! Из-за вас мы здесь мерзнем. Выходите подобру-поздорову, — орали полупьяные солдаты, демонстративно заряжая винтовки и целясь в окна.
Так прошла ночь. Никто в Романовке не спал. Утром вновь появился Кудельский. Кудрин, подойдя к двери дома, сквозь небольшую щель подозвал его и предупредил, что солдаты ведут себя вызывающе и что все это может плохо кончиться. Кудельский пожал плечами и ответил:
— Теперь они мне не подчинены, а переданы в распоряжение полиции.
Это была очередная ложь.
События развивались. Под полом, в полуподвале послышался шум. Сквозь щели между щитами и стеклами осажденные увидели, как полицейские вытаскивали мешки, узлы, ящики, мебель — полиция выселяла якута Слепцова и его семью.
— Могут начать стрелять сквозь пол, — заметил Оржеровский.
К обеду романовцы не притронулись. Роздали по рукам оружие, зарядили ружья и револьверы. Было решено: если солдаты начнут стрелять сквозь пол — занять полуподвал штурмом. Во второй половине дня солдаты подошли прямо к дому и начали штыками закрывать ставни. В это время, чтобы подбодрить свое воинство, появился полицейский надзиратель Вальконецкий. Бодневский высунулся в форточку и попросил стоявшего поблизости солдата передать надзирателю записку, в которой участники протеста обращались к караулу и настаивали, чтобы прекратили бесчинства. Вальконецкий подошел к окну и начал невнятно говорить, что солдаты тут ни при чем.
— Ложь, — закричал Бодневский, — вы их натравливаете на нас!
Надзиратель, махнув рукой, повернулся и зашагал к караульному помещению. Возле амбара застучали топоры. Солдаты соорудили высокие козлы, набили на них доски и подтащили к окнам.
— Готовятся к приступу, — предупредил Костюшко-Валюжанич.
Однако в этот вечер солдаты и полиция не пошли на штурм. Всю ночь они ругались, швыряли в дом камни и куски льда. Рано утром Бодневский написал новую записку, теперь уже на имя вице-губернатора, в которой романовцы требовали обуздать караул. Ее передали, как и первую записку, через форточку дежурившему у дома полицейскому.
Все утро осажденные продолжали укреплять дом. Солдаты на время утихомирились. Но после обеда они снова начали тыкать штыками в ставни. Развязка близилась. Около трех часов дня женщина, дежурившая у окна, крикнула Курнатовскому, что солдаты разбили стекло и оскорбляют ее. Виктор Константинович бросился к ней на помощь. Под окном стояли рядовые Кириллов и Глушков.
— Скоро мы вас всех прикончим, — орал Кириллов, целясь в окно из винтовки.
Глушков, мерзко ругаясь, пытался закрыть ставню штыком.
— Сейчас же отойдите от окна, иначе буду стрелять! — крикнул Курнатовский.
— Только подыми ружье… — дальше следовала непечатная брань. — От вашей конуры дым пойдет! — заорал совсем осатаневший Глушков.
Разнузданная, полупьяная солдатня рвалась в дом.
— Стреляй! — кричали Курнатовскому стоявшие сзади товарищи. — Стреляй, выхода нет!
Курнатовский, почти не целясь, выстрелил… Один, второй раз… Солдат упал, другой, схватившись за живот, побежал в сторону караульного помещения. Наступила зловещая тишина.
Курнатовский отошел от окна, ружье в его руках еще дымилось. Он крикнул, предупреждая товарищей, что вот-вот может начаться обстрел. Бодневский тут же приказал всем лечь на пол. Только дежурные остались на наблюдательных постах. Матлахов влез на помост, сооруженный около входной двери, и взял ружье на изготовку. Послышался топот солдатских ног. Затем раздался залп. Над полом просвистели пули, пробившие насквозь деревянные стены.
И снова наступила тишина, в которой с особой отчетливостью раздался стук упавшего ружья. Все обернулись: Матлахов медленно, словно нехотя, падая, сползал с помоста. Курнатовский бросился к Юрию. Матлахов был мертв, по лбу сбегала тоненькая струйка крови — пуля пробила голову. Со слезами на глазах Курнатовский сложил ему руки на груди.
Прогремел новый залп, за ним третий, четвертый… Курнатовский лежал около тела убитого товарища, не обращая никакого внимания на грозившую опасность.
«Зачем я стрелял? — думал он. — Конечно, рано или поздно развязка все равно наступила бы. Но почему первой жертвой стал Юрий? Милый, дорогой нам всем Юрий! Почему не я, полуглухой, никому уже не нужный человек?»
Он лежал, гладя холодные руки убитого товарища, не слыша свиста пуль. Наконец голос Костюшко-Валюжанича вывел его из оцепенения.
— Что с тобой, Виктор? Ты ранен?
— Нет.
Курнатовский оглянулся. Укрепления, которые они сделали, предохраняли стены только в нижней их части, примерно на метр от пола, выше же пули пронизывали дом насквозь. Естественно, что приходилось лежать на полу, спасаясь от выстрелов. Однако вскоре и у самого пола обнаружили незащищенные места. Пуля, пройдя у косяка двери, навылет пробила ногу слесарю Илье Хацкелевичу.
Обстрел продолжался больше часа. Затем все стихло, и спустя несколько минут раздался резкий стук в дверь.
Теплов и Валюжанич бросились к двери.
— Кто там? Что вам надо?
— С вами желает говорить господин вице-губернатор, — послышался голос.
Теплов и Валюжанич подошли к разбитому пулями окну и отодвинули щит. Чаплин стоял около дома. Вице-губернатор был сильно взволнован.
— Вы понимаете, что вы наделали? — закричал он. — Один солдат убит, другой смертельно ранен. Теперь я должен отдать вас всех под суд. Предлагаю сдаться и покинуть дом. Не усугубляйте свою вину.
— Это вы виноваты в гибели солдат, — возразил Теллов. — Мы просили, чтобы вы обуздали гарнизон, прекратили провокации. Вы вынудили нас защищаться.
— Можете продолжать расстрел, — добавил Костюшко-Валюжанич. — Приводите сюда хоть полк с артиллерийскими орудиями! Никто из нас отсюда не уйдет!
Вице-губернатор постоял с минуту молча, затем сказал:
— Расстреливать вас я не собираюсь, но живыми возьму. Предлагаю перемирие на час. Может быть, за это время вы одумаетесь. Не подвергайте себя риску.
Между тем на Поротовской, Монастырской и Мало-Базарной улицах собралась большая толпа. Весь Якутск уже знал, что дом Романова обстреливается. Полицейские оттесняли людей, избивали их рукоятками револьверов, кричали, чтобы народ расходился, так как и сюда могут залететь шальные пули. Но толпа все прибывала. Одни шли из любопытства, другие — горячо сочувствуя осажденным. Все смотрели на крышу дома, где продолжало гордо реять красное знамя, пробитое пулями. И вдруг в толпе послышались рыдания. Рядом со знаменем появился кусок черной ткани.
Романовны, воспользовавшись перемирием, отдавали последний долг своему товарищу — Юрию Матлахову. В сенях соорудили из каменных плит и досок ложе. Тело Юрия покрыли кумачовым полотнищем. Выражение спокойствия, гордого достоинства запечатлела смерть на лице убитого. Вокруг стояли товарищи, друзья, готовые, как и он, отдать свою жизнь в борьбе с врагом. Пели траурный гимн «Вы жертвою пали…». Закончив печальный обряд, закрыли двери, ведущие в сени, завалили их мешками с песком.
В это время к дому подошел полицмейстер Березкин. Ему сказали, что Романовку никто не покинет. Он молча постоял минуту, повернулся и ушел. Вечер, ночь и первая половина следующего дня прошли спокойно. Обстрел не возобновлялся. Осажденные, как могли, продолжали укреплять дом. Ели, разделившись на две партии: одна партия обедала, другая — дежурила. В третьем часу дня вновь послышались выстрелы: вначале одиночные, а затем залпами. На этот раз дом обстреливали с трех сторон. Осажденные легли на пол. Появились новые раненые: Ананий Павлович Медяник, казак из Полтавской губернии, сосланный в Якутск за распространение среди крестьян социалистической литературы; попала пуля и в Костюшко-Валюжанича — его ранило около той же злополучной двери, где и Хацкелевича, ранило тяжело: пуля прошла через бедро и засела в спине.
Обстрел продолжался до позднего вечера и возобновился с утра 6 марта. Перед обедом вновь наступила тишина и раздался стук в окно. Полицейский передал осажденным новый ультиматум Чаплина:
— Сдавайтесь, сопротивление бесполезно!
Обсудив положение, романовцы решили выиграть время и послали с полицейским записку: «Ответ будет дан в десять часов вечера».
Наступила полная тишина. Обстрел не возобновлялся. Что же делать дальше? Продукты на исходе. Убит Матлахов, трое ранены, двое из них — Медяник и Костюшко-Валюжанич — нуждаются в срочной хирургической помощи. Охотничьи ружья могут поразить на пятьдесят-сто шагов, а солдаты стреляют с расстояния в десять раз большего.
Зажгли лампу. Все собрались в столовой, осторожно перенесли туда раненых. Курнатовский, страшно исхудавший за эти дни, обросший бородой, первым поставил перед товарищами вопрос:
— Так что же мы ответим в десять часов вице-губернатору? Сдадимся?
— Нет! — воскликнул Теплов.
— Надо продолжать сопротивление, — поддержал его Кудрин.
— Драться, драться до конца, — произнес слабеющим голосом Костюшко-Валюжанич.
Он потерял много крови. Таня положила голову мужа к себе на колени.
— Сделаем вылазку, пустим в ход оружие, — предложил Бодневский. — Наша гибель пойдет только во вред им, во вред самодержавию и на пользу революции.
Курнатовский обвел глазами товарищей и, помолчав мгновение, сказал:
— Что касается меня, то я готов сражаться. И стою за то, чтобы отвергнуть ультиматум. Но если большинство решит сдаться, вину за убийство солдат принимаю целиком на себя и заявлю об этом в суде. Виселица меня не пугает.
Раздались протестующие возгласы:
— Мы не согласны с этим!
— Запрещаем вам говорить, что в солдат стреляли вы!
— Мы все требовали, чтобы вы стреляли.
Большевики настаивали на том, что надо продолжать сопротивляться. Их поддерживали Габронидзе, Центерадзе, Погосов, Ржонца. К их группе примкнули Оржеровский и Розенталь. Но бундовцы требовали принять ультиматум Чаплина. Тогда Кудрин поставил вопрос на голосование. Незначительным большинством приняли предложение о сдаче.
Всех охватило чувство подавленности. Курнатовский молча отошел от стола, сел возле окна и обхватил голову руками. Так просидел он весь вечер и большую часть ночи. Тяжелые мысли теснились в его голове. Он думал о том, что сразу же после капитуляции возьмет всю вину за смерть солдат на себя. А может быть, лучше сейчас, не ожидая суда и неизбежной виселицы, оставить записки губернатору, прокурору, товарищам, написать, что выстрелил он сам, по своей инициативе? Тогда остальные отделаются, быть может, сравнительно мягкими наказаниями. А написав все это, браунинг к сердцу или виску — и конец… Бодневский, Кудрин и Теплов, мрачные, огромным усилием воли удерживающие проявление своих чувств к тем, кто голосовал за капитуляцию, составляли условия предстоящей сдачи.
Солдаты гарнизона должны быть отведены. В тюрьму участники протеста направятся все вместе. В конвое не будет казаков, прибывших в Якутск с партией политических, которых они избили в Усть-Куте. Раненых повезут на санях. посредине колонны романовцев. Тело Матлахова они понесут сами. Красное знамя над домом спустят романовцы и возьмут с собой. В тюрьме все участники протеста получат возможность свободно общаться. Матлахоза похоронят сами, а не тюремщики, не полицейские или солдаты…
Сдачу назначили на утро 7(20) марта 1904 года. Условия капитуляции передали полицейскому, который с десяти часов ждал ответа около дома. Вице-губернатор принял их.
Товарищи понимали, что должен был переживать Курнатовский, и не тревожили его. Тайком от Виктора Константиновича они собрались в одной из комнат около прихожей.
— Исполнительная комиссия, — сказал Теплов, — без ведома товарища Курнатовского, вопреки его мнению, предлагает, чтобы никто ни одним словом, ни одним намеком, ни во время допросов, ни в ходе судебного заседания, не выдал бы его, не говорил, что в солдат стрелял именно он.
— Курнатовский стрелял с общего согласия, — сказал Валюжанич, напрягая все свои силы, чтобы приподняться с матраца, на котором лежал. — И мы должны взять на себя коллективную ответственность за эти выстрелы.
Ни у кого, даже у наиболее ярых сторонников капитуляции, не было возражений против предложения Валюжанича.
— Курнатовского мы обяжем, от имени всех нас, молчать, — добавил Бодневский.
— Да, да, — раздались голоса, — он должен молчать, какой бы приговор нас ни ожидал.
Бодневский тотчас прошел в столовую, обнял Курнатовского за плечи и рассказал о принятом Романовнами решении. Курнатовский молча кивнул головой. Затем спросил:
— А как поступим с оружием?
— Решили уничтожить.
— А может быть, один заряженный браунинг оставим на всякий случай? Дайте его мне, я спрячу.
Бодневский понял, для чего понадобился Курнатовскому револьвер, но не возражал.
— Хорошо, Виктор Константинович, я вам принесу…
Один браунинг Бодневский действительно припрятал в своей одежде, но Курнатовскому сказал:
— Кудрин и Теплов совершили оплошность. Они испортили все револьверы.
Оружие расплющили, разбили топорами и побросали в горящую печь. Патроны разрядили и порох выкинули за окна. Гильзы и весь обгоревший металл — остатки ружей и револьверов — запрятали под половицами, засыпали землей и песком. Сожгли код светового телеграфа, списки караулов и дежурных. Фотопластинки Оржеровского решили, однако, Не уничтожать, а сохранить как агитационный материал, материал для истории, да и на память, если останутся живы. Ничего компрометирующего в его снимках не было.
К первому часу ночи подготовка к сдаче закончилась. Одни забылись тяжелым сном, другие сидели погруженные в мысли о том, что ожидает их впереди. Курнатовский снова впал в полузабытье. Перед ним проходили картины детства, юности, пейзажи Швейцарии и сибирские леса, тюремные камеры и судебные залы, мелькали знакомые лица. Он вспомнил человека с большим выпуклым лбом, добрыми, умными глазами, человека, голос которого покорял собеседника с первой встречи. Владимир Ильич… Где он сейчас, что делает? И Виктор Константинович почувствовал, что на душе становится легче, словно к нему подошел кто-то родной, близкий, помогая нести тяжелую ношу, пригибавшую его к земле. Ему казалось, что Ульянов находится где-то здесь, среди них, что он подбадривает всех товарищей, как и там, в минусинской ссылке. А ему, Курнатовскому, и стыдно за проявленную слабость, за желание уйти из жизни и тем самым от борьбы, и вместе с тем легко, что ему на помощь именно в это время пришел такой большой, такой взыскательный друг и товарищ. Трудно сказать, где про легла граница в этих раздумьях, где его одолел креп кий, но недолгий сон, который пришел к нему уж под самое утро.
В это утро жители Якутска, много повидавшие на своем веку, стали свидетелями волнующего зрелища.
Шестеро изможденных людей несли на носилках тело Матлахова, покрытое алым полотнищем. Вслед за погребальным шествием на трех санях везли раненых. По бокам и позади саней шли остальные романовцы, шли молча, гордо подняв головы. Процессию сопровождал полицейский конвой. Солдат и казаков не было.
Весть о происходящем молниеносно разнеслась по городу и, несмотря на раннее утро, улицы запрудили толпы народа. Здесь были и русские, и якуты, и вольные, и ссыльные. Люди не скрывали своего сочувствия к романовцам, многие плакали, глядя на раненых и на носилки, где покоилось тело Матлахова. Когда колонна приблизилась к деревянной старинной тюрьме, обнесенной высоким частоколом, романовцы запели «Марсельезу». Ее подхватили в толпе. Полицейские держались очень осторожно и не пытались препятствовать: сотням людей рты не заткнешь…
Следом за пленными ехали сани, в которых сидели вице-губернатор Чаплин и якутский судебный следователь Шведов. Чаплин, видимо, был расстроен. Шведов хмурился. Он только что рассказал Чаплину анекдот, уже гулявший по городу: революционеры захватили в Якутске дом Романова… Если и дальше так пойдет, то несдобровать дому Романовых и в Петербурге — выгонит народ правителей государства Российского, свергнет их с престола… Чаплин только покачал головой: да, времена.
Ворота тюрьмы закрылись за осужденными, но «Марсельеза» еще долго звучала за высоким частоколом.
Наступили томительные дни предварительного заключения. Исполнительная комиссия и в тюрьме не сложила своих полномочий, отстаивая права товарищей, ведя переговоры с тюремной администрацией, которая попыталась нарушить условия капитуляции. Курнатовский, как и во времена пребывания в Александровском централе, проявлял исключительную энергию и настойчивость. После нескольких стычек с ним тюремная администрация была побеждена. Повлияло, конечно, и то обстоятельство, что романовское дело взбудоражило общественность и в самой России и за границей. Сыграл свою роль и страх, который испытывала якутская администрация: «От этих людей всего можно ожидать. Лучше их не озлоблять», — рассуждали тогда в Якутске представители власти.
Камеры не запирались. Заключенные гуляли по двору столько, сколько им хотелось. В тюрьму на их имя беспрепятственно поступали письма, газеты, журналы. Романовны свободно собирались на совещания, виделись со своими адвокатами. Раненых, находившихся в тюремной больнице, романовцы навещали по нескольку раз в день. Все они поправлялись. Начальник тюрьмы просил господ заключенных только об одном: не слишком громко петь революционные песни.
Романовцы устроили несколько мастерских и открыли маленькую фотолабораторию, в которой не покладая рук работали профессионал Оржеровский и любитель Теплов. Они проявили старые пластинки и сделали много новых снимков — во время предварительного заключения в тюрьме, а в дальнейшем и во время самого суда. На многих фотографиях, подаренных Виктору Константиновичу, стояли надписи: «Учителю», «Дорогому учителю».
Он действительно для многих был учителем и в прямом и в переносном смысле этого слова: больной, измученный тяжким недугом человек, он служил примером, как должен вести себя революционер, как прямо, не кривя душой, должен отстаивать права — и свои и своих товарищей. В тюрьме Курнатовский прочел множество лекций по политической экономии, философии марксизма и химии. Он был высокообразованным человеком, человеком большого сердца. Именно таким знали и любили его слушатели «тюремного университета», именно поэтому они дарили ему свои фотографии действительно как дорогому учителю.
В «тюремном университете» читались лекции и по военному делу. Вначале занятия вел Бодневский, позднее в эту работу включился и поправившийся Костюшко-Валюжанич. Их лекции охватывали обширный круг тем: обзоры военных действий (шла русско-японская война), характеристика военного искусства в революционной борьбе — о боях на баррикадах, о тактике уличных сражений и т. д. По просьбе романовцев-грузин с ними проводились отдельные занятия по русскому языку, литературе. В тюрьме, разумеется, не прекращались и политические дискуссии. Происходили они главным образом между большевиками и бундовцами. Явных меньшевиков среди романовцев не оказалось, но нашлись социал-демократы, которые не определили свою принадлежность к той или иной фракции РСДРП. А в часы отдыха писали и редактировали сводные записки о романовском деле.
В один из весенних дней в тюрьме появился Лев Львович Никифоров. Его должны были судить вместе с романовцами, хотя все безусловно знали, что полиция схватила Никифорова («Взяли в плен», — шутили ссыльные) еще в самом начале протеста, до выстрела в солдат.
Следствие шло ускоренным порядком. 25 марта 1904 года следователь Шведов представил протоколы допросов. Стало известно, что на суде будет фигурировать сто восемь свидетелей: солдаты гарнизона, полицейские, купец Кондаков, домохозяин Романов, лавочник Сюткин (у него ссыльные делали закупки продуктов в канун протеста) и ряд других лиц.
Принимали свои меры и романовцы. Им удалось установить связь с революционными организациями в России. О предстоящем процессе заговорили подпольная печать и легальные газеты прогрессивного направления. Митинги в защиту участников протеста проходили не только в крупных городах России, но и за границей. На средства, собранные среди рабочих и интеллигенции, сочувствовавших революции, были приглашены два крупных адвоката: Зарудный и Бернштам. Они долго отказывались от всякого гонорара.
В июле начались заседания Якутского окружного суда. Его председатель Будзевич и прокурор Гречин, по мнению адвокатов, вели дело бездарно. Свидетели обвинения путались, противоречили друг другу и проваливались на каждом шагу. Романовцы выступали дружно, смело. Сказалась большая работа, проведенная большевистской группой перед началом процесса. Подсудимые, которых неоднократно перебивал председатель суда, говорили о произволе властей, о кутайсовских циркулярах, разоблачали политику царизма. Единственно, чего боялись подсудимые на этом процессе, это предстоящего выступления Курнатовского. Виктор Константинович обещал подчиниться общему решению и не говорить, что это он стрелял в солдат Кириллова и Глушкова. Но на суде он заколебался. Произошло это после того, как председательствующий Будзевич, обосновывая привлечение виновных к ответственности, замогильным голосом перечислил 13, 263, 266 и 268-ю статьи Уложения о наказаниях. Эти статьи вели прямым путем на виселицу или к пожизненной каторге, или, наконец, при смягчающих вину обстоятельствах — к двенадцати годам каторги для каждого подсудимого. И когда прокурор Гречин закончил свою длинную обвинительную речь, в которой, вопреки истине и опираясь на показания провалившихся лжесвидетелей, утверждал, что романовцы вели перестрелку с гарнизоном во время всей осады, Курчатовский попросил последнее слово, твердо решив заявить, что солдат убил он.
— Во имя той правды, к которой так легкомысленно относится господин прокурор, — начал он, — я заявляю, что выстрелов было только два, что убийство солдат, в которых мы видим тех же рабочих и крестьян в мундирах, не могло входить в задачи нашего протеста и не находится в какой-нибудь связи с его целью, что эти выстрелы…
Все подсудимые затаив дыхание с ужасом смотрели на него. Побледнели и адвокаты. Еще два-три слова, и он пойдет на эшафот. Но Курнатовского спас сам председатель суда Будзевич. Слова Виктора Константиновича о «рабочих и крестьянах в мундирах» привели его в ярость и, стуча кулаком по столу, Будзевич крикнул:
— Лишаю слова! Подсудимый Курнатовский, я лишаю вас слова! Суд не место для политических речей!
Все облегченно вздохнули.
Наконец наступил день оглашения приговора. Пятьдесят пять романовцев были приговорены к ссылке в каторжные работы на двенадцать лет. Никифоров, арестованный до убийства солдат, приговорен к отбыванию наказания в арестантских ротах. В отношении потомственных дворян — Курнатовского, Никифорова, Костюшко-Валюжанича, Бодневского — суд направил приговор «на благоусмотрение его императорского величества». Царь быстро утвердил приговор: для него эти четверо были изменниками своему сословию и тем более заслуживали суровой кары.
К удивлению осужденных, среди судей нашелся честный человек. К приговору Якутского окружного суда было приложено частное мнение члена суда Соколова, который назвал решение своих коллег жестоким, необоснованным и неправомерным.
— Это замечательно! — воскликнул Курнатовский, покидая зал суда. — Даже среди верных слуг самодержавия теперь встречаются вольномыслящие. Это один из признаков разложения царизма, приближения революционной бури, которая сметет самодержавие…
Он оказался прав. Этой бури ждать оставалось уже недолго.
А Чаплин? Его выступление на суде было коротким и крайне сдержанным. Во всяком случае, в отличие от других свидетелей он старался соблюсти хотя бы видимость правдоподобия, но в то же время старался и обелить себя в глазах русского общества. После оглашения приговора вице-губернатор вышел из зала суда бледный, видимо глубоко потрясенный, никому не глядя в глаза. С каждым днем Чаплин становился все более мрачным и замкнутым. Вскоре врачи обнаружили, что у него вспыхнул застарелый туберкулез. Умирая, Чаплин сказал матери:
— Я единственный виновник романовской истории. На моей совести и смерть солдат и смерть Матлахова… Если ты хочешь и чем-нибудь можешь смягчить последствия совершенного мною зла и по-настоящему будешь чтить мою память, ты должна сделать все возможное, чтобы облегчить участь людей, пошедших на каторгу по этому процессу.
Губернатор Булатов, узнав о предсмертных словах Чаплина, в откровенной беседе с полицмейстером Березкиным заявил:
— Этот идиот мог получить орден Станислава, если бы в первый день бунта послал воинскую команду и сжег логово вместе с мятежниками. Похоже на то, что он стал им сочувствовать; тогда ему после смерти одна дорога — в ад…
24 августа (4 сентября по новому стилю) 1904 года жители Якутска провожали романовцев, которых отправляли на каторгу. В толпе провожавших было много рабочих местных лесопилок и винокуренного завода: русские и якуты. Пришли сюда и ссыльные и вольные. На берегу Лены, пока ждали посадки, пели революционные песни. Когда пароход отваливал от берега, раздались возгласы:
— Долой самодержавие!
— До встречи на баррикадах!
— Вечная память Матлахову!
— Вечная память героям, погибшим в якутской бойне восемьдесят девятого года!
Такие же проводы устроили им в семи верстах от Якутска — здесь останавливались, потому что баржу взял на буксир другой пароход. В пути на многих пристанях их встречали местные жители и ссыльные, передавали продукты, одежду, теплое белье…
За Усть-Кутом Лена обмелела настолько, что пароход не мог дальше идти, и всю партию пересадили в лодки. Их тянули лошади, которых гнали по берегу. От Якутска до каторжной тюрьмы предстояло сделать около трех тысяч верст. У селения Жиганово ссыльных свели на берег — дальше они должны были ехать на телегах. В последние дни Курнатовский с тревогой наблюдал за Бодневским. Того точно подменили. Пока плыли на барже, он был неестественно весел, часто прикладывался к бутылке с вином, добытым по пути. За Жигановом пытался бежать, но неудачно. После провалившегося побега Бодневский ни с кем не разговаривал, впал в мрачную апатию. Гордая душа этого человека, словно крылатая птица, не хотела примириться с клеткой, которую ей готовили тюремщики. В селе Хоготе, где партия расположилась на отдых, Владимир Петрович вышел из избы. Через несколько секунд раздался выстрел. Все бросились на улицу. Бодневский лежал, раскинув руки. Неподалеку в траве нашли браунинг, который он тайно хранил со времен Романовки.
Конвойные предложили ссыльным немедленно двигаться дальше. Курнатовский подошел к жандармскому офицеру и заявил, что пока Бодневского не похоронят, никто из ссыльных дальше не тронется. Офицер не спорил. Он приказал солдатам сколотить гроб.
Странно выглядели эти похороны. За гробом Бодневского шли пятьдесят четыре человека, окруженные конвойными. Солдаты сняли фуражки. Лица у них были мрачные, сосредоточенные. Поодаль шел офицер. Осужденные пели революционные песни. Кое-кто из солдат, осторожно поглядывая на офицера, тихонько подпевал. Вскоре на маленьком сельском кладбище между старообрядческими крестами вырос холмик, на котором лежал большой венок из веток сибирской ели, перевязанный красной лентой с надписью: «Здесь покоится революционер, который предпочел смерть жизни в неволе…»
Последним большим привалом перед Иркутском было селение Урик. Не доезжая Урика, конвой решил дать отдых лошадям. Воспользовавшись остановкой, к телеге, на которой сидел Курнатовский, подошла бундовка Ольга Виккер.
— Виктор Константинович, — сказала она тихо, — я, Бройдо и Наум Коган решили бежать. Если сумеем, то из Урика.
— Очень хорошо, — ответил Курнатовский. — Постараемся сделать все возможное, чтобы отвлечь внимание конвойных.
Прибыли в Урик. Пока сотские бегали по селу и подыскивали квартиры, большая часть конвоя разбрелась. Тогда Виккер и Бройдо незаметно зашли за одну из изб и скрылись в тайге. К вечеру бежал и Коган. Он вылез в окно, выследив момент, когда конвойный задремал. Лишь в одиннадцать часов утра на следующий день офицер, проверяя по списку партию, узнал о побеге. Но на розыски посылать он не стал. Искать людей в тайге все равно, что искать иголку в сене. Чтобы не разбежались другие, он приказал быстрее трогаться в путь. Беглецы благополучно добрались до Иркутска. Местные революционеры снабдили их фальшивыми паспортами, с которыми они скрылись за границу.
В конце сентября романовцы остановились перед воротами Александровской пересыльной тюрьмы. Строго выполняя распоряжение графа Кутайсова, тюремное начальство приказало обыскать прибывших с головы до ног. Отобрали не только ножи, но и ножницы. Поселили романовцев в бараке для политических. Тюрьма находилась под сильной охраной. Над палями (оградой из вертикально врытых бревен лиственницы) поднимались две вышки. На них круглые сутки дежурили часовые. Два тесных, грязных двора еле вмещали заключенных, когда их выпускали на прогулку, причем выходить разрешали только в один из дворов. В бараке было очень тесно. Вновь началась война с тюремщиками. Сначала добились того, что заключенных стали выпускать на прогулку в оба двора. Затем заставили администрацию удлинить время прогулок.
Курнатовский с первого же дня начал внимательно осматривать пол барака, во время прогулок отсчитывал шаги между бараком и тюремной оградой, долго совещался с Кудриным, горным техником по профессии. Затем поодиночке переговорил со всеми товарищами. Единодушно решили: бежать! Мысль о побеге вселяла бодрость, позволяла легче переносить невзгоды заточения. Из кухни, куда заключенные ходили по очереди готовить пищу, удалось выкрасть пару ножей. Слесарь Лаврентий Джохадзе и смоленский рабочий Александр Журавель вместе с другими специалистами с большим трудом вырезали на лезвиях ножей зубцы — получились пилы. В начале октября принялись выпиливать пол под нарами посредине барака. Работу вели под охраной дежурных. Пели песни, чтобы надзиратели ничего не услышали. Скоро выпилили большой кусок доски, который можно было вынимать или класть на место. Пол поднимался над грунтом примерно сантиметров на тридцать. Рыли ножами, укладывая вынутую землю под бараком в свободное пространство между досками и грунтом. Это был нечеловеческий труд. Менялись через каждые два часа. Руководил делом Кудрин. Вскоре удалось украсть из кладовой две лопаты. Теперь вместо одного человека под пол спускались по двое, а когда ход расширился, копали вчетвером. В середине января 1905 года подкоп закончили. Он имел в длину около сорока саженей: десять — до тюремной ограды и тридцать — за ее пределами, в поле. На всю работу затратили почти два с половиной месяца.
Те, кто вошел в первую партию, надели поверх шуб балахоны, сшитые из простынь, — стояла зима, и все вокруг завалило снегом. Курнатовский решил уходить последним. Тщетно уговаривали его товарищи: «Ты с каждым днем все больше глохнешь, ты должен бежать первым». Но Курнатовский остался непоколебим. В темную январскую ночь через подкоп ушло пятнадцать человек.
Десятерых поймали, но пятеро сумели скрыться. Начальник тюрьмы немедленно получил отставку. Заключенные молчали о подкопе, ни одним словом не выдав своей тайны. Но новое начальство, произведя тщательный обыск, добралось, наконец, до него. Видавшие виды тюремщики пришли в крайнее изумление. Никаких репрессий за побег не последовало: в России началась революция, и тюремщики подумывали о своем собственном спасении.
Часть романовцев, подавших апелляцию на решение Якутского окружного суда в Иркутскую судебную палату, до разбора дела перевели в Иркутск. Туда же отправили Костюшко-Валюжанича и его жену Таню Жмуркину: его — для долечивания открывшейся раны, Таню — в связи с беременностью. Оправившись, Валюжанич выпилил деревянную решетку в окне и бежал в Читу, где вскоре активно включился в работу большевистского комитета РСДРП. Таня родила в тюрьме сына Игорька, и ее выпустили под залог, с обязательством предстать перед судом во время пересмотра дела романовцев. Курнатовский и ряд других товарищей, отказавшихся от апелляции, оставались в Александровской тюрьме до мая 1905 года. Отсюда их отправили в Акатуй, продержав предварительно два месяца в Иркутской тюрьме. Акатуйская каторжная тюрьма, при которой был рудник, находилась в 625 километрах от Читы. Тюрьма не без основания слыла гиблым местом: отвратительная пища, побои, сырые камеры. И политические и уголовники работали в кандалах от утренней до вечерней зари. За малейшую провинность в Акатуе наказывали плетьми и розгами. Однако бурные события 1905 года заставили образумиться и акатуйских тюремщиков. Начальник тюрьмы Фищев встретил романовцев заявлением, что в кандалы их заковывать не будут, и распорядился посылать политических только на легкие работы. Политкаторжанам разрешили общаться друг с другом, получать от родных посылки, организовывать питание на общественных началах, пользоваться тюремной библиотекой. А лишь недавно книги получали только те заключенные, которые добивались благоволения со стороны начальства.
В Акатуе Курнатовского и его друзей ждала посылка. Как же они обрадовались, найдя в ней восемнадцатый номер газеты «Пролетарий»! Екатеринбургские большевики сложными маршрутами получали газету из Женевы, а затем распространяли ее по всей Сибири. Отдельные номера попадали и в Забайкалье. Вечером Курнатовский собрал всех товарищей и читал газету вслух. Особенно внимательно изучали статью Ленина «От обороны к нападению». Еще и еще раз перечитывали отдельные отрывки из этой статьи. Курнатовского порадовало, что Владимир Ильич пишет о его родной Риге, о том, что семьдесят рижских рабочих напали на Центральную тюрьму и освободили двух политзаключенных, находившихся под угрозой военного суда и смертной казни. Ленин называл героев рижского отряда застрельщиками революционной армии.
Организация восстания, организация уличной борьбы — вот о чем нужно было думать сейчас. И Курнатовский снова засел за чертеж, начатый им еще в пересыльной тюрьме, за свое изобретение — безотказные ударники для ручных гранат.
Стояла середина октября 1905 года. Всеобщая забастовка охватила Россию. Тюремщики становились с каждым днем покладистее. Ни на какие работы политических уже не посылали.
В один из дождливых дней в камеру заглянул надзиратель.
— Господа, — сказал он, — начальник тюрьмы Распорядился на час увеличить время прогулок. Нет ли у вас претензий к пище, обращению?
— Главная претензия, — ответил за всех Курнатовский, — нам надоело ваше гостеприимство.
Все засмеялись. Улыбнулся и надзиратель.
— Это не от нас зависит, господа. Но ходят слухи — скоро амнистия. Всюду бастуют. Что-то будет…
— Плохо не будет, — резонно заметил Кудрин.
— А как вы думаете, господин Кудрин, — полюбопытствовал надзиратель, — куда после революции определят тюремных служителей и бывших полицейских
— Всем им, — ответил Кудрин под новый взрыв смеха, — революция воздаст по заслугам и не оставит своими заботами;
Надзиратель тотчас исчез за дверью.
На другой день заключенные узнали, что царь подписал 17 октября Манифест, суливший кое-какие свободы. Об этом уже открыто говорили тюремные служащие, Через три дня в камере появился сам начальник тюрьмы Фищев.
— Поздравляю вас, господа. Государь император изволил издать Манифест о свободе слова, печати, собраний, о всеобщей амнистии. Есть предписание окружного прокурора о вашем освобождении. После прогулки пожалуйте в канцелярию за документами и собирайте вещи.
Это была свобода…
Направляясь из Акатуя в Центральную Россию, романовцы должны были проехать через Читу. Курнатовский и Кудрин уже на ближайшей станции Забайкальской железной дороги Борзя узнали, что власть в Чите перешла в руки революционных организаций. Здесь же, на станции, к ним подошел молодой телеграфист и, внимательно оглядев, спросил, не из Акатуя ли они едут.
— Из Акатуя, — подтвердил Кудрин.
— Политические?
— Да.
Молодой человек заулыбался и начал доверительно рассказывать, что вся Забайкальская дорога теперь подчиняется только распоряжениям Читинского комитета Российской социал-демократической рабочей партии и иных властей не признает. Узнав, что бывшим романовцам не на что доехать до Читы, телеграфист сбегал к начальнику станции и быстро уладил дело: их усадили в первый же отходивший на Читу поезд без всяких билетов. В поезде ехали демобилизованные солдаты и офицеры. Офицеры занимали отдельный вагон, сторонились нижних чинов. Солдаты открыто поносили царя, бездарность генералов, а заодно и японского микадо, и проклинали жизнь в окопах Маньчжурии.
В Чите Кудрина и Курчатовского ожидал сюрприз: на здании вокзала развевалось красное знамя. Не успел поезд остановиться, как к вагону подбежало несколько человек.
— Кудрин, Курнатовский! — послышались голоса, и через мгновение они попали в объятия товарищей.
— Костюшко! — радостно воскликнул Курнатовский, обнимая Валюжанича, который жил в Чите уже вторую неделю.
— Познакомьтесь, — сказал Костюшко, представляя Курнатовского и Кудрина человеку средних лет в поношенном зимнем пальто.
— Попов Александр Иннокентьевич, — назвался тот. — Впрочем, меня здесь больше знают под фамилией Коновалов.
— А это, — продолжал Костюшко, — Михаил Кузьмич Ветошкин. Жаль, уедет скоро в Иркутск. Зато вот приехали вы на подмогу, да ждем Бабушкина и Баранского…
Костюшко подозвал сани и повез приезжих на Енисейскую улицу, где в бревенчатом доме Шериха работал, теперь уже легально, Читинский комитет РСДРП.
У входа в здание дежурили вооруженные дружинники с красными повязками на рукавах.
— Вот она, революционная армия! — восторженно приветствовал Кудрин дружинников.
Так встретила Курнатовского Чита 1905 года. Он почувствовал, что находится на самом гребне событий. Еще 15 октября 1905 года читинские железнодорожники захватили цейхгауз железнодорожного батальона и разобрали шестьсот винтовок. Не проходило недели, чтобы в их руки не попадали вагоны с оружием, которое шло из Маньчжурии после начавшейся там демобилизации. Железнодорожный батальон, а вслед за ним и весь гарнизон Читы перешли на сторону восставших. Читинский комитет РСДП, состоявший из большевиков, явился душой восстания. Костюшко-Валюжанич, живший в Чите по паспорту на имя Григоровича, обучал рабочие дружины военному делу, вел пропаганду среди солдат. Старая власть в лице военного генерал-губернатора Холщевникова фактически передала свои функции комитету РСДРП. Однако, проявляя видимую покорность, Холщевников не оставлял надежды расправиться с «бунтовщиками», как он называл представителей новой власти.
Совет солдатских и казачьих депутатов был избран 22 ноября на массовом митинге солдат гарнизона и железнодорожного батальона.
Вскоре должно было состояться объединенное заседание комитета партии и Совета. Накануне Попов, как разъездной член комитета, уехал на станцию Маньчжурия, где должен был возглавить местную большевистскую организацию.
— Опять людей не хватает, — сетовал Костюшко.
Они сидели с Виктором Константиновичем за столом в доме Шериха, где через час должно было начаться заседание, и так углубились в работу, что не заметили человека в меховой шапке и теплом тулупе, пропущенного в комнату дружинником.
— Видать, зазнался, Костя, не встречаешь старых друзей! — раздался позади них голос.
— Друг, наконец-то! — Костюшко подвел приезжего к Курнатовскому. — Это Бабушкин, Иван Васильевич Бабушкин.
— А вы, верно, Курнатовский?
— Да. Как вы угадали?
— Слышал в Иркутске, что вы здесь. Именно таким описал мне вас Владимир Ильич.
— Когда вы виделись с Лениным? — взволнованно воскликнул Курнатовский. — Где он сейчас?
— Владимира Ильича я видел в прошлом году в Лондоне. Туда дошла весть о Романовке. В Гайд-парке проходили митинги в вашу защиту. Тогда Ленин много рассказывал о вас, о встречах в Сибири.
— У Ленина удивительная способность запоминать людей, — подтвердил Курнатовский. — В минусинской ссылке Владимир Ильич много рассказывал о вас. И хотя прошло уже восемь лет, вы, видимо, мало изменились…
Бабушкин рассмеялся:
— Ну, где там мало… — И добавил: — А запоминать людей нашему брату революционеру надо, ой, как надо!
— Где же Ленин сейчас? — снова спросил Курнатовский.
— В Петербурге. Он редактирует центральный орган партии — газету «Новая жизнь».
— Вот это замечательно! — воскликнул Курнатовский.
— Да, — подтвердил Бабушкин. — Особенно сейчас, когда начинается настоящая борьба.
Бабушкин рассказал, что Иркутский комитет партии послал его в Читу за оружием. Он останется здесь и будет следить за отправкой винтовок, а заодно и поможет чем надо.
— Мы введем тебя в Читинский комитет, — сказал Костюшко. — Тут больше дела и рабочих больше. Кроме тебя и Виктора Константиновича, вожаков нет. Баранский еще в пути. Ветошкин и Попов уехали — у них тоже дело горячее…
Заседание началось в срок.
Все приглашенные были в сборе. Среди них находилось несколько рабочих железнодорожных мастерских, около десятка солдат-артиллеристов и казаков.
Костюшко-Валюжанич первым делом представил собравшимся Ивана Васильевича Бабушкина:
— Иван Васильевич работал в «Союзе борьбы» с Владимиром Ильичей Лениным, был его учеником. А в Екатеринославе я сам стал учеником Ивана Васильевича.
Решение о том, чтобы Бабушкин вошел в комитет, было принято единогласно.
Предложение, внесенное Курнатовским, о том, чтобы Иван Васильевич сегодня председательствовал, встретило всеобщее одобрение.
На этом же заседании Курнатовский получил важное партийное поручение: подготовить к выпуску первый номер газеты «Забайкальский рабочий», орган восставшей Читы.
— На днях, — заявил Костюшко, — мы окончательно отберем губернскую типографию у Холщевникова. Я введу туда своих дружинников и поставлю нашу революционную охрану.
Перед концом заседания в комнату вошел дружинник и сообщил, что пришли крестьяне.
Их было трое. Вперед выступил старший и поклонился собранию. Следом по обычаю поклон отвесили и его спутники.
— Кто здесь главный будет?
— Все главные, — ответил Бабушкин.
— Ну, а за старшего?
— Сегодня председательствую я, — сказал Иван Васильевич.
— Тогда прими поклон и хлеб-соль Совету и комитету от всей нашей округи. Дай сюда, Алексей! — И старик передал Бабушкину блюдо с караваем хлеба, который был накрыт вышитым полотенцем.
— О чем речь поведете, товарищи? — спросил Бабушкин.
— Избрали нас от здешних деревень ходатаями к вам, — степенно начал старик, поглаживая бороду. — А разговор хотим вести насчет земли и податей. Живем на землях кабинетских — это вроде лучше, чем на барской, а на деле… Не помещик, так здешнее начальство нас обирает. Земля, говорят, царская, ну и платить за нее надо по-царски. Вот и послали нас просить отдать мужику землю, которую он пашет. Отдать без выкупа и податей. Вы теперь главная власть, вы, а не губернаторы и кабинеты. Вот и поступайте так, как должна поступать народная власть, а мы вам в ноги поклонимся.
— Кланяться не надо, — улыбнулся Бабушкин. — Вас мирской сход, народ выбрал, и вы здесь такие же хозяева, как и мы.
И, обратившись к членам Совета и комитета партии, Бабушкин попросил их высказаться. Мнение собравшихся было единодушным: удовлетворить просьбу. Виктор Константинович тут же набросал проект постановления. Его зачитали. Вся земля в Читинском округе передавалась крестьянам безвозмездно.
Писарь Читинского гарнизона Гантимур аккуратно переписал постановление, под которым все и расписались. Бабушкин вручил бумагу старику, крепко пожал ему руку и предложил крестьянам поддерживать связь с комитетом и Советом.
Разошлись за полночь.
События развивались с необычайной быстротой. Читинский большевистский комитет РСДРП и Совет, став фактическими хозяевами Забайкальской дороги, решили проводить эвакуацию маньчжурской армии собственными силами. Большевики создали на всех крупных станциях «Смешанные комитеты» из членов партии, профсоюзов, представителей Совета. Вместе с Кудриным и другими товарищами Валюжанич выходил к каждому эшелону, идущему из Маньчжурии. Среди солдат распространялись прокламации. Тут же возникали митинги. Если солдаты были настроены враждебно, то под разными предлогами эшелоны задерживали на два-три дня в Чите и среди демобилизованных велась разъяснительная работа. Число вагонов с винтовками, патронами, фугасами, динамитом, пироксилином, снарядами разных калибров, отцепленных в Чите, увеличивалось с каждым днем. В руки восставших не попадали только пушки и пулеметы, в которых они так нуждались. Бабушкин и Костюшко снабжали боеприпасами не только отряды читинских рабочих, но и многие другие дружины но линии Забайкальской железной дороги от станции Маньчжурия до станции Хилок. На Петровский завод им удалось отправить вагон с винтовками и патронами. Попытка жандармов перехватить оружие окончилась неудачей.
Виктор Константинович руководил всей издательской работой Совета и комитета: выпускал распоряжения, прокламации, воззвания, которые распространялись по Чите и всему Забайкалью. Вместе с Бабушкиным, Костюшко и Кудриным председательствовал на собраниях железнодорожников, артиллеристов, казаков, саперов.
Демократическая часть офицерства создала в Чите свой Союз военнослужащих, пославший представителя в общий Совет. Но единодушия в офицерском Союзе не было: молодежь шла навстречу пожеланиям солдат (они требовали обращения на «вы», быстрейшей демобилизации запасных и т. д.), другая часть офицерства настаивала, чтобы все эти вопросы решал Холщевников, как военный генерал-губернатор Забайкальской области. Совет и комитет РСДРП для урегулирования спорного вопроса послали делегацию к Холщевникову. Он принял ее немедленно. Но когда речь зашла об удовлетворении солдатских требований, Холщевников уклонился от прямого ответа:
— Я не могу решить это один, надо связаться по телеграфу с военным министром.
— Тогда мы решим этот вопрос без вас, — заявил Бабушкин. — Я думаю, нет смысла загружать телеграф такими депешами.
Костюшко одобрительно кивнул головой. Разрешать Холщевникову телеграфные разговоры с Петербургом было опасно.
Холщевников только развел руками.
— Я не могу препятствовать… Это дело Совета и комитета. Но…
Его уже не слушали. Прямо от Холщевникова делегация направилась в губернскую типографию. Виктор Константинович написал прокламацию. Бабушкин и Костюшко одобрили ее. Через час прокламацию набрали. А спустя сутки пятьдесят тысяч экземпляров ее были распространены в гарнизоне и по всей Забайкальской железной дороге. Ее раздавали и в эшелонах с демобилизованными. Читинский Совет начал получать много приветственных телеграмм и писем из воинских частей — все поддерживали требования солдат Читинского гарнизона. В дальнейшем эти требования приняли Сретенский, Нерчинский, Иркутский и Красноярский гарнизоны.
Многое успевала делать народная власть Читинской республики. Несмотря на всю трудность тогдашнего положения, Читинский Совет решил взять в свои руки дело народного образования. На съезде учителей, созванном в Чите большевистским комитетом РСДРП, зазвучали новые речи: говорили о демократической республике и уничтожении сословий, о том, что учителя обещают идти рука об руку с рабочими, просвещать их, открывать для них вечерние школы, учить грамоте крестьян. Молодой учитель, выступивший на этом собрании, заявил о необходимости бороться с монархической пропагандой в школах, внушать детям идеи свободы, равенства, демократии, рассказывать, что такое социализм и за что борется народ. Много горьких слов было сказано здесь о тяжелой жизни русского учителя, о грошовой оплате его труда.
Многие участники этого замечательного совещания помогли в дальнейшем Совету и комитету: они вели революционную пропаганду среди русского и бурятского населения,
Курнатовский готовился к выпуску первого номера газеты «Забайкальский рабочий». Он написал передовую статью «Чита 1905 года», в которой говорилось, что газета должна пропагандировать учение Маркса и Энгельса, стать органом борющегося пролетариата. «Наша газета, — писал он, — трибуна, с которой всякий проснувшийся к борьбе за социалистическое общество гражданин может сказать свое слово».
Поднимался Курнатовский до рассвета, домой приходил поздней ночью. Но и из оставшихся ночных часов нужно было урывать время для чтения гранок, рукописей. Материалов скопилось множество: о стачке шорников, о собрании гимназистов, митингах солдат, об осуществлении явочным порядком восьмичасового рабочего дня на Забайкальской железной дороге, об освобождении политических заключенных. В первом номере напечатали отчет Читинского комитета партии за ноябрь 1905 года, сообщение о всеобщей политической стачке в Германии и даже… стихи.
Пришел день 7 декабря 1905 года, когда из машин начали выходить пахнущие краской первые номера газеты «Забайкальский рабочий». Накануне Курнатовский спал в типографии, вернее почти не спал — некогда было… В двенадцатом часу дня в типографию прибежал Бабушкин. Быстро просмотрел газету, крепко пожал руки Курнатовскому, наборщикам, печатникам и взволнованно сказал:
— Товарищи, только что получена телеграмма: в Москве начались баррикадные бои!
Передохнув после бессонной ночи, Виктор Константинович отправился на собрание Совета и комитета, где решался вопрос о немедленном освобождении политических заключенных, находившихся в Акатуйской каторжной тюрьме: в ноябре стало известно, что в Акатуй привезли пятнадцать моряков с транспорта «Прут», который пытался на Черном море присоединиться к восставшему броненосцу «Потемкин». 23 ноября на многотысячной демонстрации у дворца Холщевникова рабочие и солдаты восставшей Читы потребовали освобождения моряков-революционеров.
Тут же, на заседании Совета, решили выделить делегацию для освобождения моряков из Акатуйской тюрьмы. Первым назвали Курнатовского. Затем солдат Всеволода Чистохина, Андрея Лопатина, Григория Белякина, Егора Полубояринова. Шестым решили послать Кудрина. Читинский комитет РСДРП вручил Курнатовскому документ — требование об освобождении моряков и вообще всех политических заключенных из Акатуйской каторжной тюрьмы, и выдал ему письменные полномочия на приведение этого требования в исполнение. Документ следовало вручить старому знакомому Виктора Константиновича — начальнику тюрьмы Фищеву.
Остаток дня Курнатовский провел в типографии, а вечером пошел встречать Кудрина, который должен был вернуться из Харбина. С вокзала он затащил Николая Николаевича к себе ночевать.
— Сейчас устроим на чем спать, — сказал Курнатовский.
Он вытащил из-под кровати два таза: один — большой, эмалированный, пустой; другой — поменьше, наполненный водой, в которой лежал блестящий, слегка сплюснутый шар.
Кудрин с удивлением глядел на все эти приготовления.
— Что это там у тебя, желе или мороженое? — спросил он Виктора Константиновича.
Тот усмехнулся.
— Гремучая ртуть. Тут ее около десяти фунтов. Пироксилину и других взрывчатых веществ у нас много, а взрывных ударников нет. Помнишь мои чертежи в Акатуе? Вот я теперь и сделаю эти ударники…
— Да ведь она могла взорваться при изготовлении! — в ужасе воскликнул Кудрин.
— Что поделаешь. Где еще я мог этим заниматься? — возразил Курнатовский.
Поставив тазик с гремучей ртутью к стенке и накрыв его большим тазом, Курнатовский положил сверху куртку, рядом бросил на пол для Кудрина большой овчинный тулуп и отдал ему свою подушку, а сам улегся на стареньком матрасике, положив голову на тазы. Так они и провели две ночи перед поездкой в Акатуй.
До отъезда Виктор Константинович подготовил второй номер «Забайкальского рабочего», в котором перепечатали из только что прибывшего по почте экземпляра газеты «Новая жизнь» № 19 от 23 ноября статью Ленина «Умирающее самодержавие и новые органы народной власти». Это была программа действий для читинских революционеров.
Покидая Читу, Виктор Константинович передал заветный тазик с уже готовой гремучей ртутью на хранение Костюшко-Валюжаничу.
Выехали 29 декабря. У всех было оружие. Со станции Борзя, где их ждали несколько саней, двинулись по заснеженной степи на Акатуй. Изредка в пути попадались села. Крестьяне, увидев в санях людей с красными повязками на рукавах, выходили навстречу, приглашая передохнуть. Делегаты охотно принимали такие приглашения. Еще бы! Каждая изба, где они останавливались, вскоре превращалась в клуб. Приходили русские и буряты. Они жадно расспрашивали о том, что делается в Чите и вокруг нее: весть о передаче Читинским Советом и комитетом партии всей земли крестьянам без выкупа, об отмене податей уже дошла до Акатуя и вызвала горячий революционный подъем во многих сибирских деревнях.
Когда делегаты подъезжали к Акатуйской каторжной тюрьме, их уже сопровождал большой конный отряд: крестьянская молодежь добровольно отправилась вместе с ними на выручку матросов-революционеров. Курнатовский через часового вызвал начальника тюрьмы Фищева. Не прошло и двух минут, как в окошечке, прорезанном в дверях рядом с воротами, показалась испуганная физиономия начальника Акатуйской каторги. Фищев сразу узнал Курнатовского и еще больше побледнел.
— Господин Курнатовский… Вы ли это? Кто эти люди? Чего они хотят?..
Виктор Константинович предъявил ему документ на освобождение матросов. Фищев дважды перечел бумаги и попросил Виктора Константиновича и его товарищей пройти с ним в тюремную контору.
Пока Курнатовский вел переговоры, крестьянский добровольческий отряд спешился и придвинулся к воротам тюрьмы. Фищев понял, что если он задержит делегатов и не выпустит матросов с «Прута», ему несдобровать. Но все же он попытался сопротивляться.
— Это противозаконно, господа, я пойду под суд…
— Может быть, и пойдете, господин Фищев, — вскипел Чистохин. — Но сейчас сила и власть в наших руках. Мы можем арестовать вас самого и даже заковать в кандалы, то есть сделать с вами то, чем вы занимались почти всю жизнь.
— Господин Фищев, — подтвердил Курнатовский, — я советую вам выполнить приказ комитета РСДРП как можно быстрее в интересах вашей же безопасности.
Фищев почувствовал, что с делегацией шутки плохи. Он растерянно развел руками.
— Что я могу сделать, господа? Умываю руки, освобождайте сами… А требование вашего комитета я могу оставить у себя?
— Можете, — ответил Виктор Константинович. — Оно вам и адресовано.
Курнатовский потребовал книгу регистрации заключенных и проверил ее. Но, кроме матросов, политических в Акатуе не было. Спустя минут двадцать освободители обнимали моряков с транспорта «Прут». Их усадили в сани, украшенные красными флагами, привезенными из Читы, и двинулись в путь.
Освобожденных моряков встречали в каждой деревне — выходили чуть ли не целыми селами. Их обнимали, подносили хлеб-соль.
На станции Борзя к воинскому поезду прицепили специальный вагон. 5 января 1906 года по новому стилю прибыли на станцию Оловянная. Здесь рабочие-железнодорожники вынесли моряков на руках из вагона. В станционной столовой приготовили торжественный обед.
Курнатовский, не отходивший от вагона, обратил внимание на казачьего офицера, который в чем-то. убеждал толпившихся около него солдат. Виктор Константинович прислушался.
— Они нарочно задерживают поезд, — говорил офицер. — Может быть, взорвать хотят…
«Надо, — подумал Курнатовский, — не забыть сказать Бабушкину и Валюжаничу, чтобы поезд задержали в Чите — необходимо поговорить с солдатами».
На станции Оловянная враждебная провокация не удалась: вагон охраняли вооруженные дружинники, и солдаты не решились напасть на их. Все случилось позже. Не успели отъехать от Оловянной и пяти верст, как состав вдруг остановился, что-то случилось с тормозами. Трое железнодорожников выпрыгнули из вагона, чтобы выяснить, в чем дело. В темноте их подстерегали солдаты.
— Бей их! — закричал офицер. — Из-за них остановили поезд! Срывай флаги!..
Курнатовский с дружинниками, делегаты и матросы выскочили из вагона, отбросив ломившихся в дверь солдат. Остальные испуганно отхлынули.
— Против кого вы идете? — крикнул Курнатовский. — Против своих же братьев-рабочих и моряков?
Кого вы слушаетесь? Офицеры — слуги царя и богатеев…
Солдаты топтались на месте — они впервые слышали такие речи. А тут, кстати, выяснилось, что испорчено сцепление и революционеры в этом не виноваты. Казачий офицер, призывавший к расправе, исчез. Солдаты, растерянно переглядываясь, разошлись.
Вагон отцепили от состава и отправили с другим воинским эшелоном — моряки и делегаты благополучно добрались до Читы, где им, несмотря на позднее время, была устроена торжественная встреча.
Восемь дней не был Курнатовский в Чите.
— Как в Москве? — прежде всего спросил он у Бабушкина.
Вестей из Москвы не поступало — связь прервана. Последнее сообщение об артиллерийском обстреле Пресни получили по телеграфу на третий день после выезда Курнатовского с делегацией в Акатуй. Виктор Константинович встревожился. Судьба революции решалась в самом сердце России — в Москве.
Курнатовский опять ушел с головой в работу: газета, собрания, митинги, совещания. Газета расходилась не только в Чите, но и по всей Забайкальской железной дороге. А 9 января 1906 года Курнатовский выпустил пятый и последний номер «Забайкальского рабочего». До Читы докатились тяжелые вести: восстание в Москве подавлено.
Менялась обстановка и в Чите. Генерал-губернатор Холщевников усилил свою тайную контрреволюционную деятельность. Часть гарнизона, оставшаяся у него в подчинении, стояла на разъезде Песчанка, неподалеку от Читы. Солдат постарались изолировать от революционного города. На Песчанку тайно прибывали подкрепления из других районов Забайкалья.
Надо было или нападать самим, или каждый день ждать нападения врага. Как поступить? Этот вопрос во всем своем драматизме встал перед Читинским комитетом РСДРП, перед всеми революционными организациями города и дороги.
— Нам нечего ждать, — заявил на заседании комитета Курнатовский. — Надо создавать в Чите, Иркутске, по всей дороге отряды революционной армии, той армии, о которой говорил Владимир Ильич, или, если сейчас это более целесообразно, вести партизанскую борьбу.
Он поставил этот вопрос на первом же заседании комитета после возвращения из Акатуя. К нему присоединились Бабушкин и Кудрин. После долгих споров примкнул к ним Костюшко-Валюжанич.
— Надо ждать, — говорили остальные. — Смотрите, красноярцы, судя по телеграммам, победили, организовав оборону железнодорожных мастерских. Надо укреплять мастерские, вокзал и сражаться здесь, в Чите.
Враги накапливали силы. Слухи о подавлении восстания в Центральной России проникли в Читинский гарнизон. Подстрекаемые Холщевниковым, офицеры начали запугивать солдат, грозить карами. Часть солдат поддалась контрреволюционной пропаганде и перестала посещать митинги, собрания.
Как снег на голову, дошли вести, страшные, черные вести.
К Чите двигались царские каратели.
Бабушкин появился на заседании комитета с телеграфной лентой в руках. Ее не успели наклеить на бланк — последняя телеграмма со станции Борзя.
— Станции Маньчжурия и Борзя заняты карателями, — сообщил Бабушкин. — Попов схвачен на станции Маньчжурия, отвезен карателями в Борзю и там расстрелян. Мы лишились одного из лучших работников партии. Вышли подрывников навстречу Ренненкампфу. Надо задержать его, пока мы не подымем Иркутск и горняков Черемховских копей. А поднять их нужно и можно. Если не удастся разъединить карателей, преградить им путь — уходите с оружием в сопки.
Комитет постановил выделить группу работников, которые останутся в подполье, если положение осложнится. Решили, что в подполье должны уйти те товарищи, которых в Чите мало знали, реже встречали на митингах, собраниях. Это необходимо для лучшей конспирации. Бабушкину поручили доставить вагон с оружием в Иркутск, поднять горняков Черемхова, чтобы они помогли Чите и преградили путь карателям. Курнатовский должен выехать следом на помощь.
Вечером при свете фонарей грузили в вагон оружие. В наступающей ночи надрывно прозвучал гудок паровоза. Бабушкин обнял Курнатовского и Костюшко-Валюжанича.
— Прощайте, друзья, — едва подавляя волнение, сказал он, — жду тебя, Виктор, в Иркутске. А ты, — он сжал Костюшко руку, — не поминай лихом, если что… Не давайте Ренненкампфу прихлопнуть вас в мастерских, как в мышеловке. Если все будет против вас, не теряйте головы. В подполье тоже умело уходить надо, все может случиться. Но помните: там неудача, здесь удача…
Поезд двинулся. Долго смотрели вслед убегавшему красному огоньку — Костюшко с грустью, Курнатовский с надеждой. Мог ли он думать, что видит Ивана Васильевича в последний раз!
Приближался конец Читинской республики. Внешне все шло по-старому. Распоряжения Совета и комитета выполнялись. Но всех охватила тревога. Ждали надвигавшихся событий. Жили, не зная, что будет завтра. Костюшко начал укреплять железнодорожные мастерские, собирать подрывников. 18 января 1906 года Курнатовский простился с товарищами, договорился о явках на случай разгрома революционного движения и выехал в Иркутск, обещая сделать все возможное, чтобы вместе с Бабушкиным поднять иркутян и черемховцев, если подойдут войска Ренненкампфа.
Виктор Константинович ехал в поезде с солдатами, возвращавшимися из Маньчжурии. Он занял свободное купе, чтобы не вести ни с кем лишних разговоров. В кармане его пальто лежали два паспорта: один на имя потомственного дворянина Курнатовского, другой — фальшивый. На полке стоял чемодан с бельем, запасом хлеба и фотографиями из Романовки и Якутска. Наступили сумерки. Поезд подходил к Байкалу. Курнатовский задремал и проспал около четырех часов. Проснулся от ощущения, что поезд где-то долго стоит. Посмотрел в окно. Кто-то ходил вдоль состава. Друзья? Враги? Он выглянул из двери купе и понял, что все кончено. С обеих сторон коридора двигались солдаты с фонарями. Проверяли документы. Это был Иркутский карательный отряд генерала Меллер-Закомельского.
Поручик потребовал у Курнатовского паспорт.
— Куда едете?
— В Москву.
— Паспорт выдан в Чите? -
— Да.
— Обыскать, — коротко приказал поручик. Солдат, порывшись в чемодане, достал завернутые в бумагу фотографии и передал их поручику. Разглядывая их, офицер заметил надписи на обороте:
— Дорогому учителю! Так это вы учили людей убивать солдат, осадивших дом Романова? Ах, тут и обвинительный акт по романовскому делу? Ну, конечно, и в Чите вы не сидели сложа руки… Ведите, — приказал поручик солдатам.
Курнатовский понял, что впереди смерть. И спокойно пошел ей навстречу, сопровождаемый озлобленными конвойными.
Царизм знал, кого он посылает для усмирения рабочих и солдат в Забайкалье. Генерал-от-инфантерии барон Меллер-Закомельский, так же как и его коллега фон Ренненкампф, были как нельзя лучше приспособлены для роли палачей. Тупость, жестокость, трусливость сочетались в их характерах. Оба карьеристы, люди, неразборчивые в средствах, если речь шла о получении чинов, орденов, почестей. Оба происходили из прусских юнкерских семей. Меллер-Закомельский еще девятнадцати-двадцатилетним юнцом участвовал в подавлении польского восстания 1863 года и проявил такую жестокость, что от него отвернулись даже многие его сослуживцы. Зато карьера Закомельского была обеспечена. Ренненкампф не уступал ему в подлости. А его бездарность как военного была поистине феноменальной.
Ренненкампф выехал в Сибирь в специальном поезде. На подавление революционеров бросили отребья армии, кулацких сынков, бывших уголовников, штрафников, которым обещали простить все числящиеся за ними грехи. Офицеры подбирались под стать солдатам и своему генералу. Ворвавшись на станцию Маньчжурия, Ренненкампф приказал расстреливать и вешать без суда всех заподозренных в революционной деятельности. Вместе со своей свитой он наблюдал в бинокль из окна вагона, как приводятся в исполнение его приказы. В одном Верхнеудинске казнили без суда шестьдесят рабочих. Но, приближаясь к Чите, бравый генерал струсил: как бы не взорвали железнодорожное полотно. Поэтому он оставил в живых несколько десятков своих пленников, объявил их заложниками и оповестил всех, что в случае покушения на него заложников немедленно казнят. Вперед Ренненкампф выслал отряд саперов. Точно так же действовал и Меллер-Закомельский.
Сами по себе карательные поезда не представляли грозной силы, с которой рабочие и примкнувшие к ним солдаты не сумели бы справиться. Но их внезапное появление на дороге, неудовлетворительная организация восставших, отсутствие общего плана борьбы, основанного на наступательной тактике, привели к поражению революционеров и к огромным жертвам. Взрывы на железнодорожном полотне не удались из-за неопытности подрывников. Имело значение и то обстоятельство, что революционеры жалели заложников — своих товарищей по борьбе.
Курнатовский также попал в заложники. Его поместили в вагон, переполненный пленными. Они сидели на скамьях, на полу: телеграфисты, сцепщики, слесари, смазчики, стрелочники Забайкальской железной дороги. Большинство не спало уже вторые сутки, их лишили воды, пищи.
— Садись здесь, друг, — послышался чей-то голос. — Тут есть местечко…
Курнатовский опустился на пол. Из фонаря пробивался тусклый свет, и Виктор Константинович разглядел своего соседа: морщинистое лицо, руки, покрытые мозолями.
— Давно схватили? — спросил Виктор Константинович.
— Двое суток везут. Каждый день выводят из вагона то одного, то другого и расстреливают.
— А не слышал ли, кто именно расстрелян?
— Разве запомнишь, — ответил рабочий. — А были и такие, кто себя назвать не хотел.
— Кто же, опиши их, — попросил Курнатовский.
— Забрали их у нас в Выдрине. Солдаты говорили, что оружие в Иркутск везли. Не разглядел я их толком, а имен своих они называть не стали.
«Неужели Бабушкин и его товарищи?» — подумал Курнатовский.
Два дня и две ночи слились в непрерывный кровавый кошмар. На каждой остановке пленников вызывали по спискам. Затем слышались выстрелы, крики, стоны. На одной из остановок увели и спутника Курнатовского. А о Викторе Константиновиче точно забыли.
Поезд приближался к Чите…
«Уж там-то их встретят», — думал Курнатовский, надеясь, что читинские товарищи подготовили достойный отпор карателям.
Но когда на рассвете 2 февраля 1906 года по новому стилю поезд прибыл на разъезд под Читой, вокруг стояла зловещая тишина. Захлопали вагонные двери, опять вошел унтер-офицер, которого пленники называли приказчиком смерти.
«Значит, через несколько минут конец», — подумал Виктор Константинович.
Странным показалось одно: велели брать вещи — у кого что есть. Курнатовский почти машинально взял свой полупустой чемодан.
Пленных вывели и построили вдоль вагонов. На соседнем пути стоял другой состав, охраняемый солдатами. Оттуда вышел офицер небольшого роста и с бесцветными глазами. Унтер-офицер подбежал к нему, взял под козырек и отрапортовал:
— Ваше благородие! Арестанты выстроены для передачи их в ведение генерала Ренненкампфа.
Офицер взял поданный ему список.
— У нашего генерала вы на этом свете не заживетесь, господа, — небрежно бросил он. И, обращаясь к конвойным, приказал: — Ведите.
Их снова разместили по вагонам. Окна были забраны решетками — генерал Ренненкампф прислал для арестованных специальный состав. Меллер-Закомельский выполнил свою миссию. Его отзывали в Центральную Россию.
Вскоре поезд-тюрьма тронулся с места, и через пятнадцать-двадцать минут Курнатовский увидел знакомое здание читинского вокзала. Состав отвели на запасной путь. Больше месяца провел Курнатовский в этом застенке: здесь арестованных допрашивали, избивали, а затем уводили на казнь или отсылали в городскую тюрьму.
В первые дни вагоны стояли полупустые, но к началу марта их забили до отказа. Встречались знакомые и незнакомые лица. Попали сюда Чистохин, Лопатин, Полубояринов, Белякин, которых схватили, дознавшись, что они принимали участие в освобождении матросов из Акатуйской тюрьмы. Всего по этому делу привлекалось 27 человек. Предстоял военный суд.
Всеволод Чистохин рассказал Курнатовскому о последних днях Читинской республики. Оборона мастерских не удалась. Да и поезд Ренненкампфа подошел к Чите внезапно. Солдатам Ренненкампфа помогли войска с Песчанки. Костюшко забрали на другой день. Он должен был скрыться из Читы вместе с матросами, освобожденными из Акатуя, и другими участниками революционного восстания. Собрались на квартире одного из членов Совета — Кривоносенко. Около дома ждали лошади, запряженные в сани. Но бежать не удалось — их захватил патруль под командованием нового генерал-губернатора Сычевского, заменившего Холщевникова, которого отстранили за поблажки революционерам. На шестой день после ареста Костюшко, Столярова, Суксмана и Вайнштейна приговорили к расстрелу.
— Два дня назад, — рассказывал Чистохин, — их вывели днем из тюрьмы. Костюшко спокойно шел впереди, здоровался со знакомыми, словно на прогулке. В версте от станции их расстреляли. Костюшко отказался от повязки. За минуту до смерти он говорил солдатам о свободе. Руки у стрелявших дрожали…
Курнатовский, слушая Чистохина, низко опустил голову, закрыл лицо руками и вдруг зарыдал. Всеволод положил ему руку на плечо, хотел как-то утешить, но и сам заплакал, как ребенок.
— И мы там будем, — тихо прошептал он.
21 марта Курнатовского вызвали на допрос. Его расспрашивали о читинских событиях, о том, как проходило освобождение моряков с «Прута», кто принимал участие в этой операции, как вели себя начальник тюрьмы Фищев и его помощник Островский. Курнатовский отказался отвечать на вопросы. Его удивило: чего ради военный следователь так интересуется поведением начальника каторжной тюрьмы? Позднее ему стало известно, что Фищева и Островского тоже привлекли к суду за освобождение моряков. Суду предали и Холщевникова — за уступчивость. Однако все трое сумели оправдаться, сославшись на то, что не имели в своем распоряжении вооруженной силы.
Спустя два дня после допроса Курнатовского в числе двадцати семи человек приговорили к расстрелу.
Всех приговоренных поместили в один вагон, около которого поставили усиленную охрану. Здесь он встретил многих друзей и товарищей. Все смело ждали смерти. Говорили о семьях, о революции, обо всем, кроме смерти, которая нависла над ними.
На другой день после приговора в вагон заглянул фельдфебель.
— Приговоренный Виктор Курнатовский, вам разрешено свидание с племянником.
— С племянником?
Никакой родни в Чите у него не было.
Однако, не выражая ничем своего удивления, Виктор Константинович прошел за часовым в тамбур. На подножке вагона стоял молодой человек. Это был столяр Голиков, переодетый гимназистом. Он познакомился с Курнатовским в Чите на одном из собраний и очень привязался к нему.
— Дорогой дядя, — сказал он Курнатовскому, — я принес тебе бритву и белье. Начальство разрешило передать.
— Спасибо, — ответил Курнатовский. — Все наши здоровы?
— Здоровы, кроме дядя Кости и еще некоторых.
— А что с дядей Ваней?
— Он как уехал от нас, так ничего не пишет. Курнатовский понял, что о Бабушкине вестей нет.
Солдаты отвлеклись каким-то разговором. И Голиков успел сунуть за пазуху Курнатовскому записку. Тут же он обратился к одному из солдат:
— Служивый, заключенному разрешено передать белье и бритву. Прими-ка ты их.
— Давай сюда, — сказал солдат, открывая дверь. Второй конвоир оттеснил Курнатовского в глубь тамбура: не убежал бы.
Получив узелок, солдат принялся рассматривать его содержимое. Затем сказал Курнатовскому:
— Подари-ка мне бритву и одну рубаху. Тебе не сегодня-завтра аминь. А я помолюсь за твою грешную душу.
— Хорошо, — Курнатовский усмехнулся. — Но если ты такой богомольный, то знай, что в царствие божье полагается идти с бритым ликом.
— А как побреешься, подаришь? — продолжал вымогать солдат.
— Ладно.
Солдат отдал ему узелок и бритву и проводил из тамбура в вагон. Когда конвоиры ушли, Курнатовский прочел записку. Она была от комитета. Комитет цел и продолжает работать! Товарищи утешали Курнатовского, ободряли, предлагали организовать побег. Голиков еще раз явится на свидание. Спрашивали согласия Курнатовского: если да, то он должен показать Голикову две ладони, если нет — не поднимать рук.
Во время второго свидания с Голиковым Виктор Константинович, подойдя к окну, не поднял рук и отрицательно покачал головой. Он хотел умереть вместе с товарищами… Да и его побег сулил немедленный расстрел и приговоренным и еще ожидающим приговора.
Однако палачи медлили, чего-то ждали. Вновь повторилось то, что порою спасало революционеров: весть о зверствах карателей на Забайкальской железной дороге дошла до крупных рабочих центров России, проникла за границу. Начались забастовки протеста, петиции. Правительство испугалось, что могут возникнуть новые волнения. Еще не было полной уверенности в победе над революцией. И когда Ренненкампф послал в Петербург на утверждение списки приговоренных, произошло неожиданное — казнь заменили каторгой.
Три недели после приговора прожили пленники в тюрьме-вагоне. Наконец 15 апреля по новому стилю к ним заглянул офицер конвоя. Обычно такой приход ничего хорошего не сулил, но на этот раз осужденные узнали, что «великой милостью государя императора» всем им — двадцати семи — дарована жизнь. Семерых, в их числе Курнатовского, приговорили к бессрочной, то есть к пожизненной, каторге. Остальных — к каторжным работам на разные сроки. Курнатовского заковали в кандалы и через Нерчинск направили в каторжную тюрьму.
Врач Нерчинской городской больницы Зензинов не удивился, когда конвойные привели к нему, вернее принесли, закованного в кандалы человека, страшно изможденного, почти глухого. Шла расплата за 1905 год. На каторгу гнали партию за партией. Многие не выдерживали и погибали в пути или при более благоприятном стечении обстоятельств оставлялись конвойными по дороге — в больницах, имевших арестантские палаты. По выздоровлении отставших включали в следующие партии, которые шли и шли в Сибирь.
Врача Зензинова поразили документы больного. В них говорилось, что отправляемому на вечную каторгу Виктору Курнатовскому около тридцати восьми лет. Однако на вид этому человеку можно было дать все шестьдесят.
— Политический? — спросил Зензинов фельдфебеля, возглавлявшего конвой.
— Бунтовщик, — ответил фельдфебель. — Охрана ему нужна хорошая, ваше благородие, — добавил он, сдавая врачу больного под расписку.
Когда фельдфебель ушел, Зензинов приказал снять с больного кандалы и поместить его не в арестантской палате, а в обычной, предназначенной для горожан. Курнатовский находился в тяжелом состоянии. Он бредил. По инструкции губернатора у постели больного должен был неотлучно дежурить конвойный, но солдата поместили в комнате для медицинского персонала.
Курнатовский по дороге простудился. Кроме того, он был необычайно истощен. Двухмесячное нервное напряжение в ожидании казни также дало себя знать. Резко ухудшился слух.
Доктор Зензинов ничем не проявлял сочувствия к больному. Лишь под предлогом того, что Курнатовский тяжело болен, он часто заходил в палату и, сидя у кровати, расспрашивал Виктора Константиновича о самочувствии. Делал это Зензинов умело и осторожно, чтобы другие больные не заподозрили его в симпатии к политическому. В то же время Зензинов прилагал все усилия, чтобы поставить его на ноги. При этом он дал понять, что во всех отношениях Виктору Константиновичу полезно подольше пролежать в постели.
Стояла середина мая.
— Как самочувствие, больной? — спросил Зензинов во время одного из обходов.
— Спасибо, доктор, немного лучше. На воздух тянет. Все уже расцвело, наверное? Даже в палату доносятся весенние ароматы.
— После обеда, если будет солнце, — сказал Зензинов, — я разрешу вам немного посидеть в саду на скамейке.
— А вы не боитесь, доктор, что ваш пациент убежит?
Зензинов с минуту помолчал, а затем, делая ударение на каждом слове, ответил:
— Это не арестантский корпус. Я обязан во время прогулок посылать с вами конвойного. Но если он за вами не углядит, то формально я за ваш побег не несу ответственности. Вы поняли меня, Курнатовский?
Глаза их на мгновение встретились. Конвойный… Кто будет им?
Примерно через час после обеда в палате снова появился Зензинов. Он вошел в сопровождении солдата, вооруженного винтовкой.
— Больной Курнатовский, — сказал он, — вам разрешается спуститься в сад на полчаса, но не больше.
Виктор Константинович был еще так слаб, что с одной стороны его поддерживал санитар, а с другой — солдат. Во дворе перед больничным корпусом росло несколько деревьев, стояли скамьи. Чудесный сибирский весенний воздух, напоенный ароматом тайги, так подействовал на Курнатовского, что он чуть не упал, если бы его не поддержали.
— Веди сюда, — сказал солдат санитару, показывая на скамейку, стоявшую в стороне от деревьев.
— Я хочу на ту, что под деревом, — попросил Курнатовский.
— Нельзя, она для вольных, — ответил солдат. Курнатовский с ненавистью поглядел на него — и здесь тюрьма. Санитар ушел. Виктор Константинович остался вдвоем со своим угрюмым, неразговорчивым спутником. И каково же было его удивление, когда солдат вдруг наклонился к его уху и прошептал:
— Товарищ Курнатовский!
Виктор-Константинович вздрогнул от неожиданности. Слова прозвучали для него как чудесная музыка. Он внимательно оглядел солдата. Провокатор? Нет, не похоже. Вдруг мелькнула мысль: он знает этого человека. Вспомнилась Красноярская пересыльная тюрьма… Енисей… Пароход… Белобрысый парень, отправлявшийся на каторгу за оскорбление священника.
— Егор Гвоздев, — чуть не крикнул он, но сдержался и прошептал: — Егор, ты?
— Я, Виктор Константинович…
Гвоздев отвернулся, отодвинулся от Курнатовского, положил на скамейку кисет с табаком, поставил винтовку между ног, неторопливо достал из кисета несколько листов курительной бумаги. Один из них он незаметно пододвинул к Курнатовскому. Тот понял, прикрыл его рукой.
— Прочитайте и уничтожьте, — сказал Егор.
Это была записка от комитета. Товарищи предлагали всецело довериться конвойному и бежать с ним, когда сложатся подходящие обстоятельства. Называли город, куда вышлют деньги и новый паспорт на чужое имя. Затем советовали пробираться во Владивосток, а там морем — в Японию.
Теперь они все чаще ходили с Гвоздевым на прогулки. Силы возвращались к Курнатовскому. Организм окреп. Зензинов увеличил порцию хлеба. Курнатовский приносил хлеб в карманах больничного халата и незаметно передавал его Гвоздеву.
— В дороге пригодится, — говорил Егор, забирая излишки хлеба.
Беседовали они очень осторожно, сидя всегда на одной и той же скамье, которая почти не видна была из окон больницы. Курнатовский узнал, что Егор, отбыв ссылку, поселился в Сибири навсегда. К нему приехали отец, мать, братья. Во время войны с Японией его мобилизовали. С год провоевал в Маньчжурии, а затем попал в гарнизон, находившийся неподалеку от Читы. Посещал в Чите солдатские собрания, на одном из них видел Курнатовского, но не мог к нему пробраться. В канун падения Читинской республики Гвоздев по указанию комитета вел себя особенно осторожно. Однако, работая среди солдат на станции Песчанка, он не избежал общей участи: все войсковые подразделения, которые так или иначе общались с революционной Читой, расформировали, а людей разослали по различным пунктам Сибири. Гвоздев попал в Нерчинск, где и получил задание от комитета РСДРП — помочь Курнатовскому бежать. Самому Гвоздеву тоже предлагали бежать из армии, пробираться в южную часть Читинского округа и там вести работу среди крестьян. Членов комитета в лицо Гвоздев не знал. Знал только, что комитет пополнился новыми энергичными людьми, что, несмотря на жестокие репрессии, подпольная работа продолжается. О Бабушкине Гвоздев не слышал ничего.
21 мая 1906 года Курнатовский со своим конвойным вышли на очередную прогулку. В больницу они не возвратились. Рядовой Егор Гвоздев не вернулся к несению караульной службы.
Новый губернатор Читы Сычевский сообщил о происшествии в Петербург. Он писал в департамент полиции:
«21 мая из Нерчинской городской больницы бежал с часовым бессрочный каторжник, политический арестант Курнатовский, помещенный врачом Зензиновым не в арестантские палаты, отпущенный им на честное слово на прогулку. Дознание производится».
«Честное слово» было, конечно, выдумкой Зензинова, вполне уместной при таких обстоятельствах.
…Летом 1906 года из Владивостокского порта в очередной рейс отправлялся пароход «Заря». Он отплывал в Нагасаки. Вечерело. Над бухтой загорались огни города, раскинувшегося амфитеатром по возвышенностям, окружавшим гавань. Пароход отходил на рассвете. Почти вся команда находилась на борту, отдыхая после тяжелой погрузки. У сходней, сброшенных на пристань, стояли двое матросов. Они тихо беседовали, вглядываясь время от времени в вечернюю дымку, окутывавшую город, порт, пристань.
— Я слышал, его давно ищут во Владивостоке, — тихо сказал один из моряков,
— Многих ищут, — отвечал собеседник. — Постой, — прошептал он, — кажется, идут. Узнаю Петра по походке. А с ним еще кто-то.
К морякам подошли высокий плечистый матрос и худощавый человек в сером поношенном пальто.
— Ну вот, доставил, — сказал Петр, знакомя пришедшего со своими друзьями. — Это и есть товарищ Курнатовский.
Моряки крепко пожали Виктору Константиновичу руку.
— На борт, — сказал один из них, обращаясь к Курнатовскому, — вы пройдете как весовщик торговой конторы. А там мы знаем, куда вас запрятать.
— Я еще пройдусь, — сказал Петр. — Показалось мне, что кто-то за нами увязался.
Он быстро зашагал по пристани между штабелями досок и других грузов. Минуты через три заметил человека, осторожно пробиравшегося навстречу. Петр прикинулся пьяным и, покачиваясь, затянул вполголоса песню. Поравнявшись с незнакомцем, он быстро оглядел его — конечно, это либо полицейский шпик, либо вор. Петр загородил ему дорогу.
— Что ты здесь позабыл, друг? — продолжая разыгрывать пьяного, спросил он.
— Ищу подрядчика Смирнова.
— Смирнов в кабаке сидит. Пойдем и мы туда. Пойдем выпьем. И Смирнов твой выпьет.
— Пусти, матросик, — досадливо проговорил встречный. — Я по делу иду.
— Какое на ночь глядя дело! Пойдем выпьем, — продолжал приставать Петр, надвигаясь на незнакомца.
— Пусти, очумел, что ли! — закричал тот.
— Моряк тебя честью зовет, за свой счет угощает, а ты… — И Петр нанес шпику такой удар в подбородок, что тот растянулся между досками.
Однако, пролежав с минуту неподвижно, очнулся.
— Это тебе, собака, так не пройдет… — прохрипел он и, выхватив из кармана свисток, хотел поднести его к губам.
Но моряк был начеку и так сжал ему руку, что человек, охнув, выронил свисток. Петр поднял шпика за шиворот, подтащил к пожарной бочке и швырнул в воду. Раздались всплеск, крик, проклятья… Но у моряка хватило времени, чтобы скрыться в темноте и незаметно попасть на «Зарю». Шпик так и не узнал, на какой из кораблей ушли Курнатовский и прикинувшийся пьяным матрос.
Виктора Константиновича спрятали в трюме между большими бочками. Неподалеку стоял бочонок с водкой — капитан и боцман везли контрабандой русскую водку в Нагасаки. Моряки, прятавшие Курнатовского, хорошо понимали, что в случае обыска и капитан и боцман постараются в эту часть трюма не пускать жандармов и полицейских.
Наутро «Заря» ушла в Нагасаки.
Небольшая русская эмигрантская колония в Нагасаки находилась под постоянным надзором полиции. Ее агенты следили за перепиской эмигрантов и за тем, чтобы японское население поменьше общалось с ними. Крупная забастовка на японских медных рудниках, прошедшая в отличие от прежних забастовок далеко не стихийно, насторожила правителей страны восходящего солнца. В усилении рабочего движения они видели влияние русской революции. А тут еще молодой вождь японских социалистов Сен-Катаяма приветствовал русских социал-демократов и заявил, что русско-японская война была грабительской войной, выгодной в равной степени и микадо и Николаю Романову. Русских эмигрантов не жаловали. В печати появились сообщения, что премьер-министр японского правительства маркиз Сайондзи ведет переговоры с императорским двором в Петербурге о выдаче политэмигрантов. Премьер пытался опровергнуть эти слухи, но ему мало верили. Неудивительно, что в одном из писем товарищу в Россию Виктор Константинович назвал Нагасаки большой тюрьмой, хотя сам он очень симпатизировал простым людям Японии. Эмигранту, особенно русскому, найти здесь работу было почти невозможно. Повсюду встречали вежливо, расспрашивали о специальности, образовании, но, узнав, что человек по национальности русский, да к тому же революционный эмигрант, вежливо отвечали, что работы нет.
Жил Курнатовский в Японии по фальшивому паспорту на имя Авдакова, который для него добыл Читинский комитет РСДРП. С этим паспортом он два месяца скитался по тайге, выбрался, наконец, на железную дорогу, достиг Владивостока, где через местных большевиков-подпольщиков связался с командой парохода и эмигрировал. Деньги, полученные от комитета, быстро растаяли в пути. Благодаря знакомствам, которые он завязал еще в Сибири, ему удалось наладить связь с некоторыми провинциальными русскими газетами и кое-что писать для них под новой фамилией. Но гонорар был скудный и поступал нерегулярно. Жил Курнатовский впроголодь.
Эмигрантская колония в Нагасаки имела маленький клуб, где встречались те, кто покинул родину. На втором этаже клуба находилось несколько крохотных комнаток. Здесь временно останавливались приезжие, пока не подыскивали себе другого пристанища.
Одним из старейших в колонии был ветеран «Народной воли» Оржих, отбывший длительное заключение в Шлиссельбургской крепости. В колонии преобладали эсеры и народники. Оржих, честный, прямой человек, поседевший в царских тюрьмах, стремился облегчить положение политэмигрантов в Японии. Но его чрезмерная доверчивость к людям, нежелание считаться с ходом истории, его благоговение перед эсерами, которых он считал наследниками «Народной воли», доходили до того, что Оржих отказывался верить в возможность проникновения в партию большого числа провокаторов и проходимцев. У эсеров не было организации и уставных требований, напоминавших РСДРП. Курнатовский и Оржих хоть и симпатизировали друг другу, но часто вели политические споры. Однажды в беседе с Курнатовским Оржих сказал:
— Затеял я издать иллюстрированный альбом русских революционных деятелей. Хотел бы поместить в нем и вашу биографию и фотографию.
— Я уже слышал об этом, — ответил Курнатовский.
— Ну и как? — поинтересовался Оржих.
— Посмеялся.
— Чему?
— Никаких исторических заслуг признавать за собой я не намерен. Я — рядовой работник партии.
— Ну, это вы из скромности, — возразил Оржих. — А еще что?
— Скажу прямо, — продолжал Курнатовский, — не нравится мне эта затея. Что, если ваш альбомчик попадет в руки охранки — прекрасный материал против революционеров!
— Н-да! Об этом я не подумал, — смутился Оржих.
— Вы не подумали, но, видимо, вас кто-то надоумил. — заметил Курнатовский.
— Эту идею подал Оскар, — сказал Оржих. — Он давно носится с нею. Оскар искренний, горячий революционер…
— А-а, — усмехнулся Курнатовский, — Оскар! Удивительно, как он у вас здесь преуспевает! А я вот вашему Оскару не доверяю.
— Какие у вас основания порочить честного человека? — вскипел Оржих.
— Успокойтесь, друг, и выслушайте меня. Оскар приехал сюда недавно. Вы его приютили и рассказали мне, что он привез вам много конспиративных адресов для Сибири и Дальнего Востока. Ведь так? — спросил Курнатовский.
— Говорил, — возразил Оржих, — ну и что же?
— Так вот я снова повторяю, что я ему не верю. Оскар начал хвалиться знакомым и незнакомым, что он участник восстания на крейсере «Память Азова», чуть ли не руководитель восстания. А я знаю достоверно, что это не так. Затем он рассказал, что состоял во главе лаборатории боевой организации эсеров на Аптекарском острове в Петербурге. А когда я, как химик, задал ему несколько простейших вопросов о взрывчатых веществах, он наговорил мне всякой чепухи.
— Молод, любит прихвастнуть, — заметил Оржих.
— Нет, — возразил Курнатовский, — здесь что-то не так. Я знаю вас, Оржих, как честного человека и полагаю, что все сказанное мною останется между нами?
— И вы сомневаетесь?
— Нет, не сомневаюсь, но еще раз прошу молчать о том, что я вам расскажу.
— Даю слово революционера, — ответил посерьезневший Оржих.
— Тогда слушайте. Болтливость Оскара, когда нам грозит выдача царю, уже сама по себе подозрительна. Но не в ней сейчас дело. Оскар ходит на почту и получает письма для всей эмигрантской колонии, и вот тут-то я должен, посвятить вас в одну деталь: он вскрывает эти письма, во всяком случае часть из них, и, прочитав, вручает нам. Он вскрыл несколько писем, адресованных мне.
— Но где доказательства, что письма вскрывает именно он? — воскликнул Оржих.
— Вот, — ответил Виктор Константинович, доставая из кармана нераспечатанное письмо. — Видите, оно было вскрыто и снова заклеено после того, как на нем поставили японский почтовый штемпель.
Оржих внимательно осмотрел конверт, но сдаваться не хотел.
— Нет, Курнатовский, это не доказательство. Это может навести на подозрение, но и только.
— А что вы скажете, Оржих, если я и еще двое товарищей, — наступал Курнатовский, — фамилии их я пока не назову, следя за Оскаром, видели, как он бегает украдкой в царское консульство?
— Тогда ваши подозрения могут быть основательными. Но как это проверить и довести дело до конца? — спросил Оржих.
— Давайте проведем у Оскара внезапный обыск, — предложил Курнатовский. — Ворвемся к нему, когда он этого не ожидает, лучше всего после получения новой почты. Согласны?
Не без колебаний Оржих согласился.
На следующий день, взяв револьверы, они встретились в условленное время неподалеку от почты. Из маленькой лавочки торговца бумажными фонариками стали следить за входом на почту. Чтобы не вызвать подозрений у хозяина, долго выбирали фонарики, купили один.
Наконец показался Оскар. Это был высокого роста человек, белокурый, с лицом, обезображенным поперечным шрамом (по словам Оскара, след казацкой сабли). Неприятное впечатление производили его глаза — бегающие, никогда не глядящие прямо в лицо собеседника. Бесцеремонно расталкивая пешеходов, Оскар скрылся в здании почты. Вскоре он вышел обратно. Оржих и Курнатовский двинулись вслед за ним. Оскар жил неподалеку, в небольшой гостинице на первом этаже.
— Не следует торопиться, — сказал Курнатовский. — Пусть начнет распечатывать письма… А, кстати, кто Оскар по национальности, давно хотел вас спросить?
— Говорит, что финн.
— Странно. Финны — честный народ. Среди них я не встречал провокаторов, — заметил Курнатовский.
— У шпионов нет отечества, — изрек старую истину Оржих, — если только Оскар шпион, а не мелкий воришка, ищущий в конвертах денежных вложений.
— Все выясним, недолго ждать, — ответил Курнатовский.
Оржих знал, где расположен номер, занимаемый Оскаром. Портье не стал их задерживать: в гостинице жили преимущественно иностранцы, к которым ходило много гостей. Они подошли к двери. В коридоре никого не было. Вынули револьверы, и Курнатовский постучал.
— Кто там? — раздался испуганный и раздраженный голос.
— Откройте, господин Оскар, — сказал по-английски Виктор Константинович.
Дверь приоткрылась. Узнав посетителей, Оскар вскрикнул от неожиданности и отпрянул назад. Курнатовский и Оржих ворвались в номер. Увидев, что они вооружены, Оскар все понял. Единственное спасение — бегство. Он бросился к открытому окну, вскочил на подоконник и выпрыгнул во дворик около отеля.
— Мелодрама пойдет без выстрелов, — сказал Курнатовский, опуская револьвер в карман.
Комната, которую занимал Оскар, была обставлена комфортабельной европейской мебелью. Стены украшены фотографиями японских танцовщиц. Оржих, который бывал у Оскара, направился прямо к небольшому столику. Здесь стояло блюдце с водой, банка с клеем и лежала стопка вскрытых писем.
— Позор, позор… — прошептал Оржих, хватаясь за голову. — И только подумать, какой негодяй!
— Богато жил, — заметил Курнатовский, перебирая письма. — Вот одно и мне из Владивостока, — сказал он, откладывая в сторону синий конверт.
В комнате стояла широкая кушетка. Оржих начал брезгливо откидывать расшитые подушки. Под одной они увидели небольшую шкатулку японской работы. Курнатовский повертел ее в руках. В шкатулке торчал ключ. Но открыть ее Курнатовский не мог.
— Дайте сюда, — сказал Оржих. — Быть может, мне посчастливится.
Он осторожно поколотил по шкатулке рукояткой револьвера. Крышка чуть сдвинулась с места, и тогда удалось повернуть ключ.
В шкатулке лежали пара женских фотографий, несколько женских колец, какие-то письма и сложенный вчетверо лист бумаги. За ним другой, третий — списки всей русской эмигрантской колонии. Некоторые фамилии были подчеркнуты карандашом. На отдельный листок выписаны те, кто недавно уехал в Россию на подпольную революционную работу.
— Каково! — воскликнул Курнатовский.
— Негодяй, негодяй, — шептал Оржих.
— Теперь давайте посмотрим письма, — предложил Курнатовский.
Из плотного конверта с двуглавым орлом он извлек бумагу, датированную 1902 годом, — сообщение русского консула, в котором Оскару выражалась благодарность за выдачу царским властям матросов, участвовавших в волнениях на флоте, происходивших во Владивостоке в 1902 году. Была названа и сумма денег, которую Оскар мог получить в одном из японских банков: пять тысяч иен!
— Значит, он здесь давно и еще до войны служил агентом охранки, — заметил Курнатовский. — Как же он выдал матросов?
— Можно полагать, — ответил Оржих, — что по указанию охранки Оскар снабдил живших здесь впроголодь матросов фальшивыми паспортами на выезд из Японии. Матросы отправились в Шанхай, а там русский консул, пользуясь правом экстерриториальности, арестовал их и отправил во Владивосток. Ну, а дальше — военный суд и расстрел, в лучшем случае — вечная каторга.
Все было ясно. Они собрали документы, списки, распечатанные письма и покинули гостиницу, не вызвав ни у кого никаких подозрений.
— Он, разумеется, не появится больше, но даст знать полиции, — сказал Курнатовский.
Оржих был страшно удручен. Он говорил, что теперь на эмигрантов-эсеров в Нагасаки падет позор. Эмигрантская колония приняла Оскара с распростертыми объятиями, в их числе и он, Оржих, поседевший в революционной борьбе. Курнатовский как мог успокаивал товарища.
— Охранка, — говорил он, — и в нашу партию засылает немало шпионов и провокаторов. Пожалуй, больше, чем к вам, эсерам. Но при наших партийных порядках этой публике трудно избежать разоблачения. В партии эсеров их разоблачать труднее.
После истории с Оскаром, которая могла плохо кончиться, и тщетных поисков работы Виктор Константинович покинул Нагасаки и выехал в Иокогаму. Это был европейский город, застроенный большими зданиями банков, с трамвайными линиями, оживленными улицами и очень дорогой жизнью. Но и в Иокогаме Курнатовский не нашел работы. Не было ее и в Токио.
Тогда, вспомнив о письме одного из товарищей, который жил и работал в Сиднее, в Австралии, Виктор Константинович написал ему. Вскоре пришел ответ. Курнатовскому предлагали работу на химическом предприятии Эйлера, правда, с очень скромным окладом. Но выбирать не приходилось. На последние деньги он купил билет на пароход, идущий в Австралию, и в июле 1908 года покинул негостеприимные берега страны восходящего солнца.
Сначала Курнатовский жил у своего товарища — метранпажа Михайлова. Это он помог Виктору Константиновичу устроиться в лаборатории химического предприятия фабриканта Эйлера.
Поработав здесь, Курнатовский убедился, что Эйлер занимается жульничеством: изготовляемый по его методу желатин был, в сущности, обычным столярным клеем, а некоторые широко разрекламированные Эйлером лекарственные препараты — настоящая отрава. Крупно поговорив с предпринимателем, Курнатовский, естественно, оказался за воротами фабрики.
Он брался за все: мыл посуду, чистил овощи в столовых самого последнего разряда, пробивал тоннели в гранитных породах, работая на строительстве железных дорог… А там снова безработица.
Весной 1909 года, после долгих безуспешных поисков работы, он наткнулся, наконец, на объявление, которое висело около конторы одного лесопромышленника. Контора находилась на окраине Сиднея. Объявление гласило, что мистеру Гарду требуются лесорубы для работы на границе Нового Южного Уэльса и Квинсленда.
— Об условиях здесь ничего не сказано, — заметил Курнатовский.
— Не возьметесь ли вы, Авдаков, поговорить с боссом, — обратился к нему (Курнатовский и здесь жил под чужой фамилией) высокий ирландец Билль Эдингтон, с которым Виктор Константинович работал недавно на прокладке тоннеля. — Поговорите за всех нас, за всю артель…
— Боюсь, Билль, — ответил Курнатовский, — что это может ухудшить дело. Ведь по-английски я говорю с большим акцентом. А эмигрантам хозяева всегда платят меньше.
Однако просьбу Эдингтона поддержали все собравшиеся здесь безработные. От Эдингтона они уже знали, что Авдаков смело разговаривает с хозяевами и в обиду своих товарищей не даст. Курнатовский дернул звонок. На пороге появился полный мужчина лет пятидесяти в белом жилете и широкополой шляпе. Он оглядел Курнатовского и подозрительно покосился на его товарищей.
— Насчет работы?
— По вашему объявлению, мистер Гард, — ответил Курнатовский.
— Кто старший в артели?
— Я, — коротко бросил Курнатовский.
— Заходите в контору, а остальные пусть ждут здесь.
Гард не предложил ему стула. Усевшись за высокой конторкой, он начал, разговор, который больше напоминал допрос.
— Ваши люди рубили когда-нибудь лес?
— Приходилось, на строительстве железной дороги…
— Очень уж они тощие, — проговорил, задумавшись, Гард. — Да и рабочих я уже, собственно, набрал.
— Тогда надо было снять объявление и не утруждать тощих людей читать его.
— Вы смело разговариваете, — сказал, вскинув на него глаза, Гард. — Судя по акценту, эмигрант?
— Это не имеет никакого отношения к делу, — ответил Курнатовский. — Если нужны рабочие, будем толковать. Не нужны — снимите объявление.
Лесопромышленник опешил. Он не привык к такому тону. Но Курнатовский явно заинтересовал его.
— Вы беседуете так, словно не я, а вы здесь хозяин. Есть ли хоть у вас и у ваших товарищей паспорта, или вы попросту бродяги?
— Паспорта имеют все, — заявил Курнатовский. — Если хотите нанимать рабочих, перейдем к условиям.
— Рабочие мне, пожалуй, еще нужны, — сказал мистер Гард. — Надо вырубить шестьсот акров леса в четырехстах милях от Сиднея. Дам задаток — десятую часть заработка. Затем буду выплачивать половину — еженедельно равными долями. Остальное — после окончания вырубки.
Он назвал цену за акр, обычную в этих местах.
— Хорошо, — ответил, подумав, Курнатовский. — Я посоветуюсь с товарищами, но мне кажется, что задаток маловат.
Он вышел к рабочим и рассказал о предлагаемых условиях.
— Что поделаешь, Авдаков, — сказал один из рабочих. — Надоело слоняться без работы. Не забывайте, что в Сиднее много таких, как мы.
— Попробуйте поторговаться, Авдаков. Но если упрется, черт с ним, соглашайтесь, — поддержал его эмигрант из Германии Карл Розе.
Курнатовский вернулся в контору.
— Ну, что говорят ваши парни? — поинтересовался хозяин,
— Не согласны, — отрезал Курнатовский. — Простите, что побеспокоили.
— Не согласны? — удивленно воскликнул босс и даже привстал.
— Не согласны, потому что задаток мал, — заявил Курнатовский. — Во-первых — дорога и питание! Во-вторых — точка инструментов! Там ведь есть деревья, которые ни топор, ни пила не возьмут. В-третьих…
— Черт побери, сколько же хотят получить ваши оборванцы?
— Минимум двадцать пять процентов, — заявил Курнатовский.
— Я не сумасшедший. Вся шайка разбежится, как только получит деньги. Кто мне гарантирует, что этого не будет?
— Гарантирую я, как старшина артели, — твердо заявил Курнатовский. — Кроме того, я уже сказал, что у нас есть паспорта.
— Пятнадцать процентов! — воскликнул хозяин.
— Окончательные наши условия — двадцать.
— Черт с вами! Вам повезло! Вы напали на хорошего хозяина. Зовите парней подписывать договор.
Началась торговля по второстепенным пунктам: о палатках, о точке инструментов, о возмещении хозяину за возможную порчу инструмента. Как старшину, Гард заставил Курнатовского подписать особое поручательство за всех членов артели. А когда тот подписал, неожиданно спросил:
— А кто мне в Сиднее поручится за вас?
Курнатовский ответил, что можно навести справки на строительстве железной дороги. Затем сослался на активистов Сиднейского рабочего клуба.
Мистер Гард поморщился.
— Сиднейский рабочий клуб — плохая рекомендация. Там бывают грузчики, портные, прислуга… Добропорядочные рабочие из Лейборпарти избегают сборищ социалистических агитаторов. О, наша рабочая партия умеет ладить с хозяевами! Вы не принадлежите к ней?
— Нет, — ответил Курнатовский.
— Это понятно, — заметил Гард. — Вы эмигрант. Дайте мне свой паспорт.
Виктор Константинович предъявил паспорт, покрытый визами разных консульств.
— Так. Ав-дак-ов… Русский… Жаль! Ваши рабочие привыкли бунтовать. Впрочем, мы уже договорились.
Подписали договор и получили аванс. Паспорт Курнатовского остался у хозяина. Виктор Константинович нес теперь ответственность за всю артель.
Люди, которых свела нужда, поселились в тропическом лесу в 390 милях от Сиднея. От их палаточного лагеря до Ви Вао, ближайшей станции железной дороги, насчитывалось десять миль. Работали от восхода до заката при такой жаре, что металл инструмента обжигал руки. Жара неожиданно сменялась ливнями. Массы воды с грохотом обрушивались на землю. Ливни проходили, не принося прохлады. В воздухе всегда висела сырость. С соседних болот поднимались вредные испарения. Пищу готовили по очереди. Но чаще всего это делал сам Курнатовский, как старшина артели. Грязный, загорелый, оборванный, с лицом, опухшим от укусов москитов, он приходил под вечер в свою палатку совершенно обессиленный. Ложился на койку, стоявшую на высоких чурбаках — чтобы ночью не заливал внезапный дождь…
Хозяин обсчитывал, платил процентов на тридцать меньше, чем обещал. Так продолжалось несколько месяцев. Курнатовский вновь начал глохнуть. С каждым днем он чувствовал себя все хуже и хуже, работал через силу. В мае 1910 года прошла полоса сильнейших ливней. Приходилось подолгу пережидать их, сидя в палатках. Босс приезжал раз в две недели — он привозил мясо, — ворчал, что вырубка ведется плохо, и каждая следующая получка становилась после таких разговоров все меньше. У всех было скверное настроение. Курнатовский, истощенный до предела, слег. В области уха началось воспаление.
В один из этих мрачных дней Джон Сильвер уехал на станцию Ви Вао за продуктами, почтой и табаком. С утра шел дождь, и никто не надеялся, что Джон вернется, — дорога от станции к лагерю была почти непроходима. Однако Сильвер добрался до палаток, хотя потратил на это несколько лишних часов: пришел вымокший, грязный, исцарапанный о ветви кустарника. Люди, измученные голодом и ожиданием, страшно обрадовались, помогли Сильверу выжать куртку, развязать прорезиненный мешок с продуктами… Придя в себя после тяжелого пути, Сильвер, вспомнив, видимо, о чем-то очень важном, пошел в палатку, где жил Курнатовский. Вынув из-под рубахи конверт, он протянул его Виктору Константиновичу.
Курнатовский, прочитав письмо, крепко сжал руку Сильверу:
— Спасибо, товарищ. Вы принесли радостную весть: один из друзей пишет, что Ленин зовет меня к себе в Париж. Высланы деньги на проезд. В Сиднее меня уже ждет билет на пароход.
Рабочие знали, кто такой Ленин: Курнатовский часто рассказывал им о далекой, незнакомой России и о великом друге трудового народа Владимире Ильиче Ленине.
— Значит, Ленин помнит вас, — заметил Эдингтон. — Счастливый вы народ, русские, если у вас такие вожаки.
— Вожаки за вас, а вы за них, — вмешался в беседу Сильвер. — А у нас здесь чаще всего бывает так: не успеет рабочий стать вождем, то есть занять руководящий пост в Рабочей партии или профсоюзе, попасть в парламент штата или Австралийского союза, как он тотчас забывает о том, кем был вчера. Заводит дружбу с хозяевами, приобретает себе виллу, красивый выезд с лошадьми, а в последнее время — и автомобиль. Теперь он сам босс, и к нему не подступить. Есть, конечно, и другие вожаки, Авдаков, не такие, но их у нас мало, еще очень мало…
— Будут, и у вас настоящие вожди, — утешил своих товарищей Курнатовский. — Скажем, такие хорошие парни, как Сильвер или Эдингтон.
— А вы, наверное, тоже были рабочим, вождем, Авдаков? — неожиданно спросил Том Гарднер, пожилой, молчаливый землекоп. — Иначе вы не покинули бы родину. И Ленину вы, наверное, помогали? Иначе откуда он знает вас так хорошо?
Курнатовский смутился и сказал товарищам, что успел сделать для революционного движения очень немного, так как большую часть своей жизни провел в тюрьмах, ссылках, изгнании.
Его спросили: скоро ли, по его мнению, в России будет новая революция? Курнатовский ответил утвердительно.
— Россия покажет хороший пример другим, — сказал, как бы подводя итог, Гарднер. — Но нужно, чтобы у вашего Ленина было побольше таких помощников как вы, Авдаков.
В июне Курнатовский выехал в Сидней, не получив при расчете того, что ему причиталось. В Сиднее Виктору Константиновичу пришлось лечь в больницу для операции уха. Она стоила ему больше половины всех денег, которыми он располагал. Но его уже ждал оплаченный билет до Генуи. С не зажившей раной он двинулся в путь. В июле прибыл в Геную, в августе 1910 года — в Париж.
Он шел по улице Мари Роз. Вот и дом под номером четыре.
— Володя, к нам гость. Смотри, кто приехал, — говорила Надежда Константиновна, впуская Курнатовского в маленькую прихожую.
Владимир Ильич стремительно поднялся из-за письменного стола, подошел к Курнатовскому и крепко обнял его.
— Виктор Константинович! Наконец-то! Мы вас заждались. Сядем-ка рядом да посмотрим друг на друга. Сильно вы изменились с минусинских времен. Я давно уже слышал, что болезнь снова одолела вас. Все думал, вытащим в Париж, покажем лучшим врачам, поставим на ноги…
Виктор Константинович внимательно слушал, наклонившись к собеседнику.
— Плохо слышу, Владимир Ильич. До меня еле доходит звук вашего голоса. Многое вам придется писать. Боюсь, что отниму у вас золотое время.
Они засиделись до позднего вечера. Владимир Ильич писал на листочках вопросы. Ленина особенно интересовали события в Чите. Он знал уже многое, но нужно было уточнить некоторые факты. Курнатовский обстоятельно отвечал на вопросы. Вспомнили Бабушкина. О нем до сих пор ничего не удалось узнать. Курнатовский высказал предположение, что Иван Васильевич погиб. Ленин покачал головой. Он тоже не верил, что увидит Бабушкина живым. Владимир Ильич знал, что Иван Васильевич всегда, где бы он ни находился, умел дать о себе знать. И действительно, вскоре Ленин получил достоверное известие о героической смерти Бабушкина и его товарищей.
Виктор Константинович часто бывал на улице Мари Роз, и почти всегда в беседах с Владимиром Ильичей они касались Читы и событий того времени. Ленин считал, что опыт читинских большевиков очень ценен для партии, для будущей революции.
Курнатовский поселился на бульваре Монпарнас в маленькой комнате, где его часто навещали Владимир Ильич и Надежда Константиновна. Они искали хороших врачей, которые могли бы облегчить его страдания. Однажды, когда Курнатовскому стало хуже, Ленин, несмотря на то, что был очень занят, отложил все дела и поехал к жившей тогда в Париже большевичке Серафиме Ильиничне Гопнер. Она имела адрес знающего врача-отоляринголога, который мог порекомендовать и лучшую больницу. Вместе с Гопнер Ленин побывал у этого врача.
Болезнь Курнатовского то усиливалась, то отпускала его на какое-то время. Но в целом состояние здоровья с каждым месяцем ухудшалось. Не помогли ни операции, ни пребывание в течение нескольких недель в деревне. Мучили страшные головные боли. Он осунулся, похудел, пожелтел. И, несмотря на это, Курнатовский горячо интересовался всем, что происходило в России. Как только немного утихала боль, он немедленно брался за газеты. Его радовало, что тяжелый период реакции заканчивается, что партийные организации восстанавливаются повсюду и, видимо, не за горами новая революция.
На бульваре Монпарнас часто бывала уже вышедшая замуж Екатерина Окулова со своей маленькой дочкой Ириной. Бывали у него и фотограф Романовки Марк Оржеровский и Караджан, с которым Курнатовский работал в Грузии. Виктор Константинович получал много писем от бывших романовцев, от уцелевших читинских товарищей, от ветеранов ссылки, друзей по революционному подполью.
В мае 1912 года вышел первый номер легальной большевистской газеты «Правда». В конце месяца его получили в Париже. Владимир Ильич сиял от радости. Курнатовский давно уже не видел Ленина таким веселым.
Наступил июль. Владимир Ильич и Надежда Константиновна готовились к переезду в Краков. Курнатовский в последний раз пришел на улицу Мари Роз. Здесь шла деятельная подготовка к отъезду.
— Раз вы едете в Краков, Владимир Ильич, значит дела идут хорошо, — говорил Курнатовский. — После Ленских событий в России подул новый ветер, предвещающий бурю, революционную бурю. Все радует: и «Правда», и конференция в Праге, и забастовки в России, и думские дела… Имел бы крылья, вот сейчас бы полетел домой.
Ленин взял карандаш и написал несколько строк. Он просил Курнатовского беречь себя, чаще писать ему в Краков.
— В такие дни, как сейчас, — ответил Курнатовский, — надежд на выздоровление и возвращение на родину у меня больше. Гляжу, как Надежда Константиновна и ее матушка собираются в дорогу, и думаю: какая энергия у людей!.. А я? В Кракове вы будете рядом с Россией. Что скрывать — я завидую вам, завидую, Владимир Ильич.
Он проводил Ульяновых на вокзал и долго стоял на перроне, глядя вслед уходившему поезду.
…Наступила осень 1912 года. Владимир Ильич работал в своей краковской квартире на улице Любомирского, дом пятьдесят один. На столе перед ним лежало готовое письмо Горькому — о сотрудничестве в «Правде». Ленин заканчивал и другое письмо- для редакции «Правды» — по поводу большевистской платформы на выборах в думу.
Тихо вошла в комнату Надежда Константиновна. Осторожно положила руку на его плечо.
— Ты бы отдохнул, Володя.
— Скоро кончу. Я уже просмотрел груду писем. Сейчас только набросаю план. Мне ясно, что большевики должны развернуть свою платформу на выборах в думу еще до избрания уполномоченных от петербургской рабочей курии. Тогда наша платформа еще до выборов обойдет всю страну, станет известна широким трудящимся массам.
В дверь постучали.
— Подожди, — сказала Надежда Константиновна, — я пойду отворю. Там, наверное, почта.
Надежда Константиновна вернулась с большой пачкой писем и газет. Владимир Ильич быстро и аккуратно разложил письма на две стопки.
— Эти из России, — сказал он, — я их прочту в первую очередь. А те, что из Парижа и Праги, просмотри, пожалуйста, сама.
Надежда Константиновна взяла верхнее письмо с французской маркой.
— Кажется, от Шаповалова, — сказала она. Распечатав письмо, она грустно опустила голову.
— Что с тобой, Надя? — спросил обеспокоенный Владимир Ильич. — Неприятные вести?
— Умер Курнатовский… Товарищи сообщают, что произошло это девятнадцатого сентября в больнице Ларибузьер. В последние часы он был без сознания. Похоронен двадцать второго на кладбище Пантен.
Владимир Ильич с минуту сидел неподвижно, не сводя глаз с ее рук, державших письмо. Потом тихо проговорил:
— Ванеев, Бауман, Бабушкин, Курнатовский… Придет время, Надя, матери и отцы станут говорить своим детям: «Будьте такими, какими были они». И работа тех, кто ушел от нас навеки, и тех, кто остался в строю, даст свои плоды, скоро даст. Это время приближается…
1857,
В.И. Ленин, Письма к родным. М., 1931.
«В.И. Ленин», Биография. М., 1960.
«История КПСС», М., 1960
С. Аркомед (Караджан), Рабочее движение и социал-демократия на Кавказе. Женева, 1910.
Н. Баранский, В рядах сибирского с.-д. союза. Н. Николаевск, 1923.
В. Бернштам, В тисках ссылки. «Прибой», 1924.
Ц. Бобровская (Зеликсон), Страницы из революционного прошлого (1903–1908 гг.), М., 1955.
М. Ветошкин, Очерки по истории большевистских организаций и революционного движения в Сибири. Госполитиздат, 1953.
Зародов, Ленинская газета «Пролетарий». Госполитиздат, 1955. Газета «Забайкальский рабочий» в 1905-06 гг., Чита, 1955.
Н.К. Крупская, Воспоминания о Ленине. М., 1957.
П. Лепешинский, На повороте. Госполитиздат, 1955.
В. Максаков. Карательные экспедиции в Сибири в 1905-06 гг. Соцэкгиз, 1932.
М. Маршанская, В.К. Курнатовский, «Прибой», 1926.
М. Москалев, Ленин в Сибири. Госполитиздат, 1957.
Е. Окулова, В.К. Курнатовский. Госполитиздат, 1948.
Н. Розенталь, Романовка. Издательство «Книга», 1924.
П. Теплов, История якутского протеста. Издательство Глаголева, 1907.
А. Шаповалов, На пути к марксизму. «Прибой», 1926.
А. Шаповалов, В борьбе за социализм. «Прибой», 1934.
Кроме указанных основных материалов, авторами использовано большое число статей из различных газет, сборников и журналов, воспоминаний современников, ряд материалов о деятельности М.И. Калинина, Л. Кецховели, И.В. Сталина, И.В. Бабушкина и др., «Ленинские сборники» и т. д.
НЕЖЕЛАННЫЙ2
ПЕРВЫЙ ПРОТОКОЛ5
ДОЛОЙ «АДРЕС»!11
В МОСКВЕ НА МОХОВОЙ…17
В СТОРОНЕ ОТ БОЛЬШИХ ДОРОГ24
ТАМ, ГДЕ ИСКРИЛИСЬ АЛЬПЫ…29
ВНОВЬ ПОД ДВУГЛАВЫМ ОРЛОМ34
ДАЛЬ НЕОГЛЯДНАЯ…36
С ЛЕНИНЫМ43
КАВКАЗ67
РОМАНОВКА75
СУД, КАТОРГА, СВОБОДА…99
ЧИТИНСКАЯ РЕСПУБЛИКА106
ЦАРСКАЯ МИЛОСТЬ116
СНОВА НА ЧУЖБИНЕ120
НА УЛИЦЕ МАРИ РОЗ132
ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В.К. КУРНАТОВСКОГО136
БИБЛИОГРАФИЯ138