Николай Степанов
Крылов
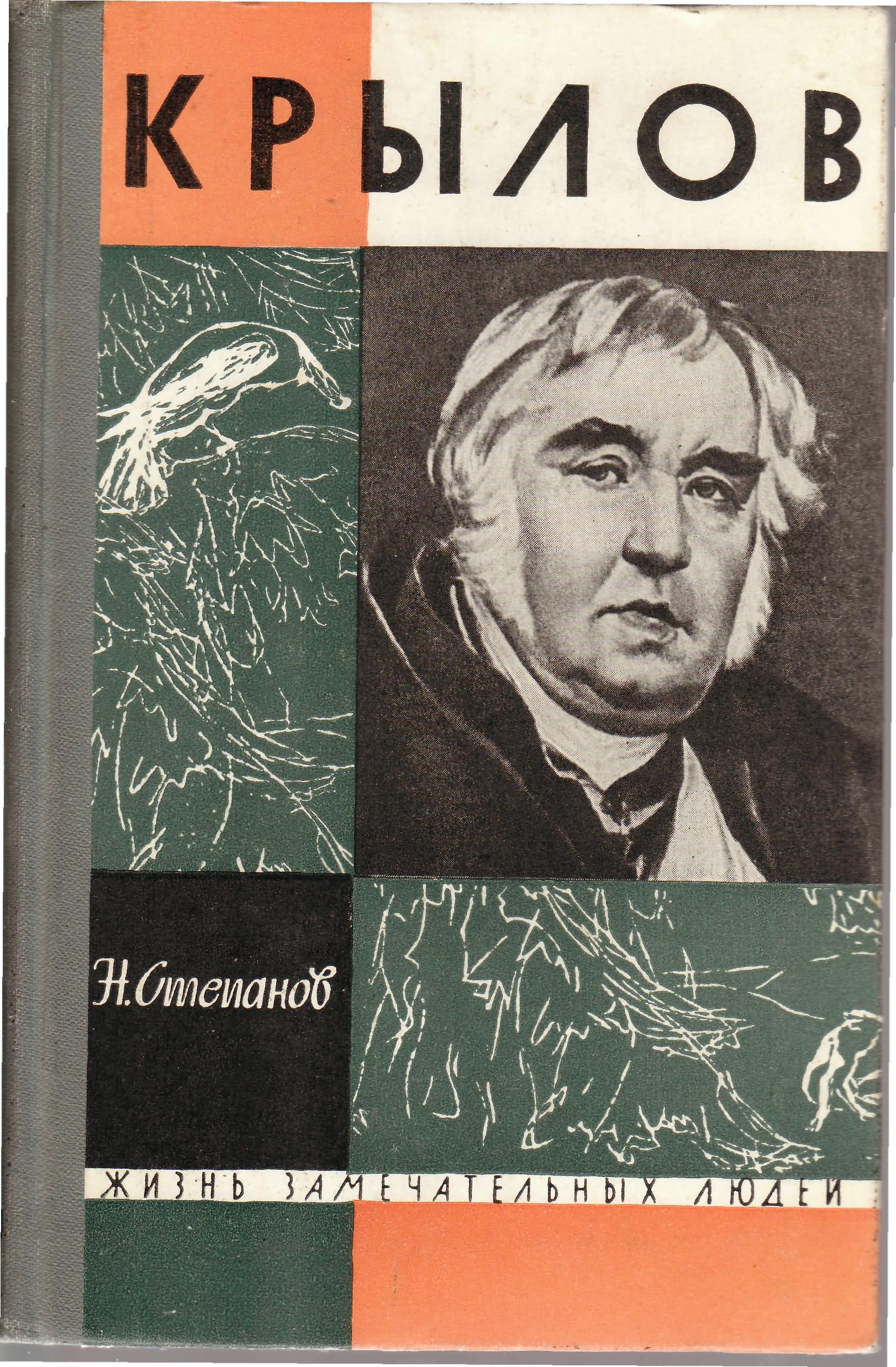
Тверь прекрасна и любезна,
Мила сердцу моему.
Душный июльский полдень. По площадям и улицам Твери носятся серые облака пыли. Хотя после пожара 1763 года город из деревянного стал каменным, улицы по-прежнему были немощеными и в дождливую пору превращались в непролазную грязь, а в сухое время утопали в мягкой как пух пыли.
В это воскресенье весь город взбудоражен. Жители торопятся к Соборной площади, на которую должна прибыть сама императрица. Екатерина любила нот город на перепутье между Петербургом и Москвой. Во время поездок она обычно останавливалась здесь. Для императрицы был построен небольшой дворец на месте прежнего архиерейского дома.
Перед собором толпится народ. Слышатся шутки и ядовитые прибаутки, а иной раз и жалобные вопли не в меру прижатых толпою людей. С краю площади, на церковной ограде, как воробьи, сидят стайки ребят. Среди них коренастый карапуз в большом отцовском картузе и залатанных штанах. Ему лет пять-шесть. Одной рукой он держится за решетку ограды, а другой утирает с лица пот, который, смешавшись с пылью, слепит глаза.
Громкий перезвон колоколов известил о прибытии императрицы. На соборную паперть вышел в полном облачении преосвященный. За ним с кадилами и толстенными свечами священники и диаконы.
К собору подъехал торжественный кортеж. Он остановился перед ступенями паперти. Из золоченой кареты вышла немолодая полная женщина в нарядном платке с кринолином. Ее окружили придворные и, осторожно поддерживая под руки, словно фарфоровое изваяние, помогли взойти на паперть.
Это была императрица.
Она приветливо кланялась жителям, улыбаясь заученно-благосклонной улыбкой пухлых губ. После краткого богослужения императрица вышла из собора и направилась во дворец. По сторонам шпалерами стояли семинаристы и пели подобающий случаю торжественный кант.
Маленький карапуз, сидя на ограде, жадно вбирал впечатления дня. Это была его первая встреча с императрицей. Отец мальчика — председатель магистрата Андрей Прохорович Крылов — лишь недавно поселился в Твери.
Один из старейших городов на Руси, Тверь стоит на верховьях Волги, там, где в Волгу впадает небольшая речка Тверца. Отсюда на ладьях отправлялся в путешествие за три моря Афанасий Никитин. Отсюда выходили русские полки против татар и немецких рыцарей. В XV веке великий князь московский Иван III присоединил тверское княжество к Москве.
Не раз горела Тверь и снова отстраивалась. В пожар 1763 года сгорели почти все деревянные дома. Уцелели лишь домишки на дальних окраинных улочках и в заречье. Среди уцелевших был и домик матери Андрея Прохоровича Крылова.
Екатерина приказала заново отстроить город. Его строили из камня и кирпича. Одним из строителей был замечательный русский зодчий Матвея Казаков. Вырос новый каменный город с обширной восьмигранной площадью в центре, окаймленной казенными зданиями.
Империя росла и крепла. Ее границы ширились, русские мужики, одетые в солдатские мундиры, утверждали ее могущество. Миллионы других мужиков — оборванных, в лаптях, бородатых, голодных — пахали, сеяли, собирали урожай и возили его на тощих лошадях в амбары помещиков, владельцев крепостных душ и всего государства.
На троне сидела российская императрица, еще недавно захудалая немецкая принцесса из маленького Ангальт-Цербстского княжества. Придя к власти с помощью гвардейских полков, она лицемерно и ловко разыгрывала роль просвещенной и гуманной монархини.
Но когда в 1773 году поколебалась прочность ее трона, устои ее деспотической власти, она сбросила маску просвещенной монархини, напомнив, что является также и казанской помещицей. Екатерина выступила как защитница незыблемости самодержавия и власти крепостников-помещиков. Восстание яицких казаков, уральских работных людей и крепостных мужиков, поднятое донским казаком Емельяном Пугачевым, было потоплено в крови.
Домик бабки Матрены стоял на дальней улочке, неподалеку от спуска к Тверце. Вид у него был неказистый. От времени он одряхлел, покосился. Бревна и дранка на крыше почернели и прогнили. Крылечко почти развалилось, балясины повыпадали.
Семья Крыловых обосновалась здесь, у бабки Матрены, когда Андрей Прохорович, выйдя в отставку, поселился в родной Твери. А. П. Крылов прошел трудный жизненный путь. Многие сотни верст были исхожены и изъезжены им за время службы в армии. Происходил он, как подтверждал его формуляр, из обер-офицерских детей. Умел читать и писать, но наукам не учился. Еще в 1751 году Андрей Прохорович был определен рядовым в Оренбургский драгунский полк и с тех пор тянул солдатскую лямку. Служил в должности ротного писаря, каптенармуса, сержанта и, наконец, на четырнадцатом году службы получил первый офицерский чин — прапорщика. Долгие годы кочевал его полк по бескрайним оренбургским степям.
На одной из зимовок скромному прапорщику приглянулась застенчивая девушка. Хотя она и не знала грамоты, но была разумна и приветлива. Андрей Прохорович долго не раздумывал и женился. В 1768 году полк перевели из Троицка в Астрахань. 2 февраля (ст. ст.) 1769 года у Крыловых родился первенец — Иван[1]. Местом его рождения биографы баснописца называют Москву. Возможно, что мать, ожидая ребенка, не решилась на тяжелый поход и отправилась на время к родственникам в Москву и лишь после рождения сына вернулась к мужу в Астрахань.
У Крыловых не было ни наследственного имения, ни родословного древа, ни даже оседлости. Вслед за драгунским полком в обозе, в кибитке с нехитрым имуществом следовала жена Крылова, Мария Алексеевна. Она делила с ним тяготы походной жизни, опасности и неудобства стоянок по маленьким захолустным крепостцам, испепеляющий летний зной степных переходов, стужу и лютые ветра зимних заснеженных дорог.
Андрей Прохоров был беден, исполнителен, немногословен. Он добросовестно выполнял распоряжения начальства, учил солдат, старательно начищал амуницию, не пил хмельного и не играл в карты. Единственной страстью его были книги. Они тогда стоили дорого, приходилось ради них во многом себе отказывать. Но в долгие зимние вечера-книги заменяли друзей и собеседников.
И Андрей Прохорович возил с собой сундучок с книгами.
В 1772 году он произведен был, наконец, в капитаны и назначен под начальство генерала Фреймана, направленного с войском против возмутившихся яицких казаков. Капитан Крылов проявил мужество и находчивость при защите Яицкого городка от бунтовщиков.
Жена Крылова во время военных действий находилась с четырехлетним сыном в Оренбурге, осажденным Пугачевым. В 1833 году, более полувека спустя, Крылов рассказал Пушкину впечатления от пугачевщины, сохранившиеся в его памяти. Вот этот рассказ Крылова в записи Пушкина: «Отец Крылова (капитан) был при Симонове в
Рассказами Крылова Пушкин воспользовался в работе над «Капитанской дочкой». И в капитане Миронове, несомненно, воплощены черты скромного служаки Андрея Прохоровича.
По завершении военных действий капитан Крылов подал челобитную об «увольнении его от воинской в статскую службу», ссылаясь на свое расстроенное здоровье. Но не столько расстроенное здоровье, сколько обида побудила Андрея Прохоровича выйти в отставку. Награды и чины за кампанию получили другие, те, которые имели знатных покровителей, связи, сумели войти в доверие. Капитан же Крылов не получил ни чинов, ни наград. Его попросту забыли. В 1775 году вышел приказ об его отставке. Он был назначен членом губернского магистрата только что образованного Тверского наместничества. А вскоре Андрей Прохорович получил повышение — стал председателем губернского магистрата.
Отставной капитан имел теперь чин коллежского асессора.
Андрей Прохорович целыми днями находился в присутствии. Служба была хлопотливая и неприятная. Приходилось решать запутанные дела купцов и торговцев, осаждавших магистрат жалобами на чиновников и полицию, разбираться в ссорах окрестных помещиков, покушавшихся на земли своих соседей, похищавших их девок, а иной раз и жен. Магистратские чиновники и повытчики, понаторевшие в искусстве судейской кляузы, брали взятки и приношения с обеих тяжущихся сторон и до такой степени ухитрялись запутывать даже ясные и простые дела, что разобраться в них не было никакой возможности.
Из присутствия Андрей Прохорович приходил измученный, раздраженный. Служба отнимала у него силы и здоровье. Привыкнув к военной дисциплине, к раз навсегда установленному порядку, он чувствовал себя, как в сетях, в сложной и хитрой неразберихе, которую искусно создавали его подчиненные. Жалованья не хватало. Жизнь на новом месте требовала больших расходов, к которым он не привык на военной службе. А так как взяток он не брал и сурово отклонял всякие приношения и вещественные благодарности, к вящему удивлению сослуживцев, то и жили Крыловы бедственно.
Впоследствии сам Иван Андреевич рассказывал, по словам биографа, что отец отдал его в учение французу-гувернеру: «…Учитель был не слишком сведущ… я был дитя, как и все, играл, резвился, учился не отлично, иногда даже меня и секали».
Андрей Прохорович просиживал над делами целые дни и вечера, мрачнел, тяжело вздыхал, кашлял сухим, прерывистым кашлем. Здоровье его становилось все хуже и хуже. Лишь выпив стопку целебной анисовой настойки, он оживлялся и рассказывал редким гостям про свою ратную жизнь. Как во время усмирения пугачевского восстания он находился под командою полковника Симонова в Яицком городке, окруженном со всех сторон бунтовщиками. «Будучи в ретражаменте, — с гордостью говорил Андрей Прохорович, — я показывал пример солдатам». Он смолкал, наливал еще стопку анисовой, кашлял и продолжал: «В ожидании сикурса[3] терпели мы всякую нужду. Имея в своем ведении отдельный фас, оный во всякое время ревностно оборонял, да и к подкреплению других опасных мест был употребляем…»
Ванюша, сидя в углу за занавеской, слушал эти рассказы. Ему было жаль отца. Никто не оценил его подвиги и заслуги. От всей походной жизни остались лишь сундучок с книгами, старый, выцветший офицерский мундир, который отец надевал по праздничным дням, и щербатый тесак.
Тесаком кололи лучину, когда надо было растопить печь.
В доме всегдашний недостаток. Бабка постоянно ворчит, отец вздыхает и кашляет. А семья еще увеличилась: появился на свет маленький братец — Левушка.
Андрей Прохорович на глазах таял. Врачи говорили, что он болен грудной болезнью. Лекарства, травы, святая водица — ничего не помогало. Сухой, лающий кашель по ночам будил весь дом.
Умер он незаметно. Ваня запомнил отца лежащим на столе со скрещенными на груди руками. Андрей Прохорович казался уменьшившимся, пожелтевшим, с заострившимся носом, словно деревянный. В головах горели свечи. Дьячок скороговоркой, гнусаво читал по покойнику псалтырь. Мать горько плакала.
После смерти Андрея Прохоровича наступили тяжелые времена. Трудно пришлось вдове, на руках которой остались двое ребят и старая бабка. Марья Алексеевна стала ходить по знакомым домам шить, помогать в уборке и хозяйстве, читала на память псалтырь по покойникам. На эти грошовые заработки и существовала семья.
По совету влиятельных друзей и сослуживцев Андрея Прохоровича вдова решила обратиться с прошением о пенсии на высочайшее имя. Долго обсуждали и составляли прошение. Даже Ванюша принимал в этом участие. Ему вспомнилось белое пухлое лицо императрицы, раболепное почтение окружающих в тот день, когда он увидел ее на Соборной площади. Мальчику казалось, что императрица своими руками развернет их прошение, прочтет его, прослезится и сразу же прикажет назначить пенсию вдове своего честного и храброго слуги.
«Всемилостивейшая государыня! — обращалась почтительно бедная вдова к могущественной императрице. — Сердобольное Вашего величества ко всем несчастным снисхождение и милость вливают смелость всем, бедствиям подверженным, припадая к престолу вашему, искать облегчения своего бремени и утешения своим горестям.
Я из числа сих несчастных. Муж мой сего году марта 17 числа, по власти божией окончивший жизнь, Тверского наместничества губернского магистрата председатель, коллежский асессор Андрей Крылов в службе Вашего императорского величества находился с 751 года, сперва в оренбургском гарнизоне, а потом в полевой службе капитаном и, командуя шестою полевою командою, в многократных против уральских мятежников военных действиях и в осаде от сих же злодеев в Уральском городке был, причем оказал отменную ревность и храбрость. Наконец истоща все силы, по окончании уже всех там бывших неспокойств в 775 году просил о определении в статскую службу, почему и отставлен с чином коллежского асессора и определен в Тверское наместничество; а хотя он был и из обер-офицерских детей, но никаких вотчин и ниже такого достатка, коим бы я себя с детьми и семейством содержать могла, не имел, а содержал себя одним токмо жалованьем; то я ныне лишением его с двумя сынами, из коих одному десятой, а другому второй год, всем происходящим от крайней бедности жесточайшим следствием преданная, без подкрепления Вашего императорского величества матерния щедроты, впаду в неминуемое отчаяние.
Всемилостивейшая государыня! в сей моей крайности дерзаю припасть ко священным Вашего величества стопам и повергнуть себя с детьми в беспримерные Вашего величества матерния щедроты, воззрите милостиво на наше несчастное состояние и, приняв во уважение двадцатисемилетнюю мужа моего беспорочную и ревностную службу, повелите на пропитание наше и воспитание детей определить, что Вашему величеству всевышний бог на сердце положит.
Всемилостивейшая государыня, Вашего величества всеподданнейшая раба».
Это жалостное и витиеватое прошение, казавшееся осиротевшей семье верхом словесного искусства, наконец, было отправлено. Однако проходили недели и месяцы, а ответа так и не было. Может быть, прошение не дошло до императрицы, затерявшись в кипах канцелярских бумаг? А может быть, она положила его в один из дальних ящиков своего бюро, в котором хранила поступавшие к ней просьбы и прошения?
Не унывала лишь бабка Матрена. Она растапливала на рассвете большую русскую печь и ставила в нее горшок со щами. Пекла пироги с горохом, кормила кур и поросенка, приносила хворост и нянчила маленького Левушку. Словно шарик, перекатывалась она по горнице, торопливо приговаривая: «Горе наше, гречневая каша! Есть не хочется, а выбросить жаль!», «Добро, собьем ведро, обручи под лавку, а клепку в печь — так и не будет течь!» Под эту воркотню дело у нее легче спорилось.
Бабка Матрена знала много сказок и смешных историй. В памяти она сохранила все, что когда-либо видела или слышала. Ванюша любил ее рассказы. Говорила она кругло и занятно, вставляя народные выражения и поговорки.
У Ванюши оказалось много дел. Утром следовало принести из колодца воду, нащепать лучины. Летом наготовить для поросенка корм. Похлебав горячих щей со свежевыпеченным, вкусно пахнущим ржаным хлебом, Ванюша спешил на речку. По дороге нельзя не забежать на рынок: там можно узнать свежие новости, потолкаться среди приехавших из деревень мужиков, послушать рассказы странников, заунывное пенье слепцов об Алексее — божьем человеке.
На рынке висели огромные красно-сизые бычьи туши, на развалах торчали отрубленные коровьи головы с бледно-голубыми фарфоровыми глазами. Тут же продавали горячий сбитень, соленые огурцы, отчаянно кричали куры, визжали поросята, крякали утки. Мальчику было до всего дело. Он с важным видом справлялся о ценах на говядину и сено. Разглядывал привезенных на продажу лошадей и коров. С увлечением жевал морковку, сунутую какой-то сердобольной бабой. Наконец покупал на судорожно зажатый в кулаке грош бублик, обильно посыпанный маком, и тут же с аппетитом съедал его.
Бабы и мужики в армяках жарко торговались, торговцы божились и клялись, бойко зазывая к себе покупателей. Все это сливалось в сплошной шум, неожиданно прерываемый резким гоготом гусей и громким петушьим криком.
Еще интереснее было на берегу Волги. Там на деревянных мостках собирались плотомойки, разбитные городские бабки и молодицы, скуластые, белозубые девки с толстыми икрами. Звонкими голосами заводили они песни, в такт им выбивая белье вальками. Мальчик усаживался поблизости, прислушиваясь к песням и бойким, озорным разговорам. Тут можно было услышать истории и новости, приносимые со всех концов города.
«Живем не мотаем, а пустых щей не хлебаем: хоть сверчок в горшок, а все с наваром бываем», — задорно говорила пышная, румяная девка худой, согнутой, как коромысло, бабе. И тут же затягивала лихую песню, ее дружно подхватывали остальные:
Кум пиво варил, сладкий мед становил,
Кума, кумушка ты моя!
Душа, душа, ягода ты, кума!
Сладкий мед становил, куму в гости просил,
Как кума-то к куму в решете приплыла,
В решете приплыла, вертеном гребла,
Вертеном гребла, кичкой парусила.
Весело было повозиться с мальчишками на реке. А иной раз и подраться. Дома бабка ругается за то, что опоздал к обеду. Мать достает из шкафа старый букварь: «Опять прогонял весь день!» Очарование беззаботно проведенного дня нарушено. Ванюша хлебает остывшие щи, быстро опустошает миску гречневой каши. После этого садится за урок.
Учение давалось ему легко. Еще Андрей Прохорович научил его читать и писать. Мать, чтобы приохотить к ученью, за каждый выученный урок давала ему медный грош. Хотя она и не очень-то понимала, что там сын читает, но внимательно прислушивалась и заставляла мальчика повторять и перечитывать.
Заработанные гроши Ванюша откладывал впрок. Когда накопилась небольшая сумма — копеек пятьдесят-шестьдесят, он почувствовал себя богачом. В воскресный день вместе с матерью отправился в торговые ряды. Купцы и сидельцы наперебой зазывали их в лавки, расхваливая свой товар. Скопленные деньги были истрачены на новый картуз и желтые перчатки, неотразимо покорившие сердце мальчика.
Ванюша горячо привязался к матери и навсегда сохранил к ней нежную привязанность и уважение. «Она была простая женщина, — впоследствии говорил он, — без всякого образования, но умная от природы, исполненная высоких добродетелей».
К огорчению Марии Алексеевны, сын был некрасив. Большеголовый, плотно сбитый крепыш, неуклюжий, коротконогий. Смышленые, бойкие глаза на широком лице с картофелеобразным носом. Да и одевать его не хватало средств. Поношенный кафтанчик, перешитый из отцовского мундира, залатанные, лоснящиеся штаны не придавали красоты. Лишь желтые перчатки имели франтоватый вид. Ванюша украдкой любовался на свои руки, хотя перчатки оказались тесны и неудобны.
Как-то на рынке он познакомился со старичком итальянцем — сеньором Луиджи, который играл там на скрипке. Никто толком не знал, какими судьбами оказался в Твери скрипач итальянец. Скорее всего он был вывезен из Италии богатым вельможей для домашних концертов, а после смерти покровителя остался не у дел. Так он и застрял в неприютной России со своей скрипкой, никому не нужный и одинокий.
Подружившись с сеньором Луиджи, мальчик внимательно слушал его тоскливую игру. Иногда он приносил музыканту кусок пирога, а то и просто вареную картошку, густо посыпанную крупной зернистой солью. Они отлично ладили: старик на ломаном русском языке подолгу рассказывал о неудачах и обидах, о своей бесприютной жизни. Ванюша многого не понимал, но сочувственно выслушивал, молча кивая головой. Старик брал ветхую скрипку, и ее рыдания заглушали базарный шум. Старый скрипач стал учить мальчика игре на скрипке, а заодно и итальянскому языку Мальчик оказался очень музыкальным. Он на слух выучился играть пьесы, составлявшие излюбленный репертуар итальянца.
— Caro mio![4] — повторял не раз мальчику скрипач. — Помни, что ты артист, artista! Это великолепно! Magnifico! Даже если тебе нечего есть и негде преклонить голову!
Неожиданно выпала редкая удача. У кого-то из богатых благодетелей оказалась ненужная скрипка, и ее подарили Ванюше. Теперь он мог подолгу играть на ней, к большому удовольствию бабки Матрены, хлопотавшей в это время по хозяйству. Мальчик удивлял окружающих редкими способностями. Он не только научился хорошо играть на скрипке, не хуже своего учителя старика итальянца, но и проявлял математические дарования, охотно решал труднейшие задачи.
Неожиданно состоялось и еще одно знакомство. В Твери имелась семинария. Еще когда был жив отец, он водил Ванюшу туда на школьные спектакли. Семинаристы представляли комические «разговоры», высмеивающие судебную волокиту, взяточничество и неправый суд. На эти спектакли собиралось много народу, и мальчик, сидя на конце скамейки, от души смеялся над корыстолюбивыми судьями и повытчиками.
У ворот семинарии Ванюша нередко встречал местную знаменитость — семинарского поэта Федора Модестова. Тот писал оды и кантаты на все торжественные события в жизни города и семинарии. Длинный, худой, в оборванном семинарском сюртучке, он бродил по улицам и бормотал вполголоса складываемые им вирши. Мальчик с любопытством следовал за ним. А однажды, осмелев, сунул в руку вечно голодного семинариста калач, которым снабдила его на дорогу бабка. Модестов поспешно сжевал калач и в благодарность тут же прочел мальчику вирши, содержавшие горькие жалобы на несправедливое распределение земных благ. Сдавленным, слегка хриплым голосом он читал:
Если хочешь ты спокойно
Жизнь свою препроводить,
Постоянно, благостройно
От напастей сохранить,
То с вельможами не знайся.
Вишен с их стола не ешь
И в карете опасайся
С ними ехать, иди пеш.
Хоть они сперва и греют
Дружеским тебя лучом,
Но смотри, рассвирепеют
Неприятельским огнем.
Поднесут ти чашу яда,
Чашу смертныя воды,
Ты пропал, бедняк, за гада,
Вот последствия беды!
Модестов смахнул с белесых ресниц слезу. Ванюша сочувственно помолчал. Стихи ему понравились.
Это был старый, видавший виды деревянный сундук, обитый железными скобами. Когда его открывали большим ключом, замок издавал мелодичный приглушенный звук. На внутренней стороне крышки были наклеены лубочные картинки, изображавшие шемякин суд.
Сундук доверху набит книгами. Это было все, что смог оставить в наследство сыну Андрей Прохорович.
Книги, большей частью в потертых переплетах из свиной кожи, имели внушительный, почтенный вид. Здесь были и мудреный роман Хераскова «Нума Помпилий или процветающий Рим», и «Пригожая повариха или похождение развратной женщины», и «Адская почта или переписки хромоногого беса с кривым», и толстенькие томики сатирических журналов Новикова — «Трутня» и «Живописца», в которых помещены были забавные и ядовитые историйки о модницах и корыстолюбцах и подьячих, спесивых и глупых барах. Были здесь и притчи Сумарокова и романы Федора Эмина, не то беглого украинца, не то принявшего христианство турка — «Похождения Мирамонда или Непостоянная фортуна» и «Награжденная постоянность или приключения Лизарка и Сарманды», в которых описания странствий и похождений героев оказывались обильно перемешанными с нравоучительными и чувствительными сентенциями, подобающими случаю. Имелась там и знаменитая энциклопедия XVIII века — «Письмовник», содержащий в себе науку российского языка со многим присовокуплением разного учебного и полезно-забавного вещесловия. С присовокуплением книги: «Неустрашимость духа, геройские подвиги и примерные анекдоты русских». Из этой книги, составленной профессором и кавалером Николаем Кургановым, Ванюша узнал многое из русской истории и из грамматики. Там помещены были и стихи, и краткие повести, и анекдоты, и народные песни, и пословицы, и сведения о науках и художествах.
На самом дне сундука лежала небольшая книга в кожаном переплете с выцветшими, пожелтевшими от времени страницами. Это были «Эзоповы басни» «с нравоучениями и примечаниями» в переводе секретаря Российском академии наук С. Волчкова. Ванюша с большим интересом и почтением перечитывал эту книгу. В начале ее помещено было «Эзопово житие», в котором рассказывалось о незадачливой жизни этого фригийского раба. «Эзоп родился в фригийском городе Аморини, — начиналось жизнеописание древнего баснописца, — чина был подлого, а особою крайне безобразен. При немалом горбе нос имел широкой, губы толстые, голову большую, тело неравное, брюхо толстое, ноги кривые, а лицом черен был: и потому эфиопом прозван.
К сему безобразию прибавилась природная гугнивость языка и такая худая речь, что редко кто слова его разуметь мог. Сие несчастие всех природных пороков несноснее ему было, ибо отменная доброта нрава и ума худость с непригожеством тела его некоторым образом заменить могла…»
Ванюше представился черный, безобразный горбун, вдобавок гугнящий что-то неразборчивое. Он посмотрел на себя в большое потемневшее зеркало. На него глядел приземистый, неуклюжий коротышка с толстыми губами и широким носом.
Но басни были так хороши, так смешны, что Ванюша не мог, читая их, не хохотать от всей души. Особенно понравился ему рассказ про Ворона, который, сидя на дереве, держал в клюве кусок мяса. Когда хитрая, льстивая Лисица стала расхваливать Ворона за его красоту, тот от удовольствия раскрыл клюв и выронил мясо, которым лукавая Лисица тут же полакомилась! Эту басню Ванюша несколько раз прочел матери и бабке Матрене и даже выучил наизусть.
Ванюша часто посещал семейство Львова — председателя уголовной палаты и богатого местного помещика. У него было двое сыновей — сверстников Ванюши. Дом Львовых казался мальчику роскошным дворцом. Широкая лестница, обширные покои, красивая мебель, до блеска натертые полы — все это было непривычно и великолепно. Слуги бесшумно ходили по комнатам в специально пошитых кафтанах. Сама госпожа Львова целыми днями лежала на низком турецком диване. Хозяин, добродушный толстяк, любил поесть и поспать и мало вмешивался в домашние порядки. Зато супруга властно командовала всем домом.
Когда отец привел его сюда в первый раз, Ванюша растерялся. Двое мальчиков в нарядных бархатных костюмчиках показались ему какими-то сказочными принцами. Они повели его в классную комнату, где стоял шкаф с книгами, большой глобус и школьная доска. Разговорились — и неуклюжий увалень проявил себя сметливым и начитанным. Он умел смешно рассказывать, изображая в лицах базарные сценки, подражая голосом и жестами тем, кого представлял. Вдобавок выяснилось, что Ванюша играет на скрипке. Подросток стал частым гостем в семействе Львовых.
Решено было, что сын председателя магистрата будет заниматься вместе с детьми Львовых. Ванюша начал учиться французскому языку, которому обучал их француз-гувернер. Вскоре он перегнал своих сверстников и по русскому языку и по арифметике, которая особенно привлекала его. После смерти отца он продолжал по-прежнему посещать дом Львовых. К нему все привыкли. Скучающая хозяйка заставляла его рассказывать в лицах или читать ей романы. Сама она удобно укладывалась на диване, а Ванюша садился рядом на скамеечку и читал вслух бесконечную историю о приключениях английского милорда Георга, бежавшего от насильственной любви арабской королевы и спасенного на необитаемом острове неизвестной дамой, приехавшей на корабле, облаченном в глубокий траур. Ванюша читал, пока веки его не закрывались и он не погружался в сон, так и не выяснив, что же сталось с симпатичным милордом.
Гораздо больше, чем чтение романов, нравилось ему играть и возиться с мальчиками. Летом бегать по обширному саду, а зимою кататься с ледяной горки на салазках.
Львовы не чужды были литературных интересов. Их близкий родственник Н. А. Львов проживал в столице и слыл известным поэтом. Он дружил с Державиным, Капнистом, баснописцем Хемницером и присылал своим родственникам последние литературные новинки. Львовы считали себя людьми просвещенными, и им очень нравилось оказывать покровительство бедному сироте, к тому же такому занятному.
Но сирота болезненно чувствовал и покровительственный тон, и свое неравноправное положение, и свой неказистый вид в стареньком, потертом кафтанчике. Не очень-то приятно было самолюбивому мальчику и то, что француз-гувернер занимался с ним только, когда кончал урок с хозяйскими сыновьями, что его сажали на самый край стола и слуги не доносили до него и половины блюд. Да и сотоварищи, которых он легко обгонял в науках, стали завидовать и досадовать на его успехи. Попробовал он учиться танцам. К Львовым ходил учитель, бывший танцмейстер. Однако танцы не давались неуклюжему, нескладному мальчику. Учитель поначалу ставил его позади ловко, уверенно танцующих ребят, а затем не выдержал и побежал к Львовой просить, чтобы его избавили от Ванюши. Лучше уж учить танцам медвежонка, чем этого несуразного мальчугана!
Однажды Ванюша пришел к Львовым, когда к ним собралось много гостей. Вся дворня была занята жареньем, печеньем, мытьем посуды. Сама госпожа Львова в роскошном платье, пошитом по новомоднейшему столичному фасону, отдавала бесчисленные приказания слугам и сердито распекала недостаточно исполнительных и проворных. Когда гости уселись за стол, она подозвала Ванюшу и заявила: «Ты, Ванюша, поможешь! Будешь из кухни приносить блюда!» И Ванюше пришлось прислуживать гостям во все время обеда. После этого он надолго перестал бывать у Львовых.
Еще когда Ванюше шел девятый год, Андрей Прохорович записал сына подканцеляристом в Калязинский уездный суд. Записан он был по тогдашнему обыкновению с тем, чтобы когда подрастет, то ему уже вышел бы чин повыше. Подканцелярист Иван сын Крылов лишь числился при Калязинском уездном суде, а проживал с родителями в Твери. Но после смерти отца бедственное положение семьи вынуждало искать заработка. С помощью друзей, сослуживцев Андрея Прохоровича, Ванюшу «перевели» из Калязина в Тверской губернский магистрат, туда же, где раньше служил его отец.
Маленького подканцеляриста нарядили в форменный чиновничий мундир, перешитый из старого отцовского, купили ему чернильницу и десяток гусиных перьев, и он с сознанием собственного значения отправился в присутствие. Там его определили под начало сурового повытчика[5], служившего по судейской части не первый десяток лет.
Присутствие встретило новичка густым запахом табачного дыма, смешанного с винным перегаром. Чиновники в неопрятных, лоснящихся мундирах сидели за длинными столами, мраморными от чернильных пятен. Они громко разговаривали между собой, курили или нюхали табак, закусывали калачами или другой снедью, приносимой доброхотными просителями. При появлении начальства они старательно скрипели перьями по бумаге, посыпали написанное мелким песком из тяжелых песочниц и делали вид, что с головой ушли в работу.
Повытчик, под начало которого попал Крылов, был глуховат, вечно держал за губой табачную жвачку и давно превзошел все тонкости канцелярских плутней и кляуз. Он не любил долго объяснять, а выкладывал перед подканцеляристом бумагу, которую следовало набело переписать. Беда, если сделаешь ошибку или посадишь кляксу! Повытчик брал тогда провинившегося двумя пальцами за ухо и больно закручивал ухо или бил линейкой по ладоням. Но так как он часто отсутствовал, просиживая долгие часы в соседнем трактире с просителями, угощавшими его чаем и более крепкими напитками, то Ванюша, оставаясь без присмотра, откладывал в сторону надоевшие бумаги и принимался за чтение книги, припрятанной в ящике стола. Забыв обо всем окружающем, он погружался в чтение. Иногда даже не замечал, как возвращался повытчик. Лишь острая боль от удара линейкой напоминала о необходимости снова приняться за ненавистную переписку.
«Повытчик с пером, что плотничек с топором, — любил повторять повытчик, когда находился в благодушном настроении, — что захотел, то и вырубил». И правда, юный подканцелярист насмотрелся в магистрате таких дел и порядков, что они запомнились ему на всю жизнь. В присутствии царили неслыханное взяточничество и воровство. Начиная от начальников и повытчиков и кончая самыми низшими чиновниками, все брали и вымогали взятки. Грабительство было беспримерное. При наборе рекрутов комиссия даже заводила для губернатора и членов магистрата особые кружки, в которые собирали мужицкие рубли, суля освободить щедрых жертвователей. Ванюше попалось донесение о местном приставе, который со своими сообщниками немилосердно брал взятки, в особенности с однодворцев. За год он наживал тысячи три да уголовной палате выплачивал полторы, благодаря чему все оставалось шито-крыто. Жалобы на пристава-лихоимца застревали таинственным образом в конторке повытчика. Когда Ванюша обратился к нему с вопросом о какой-то новой жалобе, то повытчик подхихикнул, потирая руку об руку: «Вор виноват, а подьячий мошне его рад!», и сунул бумагу в свою конторку.
Чиновники помоложе подшучивали над наивным пареньком, с аппетитом уплетая пироги и коврижки, приносимые просителями: «Попу куницу, дьякону лисицу, пономарю-горюну серого зайку, а просвирне-хлопуше — заячьи уши!» После окончания занятий Ванюша спешил поскорее из присутствия домой. Там он снимал неудобный мундир и принимался за чтение, не опасаясь линейки повытчика, или играл на скрипке.
Он чувствовал себя уже не беззаботным подростком, а главою семьи, ее кормильцем и с гордостью отдавал матери каждый месяц свое жалованье. Даже маленький Левушка стал называть его «тятенькой».
Однако тех жалких грошей, которые он получал в магистрате, на жизнь не хватало, и мать, как и прежде, ходила по людям или читала псалтырь по покойникам.
Безрадостно проходили дни и месяцы. Но канцелярист Тверского магистрата Иван Крылов не поддавался унынию. Книги открывали перед ним новый мир, далекий от канцелярии магистрата с нечистоплотными проделками ее чиновников и грозной линейкой повытчика. Особенно полюбились ему сатирические журналы Новикова «Трутень» и «Живописец». В них высмеивались и неправедные судьи, и кичливые, глупые дворяне, и жеманные барыни. Он с удовольствием перечитывал едкие характеристики господина Безрассуда, госпожи Бранюковой или госпожи Непоседовой. «Безрассуд болен мнением, что крестьяне не суть человеки, но крестьяне, а что такое крестьяне, о том знает он только по тому, что они крепостные его рабы». И Ванюша весело смеялся «рецепту», который прописал журнал «для излечения от сей вредной болезни». «Безрассуд должен всякой день по два раза рассматривать кости господские и крестьянские до тех пор, покуда найдет он различие между господином и крестьянином».
Ванюша и сам пробовал писать, сочиняя по-детски беспомощные стихи. Возможно, что эти первые попытки виршетворчества внушены были примером местных семинарских пиитов, того же Федора Модестова. Стихи не очень-то гладко выходили, но Ванюша гордился своим начинанием и подолгу по вечерам просиживал над заветной тетрадкой, в которую записывал свои сочинения. Он пробовал читать их матери, но Мария Алексеевна, уставшая от работы, замученная повседневными заботами, мало что понимала в стихах, хотя с уважением, молча выслушивала сына. Она гордилась, что он стал такой ученый, и беспокоилась об его будущем.
Модестов, когда Ванюша показывал ему свои стихи, обычно отделывался краткими замечаниями. Его оценки зависели от того, в какой мере ублаготворен был семинарист съедобным приношением юного поэта. Если чтение сопровождалось добрым куском пирога, то ментор благосклонно цедил сквозь зубы: «Сии вирши, яко двери, отверзают слово и украшены изрядно тропосами и фигурами». Но, получая простой калач, Модестов относился к стихам значительно строже и указывал на их недостатки, на отсутствие естества в периодах, на погрешности в размере и рифме.
Крылов долго раздумывал над его словами. Он понял, что семинарист прав. Может быть, вообще бросить писать? Лучше стать дельным чиновником, проявить себя на службе. И Ванюше представилось, что он стал незаменимым человеком в магистрате. Неподкупным, справедливо решающим самые каверзные дела. Его все уважают, к его мнению прислушиваются. Даже хитрый повытчик почтительно спрашивает его совета. Сам губернатор… Увы, эти детские мечты рассеялись, как только он оказался в канцелярии. Повытчик не только не поинтересовался его мнением, но со злым шипением заявил, что ему надоело возиться с бездельником, который не может мало-мальски аккуратно переписать самую простую бумагу. Если господин Крылов не исправится, то он, повытчик, должен будет представить его к увольнению. Только уважение к покойному папеньке останавливает его от этого шага.
Ванюша пришел домой совершенно расстроенным. Он даже не стал обедать, испугав этим бабку. С горя незадачливый поэт взял французский букварь, подаренный ему у Львовых. Найдя свою любимую басню «Ворон и Лисица» господина де Лафонтена, он стал переводить ее. Хотя стихи получились не очень гладкими да и многие выражения он не совсем понимал, работа успокоила его. Басня была смешная и в то же время очень дельная.
На масленую в Тверь приехали актеры из Москвы. Стало известно, что в помещении губернаторского присутствия они разыграют новую пьесу, или комическую оперу, «Мельник, колдун, обманщик и сват». В наклеенном на воротах объявлении говорилось, что сия опера пользуется в Москве необыкновенным успехом, причем была «не только от национальных слушана, но и иностранцы любопытствовали довольно».
Наконец настал день, когда Ванюша, взволнованный, сидел в переполненном зале. В передних рядах помещался сам губернатор Тутолмин с семейством и высшие чины бюрократического и дворянского Олимпа. Сидели и Львовы, разряженные по последней моде. Где-то в конце залы маячил и Модестов. Заиграла музыка, и занавес раздвинулся. На сцену вышел мельник-крестьянин. Он слывет колдуном. К нему обращается однодворец Филимон и просит помочь ему жениться на крестьянской девушке Анюте, которая его любит. И мельник и Анюта поют русские песни. Хитрый мельник уговаривает упрямых родителей Анюты, и все кончается к общему благополучию свадьбой.
После спектакля актеры долго раскланивались и благодарили просвещенных зрителей.
Ванюша был в восторге. Спектакль понравился ему тем, что показаны были простые крестьяне, которые пели свои песни, говорили своим языком. Для него это было настоящим открытием. Теперь он знал, что ему делать. Нужно писать комическую оперу, и тогда успех обеспечен. Ведь даже губернатор громко хлопал в ладоши приезжим актерам.
И Ванюша принялся за дело. Он покажет тех людей, те нравы, которые так часто наблюдал здесь, в Твери. Более того: он знает, какие несправедливости случаются в дворянских семьях, как жестоко обращаются помещики со своими крепостными. Ему припомнилась самоуправная госпожа Львова, капризная и взбалмошная. Но как все это объединить, как сделать, чтобы комедия была занимательна? Крылов обратился к своим любимым журналам. В «Живописце» он нашел рассказец о «кофейницах», или кофегадательницах, которые пользовались большим влиянием у доверчивых людей и бессовестно их обманывали. «Кофегадательница, — писал „Живописец“, — есть такая пожилая тварь, которая честным образом более уже пропитания сыскать не знает или не хочет честно кормиться… Они обманывают людей, не умеющих мыслить, что могут предсказати все из кофейных чашек. Когда такую Кивиллу[6] приказывают позвать, то предлагают ей вопросы. Например, Скупягина вопрошает, кто украл серебряную ложку?.. Тогда должно сварить кофий, и сие уже само по себе разумеется, что поднесут ей большие две чарки водки, чтобы возбудити сим в ней более предсказательного духа…» Дальше рассказывалось, как такая кофегадательница оговорила крепостного Сутягиной, которого глупая барыня жестоко наказала за кражу ложки, а ложка была спрятана самой гадалкой.
Крылов воспользовался этой историей для комедии. Главную героиню — госпожу Новомодову — он изобразил не по описаниям щеголих в «Трутне» и «Живописце», а по впечатлениям от тверских дворянок и чиновниц. Его Новомодова по наущению приказчика препятствует счастью крестьянской девушки Анюты и ее жениха — дворового Петра. Новомодова привередлива, груба, несправедлива. Крестьяне для нее бессловесные рабы, которых она презирает и наказывает. Особенно удалась ему ария Новомодовой, где она без стеснения выказывает свой злобный нрав:
О, проклятые лакеи,
Окаянный хамов род!
О, бесстыдные злодеи,
Чтобы всех вас побрал черт!
Вы господ век мучить рады,
И от вас всегда досады
Пьянства, злобы, плутовства,
Смут, ссор, драк и воровства!
Новомодова разгневана исчезновением серебряных ложек, которые она оставила в спальне. Она грозится не оставить ни на одной бестии живого места и драть всех слуг палками до тех пор, пока они не сознаются.
Хитрый приказчик, припрятавший барынины ложки, хочет погубить Петра — жениха Анюты, с тем чтобы жениться на ней самому. Он убеждает Новомодову пригласить «кофейницу», которая укажет вора. Приказчик открывает «кофейнице» свой план и уславливается, что она покажет на Петра. Гадалка ловко дурачит барыню и оговаривает Петра. Новомодова собирается с ним беспощадно расправиться.
Ну, теперь-то я злодею
За покражу отомщу
И уж разве ошалею,
Что вину ему спущу:
Разорву одной минутой
Его свадьбу со Анютой,
В гроб от палок положу
И в солдаты посажу.
Но по оплошности приказчика, уронившего на глазах Новомодовой ложки, которые он собирался передать «кофейнице» за гаданье, обман раскрывается. Новомодова отдает приказчика в рекруты, а Петра назначает приказчиком и разрешает ему жениться на Анюте. Этим благополучным концом и завершалась комическая опера Крылова. Такой конец являлся обязательной данью не только литературной традиции, но и общественному мнению. Ведь печальный конец неуместен в комической опере, да и был бы слишком обиден для благородных зрителей. И без того начинающий комедиограф слишком много себе позволил, затронув в пьесе самые болезненные стороны жизни. Госпожа Новомодова у него не только смешна, но и жестока, несправедлива, жадна. Так не годится говорить о госпожах из дворянского общества! А то, чего доброго, крепостные перестанут им подчиняться.
Многое в этой опере было наивным, стихи в куплетах не всегда ладили с правилами метрики и грамматики. Крылов и сам понимал, что над комедией еще много надо поработать. Но здесь, в Твери, нечего и думать о том, чтобы поставить оперу на театре или напечатать. Даже прочесть ее некому!
Ему исполнилось тринадцать лет. Он считал себя вполне взрослым и вдобавок сочинителем. На его руках вся семья: мать, бабушка, маленький Левушка. Оставаться в Твери — значило навсегда похоронить себя в канцелярии магистрата, трепетать перед повытчиком, получать жалкие гроши.
Крылову опротивели и переписка бумаг, и повытчик, и чиновники магистрата, и нищая жизнь провинциального подканцеляриста. Он мечтал о другом, широком мире, о славе драматурга, о новых людях и знакомствах. С каждым днем ему становилось все более тесно и уныло в Твери.
Ответ на прошение, посланное императрице, так и не пришел. Опытные люди советовали самой вдове ехать в столицу и там добиваться справедливости. Крыловы вспомнили старых сослуживцев отца, знавших Андрея Прохоровича еще по его службе в армии. Многие из них занимали видные должности в Петербурге, имели власть и влияние. Они должны помочь осиротевшей семье капитана Крылова. Все более укреплялась мысль о поездке в столицу. Решили ехать всей семьей, оставив в Твери лишь бабушку Матрену Ивановну. Поездка в Петербург стоила дорого. Пришлось продать вещи, без которых можно было обойтись. Продали и книги из старого сундука.
«Санкт-Петербург есть Европейская столица блистающего императорского двора, и весьма подобна тем и распространенною своею морскою торговлею другим европейским столицам и торговым городам она во всем расположении, как и вообще во образе жизни. Процветающие промыслы, художники всякого рода, множество денег в обращении, придворный некоторым образом вид во вкусе и обращении — так как и в других столицах государей».
В августе 1782 года семейство покойного капитана Крылова направилось в Петербург.
Вот, наконец, она, столица! Во всей красе Ванюша увидел Петербург на следующее утро по приезде, когда направился к Неве. Вдоль реки разместились дворцы и роскошные дома вельмож; по наведенному против Адмиралтейства мосту можно было перейти на Васильевский остров к Бирже. Там помещалась таможня, Гостиный двор, а на самой стрелке между двух ростральных колонн, завершавшихся маяками, находилась пристань, к которой то и дело подходили корабли с грузами.
Окаймленная рядами словно нарисованных зданий, уходила вдаль Нева, величественная, спокойная, темневшая своей прозрачной тяжелой водой. Высоко над городом возносился тонкий золотой шпиль Петропавловской крепости, напоминая о неистовом основателе и строителе новой столицы.
Санкт-Петербург после смерти Петра продолжал расти и украшаться. Сюда, на холодный, негостеприимный берег Финского залива, свозили со всей страны кирпич, доски, бревна, сгоняли толпы мужиков, чтобы у студеного, угрюмо-серого моря отвоевать болотистый, мшистый кусок суши и построить на нем город чудес, Северную Пальмиру. Гибли в болотах тысячи русских мужиков, пригнанных из Рязанской, Тамбовской, Владимирской, Ярославской губерний. Замерзали от холода, умирали от голода, лихорадок, простуд, непосильной работы, жестоких наказаний. Но город строился, украшался.
Геометрически правильные линии проспектов, площадей, каналов, намеченные Петром, заполнялись домами, засаживались деревьями. Скупая простота петровских ансамблей сменялась роскошными палатами и дворцами, изнеженной прихотливостью женственных линий барокко.
В архитектуре явились изящество, прихотливость в лепке орнаментов, в капителях колонн, в изгибах балконов, в узорах оконных переплетов и решеток. Всюду соблюдалось приятство, благородная изысканность. Екатерина II желала походить на своего великого предшественника, строителя этого города и обширнейшего государства. Кроме того, она хотела быть приятной, внушать всем восхищение добродетелями просвещенной монархини. Она помнила бурные события своего воцарения, дворцовый заговор против ненавистного императора, ее мужа Петра III. Она сама, верхом на белом коне, в мундире Преображенского полка, в шлеме, украшенном дубовыми листьями, из-под которого развевались ее волнистые длинные волосы, направилась тогда во главе гвардейских полков в Петергоф, чтобы арестовать своего мужа — законного императора. Петр III был отправлен под конвоем в Ропшу и там задушен. Официально объявили о внезапной его смерти от «геморроидальных колик».
Новая императрица обильно изливала милости приближенным, способствовавшим ее воцарению. Она раздавала щедрой, нескудеющей рукой золото, должности, титулы, имения, крепостных рабов. Ей, однако, хотелось прослыть просвещенной и рачительной монархиней. Она завязала переписку с Вольтером, Даламбером, Дидро — лучшими умами тогдашней Европы. Императрица в своих письмах называла себя их ученицей, льстила им, уверяла, что в далекой, таинственно-неведомой Московии она осуществляет их учение о просвещенном монархе и продвинула свою страну по пути прогресса и свободы.
Принцесса Ангальт-Цербстская скоро выучила русский язык, хотя до конца жизни говорила на нем с сильным немецким акцентом. Любила в разговоре вставлять пословицы и поговорки, иногда не очень уместно; завела во дворце русские крестьянские наряды и хороводы. Екатерина кичилась своим знанием народа и его обычаев, хотя это знание основывалось главным образом на мимолетных беседах с дворцовыми истопниками, кучерами и лакеями.
Она даже сочиняла комедии из крестьянской жизни и русские сказки, считая себя незаурядной писательницей.
За пределами дворца, за столичными заставами начиналась бескрайняя, неизвестная и непонятная ей Россия, пустые, дикие пространства, пугавшие ее своей суровостью. Она болезненно пережила тревожные дни пугачевского восстания. И хотя буйная голова казака зимовейской станицы Емельяна Пугачева покатилась с плахи на Лобном месте, страшный призрак крестьянского восстания пугал ее и тревожил.
Императрица повела решительную борьбу с проявлениями вольнодумства: сатирическими журналами, масонами, книгами и идеями французских философов, которым недавно еще курила фимиам. Продолжались эрмитажные собрания и спектакли, она улыбалась острым шуткам и стремилась очаровать своей любезностью людей, ей полезных, но за всем этим стояла жесткая настороженность, недоверчивость, страх перед возможной катастрофой.
Крылов ничего, конечно, не знал об этих переменах. С самонадеянностью молодости он рассчитывал на успех, на благосклонность фортуны. Он привез в столицу либретто своей комической оперы «Кофейница», над которой трудился в Твери.
Обосновались Крыловы не в красивых центральных кварталах столицы, а на ее окраине, в Измайловском полку. Там ровными рядами стояли небольшие домики, отделенные друг от друга изрядным расстоянием во избежание пожаров. В них жили офицеры Измайловского полка со своими семьями, мелкие чиновники, отставные военные. Кругом еще тянулись низкорослые еловые леса с болотистыми полянами, заваленными ветвями и бревнами, из-под которых, лишь только оттаивала земля, бежали грязноватые, коричневые ручейки. Да, это был не тот Петербург, который представлялся Крылову в мечтах! Даже изба бабки Матрены обжитее, уютнее, теплее двух маленьких комнаток, которые уступил семейству бывший сослуживец Андрея Прохоровича, одинокий человек, существовавший на скромную пенсию.
Крыловы приехали в Петербург перед самым открытием монумента Петра I. Вместе с жителями столицы Ванюша поспешил с раннего утра на площадь перед зданием Сената. Стечение народа было чрезвычайное. Даже крыши близлежащих домов оказались заполненными зрителями. Монумент скрывала рисованная на полотне заслона: на ней изображены были камни и «гористые страны». На площади и ближайших улицах расположились гвардейские полки в парадной форме, со знаменами.
В четвертом часу на торжественно украшенной шлюпке из своего Летнего дворца прибыла сама Екатерина. Поднявшись по ступеням Сената, она вскоре появилась на балконе с толпою придворных, сиявших золотом и брильянтами. По сигналу занавес, скрывавший статую, упал, и перед народом появился гордый всадник в античном одеянии, мощным движением сдерживающий коня, ставшего на дыбы.
После пушечного салюта начался парад. По площади мимо монумента под водительством фельдмаршала князя А. М. Голицына проходили войска. Слышался точный и размеренный шаг пехотинцев, высоко в парадном марше вскидывавших ногу, дробь барабанов. Крылов стоял среди народа и смотрел на величественную панораму Невы, на ярко-зеленые мундиры солдат, на медную статую Петра работы славного Фальконетта, с простертой вперед рукой. Прямо напротив него на балконе Сената находилась императрица. Ванюша вспомнил ее белое, чуть припухшее лицо, ее маленькие руки с сиявшими на солнце перстнями. Такой она была тогда в Твери на Соборной площади. Ему хотелось подойти к ней, рассказать о бедственном положении семьи покойного капитана Крылова, честно выполнявшего свой долг и оставившего семью в нищете. Но это было невозможно: императрица вышла из Сената, окруженная плотной толпой придворных и надежным эскортом кирасирского полка.
По воскресеньям Крылов отправлялся в Летний сад. За великолепной чугунной решеткой происходило праздничное гулянье по аллеям, уставленным белыми мраморными статуями, которые четко выделялись на фоне зелени. Особенно привлекала его роговая музыка придворных егерей. В новеньких мундирах, богато отделанных золотым позументом, в штиблетах и с напудренными волосами, егеря пристально смотрели в ноты, боясь пропустить момент, когда тому или иному инструменту выпадет очередь взять очередную ноту. Роги были разного размера и обтянуты снаружи кожей. Они издавали своеобразные звуки, напоминавшие и гобой, и флейту, и фагот, и обыкновенный охотничий рожок. Разыгрывались менуэты, контрдансы, полонезы.
Блуждая по улицам Петербурга в поисках долгожданного места, Ванюша повстречал невдалеке от Гостиного двора странную процессию. Впереди шли солдаты во главе с барабанщиком, выбивавшим заунывную, тоскливую дробь. За ними следовала позорная колесница. В ней сидел на скамейке, спиною к лошадям, исхудавший, желтый, как труп, человек. Одет он был в длинный, черный суконный кафтан, на голове — шапка.
Крылов последовал за процессией. Преступника везли на Конную площадь, где должно было последовать публичное наказание. Арестанта под руки ввели на эшафот. Он не мог стоять и только дрожал мелкой, зябкой дрожью, словно от сильного холода. Священник сказал несколько поучительных слов, протянул ему для поцелуя большой медный крест. Судейский чиновник гнусаво зачитал приговор. Тогда, поплевав на руку, палач взял огромный бич, сипло крикнул для бодрости: «Берегись, ожгу!» — и не спеша, с равными промежутками, начал наносить удары. По окончании казни виновного отвязали от столба, выжгли раскаленной печатью позорные знаки на лбу и щеках и засунули обмякшее тело в фургон.
Народ понемногу расходился. Крылов медленно направился домой. Перед его глазами все время стояла окровавленная, в черных кровоподтеках и ссадинах костлявая спина, в ушах отдавались хриплые, болезненные стоны истязаемого…
Переезд в столицу желаемых результатов пока не приносил. Ничего определенного нигде не обещали. Крыловым казалось, что если они попадут в Петербург, бросятся в ноги к матушке государыне, то она тут же расщедрится и прикажет выдать пенсию семье своего верного слуги. Еще в Твери Мария Алексеевна и Ванюша наслушались рассказов о милостях царицы, о доступности ее для просителей. Передавали, что как-то, увидев в окно старуху, которая ловила во дворе курицу, императрица приказала ежедневно выдавать ей по курице; старуха оказалась бабкою одного из дворцовых прислужников. Но, по-видимому, эта трогательная история с курицей и старушкой случилась очень давно (а может быть, ее и совсем не было?), с тех пор императрица перестала помогать старушкам и бедным вдовам. Во всяком случае, вдова капитана Крылова получала одни лишь отказы на свои прошения, обращенные к августейшей государыне, так и не проявившей к ней «матерней милости». Служба тоже не находилась, и юный подканцелярист должен был подрабатывать перепиской прошений в судебные инстанции или составлением писем для солдат.
А тут еще разыгралась и вовсе неприятная история.
Уезжая из Твери, Крылов взял в магистрате месячный отпуск с 29 июля 1782 года. Но в установленный срок к должности он не вернулся. Только через год вспомнили об исчезнувшем чиновнике и начали его разыскивать. На квартиру Крыловых в Твери был послан пристав, и вслед за тем канцелярия магистрата направила рапорт тверскому наместнику графу Я. Брюсу:
«Сего апреля 7-го числа здешнему департаменту репортом пристав Никифор Иванов представил, что посылан он был от департамента в квартиру к подканцеляристу Ивану Крылову, который числился больным для проведывания есть ли ему от болезни облегчение но и в квартире его не получил от бабки его Крылова Матрены Ивановой ему приставу объявлено что он подканцелярист Крылов отлучился отсюда в Санкт-Петербург нынешнем году зимним временем, а которого месяца и числа о том она не упомнит. Того ради Тверского Губернского Магистрата во втором департаменте определено об отлучке означенного подканцеляриста Крылова наместническому правлению отрепортовать о чем сим и репортует апреля 11-го дня 1783 году».
Делу был дан ход. История о без вести пропавшем подканцеляристе получила свое закономерно бюрократическое течение. На «репорт» магистрата последовал грозный указ наместничества о привлечении беглого чиновника к месту его службы по этапу.
Бумага возымела действие. До Крылова дошли в Петербург вести об его розысках, о бурной деятельности Тверского магистрата. Пришлось поехать в Тверь и улаживать неприятное дело.
Мы не знаем, кто покровительствовал Крылову. До нас дошли лишь глухие сведения о том, что незадачливый подканцелярист явился к самому графу Брюсу, всемогущему генерал-губернатору тверскому и новгородскому, и пленил этого сурового вельможу. Крылов написал прошение, в котором сослался на болезнь, якобы помешавшую ему исполнять свои служебные обязанности, и «за слабостию здоровья» просил его уволить от должности. На это прошение последовало милостивое решение генерал-губернатора и разных орденов кавалера графа Брюса, который издал указ, не только разрешавший Крылову уход и отставку, но и содержавший благодарность «за беспорочную службу».
Снова начались поиски службы.
Оставалась еще одна, последняя надежда. Львовы при его отъезде из Твери дали ему письмо к важному сановнику — президенту Академии художеств И. И. Бецкому, который имел когда-то большое влияние при дворе и слыл филантропом. Когда Крылов подошел к роскошному дворцу вельможи, находившемуся между Невой и Летним садом, его охватила робость. Напудренный слуга провел его через огромный зал, в котором висели картины лучших европейских мастеров, а затем через библиотеку в тенистый сад. Бецкой прогуливался по саду, опираясь на палку. Он почти потерял зрение. Угасало и его влияние при дворе. Бецкой болезненно переживал охлаждение императрицы и свое удаление от государственных дел. Однако он не хотел признаваться в своем бессилии и делал вид, что по-прежнему влиятелен.
Он радушно встретил молодого человека, усадил на скамейку и, внимательно выслушав обстоятельства дела, обещал посодействовать. Затем спросил, чем тот занимается. Крылов смутился и поведал о своих занятиях литературой. Вельможа пожелал услышать что-либо из произведений молодого таланта. Еще более смущаясь, юноша прочел перевод басни Лафонтена «Ворон и Лисица». Когда он кончил чтение, вельможа, пожевав губами, задумчиво произнес: «Изрядно для такого юного возраста!» Затем устало поднялся, движением руки попрощался с Крыловым и пошел неверными шагами к дому.
Вскоре место нашлось. Помогло ли здесь покровительство Бецкого или другие обстоятельства, но, так или иначе, Крылов был принят в сентябре 1783 года на службу в Казенную палату. Правда, на столь же скромную должность канцеляриста, что и в Твери. Жалованье тоже было ничтожное — 25 рублей серебром в год, что никак не могло хватить на прокормление всего семейства даже при самой жестокой экономии.
Занятия в Казенной палате мало привлекали Крылова. Как и в Твери, там царили рутина, мздоимство, бесконечное крючкотворство. Ему поручали переписывать бумаги, иногда делать из них «экстракты», кратко излагающие содержание дела. Дома в их убогих комнатушках тоже было неприютно. Мария Алексеевна или ходила по милостивцам, все надеясь на несбыточную пенсию, которая никак не выходила, или возилась дома с хозяйством. Она чахла на глазах, зябко куталась в старый платок, плохо спала. Левушка тихонько играл в своем углу, терпеливо поджидая «тятеньку».
По вечерам Крылов продолжал работу над своей комедией. Переписывал, переделывал, правил. Наконец он решил, что комедия закончена. Еще раз переписал всю пьесу на плотные листы бумаги. Один из сослуживцев рассказал ему про типографщика Брейткопфа, знатока и любителя музыки и литературы, который имел свою типографию.
Волнуясь и робея, отправился сочинитель по указанному адресу. Войдя в небольшую, заставленную шкафами комнату, он увидел за конторкой толстого розовощекого человечка с голубыми глазами, белокурыми волосами, затянутого в темно-синий сюртук. Это был сам владелец типографии и нотопечатни Бернард Фридрихович Брейткопф. Выходец из Германии, Брейткопф хотя и прожил много лет в России, но говорил с заметным немецким акцентом. Он вопросительно смотрел на коренастого юношу, судорожно сжимавшего в руках какой-то пакет. Как выяснилось из дальнейшего разговора, пакет оказался рукописью комической оперы. Юноша признался, что этот свой первый литературный опыт он хочет напечатать. Улыбаясь, типографщик осторожно взял рукопись своими короткими ручками. Они разговорились. Немец уверил автора, что прочтет его рукопись и, если она окажется интересной, он даст ей ход.
Когда через несколько дней Крылов вновь пришел к типографщику, Бернард Фридрихович встретил его, излучая сияние. «В ней так много шутки, так хорошо виден жизнь», — твердил он обрадованному автору. Брейткопф собрался даже уплатить ему шестьдесят рублей ассигнациями — по тем временам немалые деньги! У четырнадцатилетнего автора от радости забилось сердце. Это было первое признание его таланта, начало успеха. Да и деньги весьма пригодились бы в их скудном бюджете. Но он тут же передумал и попросил Брейткопфа вместо денег дать ему сочинения Расина, Мольера и Буало. Теперь, вступив на стезю сочинительства, он должен воспитать свой вкус чтением образцовых авторов.
Типографщик пригласил Крылова бывать в его доме, обещая, что познакомит начинающего комедиографа с опытными сочинителями. Прижимая к груди объемистую пачку книг, гордый своим успехом, юноша с торжеством направился домой.
Однако надежды на издание или скорое появление «Кофейницы» на театре постепенно гасли. Дела просвещенного меломана оказались далеко не блестящими. Типография и нотопечатня приносили одни убытки, а увлечение музыкой и игра на скрипке не оставляли Брейткопфу времени для практических дел.
Крылов часто приходил к добродушному типографщику на квартиру.
Они беседовали о театре, о музыке, восхищались операми Моцарта. О «Кофейнице» он больше не говорил. Вскоре ему пришлось распрощаться с типографией, так как не хватало денег на бумагу, на оплату рабочих, не было и заказов.
В один из визитов к Брейткопфу Крылов встретил человека лет шестидесяти. Незнакомец зачесывал седые волосы назад, имел необычайно правильные и привлекательные черты лица. Его умные, выразительные глаза смотрели приветливо. В коричневом кафтане французского покроя, со стальными пуговицами, в шитом шелковом жилете и ослепительно белых кружевных брыжах и манжетах он был похож на придворного. Брейткопф представил ему Крылова. Незнакомец оказался знаменитым актером — Иваном Афанасьевичем Дмитревским. Иван Афанасьевич руководил труппой Эрмитажного театра и сам выступал на сцене, играя преимущественно благородных героев в трагедиях Сумарокова. Дмитревский был причастен и к литературе: переводил пьесы французских авторов.
Они подружились — знаменитый артист и никому не ведомый автор никому не известной комедии. Их объединяла общая страсть — театр.
Иван Афанасьевич хвалил театр и актеров. «Есть прекраснейшие актеры и с прекрасными талантами», — говорил он Крылову.
Крылов стал теперь частым гостем Дмитревского. В его квартире на Галерной набережной, тщательно и со вкусом обставленной, они вели долгие споры и беседы. Дмитревский рассказывал о себе, о памятных встречах и событиях своей долгой, богатой впечатлениями жизни. Говорил он, педантически соблюдая паузы, слегка пришепетывая (недостаток, который на сцене почти преодолевал). Рассказы его были интересны и поучительны, хотя, возможно, не всегда соответствовали истине. Старый актер увлекался и в тот момент, когда рассказывал, сам искренне верил, что все было именно так, как он говорил.
— Да, мой милый юноша! — Дмитревский вздохнул и удобнее уселся в мягкое кресло. — Всяко бывало. Пришлось и в Бастилии посидеть!
И он рассказал, как в 1767 году ездил в Париж для приглашения лучших французских актеров в петербургский театр.
— Ты подумай! Сам Лекен, Белькур и мадам Клерон соглашались поехать! Но король рассердился, и мне не поздоровилось. Меня с Белькуром для острастки посадили в Бастилию. Граф Иван Иванович Шувалов, наш посол во Франции, узнав об этом, отписал августейшей монархине и вызволил нас из узилища!
Полились нескончаемые рассказы о поездке в Париж, о поездке в Лондон, о встречах со знаменитыми трагиками Лекеном и Гарриком.
— Лекен повез меня в Лондон взглянуть на славного Гаррика, — увлеченно заговорил Иван Афанасьевич. — Знаменитый артист принял нас дружески. Желая угостить нас, он сыграл на Лондонском публичном театре «Макбета», комедию «Как вам это нравится» и пьесу своего сочинения «Табачный продавец». Однажды утром после завтрака Гаррик собрался идти со двора и спросил меня и Лекена, не пойдем ли и мы. «Нет, — отвечал я, — сегодня не расположен никуда идти». Гаррик ушел, а мне пришла охота прогуляться и посмотреть окрестности Лондона. Вышед на Темзинскую набережную, я вдруг увидел издалека Гаррика, который пробирался домой. Я тотчас переменил походку и физиономию. Поравнявшись со мной, Гаррик стал всматриваться пристально, но не решился остановить меня, боясь ошибиться. Посмеявшись про себя, я поспешил воротиться домой и переоделся. Вскоре явился слуга с приглашением к обеду. Во время обеда Гаррик спросил меня, не ходил ли я со двора. На мой отрицательный ответ он заметил: «Значит, я ошибся, а по костюму точно ты шел по набережной».
В этом месте Дмитревский обычно делал паузу и, заложив в нос понюшку табаку, чихнув в шелковый платок, продолжал:
— Стали подавать третье блюдо. Я уже протянул к нему руку, как вдруг побледнел, задрожал и в конвульсиях упал то стула. Гаррик, Лекен и гости в испуге встают из-за стола и суетятся около меня. Но вдруг, к удивлению их, больной весело вскакивает, смеется и просит хозяина и гостей извинения за сделанную суматоху. Все от души смеялись и снова сели за недоконченный обед. Гаррик, смотря на меня пристально, спросил: «Признайся, мой молодой друг: это ты попался мне на набережной назад тому час, прихрамывая на правую ногу?» Тут я должен был признаться в другой своей шутке. «Браво, Дмитревский, браво! — закричал Гаррик. — Я предвижу, господа, что он будет великий актер, и я непременно хочу видеть его на сцене в трагической роли! В твоем репертуаре значится роль Беверлея[7], сделай одолжение, сыграй ее нам и покажи свой талант на лондонской сцене». Я согласился, и на другой день в лондонском театре состоялась репетиция, а еще через день и представление. Во все время моей игры Гаррик не спускал с меня глаз, замечая каждое движение. А в сцене, когда Беверлей выпивает яд и говорит затем монолог, Гаррик так впился в меня, что, сидя за кулисами у стола, на котором горела свеча, не заметил, как загорелись его манжеты. — Дмитревский даже сам несколько удивился этому обстоятельству, расчувствовался и умолк.
Иван Афанасьевич неоднократно рассказывал эту историю и каждый раз все с новыми подробностями. О загоревшихся манжетах Гаррика он упомянул впервые. Эта подробность на него самого произвела сильное впечатление. Злые языки утверждали, что Иван Афанасьевич вовсе не бывал в Лондоне и не встречался с Гарриком. За давностью времени и сам Иван Афанасьевич уже не твердо помнил, что было и чего не было.
Проходили недели и месяцы. Стало ясно, что с «Кофейницей» толку не будет. Да и сама комедия казалась теперь Крылову слишком беспомощной. Его воодушевляли новые замыслы. Трагедия — самый благородный и возвышенный род искусства! Вот за что надо взяться! Успех трагедий Расина, Сумарокова, Княжнина, казалось бы, указывал на это. Воображение Крылова привлекли рассказы древних историков об египетской царице Клеопатре. Необузданная в своих желаниях, царица принесла во имя своей страсти в жертву интересы государства. Ему представилось пухлое, покрытое пудрой лицо, маленькая холеная ручка, припомнились рассказы о непомерном любвеобилии Екатерины. Да, многое в истории не утратило своего значения и сейчас! Можно ли мириться с торжеством деспотизма, с безграничной властью монарха, смотрящего на государство как на средство удовлетворения своих прихотей и пороков?
Через месяц Крылов явился к Дмитревскому со старательно переписанной рукописью новой трагедии — «Клеопатра». Иван Афанасьевич с всегдашней любезностью принял своего юного друга.
В удобном домашнем халате, мягких меховых туфлях, он уселся в глубокое кресло и приготовился слушать. «Очень, очень рад, душа моя, — приветливо сказал он, — видеть вас и прослушать трагедию вашу. Садитесь сюда в кресло, но прежде надобно запереть дверь, чтобы нам не помешали». Он встал, закрыл дверь и снова погрузился в кресло. «Ну, теперь начните, но читайте не торопясь: у нас времени много». Крылов принялся громко читать стихи трагедии, исполненной неистовых страстей, но Иван Афанасьевич остановил его: «Лучше потише, душа моя, а то устанешь».
Увлеченный чтением, Крылов взволнованно произносил самые потрясающие тирады, переходил от бурной патетики к приглушенному шепоту. Заканчивая первый акт, он взглянул на Дмитревского. Иван Афанасьевич мирно и блаженно дремал в кресле. Перерыв в чтении его разбудил. Очнувшись, он любезно воскликнул: «Прекрасно! Прекрасно! Да, на каком мы действии остановились?» Крылов смутился и отложил рукопись. Но Дмитревский настоял на продолжении чтения. Кое-как смущенный автор добрался до конца. Дмитревский, время от времени снова задремывавший, встрепенулся и стал уверять Крылова, что его трагедия точно отменная и прекрасно написана, но что в ней есть, однако, некоторые недостатки. Стихи слишком пылкие и звучат как деревянные, следует сделать их полегче. Да и в действии много несообразного. Главное же, не дай бог, ежели кому-нибудь придет в голову сравнить нашу просвещенную государыню с этой любострастной египетской царицей. Тогда не миновать беды. Лучше трагедию припрятать, да подалее, заключил Иван Афанасьевич.
— «Старики потому так любят давать хорошие советы, как говорил Ларошфуко, что они уже не могут подавать дурные примеры», — добавил он, извиняющимся тоном.
Подавленный, расстроенный разговором, Крылов молча попрощался.
Прошло несколько недель, и он с жаром принялся за сочинение новой трагедии. Сидел допоздна при тусклом свете свечи, бормоча себе что-то под нос, иногда во весь голос читал какие-то стихи. Новая трагедия — «Филомела» — была вскоре закончена.
В ней передавался миф о Филомеле, ставшей жертвой насилия фракийского царя Терея, который отрезал ей язык, чтобы она не могла рассказать о его преступлении. Жена Терея — Прогнея, узнав про зверское насилие Терея над ее сестрой, в исступлении убивает сына и его телом угощает отца. Против жестокого деспота и тирана восстают не только его близкие, но и народ. Терей закалывается. Особенно удавшимся Крылов считал предсмертный монолог Терея:
Мой сын! твой вопль в своем я сердце познаю,
Он сердце томно рвет и грудь мою терзает,
Хладеет кровь моя, мутится, замерзает.
Тираны! наконец отмщенье вы нашли —
И злобою мои злодейства превзошли…
«Филомелу», однако, постигла участь «Клеопатры». Вежливый, доброжелательный Дмитревский безропотно взял рукопись, обещал прочесть ее через несколько дней. Крылов после этого не раз заходил к нему справляться. Иван Афанасьевич извинялся, обещал и снова нарушал свое обещание. Наконец он прочел пьесу. После многочисленных комплиментов и похвал Дмитревский стал разбирать сцену за сценой, указывая Крылову на его промахи или неудачные стихи. Замечания Ивана Афанасьевича отличались наблюдательностью, знанием театра, тонким, хотя и несколько старомодным вкусом.
Впоследствии, вспоминая о своей юношеской трагедии, Крылов говорил: «В молодости моей я все писал, что ни попало, была бы только бумага да чернила; я писал и трагедию; она напечатана была в „Российском Феатре“, в одном томе с „Вадимом“ Княжнина, с которым вместе и исчезла, да и рад тому: в ней ничего путного не было; это первые давнишние мои попытки»[8].
«Нет, трагедия не мое дело! Больше я за нее не буду браться, — твердил про себя Крылов, возвращаясь от Дмитревского. — Комедия — вот мое призвание, вот над чем следует работать!» И он снова обратился к популярному тогда жанру комической оперы, с которого начал свой путь сочинителя. Он быстро написал комедию «Бешеная семья», веселую, задорную буффонаду в духе мольеровских фарсов с переодеваниями. Однако Крылов не ограничился желанием посмешить зрителей. В «Бешеной семье» зло высмеивались развращенность дворянского общества, его лицемерие.
Столица поразила юношу из провинции своей противоречивостью: великолепием зданий, изысканной роскошью гостиных, нарядными выездами и золочеными каретами, бьющей ключом театральной и литературной жизнью — и в то же время дикостью и бедностью окраин, публичными казнями, полицейским произволом, всеобщей продажностью. Даже в литературе пробавлялось немало писателей, которые за милости или подарки мецената слагали в его честь хвалебные оды и мадригалы, торговали своими произведениями, как мануфактурой. Это особенно возмущало Крылова, и он написал новую комедию — «Сочинитель в прихожей».
Главной героиней комедии снова стала госпожа Новомодова. Но это была уже не прежняя провинциальная помещица, а столичная кокетка, пустая и развратная, ловко обиравшая любовников. Она завлекает в свои сети легкомысленного графа Дубового и лишь из-за чистой случайности в последний момент терпит неудачу. Крылов в своей новой комедии далеко ушел от смешной буффонады «Бешеной семьи». Его сатира приобрела резкую, обличительную направленность. Особенно зло высмеял он низкопоклонного «сочинителя», который за подачку взбалмошной барыньки готов сочинять стишки в честь ее собачки. На вопрос Новомодовой, «в каком роде сочинений» он «упражняется», Рифмохват отвечает: «ваше сиятельство, я пишу похвальные стихи».
Новомодова: А, сударь, не можете ли вы потрудиться в похвальных стихах…
Рифмохват: С превеличайшею охотою, скажите только достоинство того, кому хотите, чтобы я сделал стихи.
Новомодова: Моей собачке.
Рифмохват: И, сударыня, вместо собачки, я лучше вам сделаю!
Новомодова: Вы можете описать собачкину красоту, достоинства, резвость, ласковость…
И Рифмохват, желая подслужиться к богатой барыне, сочиняет стихи в честь ее собачонки:
Прекрасна красота, краса красот прекрасных,
Собранье прелестей открытых, зрелых, ясных.
Комедия удалась. Это была комедия русских нравов, свободная от подражания иноземным образцам. Однако напечатана она была в «Российском Феатре» лишь через восемь лет, в 1794 году.
Дмитревский познакомил Крылова с известными актерами: Плавильщиковым, Сандуновым, Шушериным. В отличие от по-придворному галантного Дмитревского актеры оказались простыми, компанейскими людьми, любителями крепкого табака и водки. Они не кичились перед Крыловым, посвящали его в свои театральные дрязги и постоянные житейские неприятности.
У Дмитревского же повстречался Крылов со знаменитым автором «Недоросля». Фонвизин был тяжело болен. Он вошел в гостиную, опираясь на палку и волоча непослушные ноги, — последствие удара, от которого он так и не смог оправиться. Левая рука его была парализована. Не помогали ни лекарства, ни поездки на воды за границу. Как завороженный слушал Крылов полный едкого юмора рассказ Фонвизина о его поездке в Карлсбад и тамошних обычаях, о том, как по возвращении в Россию ему пришлось выдавать себя за племянника Потемкина, чтобы получить на станциях лошадей.
Разговор незаметно перешел на положение в театре. Фонвизин насмешливо отозвался о «Росславе» Княжнина, находя его слишком риторическим и неестественным. «Когда же вырастет твой герой? — шутливо спросил он сидевшего тут же Княжнина. — Он все твердит: „Я росс, я росс. Пора бы ему и перестать расти!“» Обидевшийся Княжнин, весьма самолюбивый и мнительный, помрачнел и колко ответил: «Мой Росслав совершенно вырастет, Денис Иванович, когда твоего Бригадира[9] произведут в генералы!» Фонвизин рассмеялся и здоровой рукой похлопал Княжнина по плечу.
Заговорили о «вопросах» к императрице, помещенных Фонвизиным в «Собеседнике любителей российского слова». Крылову особенно запомнился ядовитый вопрос: «Отчего в прежние времена шуты, шпыни и балагуры чинов не имели, а ныне имеют и весьма большие?» Этот намек на придворных любимцев и знатных шутов императрицы, вроде престарелого князя Нарышкина, больно задел Екатерину и придворную камарилью, и Фонвизину была поставлена на вид недопустимость подобных намеков. На всю жизнь запомнился Крылову этот разбитый параличом, полуживой человек, в котором продолжали жить ясный ум и неукротимый дух.
Театр! Таково было новое увлечение Крылова. Он готов посещать его каждый день, взволнованно переживая каждое представление, жадно вдыхая гарь чадящих ламп, запахи красок декораций, пудры и духов разряженных зрителей. Он попал в Петербург как раз в пору расцвета театра. Помимо Эрмитажного театра — для двора, — имелся на Царицыном лугу деревянный театр Книппера, а на окраине столицы, в Коломне, в 1783 году построен был новый Большой каменный театр. Великолепное здание Большого театра увенчивалось изображением Минервы из каррарского мрамора с надписью на щите: «Vigilando quiesco» («Отдыхаю бодрствуя»). Ложи расположены были в пять ярусов, и каждая оклеена особого цвета обоями и украшена такого же цвета занавесками, по вкусу владельца. Внизу находились кресла партера, а позади кресел стоячие места. Наверху — парадиз, куда ходила публика низкого звания.
Крылова очень удивляло, что на свободной площадке между сценой и партером разгуливали молодые люди, которые бесцеремонно разглядывали в лорнеты женщин, сидевших в креслах и ложах. Они громко разговаривали между собой, порой заглушая голоса актеров. С растрепанными по моде волосами, с розовыми шелковыми косынками, повязанными вокруг шеи, они спорили о скорости бега своих лошадей, о достоинствах своих любовниц, о преимуществах модных портных. «Кто такие эти господа? — осведомился Крылов у Дмитревского. — И почему женщины так ломаются и коверкаются перед ними?» — «Эти господа — цвет столичной знати, — улыбаясь, отвечал Дмитревский. — Они замечают и высмеивают женские уборы и судят о красоте и достоинствах всех женщин. Посмотрев на которую-нибудь, они будут уверять, что у ней новый любовник, что она бросила уже того, который был на ее содержании, а вместо него взяла нового — приезжего офицера».
Из-за гула разговоров Крылов плохо слышал происходившее на сцене. Там шла новая итальянская опера «На луне», либретто Гольдони, а музыка композитора Паизиэлло. В опере молодой человек ухаживал за дочерью любителя астрологии, настроенного против этого брака. Предприимчивому герою удалось убедить несговорчивого папашу, что тот находится на лупе, и добиться от него согласия на брак. Веселая незатейливая опера показалась Крылову слишком нелепой и бессмысленной.
Благодаря Дмитревскому, который имел большое влияние в театральном мире, Крылов познакомился с Петром Александровичем Соймоновым, членом театрального комитета, в ведении которого находились все театры. Важный вельможа первоначально принял участие в молодом драматурге. Приказал выдать Крылову пропуск для посещения театра. Соймонов заведовал также Горной экспедицией и устроил туда Крылова на службу.
Теперь Крылов уже не был в столице одиноким пришельцем. Перед ним раскрывались перспективы будущего, он имел друзей. Слава драматурга, гипноз кулис, овации зрителей — вот что влекло к себе скромного канцеляриста, еще недавно никому не известного.
Вскоре он стал своим человеком в театральном мире. Его комедии нравились, и даже сам Соймонов приказал камер-музыканту Деви положить на музыку комическую оперу «Бешеная семья», а Крылову заказал перевод модной французской оперы «Инфанта из Заморы».
Дела, казалось, налаживались.
По вечерам у Дмитревского, куда часто захаживал Крылов, собирались актеры, писатели, любители театра. Велись ожесточенные споры, читались новые произведения. Всех этих, во многом очень разных людей объединяла любовь к театру. Они могли часами обсуждать новые пьесы, спорить об игре актеров.
Крылов подружился с актером Плавильщиковым, широкоплечим, румяным гигантом со светлыми голубыми глазами. Отец его — московский купец, владелец галунной фабрики, отдал сына учиться в Московский университет, желая, чтобы тот стал медиком. Но Петр Алексеевич медиком не стал. Он увлекся литературой и театром и по окончании университета целиком отдался своему любимому делу — театру. Дмитревский высмотрел молодого актера в Москве и переманил его в петербургскую труппу. Петр Алексеевич особенно охотно играл в трагедиях, исполняя роли благородных героев. Его кипучая деятельность, однако, не ограничивалась актерством — в 1782 году он издавал журнал «Утра» и сам выступал как автор комедий и трагедий.
Всех посещавших вечера у Дмитревского особенно волновал вопрос о создании русского самобытного театра со своим национальным репертуаром. Они с негодованием ополчались против засилья нелепых французских водевилей и комических опер с переодеваниями, которые заполонили тогда русскую сцену. Они сердито осуждали Соймонова, театральное начальство, придворных, которые поощряли постановку глупых и бездарных изделий, в изобилии попадавших на русскую сцену из-за границы. «Театр — это школа народная, — торжественно заявлял Дмитревский. — Это такое место, которое должно быть училищем добродетели и страшилищем порокам!»
«Это должны быть российские пиесы о наших нравах!» — вторил ему Плавильщиков. Он с негодованием говорил о тех, особах «большого света», которые считают все русское ниже иностранного «и если и снисходят до произведений отечественных авторов, то оценивают их только по близости к чужестранным творениям!». Плавильщиков волновался, громя язву модного воспитания, когда под влиянием гувернеров-иностранцев подростки и юноши начинают презирать все отечественное, становятся равнодушными к своей стране, к своим национальным богатствам.
Крылов с горячим сочувствием слушал Плавильщикова. Он был с ним совершенно согласен. Он тоже считал, что «театр есть училище нравов, зеркало страстей, суд заблуждений и игра разума».
Между тем в пьесах, которые нравились дирекции театров, не было ни русских нравов, ни суда заблуждений, ни просто здравого смысла.
Яков Борисович Княжнин находился в расцвете славы. Его трагедии «Дидона» и «Росслав» имели громкий успех. Этот успех вознаграждал за тяжелые испытания в прошлом. В молодости, будучи гвардии офицером, Княжнин жестоко проигрался в карты и, чтобы заплатить карточный долг, растратил казенные деньги, выдававшиеся на караулы. Его судили, приговорили к смертной казни, имение забрали в казну. Лишь заступничество графа Разумовского спасло ему жизнь. Долгие годы пришлось бедствовать. Помог Новиков, который поручил разжалованному офицеру переводы французских авторов. Княжнин переводил трагедии Корнеля. Постепенно он и сам стал писать. После успеха «Дидоны» ему возвращено было дворянское звание и капитанский чин. Не возвратили лишь имения. Яков Борисович был женат на дочери Сумарокова, весьма гордившейся своим происхождением. Екатерина Александровна писала стихи и читала их почтительно выслушивающим гостям.
Княжнин ревниво относился к своей славе и весьма холодно к чужим успехам. Екатерина Александровна, встретив у Дмитревского Крылова, о котором шла молва, как о начинающем таланте, была возмущена его провинциальными манерами, плебейским поношенным костюмом. Снисходительно помахивая веером, она осведомилась у странного юноши о его литературных занятиях. Крылов сообщил, что для усовершенствования во французском и итальянском перевел несколько комических опер, в том числе «Инфанту из Заморы». «А что вы за это получили?» — насмешливо спросила спесивая барынька. «Мне дали свободный вход в партер», — сухо ответил Крылов. «А сколько раз вы пользовались этим правом?» — «Да раз пять!» — «Дешево же! Нашелся писатель за пять рублей!» — зло рассмеялась Княжнина. Крылов покраснел, но сдержался и промолчал, хотя ему и очень хотелось ее хорошенько отколотить.
Ему были ненавистны эта спесивость людей светского круга, эти самовлюбленные, взбалмошные барыньки, бесцеремонно рассуждающие о литературе. Раздражение и гнев, наконец, нашли выход в замысле новой комедии. Он усиленно работал над ней, словно желая поскорее бросить вызов окружающему обществу. Свою комедию он язвительно назвал «Проказники», а главными героями ее сделал бесцеремонную, легкомысленную барыньку — Таратору, мучающую окружающих своими стихами, и ее мужа — Рифмокрада, обкрадывающего знаменитых писателей для сочинения своих бездарных трагедий.
При всем внешнем лоске и образованности Таратора, по сути дела, мало чем отличается от крепостницы Простаковой, увековеченной в комедии Фонвизина. Она также деспотически держит себя в доме, самоуправно всем распоряжается, терзает слуг. Недаром Таратора говорит о себе: «Мне кажется, ничто не может быть глупее и смешнее женщины, которая не умеет своих людей в узде держать. Вы не поверите, как меня все люди боятся, и мне кажется, в каком бы доме я ни была, мне ничего не стоит привести их в страх».
Комедию Крылов начинал со сцены, в которой тщеславная и капризная Таратора сочиняет стихи, а ее парикмахер пытается в это время причесать свою барыню. Однако она, обнаружив, что ее стихи пошли на папильотки, принимается самолично его тузить.
Не менее зло получился образ драматурга-подражателя. Рифмокрад — самовлюбленный графоман, который переделывает на русский лад трагедии Расина и Корнеля. Он целиком на поводу у жены, которая обманывает его с домашним лекарем Ланцетиным. Рифмокрад сам раскрывает секрет своего творчества в монологе о том, как надо сочинять стихи: «Сочинять стихи, а особливо трагедии, есть вещь довольно трудная. Для нее оставил я попечение о доме, о жене, о детях и, кажется, с помощью Расина и прочих пишу не хуже других».
Не менее злой карикатурой на современных «сочинителей» являлся бездарный стихотворец Тянислов, который готов писать на любую тему, в любом роде. Удачно получился наивный провинциальный помещик Азбукин, слепо верящий в баснословные выдумки сочинителей, и его сестрица княжна Тройкина, пустая столичная барынька под стать Тараторе. Однако наряду с этими взятыми из жизни фигурами Крылов, отдавая дань традиции, включил в свою комедию и романическую историю Прияты с не менее условным женихом ее — Милоном. Вопреки стараниям Тараторы выдать Прияту за Тянислова влюбленная пара благополучно, с помощью служанки Плутаны, соединяется согласно обязательному трафарету тогдашних комедий.
Но не в сюжете и не в романических перипетиях комедии было дело. В «Проказниках» явственны отклики на литературные нравы того времени, подлинные жизненные впечатления автора. Современники узнавали в Рифмокраде и Тараторе, хотя и в карикатурном преувеличении, Княжнина и его супругу, даже подробности их домашней жизни. В своей запальчивости Крылов был несправедлив. Я. Б. Княжнин, конечно же, не являлся слепым подражателем, и свидетельством тому его тираноборческая трагедия «Вадим Новгородский», вызвавшая гнев Екатерины. Княжнин много сделал для русского театра. Но так или иначе, а слухи о новой комедии, в которой сочинитель осмелился выставить на посмеяние столь почтенные и известные лица столицы, распространились по городу с необыкновенной быстротой.
Слухи росли и множились. И, наконец, дошли до Княжниных, возбудив в них обиду и негодование. А Крылов с невинным видом предложил свою комедию театральной дирекции для постановки на сцене. Узнав об этом, Княжнин явился к Соймонову и потребовал запретить комедию, а ее автора подвергнуть суровому наказанию.
Соймонов был крайне недоволен разыгравшимся скандалом. Искушенный в придворных интригах вельможа, он боялся лишних недоразумений и хлопот, а тем паче открытого скандала. Тем более что Княжнин являлся заслуженным, популярным автором, его пьесы шли на театре. Как быть? Сразу же запретить комедию и наказать ее автора? Но ведь тогда слухи только подтвердятся и скандал неминуем. Может этой историей заинтересоваться и сама императрица. Соймонов предпочел иной выход: оставить все в тайне. Он запер рукопись Крылова в шкаф, а дерзкому автору решил не давать хода. Крылову так и не заплатили денег за уже принятые пьесы, не поставили их на сцене и даже лишили его права бесплатного посещения театра. Старик итальянец Казаччи, театральный администратор, после долгих разговоров допустил его лишь на полтинничные места в парадизе.
Крылов был взбешен. Он еще покажет этим тщеславным вельможам, напыщенным стихотворцам, взбалмошным барынькам, которые всячески стараются его унизить! В их руках власть, деньги, театр. Они боятся допустить в него талантливого человека. Хотят, чтобы он смешил и ублажал знатных бездельников, отнюдь не задевая их самолюбия. Нет, борьба еще не кончена! И Крылов просидел всю ночь за конторкой при тусклом свете свечи, сочиняя письма, полные беспощадной иронии и яда, в которых с гневом обличал своих недругов и гонителей. Наконец к утру письма были готовы. Одно адресовано Княжнину, другое — Соймонову. Оставалось переписать несколько копий и разослать их влиятельным в городе лицам.
«Милостивый государь Яков Борисович! — обращался он с подчеркнутой вежливостью к Княжнину. — К немалому моему огорчению услышал я от Ивана Афанасьевича г. Дмитревского, что вы укоряете меня в сочинении на вас комедии, а его в согласии в сем со мною, и будто я сам сказывал, что он сию комедию переправлял, в чем, пишете вы, и уличить меня можно. Я удивляюсь, государь мой, что вы, а не другой кто, вооружаетесь на комедию, которую я пишу на пороки, и почитаете критикою своего дома толпу развращенных людей, описываемых мною, и не нахожу сам никакого сходства между ею и вашим семейством».
Отрицая это сходство, Крылов в то же время с едким сарказмом пересказывает содержание комедии, терзая Княжнина намеками на самые болезненные обстоятельства его писательской деятельности и семейной жизни: «В муже вывожу я зараженного собою парнасского шалуна, который, выкрадывая лоскутия из французских и из италианских авторов, выдает за свои сочинения и который своими колкими и двоесмысленными учтивостями восхищает дураков и обижает честных людей. Признаюсь, что сей характер учтивого гордеца и бездельника, не предвидя вашего гнева, старался рисовать столько, сколько дозволяет мне слабое мое перо, и если вы за то сердитесь, то я с христианским чистосердечием прошу у вас прощенья! В жене показываю развращенную кокетку, украшающую голову мужа своего известным вам головным убором, которая, восхищаяся моральными достоинствами своего супруга, не пренебрегает и физических дарований в прочих мужчинах. Действующее лицо их дочери и ее жениха есть любовники, которым старался я дать благородные чувства. Вы видите, есть ли хотя одна черта, схожая с вашим домом».
Заканчивая письмо, Крылов с той же лукавой издевкой вновь отводил от себя обвинение в портретном сходстве героев комедии с Княжниным и его женою, подчеркивая, что целью комедии были не конкретные лица, а пороки, свойственные обществу: «Вам известно, я думаю, что предмет комедии есть осмеивать пороки, а не достоинства, и для того одни порочные должны ее страшиться и ненавидеть, а вы на меня сердитесь! Поверьте, что вас обидел не я, описывая негодный дом, который от трактира только разнится тем, что на нем нет вывески, но обидели те, кои сказали, что это — картина вашего дома».
Второе письмо, Соймонову, написал Крылов с той же неудержимой яростью при внешне вежливом тоне. В лице Соймонова он бросал вызов всей придворной знати, всему светскому обществу, которое чувствовало враждебность к себе молодого плебея и отказывалось принять его в свою среду.
«Ваше Превосходительство, милостивый государь! — так начинал письмо к Соймонову Крылов. — И последний подлец, каков только может быть, Ваше Превосходительство, огорчился бы поступками, которые сношу я от театра. Итак, простите мне, что я, имея благородную душу, осмеливаюсь покорнейше просить, чтобы удостоили открыть мне причину, которая привлекает на меня ваш гнев, толико бедственный для моих сочинений?» И Крылов перечислил все свои обманутые ожидания и несправедливости, которым он подвергался. «Бешеная семья» и «Сочинитель в прихожей», принятые Соймоновым к постановке в театре, так и не были поставлены. За свои комедии и перевод «Инфанты из Заморы» он не получил ни гроша! Даже билет на пропуск в театр у него отобран. Он зло иронизирует над «тонким вкусом» «его превосходительства», который заставил его переводить «Инфанту», глупейшую и бездарную стряпню. Он негодует, что Соймонов чинит препятствия постановке его новой оперы «Американцы», музыку к которой сочинил талантливый композитор Фомин. Он высмеивает опасения Соймонова в том, что принесение американскими индейцами в жертву европейцев может «револьтировать» зрителей — настроить их против угнетателей.
Крылов язвительно писал Соймонову, что он сделал по его указанию изменения в своей опере, и тем не менее она была запрещена после шести месяцев безрезультатных хождений к «его превосходительству». Это отрицательное отношение к своим пьесам Крылов усматривает в личной неприязни к себе Соймонова и прежде всего в его недовольстве комедией «Проказники», первоначально разрешенной им к печати и постановке: «Однако ж еще не осмеливался я подумать, чтобы я был, а не сочинения мои причиною вашего гнева, и для того имел честь быть у вас, доложил я вам, не угодно ли вам будет принять на театр комедию мою „Проказники“, которая уже у вас некогда была, и вы мне дозволили ее напечатать, когда я находился под вашим начальством; а как вы мне сказали, что вы не помните сей комедии, и я вам донес, что она написана на рогоносца, на которую столько вооружался г. Княжнин, то вы мне изволили отвечать, что вы не приемлете личности».
Это был разрыв. Вернее, война, которую начал сам Крылов. Его письма получили известность. Их читали за кулисами театра, в гостиных, в скромных актерских квартирках. Одни с сочувствием, другие с негодованием, третьи с ядовитой усмешкой. С театром теперь покончено. Рассчитывать на то, что Соймонов когда-либо пропустит на сцену пьесы Крылова, не приходилось. Более того, он стал притеснять дерзкого комедиографа и по службе в Горном кабинете. Крылову пришлось уволиться оттуда «за болезнию».
Вновь наступили тяжелые времена. Хорошо хоть, что не пришлось всего этого пережить Марии Алексеевне. Она незадолго до всех этих событий тихо скончалась. Крылов остался один с маленьким Левушкой.
Он уже не был угловатым, неловким Ванюшей, каким приехал в Петербург из Твери. Стал Иваном Андреевичем, подающим надежды писателем-драматургом, узнал превратности столичной жизни. Ему исполнилось только двадцать лет, но жизнь многому его научила. Она показала ему несправедливость общества, в котором знатность происхождения и богатство давали все преимущества одним, тогда как другие, лишенные этого, должны испытывать бедность и унижения. Она показала ему, что ни талант, ни искренность, ни доброта не ценились в этом обществе. Лишь деньги и чины, чины и деньги имеют значение! Перед ними должно смиряться. Но Крылов не смирился. Он вступил в спор с этим обществом. Он осмелился смеяться над ним, не проявив должной осторожности. Он не согласился подчиниться своей участи, добровольно занять уготованное ему скромное место в канцелярии и в литературе. Не стал сочинителем в прихожей! Поэтому его без церемоний выкинули из светских гостиных, из театра, со службы. Надо было начинать все сызнова. Нет, он и теперь не станет на сторону этих праздных, развращенных бездельем тунеядцев. Он останется с теми бедняками, которые работают за кусок хлеба. Он не будет гнаться за чинами, унижая свое человеческое достоинство, а станет неизменно говорить правду, хотя бы это стоило гонений и лишений. В своих стихах он жаловался Фортуне:
Пусть горделивый суетится,
Чтобы чинов, честей добиться;
Пусть ищет случая блистать
Законов строгим наблюденьем,
Рассудком, истиной, ученьем
И на чреду вельможи стать,
Как хочешь, будь ты так исправен,
Бесчисленны труды терпи,
Работай день, и ночь не спи;
Но если для тебя не нравен,
Останешься последним равен:
За правду знатью не любим,
За истину от всех гоним,
Умрешь и беден и бесславен.
Еще не утих шум после ссоры с Соймоновым и Княжниным, как Крылов снова оказался замешанным в громкой истории с женитьбой Сандунова. Он дружил с молодыми актерами — Силою Николаевичем Сандуновым и хорошенькой, черноглазой Лизанькой Федоровой. Лизанька обладала чудесным, звонким и чистым, как хрусталь, голосом. Она была ученицей театрального училища, но уже выступала на эрмитажной сцене. Лизанька нравилась императрице, которая гордилась ее голосом и талантом. В честь появления новой кометы императрица даже переименовала Лизаньку Федорову в Лизаньку Уранову.
Сила Николаевич перешел в петербургский театр из Москвы. Он постепенно вытеснял с первых ролей старевшего Дмитревского. Сын обедневшего грузинского дворянина, Сандунов выделялся среди актеров образованностью и редким комическим талантом. Особенно удавались ему роли ловких, плутоватых слуг, которые он исполнял с большим темпераментом, весело и задорно. Строгие блюстители нравов, правда, считали, что Сандунов играет слишком вольно, позволяя себе двусмысленные намеки и жесты. Сила Николаевич слыл поклонником женской красоты и пользовался немалым успехом у женщин. Лизанька Уранова его совершенно покорила. С пылкостью южанина он отдал ей свое сердце и галантно предложил и руку. Лизанька к этому предложению отнеслась благосклонно.
Но на пути счастливой молодой пары встало неожиданное препятствие. Лизанька привлекла внимание самого всесильного канцлера — графа Безбородки. Граф был еще не стар, но от излишеств, обильной еды, забот обрюзг, отяжелел.
Он не привык к отказам: в его руках были власть и деньги. На его даче в Полюстрове отстроен был специальный гарем для наложниц.
Граф действовал решительно. С верным человеком он прислал Лизаньке шкатулку с брильянтами и стал добиваться свидания. Упорство актрисы, ее отказ от встреч еще более разожгли его страсть. Через директора театра Безбородко прибег к укрощению строптивой. Он настаивал на том, чтобы Лизаньке не давали выигрышных ролей, не посылали за ней экипажа.
Крылов пришел на помощь молодой влюбленной паре. Он написал от имени Лизаньки прошение императрице с просьбой разрешить ей брак с Сандуновым и посоветовал передать эту бумагу во время спектакля.
11 февраля 1791 года на Эрмитажном театре давали комическую оперу «Федул с детьми». Лизанька исполняла в ней роль крестьянской девушки Дуняши. Она спрятала жалобу за корсаж и пропела арию своей героини с подобающей чувствительностью:
Приезжал ко мне детинка
Из Санктпитера сюды:
Он меня красу-девицу
Подговаривал с собой,
Серебром меня дарил,
Он и золотом сулил.
«Поезжай ко мне, Дуняша,
Поезжай», — он говорил…
Тут Лизанька бодро потрясла своей беленькой ручкой и решительно продолжала:
Нет, сударик, не поеду.
* * *
Я советую тебе
Иметь равную себе…
Безбородко, сидевший в ложе на сцене, понял. Ему стало жарко в шелковом камзоле и парике. Пот стекал крупными каплями по его мясистому, одутловатому лицу с большим грушеобразным носом. А Лизанька не унималась. Она пропела арию и, бросившись на колени перед ложей императрицы, протянула ей жалобу. Императрица милостиво взяла из ее рук бумагу и после спектакля позвала в свой кабинет.
Екатерина была возмущена не происками Безбородки. Она легко смотрела на любовные шашни придворных. Ее рассердило то, что Безбородко осмелился покуситься на ее любимицу. Да и вообще граф слишком заважничал: считает, что без него не будет порядка в делах государства. Стал всюду вмешиваться — даже в театральные дела, которые ему не подвластны. Ее гнев обрушился на статс-секретаря Храповицкого и Соймонова, в ведении которых находилось управление театрами.
Храповицкий записал в своем дневнике: «В вечеру играли в Эрмитаже „Федула“, и Лизка подала на нас просьбу. В тот же вечер прислала (Екатерина) записку к Трощинскому, чтоб заготовить указ для увольнения нас от управления театрами. Трощинский в полночь был у меня для совета об указе». На следующее утро Храповицкий меланхолично приписал: «Как встали, спросили Трощинского и подписали у него указы. Мы уволены, а кн. Юсупов — директор».
Через три дня Лизанька была обвенчана с Сандуновым в придворной церкви. Сама императрица благословила молодых и пожаловала им приданое. Крылов мог быть доволен.
Безбородко, однако, не успокоился и продолжал досаждать Сандуновым где и в чем только мог. Борьба была неравной, и вскоре Сандуновы принуждены были перебраться в Москву, подальше от глаз обиженного вельможи.
Сколько благополучен тот, кто, подобно тебе, почтенный Маликульмульк, затворясь в своем кабинете, беседует с искренними своими друзьями, коих у него весьма мало; живет доволен своею участию и не завидует знатным чинам, кои редко бывают сопряжены с истинным достоинством и в коих почти невозможно совершенно исполнять всех нужных добродетелей, потому что в знатных чинах требуется оных великое множество.
Придворная пышность и блеск, процветание торговли и художеств равняли Петербург с богатыми старыми столицами Европы. В нем ключом кипела жизнь. Театральные представления отличались роскошеством и многолюдством, дворцы и дома вельмож поражали великолепием и красотою убранства, нарядные выезды, блестящие парады, пестрые флаги кораблей, развевающиеся над полноводной Невой, — все это радовало глаз, свидетельствовало о могуществе молодой империи.
Читая «Санкт-Петербургские ведомости» за 1789 год, жители столицы могли познакомиться с объявлениями, извещавшими их о веселых празднествах и изысканных кушаньях:
«В будущий четверток, то есть 4 числа сего месяца будут иметь честь Казаци и Дампиери дать на Каменном Театре шестой маскерад, где будет новый контр-танец торжества для взятия Очакова. За вход платят по рублю».
«У мясника Стриовского, живущего на Вознесенской улице под № 430, продаются большие хорошего вкуса колбасы с чесноком и без чесноку, по рублю каждая. Также большие окороки от 30 до 50 фунтов».
На страницах тех же «Ведомостей» можно было прочесть, однако, не менее многочисленные объявления о продаже крепостных или о розыске сбежавших из господской неволи:
«Адмиралтейской коллегии канцелярист Афанасьев продает дворовую девку. О цене оной узнать можно в жительстве его на Петербургской стороне в 6-й улице в приходе Введения».
«Ее Высокопревосходительства Марии Павловны Нарышкиной из Смоленской вотчины Сычевской округи крестьяне, зная за собою очередь рекрутской отдачи и отбыва оной, бежали в исходе прошлого 1788 года не только одни те, кои б следовали в отдачу, но и отцы их с целыми семействами, всего десять семей. Если оные крестьяне найдутся где с фальшивыми видами и будут объявлять себя выходцами из-за границы, то им не верить и, задержав, доставить указною пересылкою за караулом».
Тут же рядом для общего сведения объявлялось:
«Во 2-й Мещанской в доме купца Крешкина под № 384 у инструментного мастера Кунарта продаются ученые пудели, болонские собачки, аглинские виндспили и моськи».
Колбасы, моськи, болонские ученые собачки, крестьянские девки, щегольские коляски, пятидесятифунтовые окорока — все это продавалось и покупалось, все это предназначено было для сытых и богатых людей. Но не для отвергнутого автора, канцеляриста в отставке, не имеющего ни дома, ни денег.
А что же делать ему? Рассчитывать на милость начальства или бескорыстную помощь друзей?
В эту трудную для него минуту Крылова поддержал новый друг — Иван Герасимович Рахманинов, состоятельный помещик Тамбовской губернии, родовитый дворянин. Он служил ротмистром в привилегированном конногвардейском полку, но в 1788 году вышел в отставку и открыл «вольную» типографию, в которой стал печатать журнал «Утренние часы». Рахманинов был одним из участников Общества друзей словесных наук, основанного в Петербурге последователями Новикова. Это общество, руководившееся масонской организацией, отнюдь не являлось полностью масонским. К нему примкнули и многие недовольные существующим порядком вещей, не разделявшие масонских взглядов. Достаточно сказать, что и сам Радищев видел в нем возможность для легальной пропаганды своих идей.
Рахманинов тоже не солидаризировался с масонами. Он был убежденный вольтерьянец, поклонник французских философов-просветителей, прежде всего такого радикального философа и писателя, как Мерсье. Иван Герасимович занимался переводами Вольтера и Мерсье. Он был широко образован и начитан, знал прекрасно французский язык и философию.
Крылов и Рахманинов встретились на собрании Общества друзей словесных наук. Собрание было чинное, торжественное. Произносились длинные речи о моральном совершенствовании, об истинной вере и божественной премудрости. Рахманинов угрюмо молчал, примостившись в стороне от ораторов. Крылов подсел к нему, и слово за слово они нашли общий язык.
Их внимание привлек стройный человек с правильными, красивыми чертами лица. Он так же молчаливо слушал речи выступавших. А когда они, наконец, выговорились, спокойно поднялся с места и заговорил. Он говорил о том, что человек существо свободное, поскольку наделен умом, разумом и свободною волей. Свобода его состоит в избрании лучшего, а лучшее человек избирает посредством разума и стремится всегда к прекрасному и высокому. «Кто это?» — спросил своего соседа Крылов. «Это Александр Николаевич Радищев — начальник таможни, — отвечал Рахманинов. — Учился в Германии и понабрался там всяких идей».
Радищев продолжал говорить, все более воодушевляясь и увлекая слушателей. Он говорил об истинных сынах отечества, которые достойны этого звания. Не тот сын отечества, который простирает объятия свои к захвачению богатства и владений целого отечества своего, а, ежели бы можно было, и целого света. Они готовы отнять у злосчастных соотечественников своих и последние крохи. Истинные сыны отечества те, кто учинили себя мудрыми и человеколюбивыми качествами и поступками! Они всем жертвуют для блага отечества, ибо истинное благородство есть добродетельные поступки, оживотворяемые истинною честию, которая состоит в беспрерывном благотворении роду человеческому, а преимущественно своим соотечественникам.
Радищев кончил, провел рукою по волосам и устало опустился на стул. В зале царила напряженная тишина. Гости стали постепенно расходиться. Крылов вышел вместе с Рахманиновым, взволнованно делясь впечатлениями.
С этого вечера в его лице Крылов приобрел друга и руководителя.
Он стал теперь часто наведываться к Рахманинову, полюбив скупые, язвительные речи хозяина, его кабинет, заставленный книгами. Рахманинов привлек молодого друга к участию в «Утренних часах». За подписью «И. Крылов» в журнале в начале 1789 года появилась ода «Утро».
Крылов впервые выступал как поэт под своей полной фамилией. До этого он еще в 1786 году поместил без подписи в журнале «Лекарство от скуки и забот» несколько альбомных мелочей.
Порвав с театром, он решил обратиться к поэзии. В его оде было много громких фраз, грандиозных, возвышенных образов, она казалась искусственной, изготовленной по литературным образцам того времени:
Заря торжественной десницей
Снимает с неба темный кров
И сыплет бисер с багряницей
Пред освятителем миров.
Врата, хаосом вознесенны,
Рукою время потрясенны,
На вереях своих скрыпят;
И разъяренны кони Феба.
Чрез верх сафирных сводов неба,
Рыгая пламенем, летят.
Рыгающие пламенем кони Феба — хотя и смело сказано, но все же выглядело надуманным; десница, врата, вереи (столбы, на которые навешаны ворота) звучали также чрезмерно по-книжному. Крылову нравилось, что все это казалось очень величественным и торжественным. Но не картины величия природы его привлекали. В своей оде поэт обличал несправедливость, царящую на свете, несправедливость, жертвой которой он только что стал:
Во храме, где, копая гробы,
Покрывши пеною уста,
Кривя весы по воле злобы,
Дает законы клевета;
И ризой правды покровенна,
Честей на троне вознесенна,
Ласкает лютого жреца,
Он златом правду оценяет,
Невинность робку утесняет
И мучит варварством сердца.
Правда, намеки на злобу, на утесняющих «невинность», на клевету оставались слишком неопределенны и туманны. Трудно было догадаться, что «во храме, где, копая гробы» означало попросту — в суде. Одно ясно было, что поэт всемерно сочувствует «несчастным человекам», видимо причисляя к ним и себя.
В общем эта ода не выделялась среди других подобных од тогдашних стихотворцев. Крылов и сам понимал это. Нет, не в высоких жанрах его призвание. Трагедия и ода не его путь. Его оружие — сатира. Недаром его комедии возбудили такой шум, обиды, кривотолки, недовольство.
Из всех стихотворных видов его привлек жанр басни. В басне можно под видом описания нравов сказочных зверей весьма недвусмысленно говорить о людях, высмеять несносных гордецов, напыщенных глупцов, алчных корыстолюбцев. Он вспомнил басни Эзопа, которые читал в детстве, свои первые опыты перевода французского фабулиста Лафонтена. Его перевод басни Лафонтена одобрил когда-то Бецкой. Да, это его, Крылова, дело! И он написал несколько басен, которые Рахманинов напечатал в «Утренних часах» без подписи. Правда, это были не столько басни, сколько злые эпиграммы на злополучных игроков. В басне «Стыдливый игрок» он рассказал о легкомысленном молодце, проигравшем платье и вынужденном идти без него по улице. В другой басне, «Судьба игроков», Крылов иронически рассуждает о коловратности счастья:
Вчерась приятеля в карете видел я,
Бедняк приятель мой, я очень удивился,
Чем столько он разжился?
А он поведал мне всю правду, не тая,
Что картами себе именье он доставил
И выше всех наук игру картежну ставил.
Сегодня же пешком попался мне мой друг.
«Конечно, — я сказал, — спустил уж все ты с рук?»
А он, как философ, гласил в своем ответе:
«Ты знаешь, колесом вертится всё на свете».
Да, на свете все вертелось колесом. Успехи на театре, ссора с Соймоновым, бедственное положение, в котором он сейчас оказался. Спасибо, что свет не без добрых людей и его приветил и поддержал в трудную минуту Рахманинов!
Помимо басен, Крылов, видимо, анонимно поместил в журнале несколько сатирических заметок, наиболее интересная из них — «Роднябар», где дан меткий сатирический портрет светского бездельника.
Угрюмый, несловоохотливый Рахманинов оказался на редкость отзывчивым человеком. Ему нравился дерзкий увалень, который не побоялся выступить против могущественных вельмож. Нравились природный ум Крылова, упорство, находчивость, жизненная энергия. Иван Герасимович давал ему для чтения книжки своих любимых философов Вольтера, Руссо, Мерсье, Декарта, Гельвеция, Дидро, Монтескье.
Вскоре Крылов стал незаменимым помощником Рахманинова, даже изучил типографское дело.
Рахманинов намеревался осуществить мечту своей жизни — издать полное собрание сочинений Вольтера. Оно должно было состоять из двадцати томов и включать как все уже переведенные произведения, так и новые, над переводом которых Рахманинов работал. Собственная типография давала возможность обойти многие цензурные и материальные препоны.
Вечерами Крылов сидел за кучами французских книг. Читал запоем. Изредка ходил на собрания Общества друзей словесных наук. Там по-прежнему чинно спорили и обсуждали статьи нравственного и философского содержания. Все говорили о необходимости духовного перевоспитания, о поисках истины, о пользе нравственной науки. Радищева среди «друзей» Крылов больше не встречал. Утомительные споры о главнейших обязанностях человека, о вечности души человеческой, о союзе естественного права с естественным богословием Крылову казались скучными и ненужными. Гораздо больше сочувствия вызывало в нем скептическое «вольтерианство» Рахманинова.
Через много лет Крылов, вспоминая о Рахманинове, говорил Жихареву: «Он был очень начитан, сам много переводил и мог назваться по тому времени очень хорошим литератором. Рахманинов был гораздо старее нас, и, однако ж, мы были с ним друзьями; он даже содействовал нам в заведении типографии и дал нам слово участвовать в издании нашего журнала… но по обстоятельствам своим должен был вскоре уехать в тамбовскую деревню. Мы очень любили его, хотя, правду сказать, он и не имел большой привлекательности в обращении: был угрюм, упрям и настойчив в своих мнениях. Вольтер и современные ему философы были его божествами».
Крылов познакомился с Державиным. Гаврила Романович находился не у дел. Служа губернатором в Тамбове, он по клеветническим доносам тамошних чиновников был отдан под суд сенатской комиссии. И хотя комиссия оправдала его, Екатерина не спешила привлечь поэта к государственной службе.
Крылова привел к бывшему губернатору Иван Иванович Дмитриев, подающий надежды поэт, также сотрудничавший в «Утренних часах», где он напечатал басню «Червонец и Полушка», очень нравившуюся Крылову.
Они застали Гаврилу Романовича в спальном колпаке и в атласном голубом халате. Его супруга, миловидная Екатерина Яковлевна, сидела в креслах в утреннем белом платье, и парикмахер завивал ей волосы. Державин говорил отрывисто, часто задумывался или стоял неподвижно у окна, вглядываясь в небо. Дмитриев почтительно спросил Державина, о чем тот думает. «Любуюсь вечерними облаками», — отвечал поэт и стал читать стихи, только что сложившиеся в его голове:
Лазурны тучи, краезлаты,
Блистающи рубином сквозь,
Как испещренный флот богатый,
Стремятся по эфиру вкось.
«Утренние часы» не имели определенной линии. Наряду с сатирическими заметками и переводами из Мерсье там печатались статьи благонамеренно-нравоучительного характера и переводы из сборников анекдотов. Крылов решил издавать самостоятельно сатирический журнал, в котором мог бы высказать свои взгляды, свое осуждение существующих порядков. Этот журнал он назвал «Почта духов».
В декабре 1788 года в «Московских ведомостях» появилось объявление:
«В книжных лавках близ Кузнецкого моста у книгопродавца Зандмарка и на Покровке у книгопродавца Миллера принимается подписка на выходящее вновь с генваря месяца сего 1789 года ежемесячное издание под заглавием „Почта духов, или ученая, нравственная и критическая переписка арабского философа Маликульмулька с водяными, воздушными и подземными духами“. Издатель оного в объявлении своем уведомляет, что он служит секретарем у сего недавно приехавшего сюда арабского волшебника, имеющего великое отвращение к бешеным домам и расположившегося несколько времени пожить здесь
Свой журнал Крылов начинал издавать при помощи Рахманинова, который обеспечил его типографией, бумагой и деньгами на первоначальные расходы. Кроме того, он помогал советами, материалами.
«Почта духов» ничем не напоминала благонамеренные, бесцветные журналы того времени вроде «Лекарства от скуки и забот» и даже «Утренних часов». Крылов возродил сатирическую традицию журналов Новикова «Живописца» и «Трутня», смело обличая в «Почте духов» несправедливость и безобразие всего общественного строя. Образцом для него послужил сатирический журнал «Адская почта», издававшийся за двадцать лет до того Ф. Эминым. Журнал Эмина также выходил в форме переписки двух «бесов» — Кривого и Хромоногого. У Крылова авторами писем были духи. Эти духи невидимо проникали повсюду и сообщали свои наблюдения Маликульмульку. Не будучи искушены в человеческих делах, они рассказывали обо всем, что видели, с наивной обстоятельностью и простодушным удивлением. Их поражали нравы людей: их развращенность, эгоизм, несправедливость. Через все письма «Почты духов» проходит история светского вертопраха — графа Припрыжкина, которую рассказывает гном Буристон. А другой гном — Вестодав описывает события в подземном царстве Плутона, где жена его, Прозерпина, решила ввести с помощью танцовщика Фурбиния такие же порядки, как на земле. Поэтому и в царстве теней водворяются те же несправедливость, развращенность нравов, чинопочитание, что и среди живых.
Это был журнал одного автора. Автор являлся в то же время издателем. Работы оказалось бесконечно много. Крылов, все время отдавая журналу, нередко за подготовкой очередного выпуска просиживал напролет ночи. Ведь теперь он получил возможность сказать то, что думал, что накопилось за годы неравной борьбы со светским обществом.
«Бедность есть такая вещь, которая всего способнее может произвести философов», — говорит Крылов в одном из писем «Почты духов». И он сделался философом, секретарем премудрого Маликульмулька. Он на стороне бедняков и против богачей, вельмож, неправедных судей, бесчестных чиновников.
В письме гнома Буристона он рассказывает о том, как художник, доведенный голодом до отчаяния, вытащил из кармана богатого купца носовой платок и был приведен купцом в суд. Невзирая на оправдания бедняка, судьи приговаривают его к повешению, так как они спешат к обеду и им недосуг выслушивать несчастного. «Чтоб ты оправдался, — сказал один из них, смотря на солнце, — да знаешь ли ты, что уже теперь полдень и что тебя скорее можно повесить, нежели выслушивать твои оправдания…» Лишь приход богато одетого господина спас художника от казни. Богач выкупил его, так как пожелал размалевать паркет в своей прихожей. На расспросы Буристона, кто же такой этот богач, ему ответили, что это важный преступник, который вот уже лет двадцать судится за хищения и грабительство: «он покрал из государственной казны несколько миллионов в золоте и серебре и разграбил целую врученную ему область». Однако этот опасный преступник пользуется всеобщим уважением и судьи кланяются ему чуть ли не в пояс! И таких рассказов и картин немало в «Почте духов».
Вместе с передовыми умами той эпохи Крылов решительно выступал против сословного неравенства. Он стоял за тех, кто своим трудом способствует преуспеянию государства. «Рассматривая с великим прилежанием, почтенный Маликульмульк, — говорится в одном из писем, — различные склонности людей и не последуя предрассудкам, никогда не верю тем обманчивым видам, кои, подобно мишурным позументам, издали блестят, как настоящее золото; но коль скоро станешь его рассматривать вблизи, то оное совсем теряет свою цену и достоинство. Я почитаю в людях одну только мудрость и добродетель, и под какими бы видами оные мне ни представлялись, я всегда равное имею к ним уважение. Мещанин добродетельный и честный крестьянин, преисполненный добросердечием, для меня во сто раз драгоценнее дворянина, счисляющего в своем роде до 30 дворянских колен, но не имеющего никаких достоинств, кроме того счастия, что родился от благородных родителей, которые так же, может быть, не более его принесли пользы своему отечеству, как только умножали число бесплодных ветвей своего родословного дерева».
Это было смелым выступлением. Крылов давал отпор претензиям дворянства на господствующее положение в государстве. Он прямо говорил, что «Ежели бы кто захотел рассматривать начало многих фамилий, славящихся своей древностию, то увидел бы с удивлением, что сия знаменитость, столь много в них уважаемая, не имеет других себе оснований, как токмо благосклонность министра или его любовницы, или иногда заплачение за пергаментовый лист великой суммы денег, приобретенной чрез грабление вдов и сирот, и тем учинилась блистательною, так что пользующиеся оною не более в том имели участия, как и в славе Великого Могола или в победах царя Пегуского[10]».
Не менее дерзко осуждал Крылов в «Почте духов» деспотизм и жестокость монархов и их ставленников, разоряющих для своего обогащения и из тщеславия целые народы. В письме, озаглавленном «Рассуждение о некоторых государях и министрах», говорится: «Львы и тигры менее причиняли вреда людям, нежели некоторые государи и их министры… Бросался ли когда лев, возбужденный величайшим гладом, на подобного себе льва и раздирал ли его на части для утоления своего голода? Напротив того, ежедневно почти видим мы людей, которые для удовлетворения своего тщеславия, гордости или корыстолюбия жертвуют подобными себе людьми без малейшего угрызения совести».
В «Почте духов» проходит длинная вереница мздоимцев и хищников, казнокрадов и взяточников, неправедных судей и глупых вельмож, аристократических вертопрахов и распутных светских красавиц, хапуг чиновников и бездарных стихоплетов, алчных откупщиков и плутоватых купцов. Это пестрая панорама тогдашней жизни в ее самых разнообразных социальных проявлениях. Правда, образы и типы, выведенные Крыловым, еще односторонни, нарисованы несколькими резкими чертами в духе новиковских журналов. Но сатира «Почты духов» далеко выходила за границы морального осуждения нравов и обличения их испорченности. Широта охвата социальных явлений, резкая непримиримость по адресу вельмож и правителей делали крыловскую сатиру политически направленной.
Крылов решительно возвышал голос против монархов, которые во имя своих властолюбивых планов подвергали народы опасностям и бедствиям войны: «Область, опустошенная тщеславным победителем — говорил он в одном из писем, — не должна ли почитать его чудовищем, рожденным для погибели рода человеческого? Кто дал право человеку убивать миллион подобных себе людей для удовлетворения своих пристрастий? В каком установлении естественного закона можно найти, что множество людей должны принесены быть в жертву тщеславию или, лучше сказать, бешенству одного человека».
В этой горячей отповеди деспотизму монархов и затеваемым ими завоевательным войнам Крылов выступал сторонником естественного права, последователем философов-просветителей, подготовивших Великую французскую революцию.
Издатель «Почты духов» во многом перекликался здесь с Радищевым. Но в отличие от этого приверженца революционных идей Крылов еще питал иллюзии о благотворной роли просвещенного монарха, стоящего на страже справедливости и закона. В одном из последних писем «Почты духов», написанном от имени сильфа Выспрепара, Крылов намечал облик такого просвещенного правителя, который вопреки придворному окружению руководится советами философа-«мизантропа». Однако Крылов не очень-то верил, что подобному «мизантропу» сколько-нибудь значительное время удастся влиять на своего государя. Он дает уничтожающее описание придворной знати, окружающей юного государя, которая настойчиво цепляется за свои привилегии и власть, вымогает новые льготы и чины. В этом едком изображении придворных нравов Крылов, несомненно, имел в виду тщеславие Екатерины II, столь падкой на лесть и беззастенчиво насаждавшей фаворитизм.
В год выхода «Почты духов» из Франции стали доходить волнующие вести. 14 июля 1789 года народ Парижа вооружился и взял штурмом Бастилию, крепость-тюрьму, воздвигнутую в центре города. С падением Бастилии пошатнулся трон Бурбонов, наступил новый этап истории. Пламя революции озарило всю Европу. Его отсветы дошли и до невских берегов. О революции во Франции говорили в гостиных, шептались во дворце, спорили на улицах, купцы и сидельцы в лавках с опаской передавали друг другу новости. Одни говорили о взятии Бастилии с восторгом, другие с осуждением, третьи со страхом. На улицах появились молодые люди с преогромными дубинками, во фраках последней моды, с пунцовыми шейными платками и в круглых шляпах. В газетах регулярно печатались сообщения о событиях во Франции.
В сообщении из Парижа от 24 августа, помещенном в «Санкт-Петербургских ведомостях», была опубликована Декларация прав человека, принятая Народным собранием. В этой декларации, ставшей новой конституцией Франции, заявлялось:
«I. Все люди рождаются вольными и в совершенном рассуждении Прав равенства; различия же долженствуют быть основаны на единой токмо общей пользе.
II. Всякое Общество обязано иметь главным предметом бытия своего соблюдение естественных и забвению не подлежащих Прав Человека. Права сии суть: „Вольность, Собственность, Безопасность и Противуборство угнетению“.
III. Всякая Верховная Власть имеет основание свое в Народе; и никакое Общество властительствовать не может, не заимствуя Власти от Народа.
IV. Вольность состоит в том, чтобы самопроизвольно делать все то, что другому вреда не наносит. Следовательно, произведение в действо естественных Прав всякого Человека не имеет никаких других пределов, кроме тех, которые прочих людей в свободном употреблении таковых же прав обеспечивают. Пределы сии могут быть назначаемы одними только Законами».
Крылов мог быть доволен. Многое из того, что он думал и пытался по мере возможности сказать в «Почте духов», нашло свое подтверждение в этой декларации.
События между тем нарастали. Французский народ явно выходил из подчинения и сметал на своем пути не только сословные барьеры, но и казавшиеся незыблемыми устои монархического режима. Екатерина II с самого начала революционных событий во Франции со страхом и ненавистью следила за ростом угрозы королевскому трону. С возмущением говорила она окружающим об ужасах «царства народа», «царства самого ужасного из тиранов, царства черни». Императрица боялась, как бы французская «зараза» не перекинулась на русскую землю. Пугачевщина была ей еще памятна. У нее даже родился план европейской монархической интервенции против своевольной Франции.
Революция во Франции невольно наталкивала на мысль о положении в России, о противоречии «естественных законов» самодержавно-крепостническому режиму. Радищев в это время готовил к печати свое «Путешествие из Петербурга в Москву» — книгу, полную гнева и революционного дерзания. Крыловская «Почта духов» также высказывала опасные идеи. В августовском номере журнала, вышедшем в разгар революционных событий во Франции, Крылов поместил письмо «К Эмпедоклу от волшебника Маликульмулька». В этом письме он вновь выступил с резкой критикой «нынешнего века людей», против несправедливого устройства общества, основанного на порабощении человека, развращающем его морально. Подобно французским просветителям, чьи идеи подготовили шквал революции, он писал: «Развратность нынешнего века людей, любезный Эмпедокл, столь приметна, что оная разве только быть может неизвестна в пустынях или в самых отдаленнейших скитах; но человек, живущий в свете, против воли своей познает их пороки… Вся история дел человеческих, от самого начала света, наполнена злодеяниями, изменами, похищениями, войнами и смертоубийствами».
Это письмо оказалось последним. На нем «Почта духов» прекратилась. Мы не знаем подробностей о ее внезапном конце. Но можно не сомневаться, что Екатерина, обеспокоенная революционным взрывом во Франции, усмотрела в журнале Крылова опасную пропаганду просветительских идей и приняла меры для прекращения столь крамольного издания.
Необходимо было что-то сделать, чтобы обезопасить себя от возможных неприятностей. Для непокладистого, свободомыслящего журналиста, смелого, даже дерзкого сатирика пойти на поклон к императрице казалось мучительно трудным. Правда, Крылов еще сохранял иллюзии, что государыня с высоты трона может облегчить положение народа и установить справедливость: вести о французской революции пугали его кровавыми жертвами, грозными призывами к гражданской войне. Крылову казалось, что достаточно строгого соблюдения законов для того, чтобы народ смог жить лучше. Он верил в просвещенного монарха, стоящего над интересами разных сословий.
3 августа 1790 года русская армия и флот положили конец войне со Швецией, которая начата была шведами около двух лет тому назад. Мир со Швецией вызвал всеобщее ликование. Екатерина ознаменовала его празднествами с фейерверками и народными гуляниями. Крылов вместе со всеми радовался миру. Это давало предлог для обращения к Екатерине. И он печатает в типографии спешно сочиненную им оду под официальным заглавием, принятым в те времена: «Ода Всепресветлейшей, Державнейшей Великой Государыне Императрице Екатерине Алексеевне Самодержице Всероссийской на заключение мира России со Швецией, которую всеподданнейше приносит Иван Крылов 1790 августа дня».
В этой оде Крылов прославлял мир, наступивший после «громов разъяренных» и «тьмы, подобной тьме геенны». Приписывая Екатерине заслугу в заключении мира, Крылов в то же время пользовался случаем, чтобы направить ее на истинный путь, указать, каким должен быть просвещенный монарх, желающий добра своим подданным:
О, сколь блаженны те державы,
Где, к подданным храня любовь,
Монархи в том лишь ищут славы,
Чтоб, как свою, щадить их кровь!
Народ в царе отца там видит,
Где царь раздоры ненавидит;
Законы дав, хранит их сам.
Там златом ябеда не блещет,
Там слабый сильных не трепещет,
Там трон подобен небесам.
То ли Екатерине не понравилось поучение неведомого ей пиита, то ли слишком уж дерзкой казалась «Почта духов», но, вопреки надеждам Крылова, никакого положительного результата его ода не дала. Журнал был прикрыт, его редактор оказался вынужден оставить на время занятия литературой.
1790 год выдался особенно тревожным. Несмотря на полицейские и цензурные рогатки, вести из Франции продолжали проникать в Россию. В газетах печатались отчеты о выступлениях депутатов в Национальном собрании, о волнениях «черни», требовавшей уничтожения монархии.
В мае вышла книга Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву», без обозначения его авторства. Всего успело разойтись немногим более полусотни экземпляров, но раздавшийся со страниц книги революционный призыв, смелая, беспощадная картина губительности власти самодержавия и помещиков-крепостников вызвали широкий отклик.
Могучим набатом свободы прозвучала ода «Вольность», включенная писателем в книгу:
О, дар небес благословенный,
Источник всех великих дел.
О, вольность, вольность, дар бесценный!
Позволь, чтоб раб тебя воспел.
Исполни сердце твоим жаром,
В нем сильных мышц твоих ударом
Во свет тьму рабства претвори,
Да Брут и Телль еще проснутся,
Седяй во власти, да смятутся
От гласа твоего цари.
Вести о появлении мятежной книги очень скоро дошли до императрицы. Автор был обнаружен и арестован. Напуганная Екатерина заявила своему секретарю Храповицкому, что Радищев — «бунтовщик хуже Пугачева». Императрица испещрила страницы «Путешествия» гневными замечаниями, найдя, что «все сие… клонится к возмущению крестьян противу помещиков, войск противу начальства».
«Исследование» о сочинителе поручено было кнутобойце Шешковскому, и Радищева приговорили к смертной казни, которую императрица «милостиво» заменила ссылкой в далекий сибирский острог.
Дело Радищева всколыхнуло всю передовую Россию. Крылов был потрясен случившимся. Судьба Радищева служила для него предостережением. Выступать прямо с критикой существующего режима стало не только опасно, но просто невозможно. Все правительственные, полицейские, цензурные органы только и следили за тем, чтобы в печати или даже в частных разговорах не проявились крамольные мысли или дерзкие выражения. Даже жалоба на плохие дороги стала рассматриваться как государственное преступление. Атмосфера полицейской слежки, террора, подозрительности, страха давила свинцовой тяжестью.
Рахманинов ходил хмурый и молчаливый. И раньше скупой на слова, он теперь целыми днями молчал и незаметно устраивал свои дела, подготовляясь к отъезду из столицы. Он решил перебраться в тамбовское имение Казинку и там, вдали от глаз правительственных соглядатаев, организовать домашнюю типографию для издания сочинений Вольтера. Свою петербургскую типографию, в которой раньше печаталась «Почта духов», Рахманинов оставлял Крылову.
Теперь в типографии печатались театральные афиши и билеты, официальные извещения, развлекательные, безобидные книжки. Крылов томился без настоящего дела. Именно тогда, когда всюду происходили события первостепенной важности, он должен оставаться в стороне, пережидать, не высовывать носа!
Единственным утешением были встречи и беседы с друзьями. Старик Дмитревский, громогласный великан Плавильщиков его не забывали. К их компании присоединился еще один начинающий автор — Клушин.
Сын бедняка чиновника, служившего подканцеляристом в городе Ливны, Клушин получил образование в Ливенском уездном училище, а затем определился в Смоленский пехотный полк. В 1790 году он вышел в отставку в чине подпоручика и появился в Петербурге. Человек острого ума, начитанный во французской просветительской литературе, Александр Иванович Клушин слыл ярым безбожником и опасным вольнодумцем. Он был на шесть лет старше Крылова и многое повидал в жизни. Они встречались у Дмитревского, у Сандуновых, в типографии. Крылову нравился задорный и злой на язык приятель. С отъездом Рахманинова их отношения стали еще более тесными. Типография помещалась в доме Бецкого около Летнего сада, в том самом доме, в котором Крылов когда-то посетил престарелого вельможу. Там в маленькой комнатке сходились друзья и часами спорили и болтали. Заходил сюда и Дмитревский. Иван Афанасьевич сильно постарел, но по-прежнему был подчеркнуто вежлив и безукоризненно одет. Он руководил теперь подготовкой молодых актеров и редко сам выступал на театре. С ним вместе появлялся Плавильщиков, заполняя маленькую комнатку своей громоздкой фигурой и могучим голосом.
После долгих бесед друзья решили создать типографическую компанию на паях для печатания книг и открыть собственную книжную лавку. Для одного Крылова, не имевшего никаких средств, это предприятие было непосильным. Их начинание вдохновлялось замечательным примером Новикова, который в 1784 году организовал в Москве знаменитую «Типографическую компанию», ставшую крупнейшим книгоиздательским и книготорговым предприятием.
8 декабря 1791 года Крылов, Дмитревский, Клушин и Плавильщиков заключили товарищеский договор:
«ЗАКОНЫ, НА КОТОРЫХ ОСНОВАНО ЗАВЕДЕНИЕ ТИПОГРАФИИ И КНИЖНОЙ ЛАВКИ
1. Для заведения типографии положить по равной части тысячу рублей.
2. Два года в типографии членам не делать никакого раздела, а каждый должен стараться, по возможности, исполнять все то, что может относиться к должности фактора, корректора и тому подобных, и все таковые труды разделить между собою, и если бы случилось кому что-то сделать и за другого, в том никакого расчета не делать, ибо сие общество основывается на законах истинного дружества.
3. При сей типографии иметь лавку, на основании городского права».
Далее следовали пункты о материальных нуждах и расходах типографии и лавки, о найме для этого особого помещения, о том, что в случае желания кого-либо из членов уйти из общества, тот должен уведомить своих сотоварищей об этом за год, о работе товарищества в случае отъезда какого-либо его члена.
Итак, типографское товарищество было основано. На книгах, печатавшихся в типографии, указывалось: «Типография И. Крылова с товарищи». Это было справедливо, ибо другие «товарищи» лишь время от времени заходили в типографию поболтать, а Крылов вел все предприятие, принимал заказы, приобретал бумагу, имел дело с рабочими.
Сумму пая в типографию Крылов и Клушин не смогли сразу выплатить полностью. В заведенной пайщиками «Книге приходной на 1792 год» значится: «В декабре, под числом 15-м, Иван Дмитревский положил 250 рублей; под числом 20-м, Петр Плавильщиков положил 250 рублей; Иван Крылов положил 50 рублей; 1792 года, генварь, число 1-е, Александр Клушин положил двадцать пять рублей; число 27, Иван Крылов, положил двести рублей; февраля 15-го, Клушин положил сорок рублей». Та же книга свидетельствует и о весьма скромных доходах типографии, приходившихся в основном за печатание театральных афиш и билетов.
С 1792 года в типографии начал печататься новый журнал «Зритель» и ряд книг. По большей части это были пьесы или занимательные сочинения, такие, как «Приключения Фобласа». Хотя дела по типографии велись самим Крыловым, о чем свидетельствуют записи в «Приходной книге», сделанные его рукой, все-таки книгоиздательские труды не занимали у него всего времени. Нередко друзья собирались в типографии и беззаботно играли в шашки, до которых Иван Андреевич был большой охотник. Крылов жил между Невой и Летним садом в доме де Рибаса, около Зимней канавки, в нижнем этаже. Окна выходили в сад. По вечерам он играл на скрипке так, что слышно было гуляющим, и около его окон останавливались любители музыки. Неподалеку от дома находился канал, омывавший Летний сад. Иван Андреевич по утрам купался в канале вплоть до зимы. В ноябре, когда вода уже покрывалась льдом, он скачком проламывал лед и продолжал купанье до сильных морозов.
В отличие от «Почты духов» в «Зрителе» сатира занимала меньше места. Это не был уже журнал одного автора. Наряду с издателями журнала — Крыловым, Плавильщиковым и Клушиным — в нем участвовали и другие авторы, выступавшие со стихами, статьями, заметками. Сотрудников «Зрителя» объединяло прежде всего чувство патриотизма, борьба за самостоятельность русской культуры.
Эту позицию с особенной полнотой развивала статья Плавильщикова «Нечто о врожденном свойстве душ российских». Автор резко возражал против обвинений русских в подражании иноземцам: «Если бы российский народ отличался от всех племен земнородных единым только подражанием и никакой другой способности не имел, то чем бы он мог удивить вселенную, которая смотрит на него завистливыми глазами?»
Несмотря на неблагоприятные условия для сатиры и отход журнала от сатирических жанров, Крылов снова дерзнул выступить как сатирик. В «Зрителе» он напечатал свои лучшие сатирические произведения: «Похвальную речь в память моему дедушке» и «Каиб».
В «Похвальной речи в память моему дедушке, говоренной его другом в присутствии его приятелей за чашею пуншу» Крылов достиг той художественной выразительности и того совершенства, которые позволяют причислить «Речь в память моему дедушке» к числу лучших сатирических произведений XVIII века, таких, как «Письма к Фалалею» и «Недоросль» Фонвизина. «Похвальную речь» произносит такой же тугоумный и одичавший крепостник, как и тот, в честь кого она произнесена. Оратор ни на минуту не сомневается в высоких достоинствах своего приятеля, который, гоняясь за зайцами, угораздил упасть с лошади в ров и насмерть разбился. Восторженно выхваляя «дарования» его, панегирист умиляется: «Он показал нам, как должно проживать в неделю благородному человеку то, что две тысячи подвластных ему простолюдинов выработают в год; он знаменитые подавал примеры, как эти две тысячи человек можно пересечь в год раза два-три с пользою; он имел дарование обедать в своих деревнях пышно и роскошно, когда казалось, что в них наблюдался величайший пост, и таким искусством делал гостям своим приятные нечаянности. Так, государи мои, часто бывало, когда приедем мы к нему в деревню обедать, то, видя всех крестьян его бледных, умирающих с голоду, страшимся сами умереть за его столом голодною смертью; глядя на всякого из них, заключали мы, что на сто верст вокруг его деревень нет ни корки хлеба, ни чахотной курицы. Но какое приятное удивление! Садясь за стол, находили мы богатство, которое, казалось, там было неизвестно, и изобилие, которого тени не было в его владениях. Искуснейшие из нас не постигали, что еще мог он содрать с своих крестьян, и мы принуждены были думать, что он из ничего созидал великолепные свои пиры». Этот тунеядец и бездельник растратил на свои прихоти несколько наследств и пустил по миру или заморил голодом великое множество крепостных, которых он бесчеловечно грабил.
Крылов вновь отстаивал свои антикрепостнические убеждения, защищая мысль о естественном равенстве людей. Тупоголовый крепостник, произносящий свой панегирик, с апломбом заявлял: «Сколько ни бредят философы, что по родословной всего света мы братья, и сколько ни твердят, что все мы дети одного Адама, но благородный человек должен стыдиться такой философии, и если уже необходимо надобно, чтоб наши слуги происходили от Адама, то мы лучше согласимся признать нашим праотцем осла, нежели быть равного с ними происхождения. Ничто столь человека не возвышает, как благородное происхождение: это первое его достоинство». Трудно было злее высмеять эти человеконенавистнические убеждения заядлых крепостников. Сила и едкость крыловской сатиры, ее художественная убедительность достигнуты здесь тем, что панегирист, произносящий похвальную речь в честь своего друга, разоблачает свое собственное убожество. Впоследствии этой манерой ложного панегирика не раз пользовались Гоголь и Салтыков-Щедрин.
В «Каибе» Крылов замаскировал свою сатиру условной формой «восточной» повести. Высмеивая сентиментально-идиллическое изображение жизни народа, он показал ее нестерпимую тяжесть. Особенно язвительна его сатира по адресу придворных, окружавших Каиба. Он рисует карикатурные образы вельмож, в ведении которых находится управление государством. Таков Дурсан, главное достоинство которого в том, что «борода его доставала до колен». Ослашид (уже самые имена вельмож достаточно полно характеризуют их «достоинства»!) — обладатель белой чалмы, дававшей ему право «на большие степени и почести». Грабилей, который хотя и был сыном чеботаря, но, поступив на «приказную службу», «развернул свои способности» и стал «одним из числа знаменитейших людей, снабженных способами утеснять бедных». Да и сам калиф, кичащийся своей просвещенностью, правит согласно провозглашенному им «порядку»: «…для избежания споров начинал так свои речи: „Господа! Я хочу того-то: кто имеет на сие возражение, тот может свободно его объявить: в сию ж минуту получит он пятьсот ударов воловьею жилою по пятам, а после мы рассмотрим его голос“».
Это был недвусмысленный намек на императрицу, прикрывавшую свой деспотизм лицемерными фразами о законности.
Хотя Каиб убеждается, что гордыня и честолюбие не приносят счастья, и раскаивается в своем прежнем поведении, но такая развязка оставалась совершенно неубедительной и предназначена была лишь для умилостивления властей.
Сатирический характер имели и произведения Клушина. На страницах «Зрителя» он обличал «жестосердых тиранов»: «Жестосердый тиран предпринимает отъять чужие венцы, украсить ими чело свое, на котором напечатлены кровью преступления его…» В этих строках содержался намек на планы Екатерины, собиравшейся вмешаться в дела Франции. Клушин являлся автором и сочинения «Сны аллегорические, философские и сатирические», которое давал читать своим друзьям в рукописи. В одном из своих «снов» Клушин изобразил европейских монархов в виде воронов, готовящихся напасть на горлиц, только что договорившихся жить по-новому и «питать себя своими трудами, а не похищать насилием». Здесь также заключались намеки на события французской революции, крамольные в условиях наступившей реакции.
Все это не могло пройти незамеченным. После событий во Франции императрица стала тревожна и подозрительна.
В мае 1792 года был арестован Новиков, признанный императрицей опасным для нее врагом. Оппозиционный характер его журналов в прошлом, широкая издательская деятельность, роль в масонстве, которое Екатерина рассматривала как нелегальное и антиправительственное движение, предрешили его печальную судьбу.
Следовало ожидать дальнейших репрессий. Крылов был обеспокоен. Как раз в это время он писал новое сочинение — «Мои горячки», которое не решился еще печатать в журнале. Он давал рукопись читать Дмитревскому, Клушину и некоторым другим близким друзьям, на скромность которых мог положиться. Но в тревожное время усиленного сыска и шпионажа ни в чем нельзя быть уверенным. Полицейские власти что-то пронюхали и неожиданно произвели обыск в типографии «И. Крылова с товарищи». До нас дошел документ — донесение петербургского губернатора Коновницына от 12 мая 1792 года графу П. А. Зубову, всесильному фавориту Екатерины и члену Военного совета, возглавлявшего полицейские и карательные мероприятия. Там, в частности, говорится:
«…Отставной провинциальный секретарь Крылов оригинальное свое сочинение под названием „Мои горячки“ по первому вопросу с частным приставом лейб-гвардии у капитан-поручика Скобельцына, которому давал для прочтения, отобрав, сам мне представил, объясняя, что писал оное назад года с два без всякого умысла, по одной склонности к сочинениям, еще не кончил, никогда нигде не печатал и прямого к тому намерения не имея, прочитывал некоторым из своих знакомых, именно Дмитревскому, Плавильщикову, Сандунову, а после давал г-ну Скобельцыну и, наконец, показал мне те главы, где описано изображенное в приложенном о сем письме, почему, переписав оные набело, при сем и самое то сочинение в особом конверте вашему превосходительству представляю, равно и взятую с находящегося в службе при Комиссии о строении дорог в государстве подпоручика Клушина подписку. При осмотре же в типографии и комнате его поэмы „Горлицы“ и других вредных сочинений не оказалось, а лично мне объявил, что о горлицах писано им было в аллегорических его снах, но без всякого намерения, и что их читал Плавильщиков, но не одобрил, почему он изодрал, что и Плавильщиков подтвердил при господине обер-полицмейстере. Из-за чего представляю за тою типографиею, тож Крыловым с Клушиным наблюдение и, не упуская из виду поведения, которое доныне никем не осуждается, дальнейшее исследование до высочайшего благоусмотрения остановил, дабы не последовало и малейшей обиды или притеснения, как о том мне предписать изволили».
Были допрошены не только Крылов и Клушин, но и Дмитревский, Плавильщиков, Сандунов, от которых потребовали подтверждения показаний Крылова и Клушина. Они засвидетельствовали, что «содержание» предъявленной Крыловым рукописи «сходно во всей точности с оригинальным сочинением, которое они читали, и что и в том ничего вредного отнюдь не было». Рукопись Крылова была, однако, отобрана и препровождена Коновницыным Зубову, о чем свидетельствует приписка к донесению: «Сочинение „О женщине в цепях“ в оригинальном сочинении заложено белою бумагою, и на странице поставлено N8». Вероятно, «сочинение» «О женщине в цепях» являлось разделом «Моих горячек», вызвавшим особенное подозрение полиции. Много лет спустя Крылов, вспоминая об этом эпизоде своей жизни, говорил сослуживцу по библиотеке М. Е. Лобанову: «Одну из моих повестей, которую уже набирали в типографии, потребовала к себе императрица Екатерина; рукопись не воротилась назад, да так и пропала»,
Это дело не получило дальнейшего хода, и официальных репрессий не последовало. Однако в обстановке правительственного террора, жертвами которого стали Радищев и Новиков, обыск сильно напугал друзей. Крылов и Клушин решили на время уехать из столицы, переждать где-нибудь в провинции окончательной развязки событий.
Прощание друзей было печальным. В типографии царил беспорядок: выворочены после обыска все шкафы и ящики, переставлена мебель. Будущее представлялось неясным. Крылов принес Клушину подарок на память в разлуке. Это был томик французских басен Лафонтена, особенно им любимый и сопровождавший Крылова во всех случаях жизни. На титульном листе он надписал своим неровным почерком:
Залогом дружества прими Фонтена ты,
И пусть оно в сердцах тогда у нас увянет,
Когда бог ясных дней светить наш мир престанет
Или Фонтеновы затмит кто красоты.
Впоследствии Клушин добавил к этому четверостишию пояснение: «Подарены любезным другом Иваном Андреевичем Крыловым июля 29 дня 1792-го в бытность в типографии; по причине нашей разлуки, на время; а может быть — судьбе одной известно». Превзойти же «Фонтеновы красоты» довелось самому Крылову, но в то время он об этом еще не мог думать.
Крылов уехал в деревню возле Брянска. Там он встретил молодую девушку — дочь местного помещика, Анну Алексеевну Константинову. Ей только что исполнилось пятнадцать лет. Ее свежесть, милое девичье кокетство, доверчивое, по-детски простодушное, привлекли Крылова. Ведь ему шел только двадцать четвертый год.
Он стал писать для Анюты стихи. Это были стихи чувствительные, во многом напоминавшие знакомые образцы тогдашних поэтов. Крылов в них слегка подтрунивал, иронизировал над собой, благодаря чему стихи приобретали живую, естественную интонацию:
Что ж, мой друг, тому виною?
Ты прекрасна, молода:
Раз лишь встретиться с тобою —
И без сердца навсегда;
Раз вдохнуть лишь вздох твой страстный.
Раз тебя поцеловать,
Только раз — и труд напрасный
Будет вольности искать.
Взглянешь ты — в нас сердце тает;
Улыбнешься — кровь кипит;
И душа уж там летает,
Где любовь нам рай сулит.
Робея, он вкладывал эти стихи в книжку, которую передавал Анюте, советуя ее прочесть. Ему доставляло несказанное наслаждение видеть, как после этого она при встрече с ним алела нежным девичьим румянцем. Под впечатлением нахлынувшего чувства он написал шутливое послание в стихах Клушину, в котором рассказал об увлечении «прелестной Аннушкой», каясь в тщетности своих ученых занятий и сообщая другу, что ради нее он забросил книги и ученость:
К чему ж прочел я столько книг,
Из них отраду сердцу строя,
Когда один лишь только миг —
И я навек лишен покоя?
Он был застенчив с женщинами. Не умел говорить о пустяках, был неловок, а иногда от смущения дерзок. Да и по правде, природа наделила его малоизящной наружностью. В нем было много мужицкого — коротковатые ноги и руки, широкие плечи, крупная голова с грубыми чертами лица, словно вышедшего из-под руки плотника, густые нависающие брови: Он стеснялся своей наружности, избегал светских церемоний, одевался подчеркнуто просто, даже небрежно. С горькой иронией писал о себе:
Нередко, милым быть желая,
Я перед зеркалом верчусь
И, женский вкус к ужимкам зная,
Ужимкам ловким их учусь;
Лицом различны строю маски,
Кривляю носик, губки, глазки,
И, испужавшись сам себя,
Ворчу, что вялая, природа
Не доработала меня
И так пустила, как урода.
Досада сильная берет,
Почто я выпущен на свет
С такою грубой головою. —
Забывшись, рок я поношу
И головы другой прошу, —
Не зная, чем и той я стою,
Которую теперь ношу.
Увлечение Крылова продолжалось недолго и ограничилось совместными прогулками по саду и поднесением стихов. Анюта была еще слишком молода, а ее родители вовсе не желали видеть ее замужем за безродным бедняком сочинителем. Да и сам Крылов достаточно трезво относился к этому увлечению, понимая всю неосуществимость своих мечтаний.
Его потянуло в столицу к товарищам, к журналу, к бурному круговороту столичной жизни. Оттуда доходили вести о том, что дело с обыском в типографии затихло, что можно, не опасаясь, вернуться в Петербург. Он это и сделал.
Любовь так и не заняла в жизни Крылова сколько-нибудь заметного места. Его постоянно влекли другие интересы, другие страсти. Журнал, литература, театр — вот что поглощало все силы, стало для него источником радостей и горестей.
Уезжая из деревни, он прощался с Анютой, с сельским уединением и покоем:
Прости, любезное село,
Столица мира дорогого;
Прости, ключ чистый, как стекло,
И ты, тенистая дуброва,
В которой часто день бывал
Мне так короток, как минута,
Где часто соловей певал
Так чисто, нежно, как Анюта.
Простите вы, мои друзья, —
Из недр спокойства и свободы
Я еду в мрачный гроб природы —
Простите, в город еду я.
Не воздух легкий, ароматный
Мне будет грудь там оживлять;
Я еду в мир пустой, развратный
Седую, знойну пыль глотать.
29 января 1793 года, вскоре после приезда Крылова в Петербург, пришло известие о том, что на одной из парижских площадей в присутствии многолюдной толпы народа под крики «Да здравствует республика!» был казнен Людовик XVI. Это событие вызвало новую тревогу в правительственных кругах. «С получением известия о злодейском умерщвлении короля французского, — меланхолически записал в своем дневнике Храповицкий, — Ее Величество слегла в постель, и больна, и печальна». В тот же день русский двор оделся в траур: черные чулки и белые батистовые манжеты.
Нечего было и думать о продолжении прежнего сатирического направления. Но Крылов не мог жить без журнала, без полемики, без общения с читателем. Невзирая на все трудности и опасности, он вновь принимается совместно с Клушиным за издание журнала.
С 1793 года начинает выходить «Санкт-Петербургский Меркурий». Дмитревский и Плавильщиков в издании «Меркурия» уже не принимали участия. Дмитревский постарел, и ему в тягость стали лишние хлопоты и заботы. А Плавильщиков возвратился в Москву и выступал на тамошнем театре вместе с Лизанькой Сандуновой и Силою Николаевичем. «Петербургский Меркурий» почти совсем отошел от сатиры. В нем принимали участие, помимо Крылова и Клушина, довольно известные писатели тех лет: А. Бухарский, Гр. Хованский, И. Мартынов, В. Л. Пушкин, П. Карабанов, Н. Николев, И. Милонов. В «Меркурии» помещались стихотворения, рассказы, идиллии, статьи и рецензии. Новый журнал имел миролюбивый и довольно бесцветный характер. Издатели явно опасались возбудить подозрения и недовольство властей, тем более что они находились под полицейским наблюдением и не могли рисковать.
Этим объясняется и сравнительно незначительное участие в журнале самого Крылова. Он напечатал там стихи о своем недавнем увлечении: «Мое оправдание», «К Анюте», «Мой отъезд», «К другу моему» и два прозаических очерка: «Похвальная речь науке убивать время» и «Похвальная речь Ермалафиду», лишенных, однако, сатирической силы и остроты его прежних произведений. Еще недавно столь вольнодумно настроенный, Клушин поместил в «Санкт-Петербургском Меркурии» чувствительную повесть «Несчастным М — в», представлявшую собой подражание гётевскому «Вертеру». «Меркурий» оказался робким, утерявшим зоркость «Зрителя». Впрочем, редакторы все-таки допустили неосторожные промашки. В августовской книжке журнала помещена была рецензия на «Вадима Новгородского» Княжнина, который вызвал незадолго перед тем гонения со стороны императрицы. Кроме того, в июльском выпуске напечатали отрывок из ненавистного императрице аббата Рейналя «Об открытии Америки». Самое появление сочинения одного из вдохновителей французской революции являлось фактом неблагонамеренным.
Трудно сказать, эти ли промахи, возможно не случайные, или сами имена издателей снова привлекли внимание правительства. Дела типографии также пришли в упадок, и издание «Петербургского Меркурия» перенесено было в типографию Академии наук. Это еще больше ограничивало возможности издателей, да и с переходом в типографию Академии наук наблюдение за последними номерами журнала осуществлялось уже И. Мартыновым.
По-видимому, императрица заподозрила издателей в неблагонадежности и решила их деятельность прекратить. Но после крутой расправы с Радищевым и Новиковым ей захотелось проявить показное «милосердие». Сохранилось свидетельство о том, что она вызвала издателей «Меркурия» для объяснений и материнского увещания.
Когда донельзя взволнованный Крылов отправлялся во дворец, он попрощался с младшим братом, отдал ему последние распоряжения, считая себя уже заключенным в тюрьму или сосланным в Сибирь.
Императрица указала издателям на их молодость, объясняя ею непочтительное отношение к власти, их запальчивую критику благодетельных порядков, установленных в государстве ею, самой просвещенной монархиней в Европе. Екатерина предупредила об опасности вольнодумных идей и пагубных плодах мечтаний о равенстве. Снисходительно отозвалась о драматических опытах молодых сочинителей (ведь она сама была автором комедий и трагедий) и советовала им продолжать далее развивать свои таланты в этом направлении, руководствуясь правилами религии и преданностью престолу. Но тут же она заметила с ласковой улыбкой, что сочинения, оскорбительные и расшатывающие нравы благочестия, могут повлечь за собой самые губительные последствия. На этом аудиенция прекратилась. Перед Крыловым и Клушиным бесшумно распахивались позолоченные и инкрустированные двери больших и малых зал, и лакеи в придворных ливреях молча указывали путь к выходу.
По городу распространились слухи. Никто толком не знал, о чем беседовала императрица со строптивыми сочинителями. Упорно утверждали, что они отправлены для усовершенствования в науках в чужие края. Дотошный собиратель слухов и летописец тех лет, тульский помещик, друг Новикова, Андрей Тимофеевич Болотов записал в своем «Памятнике протекших времен»: «За несколько лет до сего, при случае издания в Петербурге журнала „Российского Меркурия“ прославились в нашем ученом свете два молодые россиянина: Крылов и Клушин. Как при конце сего журнала упомянуто было, что они, по воле императрицы, отпущены путешествовать в чужие края, то все и почитали их теперь находящимися в путешествии в ожидании от них таких же любопытных описаний, как от Карамзина; но в том вся публика обманулась. Они остались и не поехали по причине, что промотали денежки взятые».
В этом рассказе чувствуется явное недоброжелательство. Но в чужие края Крылов и в самом деле не поехал. Клушин же покаялся и получил милостивое прощение, а также и деньги на поездку для учения за границей. Год «Меркурия» кончался, и его издатели принуждены были убраться из столицы, так как их пребывание там императрице было нежелательно.
В вышедшем тогда «Описании города Санкт-Петербурга» Георги указано: «Крылов — сочинитель разных сатирических писаний и некоторых комедий. Трудящийся в „Российском Меркурии“». Но он уже больше не являлся сочинителем, а стал гонимым неудачником, перекати-поле!
Крылов и Клушин по-разному отнеслись к перемене в своей судьбе. Клушин не только покаялся в своих «заблуждениях», но и напечатал угодливую, низкопоклонную оду — «Благодарность Екатерине Великой за всемилостивейшее увольнение меня в чужие краи с жалованьем».
Крылов не писал благодарственных од. Разговор с императрицей показал ему, что продолжать литературную деятельность невозможно. Надо было выбирать: или распрощаться с теми взглядами, за которые он боролся, или расстаться с литературой. Крылов решился на последнее. Необходимо было исчезнуть, раствориться в пространствах России, сделаться незаметным и незамеченным.
В последней книге журнала издатели прощались с читателями: «Год „Меркурия“ кончился и за отлучкою издателей продолжаться не будет».
Уезжая из столицы, Крылов в оде «К счастью» с грустью подвел итог своей жизни, капризной и нелегкой, судьбы человека из низов, попытавшегося выступить на борьбу с бесстыдной ложью господствующих верхов:
Вот как ты, Счастье, куролесишь;
Вот как неправду с правдой весишь!
Ласкаешь тем, в ком чести нет,
Уму и правде досаждая,
Безумство, наглость награждая,
Ты портишь только здешний свет.
Я вижу, ты, мой друг, уж скучишь
И, может быть, меня проучишь
За то, что я немножко смел
И правду высказать умел…
Начались годы скитаний. Годы тревожного одиночества, бесплодной растраты сил, безрадостных ожиданий.
Среди лесов, стремнин и гор,
Где зверь один пустынный бродит,
Где гордость нищих не находит
И роскоши неведом взор,
Ужели я вдали от мира?
Иль скрежет злобы, бедных стон
И здесь прервут мой сладкий сон?
Вещай, моя любезна лира!
Он стал снова одинок, один как перст. Братец Левушка при помощи друзей отца определился на военную службу и теперь где-то шагал в солдатском мундире с мушкетом на плече. Александр Иванович Клушин уехал в Ливонию, а затем собирался за границу для продолжения образования. Но в Риге в него влюбилась уже не очень молодая вдова, баронесса, и он несколько лет прожил в этом городе, покорный брачным узам, и не подавал о себе вестей. Рахманинов затаился в своей Казинке под Тамбовом. Плавильщиков переехал в Москву вслед за Сандуновыми. Прощаясь, он стиснул Крылова в могучих объятиях и громогласно вопил, чтобы Иван Андреевич, его друг милый, переехал тоже в Москву, да поскорее!
После долгих раздумий Иван Андреевич последовал этому совету. Там Плавильщиков, Сандуновы. Ведь ехать, собственно говоря, было безразлично куда. В Москве же он будет далеко от соглядатаев императрицы, затеряется в многолюдье большого города. На рассвете Крылов забрался в крытый возок. Его провожал лишь Иван Афанасьевич Дмитревский. Он отирал надушенным платочком набежавшую слезинку, голова его чуть заметно тряслась на тонкой стариковской шее. Он крестил Крылова мелкими движениями руки. Наконец возок тронулся. Ямщик затянул унылую песню. Потянулись леса и болота, черные, бревенчатые срубы изб, низкие, набухшие дождем облака. Стоял ноябрь 1793 года.
Москва встретила его неприветливо. Холодным крупным дождем с липким, тающим снегом. Он сразу же подъехал к Петровскому театру, недавно открытому содержателем московской труппы Медоксом. Театр находился в самом начале Петровки и состоял из бесформенных зданий, сутуло сгрудившихся без всякого плана, представляя скорее груду кирпича, чем здание. Кругом театра беспорядочно теснились маленькие деревянные домишки. В одном из них квартировали Сандуновы. Они сердечно обрадовались приезду Ивана Андреевича. Лизанька засуетилась, принялась накрывать на стол, в честь гостя поставлен был штоф крепкой водки. Сандуновы жаловались на московские порядки. Дела у Медокса шли неважно: он задолжал актерам. Театральное помещение было плохо приспособлено к спектаклям. Зала не отапливалась: зрители сидели зимой в шубах, а артисты леденели от холода.
Пришел и Плавильщиков. Он громко хохотал, с нежностью сибирского медведя прижимал к себе Крылова и, став в драматическую позу, рычал стихи Сумарокова. В маленькой, заставленной вещами комнатке Сандуновых вдруг стало уютно и весело.
Но дни шли за днями. Дела никакого не находилось. Крылов заскучал. Он сидел в комнате с утра до вечера. Иногда выходил и бродил по улицам. По вечерам около театра прохаживались нарядно одетые девицы, «смазливые тени», как тогда называли подобных девиц. Их сопровождали городские кутилы, расфранченные и подвыпившие. Они, весело напевая, проходили мимо, приглашая встречных последовать за ними. Однажды Крылов не выдержал и присоединился к развеселой компании. Компания шумно ввалилась в один из домов на Разгуляе. Там шла азартная карточная игра. Игроки угрюмо сидели при оплывавших сальных свечах за большим круглым столом, напряженно глядя в карты. Время от времени тишина прерывалась равнодушным голосом банкомета, объявлявшего выигравшую карту. Крылов подошел к столу и подсел к игравшим. У него еще сохранилось немного денег. Он вынул золотой и поставил его на карту.
Карта выиграла. Во второй раз он поставил уже три золотых и с волнением ждал результата. Принял от банкомета карту и поставил ее темною. Банкомет метал карты. Крылов снова выиграл. Он поставил две новые карты, загнув каждую мирандолем. Из игорного дома на этот раз он унес десяток червонцев. Но счастье было изменчивым. Через несколько дней он снова появился в этом доме и проиграл все, что прошлый раз выиграл. Так он втянулся в тревожную и неверную жизнь игрока. Понемногу Крылов стал замечать в этих собраниях не только игроков, всецело увлеченных карточной игрой, но и каких-то подозрительных лиц, которые сновали вокруг стола, перекидывались загадочными замечаниями и взглядами.
Один из игравших тихонько предупредил его, чтобы он не связывался с этими личностями, отъявленными мошенниками и шулерами. Однако карты с магической силой влекли Крылова. Каждый раз, твердя себе на протяжении дня, что сегодня играть не будет, он к вечеру не выдерживал и отправлялся в дом, ставший ему привычным. Счастье попеременно то благоприятствовало, то изменяло ему. Он пытался вернуть проигранное верным расчетом, сложными математическими выкладками. Его любовь к математике вновь вспыхнула, приобретя смешные, уродливые формы. Он мог целыми днями высчитывать на основе математических формул секрет успеха, законы игры. Однако и математика, видимо, не помогала, и он, несмотря на найденные формулы, проигрывал. В поисках счастья он стал ездить по России: Ярославль, Нижний Новгород, Тула, Тамбов, Саратов… Всюду он пробовал счастья, надеясь на улыбку неблагосклонной фортуны.
Крылов стал бездомным скитальцем, праздным перекати-полем. У него не было ни семьи, ни профессии. Ему стало все безразлично. Разве он может бороться с императрицей? Ее пухлые, холеные ручки способны завтра же подписать указ о ссылке его в Сибирь, как Радищева, или о заточении в страшную Шлиссельбургскую крепость, где уже томился Новиков.
Он хотел забыть обо всем этом, уйти от тягостных дум, уйти от самого себя. Его влекли к себе дорожные встречи, постоялые дворы и почтовые станции, переполненные самым различным людом. Разговоры, рассказы бывалых людей, меткое, ядреное словцо какого-нибудь проезжего мужичка или мещанина делали поездки увлекательными, обогащали его знанием жизни простого народа. Перед этим меркли дорожные неудобства, грязь и беспокойная сутолока трактиров.
Игра его возбуждала, выводила из того оцепенения, в которое он погрузился, давала выход накопившейся энергии. Ведь ему еще не было и тридцати лет. Крылов был здоров, крепок, полон сил. Он не мечтал о том, чтобы быстро и легко разбогатеть. Его привлекала самая атмосфера игры, переменчивого счастья, напряженной взволнованности. Нравилась беззаботная, безалаберная жизнь. Впоследствии он и сам рассказывал, по словам мемуариста, что в молодости своей он был пристрастным к карточной игре, вовсе не из корыстолюбия, но ради сильных ощущений. В то время азартные игры не были запрещены, и банкометы явно занимались своим ремеслом в трактирах, разъезжали по ярмаркам и, как хищные звери, искали везде добычи. Не зная ни света, ни людей, Крылов попался в одну из этих шаек, и его обобрали, как говорится, «будто липочку».
Благодаря своим скитаниям, трактирным встречам, посещению ярмарок Крылов знакомился с нравами и бытом разных слоев общества. Он попал в самую гущу жизни, насмотрелся на многое из того, что в столичных гостиных было, конечно, скрыто от его взоров. Он прислушивался к говору самых различных представителей тогдашнего общества. Знакомился с богатейшим языком всех сословий России, с речью народа.
Так проходили недели и месяцы. Он стал уставать от смены впечатлений, городов, неверного счастья, бессонных ночей, дорожных неурядиц. Время от времени Крылов возвращался в Москву, в неуютную, пропыленную, пахнущую ладаном комнатку на Петровке, которую он снимал у одной московской мещанки.
Он даже не заметил, как над его горизонтом стали сгущаться новые тучи. Увлечение карточной игрой в Москве и за ее пределами приобрело повальный характер. Проигрывались крупные состояния, родовые имения, тысячи крепостных. Играли все — старцы и юноши, чины военные и гражданские, кавалеры и дамы высшего света, врачи, штык-юнкера, поэты, студенты. По вечерам на темных московских улицах до самого рассвета ярко светились окна домов, в которых шла игра. Люди приобретали известность не подвигами на войне и не гражданскими доблестями, а за карточным столом, крупными выигрышами или неимоверными проигрышами.
Эпидемия азартной игры, разорения, мошеннические проделки многочисленных шулерских шаек внушили беспокойство правительству. В особенности встревожили императрицу многочисленные случаи хищения и проигрыша казенных денег. Она приказала московскому генерал-губернатору Измайлову расследовать это дело и принять самые строгие меры для искоренения азартных карточных игр.
Начались повальные обыски и засады полиции во всех игорных домах. Составлялись реестры игроков, в один из которых попал и Крылов. Ему угрожали арест и насильственная высылка. Приходилось срочно покинуть Москву, снова спрятаться где-то в глуши, переждать поднявшуюся бурю.
Это случилось в каком-то городке неподалеку от Москвы — не то в Калуге, не то в Малоярославце. Крылов играл в трактире с проезжим помещиком и офицером. Карты выходили удачные, выигрыш рос, золотые монеты столбиками выстраивались на игорном столе. Но вскоре счастье изменило. Он проиграл сначала свой выигрыш, а затем и все бывшие при нем деньги. Крылов медленно поднялся, отер лоб платком и вышел во двор. Он услышал, как у ворот остановилась кибитка и из нее вышло несколько человек, закутанных в плащи. Они сердито пререкались между собой, и по их разговорам он понял, что это были полицейские, которые нагрянули, чтобы арестовать игроков. Крылов тихонько вышел через калитку в переулочек и пошел по улицам незнакомого городка. Чуть белел рассвет. Серый холодный дождь накрапывал все сильнее.
Раздумывать долго не приходилось. По возвращении в Москву Крылов воспользовался приглашением одного из своих знакомцев — хлебосольного московского барина Татищева, который уезжал в свое подмосковное имение. Примостившись на возке, сопровождавшем помещика в его поездке, Крылов выбрался из Москвы.
В имении Татищева все было на широкую ногу. Обширный дом со службами и многочисленными слугами, прекрасный повар, большая библиотека, кругом парк, переходящий в лес. Крылов впервые почувствовал необычное для него состояние покоя, умиротворения.
Август был жаркий, даже знойный. От сосен струился терпкий смолистый запах. В лесу, в густой тени таились совы и длинноухие филины, издававшие время от времени странные, пугающие крики. На ветвях прыгали, как красные огоньки, белки. В мягком, словно губка, мху проглядывали между опавшими листьями шляпки грибов. Вечерами становилось прохладно и тихо.
Крылов много гулял, размышлял, сочинял стихи. Стихи были о горьком опыте недавнего времени, о несправедливости, царящей в мире, о блаженстве, обретаемом на лоне природы. Он так и назвал их — «Блаженство»:
Но где ж блаженство обитает,
Когда его в природе нет?
Где царство, кое он мечтает?
Где сей манящий чувства свет?
Вещают нам — вне протяженья,
Где чувство есть, а нет движенья.
Очисти смертный разум твой,
Взгляни — твой рай перед тобой,
Тебя одна лишь гордость мучит;
Природа быть счастливым учит.
Да, природа учила его быть счастливым. Ему казалось, что, живи он здесь, в лесу, среди птиц и деревьев, и ему ничего больше не было бы нужно. Годы, проведенные в столице, бессмысленно истрачены, они принесли лишь тревоги и огорчения. По вечерам он читал «Эмиля» Руссо и восторгался мыслями женевского отшельника. Гостеприимный Татищев ему не мешал: он любил пошутить, поесть, поспать и не обременял Крылова ни обязанностями, ни разговорами.
Вскоре Татищев вместе со всем семейством собрался посетить свои владения в других губерниях, предоставив Крылову в полное распоряжение дом, библиотеку и повара. Оставшись с отъездом хозяев в полном одиночестве на лоне природы, Крылов почувствовал себя совершенно свободным. Чтение Руссо укрепило его в мысли о том, что счастливым можно быть, лишь живя по законам природы, отказавшись от завоеваний цивилизации. Вспоминая недавнее прошлое, свое изгнание из столицы, бегство из Москвы, Крылов готов был видеть покой и блаженство в простых, естественных отношениях, которые царили во времена, когда не было вражды и угнетения человека человеком. Он стал снова писать стихи, в которых осуждал город и цивилизованное, несправедливое общество:
Там роскошь, золотом блестя,
Зовет гостей в свои палаты
И ставит им столы богаты,
Изнеженным их вкусам льстя,
Но в хрусталях своих бесценных
Она не вина раздает:
В них пенится кровавый пот
Народов, ею разоренных.
Разврату и злосчастию этого общества он противопоставил тишину и блаженство природы, исцеляющей страдания:
Вдали от ваших гордых стен,
Среди дубрав густых, тенистых.
Среди ключей кристальных, чистых,
В пустыне тихой я блажен.
Не суетами развлекаться
В беседах я шумливых тщусь,
Не ползать в низости учусь —
Учусь природе удивляться.
Стихи он озаглавил «Уединение». В раздолье привольных лугов и лесов, наедине с природой Крылов и сам решил испытать блаженство первобытного человека. Он перестал стричься, отпустил бороду, отрастил длинные волосы и ногти и даже перестал носить платье. Голый расхаживал он с книжкой по лесу и парку.
Однако блаженство это длилось недолго. Татищев неожиданно возвратился раньше того срока, который им был назначен. Ничего не подозревавший Крылов расхаживал по тенистой аллее парка, когда в нее въехала коляска. Оглянувшись на стук кареты и увидев графа с семейством, Крылов во весь дух помчался к дому. Дамы перепугались и стали громко кричать, приняв его за сумасшедшего. Татищев велел кучеру поскорее нагнать беглеца, но первобытный человек успел скрыться.
Татищев до упаду смеялся над всей этой историей и любил ее рассказывать, забавно показывая, какой вид имел Иван Андреевич, когда они застали его в облике троглодита.
Крылова тут же постригли, побрили и одели, и он принужден был подчиниться законам цивилизованного общества. Он очень сожалел об этом и не раз говорил, что недели, проведенные им в условиях естественного существования, остались самыми счастливыми в его жизни. Правда, с длинными волосами и ногтями было не очень ловко, жаловался он Татищеву, но ведь и Адам так ходил!
От Татищева Крылов перебрался в имение Бенкендорфов — Виноградово. Он познакомился с ними сразу по приезде в Москву и теперь решил погостить у любезных хозяев. Виноградово находилось всего в восемнадцати верстах от Москвы по Дмитровской дороге. Отсюда можно было легче наведываться в Москву. Привлекала Крылова и хозяйка — Елизавета Ивановна, доброжелательная и гостеприимная. Падчерица генерал-прокурора Глебова, богатого и влиятельного екатерининского вельможи, впавшего в немилость, она была замужем за человеком пожилым — суворовским воином-бригадиром Иваном Ивановичем Бенкендорфом, к этому времени вышедшим в отставку.
Елизавета Ивановна любила гостей, праздники, веселье. В их московском доме и в Виноградове постоянно появлялись посетители, друзья и знакомые, принадлежавшие к высшему московскому кругу, — князья Голицыны, Татищевы, Загряжские, Львовы, входящие в моду сочинители — Карамзин и Дмитриев. Здесь сразу становились известны политические и литературные новости, обсуждались только что вышедшие книги и журналы. Крылов некоторое время гостил у них в Москве. Там он познакомился с Карамзиным, который задумал издавать новый альманах «Аониды», сиречь музы, пребывавшие на горе Геликон. Карамзин только что приехал из деревни, дабы рассеять слухи о том, что пребывание под Симбирском являлось вынужденной ссылкой из-за недовольства императрицы. Екатерина действительно была им недовольна: ей не нравилась его близость с Новиковым и масонами, возбуждали опасения «Письма русского путешественника», в которых говорилось о французской революции. Карамзин знал об этом и предпочел на время удалиться в провинцию.
В гостиной Бенкендорфов он сидел в томной, меланхолической позе. Чувствительность и меланхолия только еще начинали входить в моду. Крылов, представленный Карамзину любезной Елизаветой Ивановной, молча сел напротив него. Карамзин казался не по возрасту серьезным и наставительным. Он только двумя годами был старше Крылова, но много путешествовал по загранице, получил прекрасное образование и занимал уже видное место в московском литературном кругу. Особенную известность получила его повесть «Бедная Лиза», печальная история крестьянской девушки, доверчиво полюбившей знатного барина. Обманутая им, она покончила жизнь самоубийством, бросившись в пруд возле Симонова монастыря. Этот пруд стал излюбленным местом паломничества московских барышень, проливавших слезы над чувствительной повестью.
Крылову была чужда мечтательная меланхолия и заоблачная философия этого изящного, щегольски одетого человека, со снисходительным вниманием обращавшегося к своим собеседникам. «Всему есть время, и сцены переменяются, — задумчиво говорил Карамзин. — Когда цветы на лугах Пафосских теряют для нас свежесть и красоту свою, мы перестаем летать зефиром и заключаемся в кабинете для философских мечтаний и умствований, скучных румяному и ветреному юноше, но приятных такому человеку, у которого на лбу хладною рукою времени рисуются уже морщины. Лучше читать Юма, Гельвеция, Мабли, нежели в томных элегиях жаловаться на холодность и непостоянство красавиц. Таким образом, скоро бедная муза моя или пойдет совсем в отставку, или… будет перекладывать в стих Кантову метафизику с Платоновою республикою». Карамзина влекло к науке, истории, философии. Вскоре должно было появиться отдельное издание его «Писем русского путешественника», исполненных размышлений и философских раздумий.
Знакомство с Карамзиным опять сблизило Крылова с литературой. Он передал издателю «Аонид» несколько стихотворений, написанных раньше, — «Вечер», «Подражание 37-му псалму». Они вскоре и были помещены в первой части альманаха за подписью «И.К — в». Крылов решил не подвергать себя опасности и гневу императрицы. Сатира была признана вредной. Он больше не будет писать сатир и комедий. Лирика — другое дело. Здесь можно высказать затаенные мысли и чувства туманно и неопределенно.
Снова встретился он и с другом Карамзина — поэтом Дмитриевым. Иван Иванович только что вышел в отставку и издал книжку «И мои безделки», последовав примеру Карамзина, назвавшего свою книжку стихотворений — «Мои безделки». Среди «безделок» Дмитриева было несколько басен, переведенных из Лафонтена и Флориана. Автор чувствительной песни «Стонет сизый голубочек», сделавшей его широко известным, Дмитриев за последнее время все чаще обращался к басенному жанру. Переводя басни Лафонтена, он хотел придать им чувствительность, превратить их в изящные «безделки». Особенно трогательно получилась у него басня «Два голубя», которую он охотно прочитал Крылову.
В Москве Крылов, однако, не засиживался. Его больше привлекало сельское уединение. В Виноградове он чувствовал себя пустынником, живущим вольготной жизнью. Много гулял, читал, занимался итальянским языком, переводил любимого им итальянского поэта Метастазия, рисовал, а по вечерам играл на скрипке. Крылов скопировал гравированный портрет Екатерины II и вместе с сочиненными по этому поводу стихами и письмом послал его Елизавете Ивановне в Москву. Это была не только дань ее вкусу. Он мог рассчитывать, что посетители салона Бенкендорфов, увидав этот портрет, где-нибудь упомянут о нем и благоприятный слух об опальном сочинителе дойдет до ушей императрицы, смягчит ее.
В письме, помеченном 26 ноября 1795 года, Крылов шутливо изъяснялся о своем восхищении Елизаветой Ивановной: «Говорят, что Аристотель был едва не проклят всем афинским собором за то, что он женщине приносил приличные Церере жертвоприношения. Я не язычник, но если б изобразить все почтение, которое я к вам чувствую, то бы попал я под один приговор с Аристотелем, и всему бы этому виною были ваши привлекательные, ваши любезные качества, которые всякого, кто вас узнает, вводят точно в опасность сделаться идолопоклонником.
Я не могу вспомнить тех минут, которые случилось мне у вас проводить, чтобы не оглядываться к Москве, как верный магометанин, возвращаясь с поклонения, набожно оглядывается к Мекке. „Вот лесть!“ — скажете вы, и я знаю, что тот, кому случится увидеть мое письмо, будет бранить меня, как льстеца, но зато я надеюсь, что те, которые увидят вас, будут точно за меня стряпчими в этом деле. Но я позабываю, что воображение о ваших достоинствах завлекает меня в похвалы, которые никогда не кончатся, если я дам себе волю, — а вы их столько-столько слышите!» В этом была и лесть, которую сам автор письма слегка высмеивал, и восхищение женщиной, которая ему нравилась и в то же время была недосягаема по своему общественному положению.
В том же письме он, несмотря на шутливый тон, проговаривается об истинном положении вещей: «До сих пор все предприятия мои опровергались, и, кажется, счастье старалось на всяком моем шагу запнуть меня; это было, есть и, может, вечно так будет; но пусть только надежда, мой верный друг, пусть только одна она не отлучается от меня и проводит меня до моего гроба — пусть оставит она меня, когда, переехав Стикс, увижу я на дверях ада страшную надпись:
Lasciate ogni speranza, o voi ch’entrate![11]
Надпись ужасная, которою Дант страшнее изобразил ад, нежели множеством других своих стихов. Итак, пусть только тогда она меня оставит, и я по крайней мере скажу, что я в жизни имел утешительного товарища.
Воспоминание моих старых и еще вновь приключившихся мне несчастий и потерей завело меня к скучному, может быть, для вас болтовству; но простите пустыннику, который рад, сыскавши первый случай говорить чувствительному сердцу».
Он спохватился, что утомил свою заочную собеседницу жалобами на злоключения, не выдержал шутливого тона светской болтовни, которая, не задевая за живое, могла развлечь избалованную успехом красавицу. Оборвав свои жалобы, Крылов приписал: «Я встал, дал успокоиться моей памяти и протолкал, так сказать, из головы все мои несчастия и теперь опять весело продолжаю мое письмо: иначе я бы замучил вас Еремииным своим плачем».
Через несколько месяцев его уединение было нарушено событием, которого он не ожидал: «божественная Екатерина» неожиданно скончалась. Это произошло 5 ноября 1796 года.
Смерть Екатерины многое изменила.
На престол вступил Павел I. Он ненавидел свою мать и стремился делать все наперекор тому, что делала Екатерина. Первым его мероприятием было торжественное перенесение останков Петра III из Александро-Невской лавры в Зимний дворец. Там были установлены два открытых гроба: один с уже истлевшим мертвецом, другой с умертвившей его женою. Придворные, вынужденные присутствовать при этой страшной церемонии, падали в обморок от отвращения и удушливого запаха. Затем оба гроба были торжественно перевезены в Петропавловский собор и там преданы погребению.
Покончив с траурной церемонией, Павел принялся искоренять порядки, установленные покойной императрицей. Прежде всего он уволил со службы ее приближенных и фаворитов, разослав их по деревням. Он приблизил и наградил тех, кто был при ней в немилости, на важнейшие должности назначил своих гатчинцев, голштинских немцев, тупых поклонников фрунта и шагистики. Наперекор матери он вернул из ссылки Радищева и освободил из заточения Новикова. Но Павел отнюдь не собирался осуществлять либеральные мероприятия. Он установил еще более деспотическое правление и палочную дисциплину, придирчиво искореняя всякий либеральный дух. Щеголеватость воинской одежды при Екатерине была сочтена им женоподобною. Он ввел прусскую форму: узкие неудобные мундиры с фалдами, низкие треугольные шляпы. Солдаты и офицеры должны были носить букли и косы, туго перевитые проволокою, намазанные салом и посыпанные мукой.
Шагистика, беспрекословное угождение зачастую безумным прихотям императора стали обязательными. Ежедневно под его гнев подпадали десятки придворных, офицеров, солдат. Он не терпел противоречия, был мрачен, подозрителен и жесток.
При таком императоре не приходилось и думать о возвращении к литературной деятельности, а тем более к журналистике. Крылов снова решил переждать. Оставаться у Бенкендорфов дальше было неудобно: он и так явно злоупотреблял их гостеприимством. Поэтому Иван Андреевич принял предложение одного из их знакомцев, князя С. Ф. Голицына, — занять при нем должность личного секретаря и учителя его детей.
Князь Сергей Федорович Голицын принадлежал к числу видных военных деятелей екатерининских времен. Он получил образование в кадетском корпусе, изучал математические науки. Женившись на «племяннице» Потемкина, он получил за ней немалое приданое, в том числе имение Казацкое, а также покровительство всесильного князя Таврического.
Сергей Федорович был небольшого роста, но сложения весьма плотного. Он косил на один глаз и имел обыкновение его прищуривать. Это придавало ему несколько насмешливый вид. Он был умен и храбр и пользовался всеобщим уважением. Павел, вступив на престол, осыпал его наградами. Однако за слишком прямо высказанное мнение Голицын вынужден был оставить службу и поселиться в Москве. Война с Францией заставила Павла призвать из деревенского уединения Суворова и вспомнить о других боевых генералах. Голицын был назначен в действующую армию командиром корпуса, но еще не успел доехать до места назначения, как снова впал в немилость и вместо заграничного похода отправился в свое поместье. Опальному генералу не было еще и пятидесяти лет, и вынужденное безделье его тяготило, а незаслуженная опала вызывала недовольство императором и его гатчинской кликой.
Близко знавшая Крылова в этот период его жизни М. П. Сумарокова рассказывала: «Знакомство Крылова с князем Голицыным началось около времени коронации императора Павла, совершившейся в апреле 1797 года. Вскоре после этого события князь впал в немилость за неуважение к какому-то из новых временщиков и получил повеление жить в деревне. Он отправился в Казацкое, и с ним и несколько лиц, хотевших показать ему свою преданность; тогда он взял с собою и Крылова. Поехали на Зубриловку (что ныне в Балашовском уезде Саратовской губернии), и вот в какое время (в июле и августе 1797 года) Крылов прожил в этом прекрасном имении, где он страдал от комаров и мошек, искал спасения от них на высокой колокольне и однажды найден был спящим под самыми колоколами».
Голицыны недолго пробыли в Зубриловке. Княгиня желала скорее переехать в свое киевское имение — Казацкое. Это имение было в забросе, до него не доходили руки. Бескрайние черноземные поля, благодатная природа, армия крепостных холопов, казалось, обеспечивали верный и большой доход, однако Казацкое приносило лишь убытки, и княгине хотелось убедиться в причинах нерадения управляющего и увеличить свои доходы.
Переехав в Казацкое, Сергей Федорович в хозяйственные дела не вмешивался, предоставив их всецело супруге. В хорошую погоду он ездил прогуливаться в коляске или верхом по окрестностям. После обеда отдыхал и читал книги по военной стратегии или истории. До другого чтения был он не охотник. Вечерами сражался на шахматной доске с сыновьями или Крыловым, неизменно выходя победителем.
Семейство князя состояло из жены его Варвары Васильевны и девяти сыновей. Варвара Васильевна считалась племянницей, а фактически была побочной дочерью князя Таврического. Она унаследовала его властный характер и вспыльчивость. Ей было уже за сорок, но она сохранила свою величавую красоту. Живя в Казацком, княгиня скучала без общества. Ближайшие соседи находились за сотню верст. Местные шляхтянки в ее глазах стояли ниже служанок. Она привыкла к роли знатной русской барыни, к русским порядкам и даже кушаньям. На обед в Казацком подавались русские блюда, моченые яблоки и рябиновая пастила.
Из девяти сыновей старший — Григорий — еще при рождении был пожалован чином гвардии капитана, как старший из внуков Потемкина. Император Павел по вступлении на престол сделал его, тогда еще семнадцатилетнего мальчика, полковником и своим флигель-адъютантом, а через год генерал-адъютантом. Но эта стремительная карьера так же неожиданно оборвалась, как и началась. Вслед за отцом опала постигла и сына, и Григорий Сергеевич разделил с отцом ссылку в Казацкое.
Второй сын князя — восемнадцатилетний Федор — уже приобрел известность в свете как обольстительный весельчак, устроитель праздников и маскарадов. Несмотря на необычайную толщину, он умел придать своему костюму и манерам изящество, прекрасно пел романсы и был душой общества. Остальные братья находились еще в отроческом возрасте. Крылов давал им уроки русского языка.
Кроме Крылова, при детях Голицына состоял француз-гувернер, роялист-эмигрант, шевалье Ролен де Бельвиль. Проживал там на бесплатных хлебах и Павел Иванович Сумароков, родной племянник знаменитого писателя, тоже писатель, хотя весьма бездарный. Он был женат на двоюродной сестре князя и гостил в Казацком вместе с дочкой Машенькой. Павел Иванович был заносчив, надут и всерьез считал себя человеком государственного ума и литературным гением.
Все это многочисленное общество по воскресным и праздничным дням дополнялось являвшимися к обеденному столу греком-управляющим, который всегда приветливо улыбался и безбожно обкрадывал своего патрона, немцем, заведовавшим конюшней, и поляком-экономом с женою.
Помимо наскоро выстроенных барских хором, в Казацком имелись три небольших деревянных флигеля. В одном из них помещалась контора имения, и там же отвели комнату Крылову. Уроки молодым князьям он давал по утрам в помещении, где находилась баня. Среди его учеников появился юный Вигель, гостивший у Голицыных. Впоследствии, вспоминая эти уроки, Вигель, хотя и неприязненно относившийся к Крылову, писал: «Уроки наши проходили почти все в разговорах: он умел возбуждать любопытство, любил вопросы и отвечал на них так же толково, так же ясно, как писал свои басни. Он не довольствовался одним русским языком, а к наставлениям своим примешивал много нравственных поучений и объяснений разных предметов из других наук».
По вечерам Крылов играл на скрипке и нередко давал небольшие концерты для домашних. Помимо классической музыки, он исполнял произведения известного в то время украинского скрипача — Жерновика.
Дни тянулись однообразно. Лишь раз в неделю приходила почта, газеты, и обитатели Казацкого узнавали новости, знакомились с событиями, происходившими в мире. Всех волновал смелый поход Суворова через Альпы, подвиги русских войск. Однако чаще всего приходили плохие вести о новых самоуправствах и нелепых поступках Павла.
Крылов понимал, что завершился важный этап его жизни. Позади осталась его бурная деятельность, юношеская вера в справедливость. Он не раскаивался в прошлом. Его угнетали настоящее и будущее. Эти настроения он передавал в своих стихах, перекладывая полные тревоги и гнева псалмы Давида:
О боже! царь щедрот, спасений.
Внемли! — К тебе моих молений
Свидетель — нощи все и дни.
Я в нощь свой одр мочу слезами
И в день иссякшими глазами
Встречаю мраки лишь одни.
Да пройдет вопль мой пред тобою
Шумящей, пламенной рекою:
Воззри — и слух ко мне склони.
Будущее было темно. Настоящее казалось бесцельным прозябанием. Неужели он так и будет, подобно высохшему листу, кружиться в жизненном водовороте, без пристанища, без надежды?
Почто же, бог мой, презираешь,
Не внемлешь ты и отреваешь
Вопль страждущей души моей?
Средь нужды, нищеты и горя,
Как средь бунтующего моря,
Я взрос от самых юных дней —
И днесь от бедства не избавлен,
Как лист иссохший, я оставлен
Среди ярящихся огней.
Эти стихи он записал в заветную тетрадочку, спрятанную в глубине сундучка с вещами. Им так и не суждено было увидеть свет.
И в самом деле, кто он такой? Безвестный приживальщик, живущий на хлебах своего милостивца, заштатный сочинитель, что-то среднее между домашним секретарем и учителем? Конечно, Голицын — человек приятный, доброжелательный, княгиня также выказывала ему свое расположение, но жизнь среди чужих людей, необходимость считаться с их настроениями и вкусами тяготили Крылова.
Крылов не мог примириться с тем, что его лишили возможности печатать свои произведения. Правда, за эти годы Карамзин поместил два его стихотворения в своем альманахе. Да в журнале «Приятное и полезное препровождение времени» напечатали его перевод с итальянского чувствительной элегии в прозе «Несчастный Менос или пример сыновней любви к матерям». Крылов подписал эту элегию «Нави Волырк» (что, читая справа налево, означало «Крылов Иван»). Но неужели он должен появляться в печати эдаким перевертнем, печатать пустяковые стишки и переводы?
А тут еще вести о новом императоре — одна другой печальнее. Павел окружил себя немцами или слепо преданными исполнителями самых жестоких его прихотей — такими, как Аракчеев и Кутайсов. По всей столице расставил полицейских, следивших, чтобы мужчины, выходя из экипажей при встрече с императором, отдавали ему честь. Император рано ложился спать, иногда в восемь часов вечера. После его отхода ко сну во всем городе гасились огни, и горе тому, кто осмеливался, притаившись, сидеть при свете свечи. Павел запретил не только привозить в Россию и читать французские газеты и книги, но даже употреблять такие слова, как «гражданин», «общество», напоминавшие о французской революции. Он создал сложную и разветвленную систему шпионажа и доносительства, беспощадно расправляясь с тем, что ему казалось проявлением «крамолы», ссылая в Сибирь не только не угодивших ему лиц, но и целые полки, не потрафившие ему на смотру. Немецкое засилье, забвение национальных интересов во имя ненавистной всем Голштинии и Пруссии вызывали всеобщее недовольство. В народе ходили стихи и сатирические куплеты, направленные против Павла. В Казацком читали «Разговор в царстве мертвых», который переслан был друзьями князя. В этом «Разговоре» Павел говорил о себе:
В четыре года что успел я сотворить
И как отечество умел я разорить,
Того и в сорок лет
Монарху мудрому поправить силы нет.
В Казацком царил дух оппозиции. Опальный генерал и сын его постоянно издевались над сумасшедшим императором и его тупоумными приспешниками.
От деревенской скуки молодые князья спасались всяческими забавами. Решили поставить спектакль. Иван Андреевич взялся написать шуточную пьесу. Но чем больше он работал над ней, тем злее и политически острее она становилась. Вновь пробудился его сатирический талант. «Шуто-трагедия» «Трумф» осмеивала незадачливое царствование Павла и введенные им порядки, его желание онемечить Россию. Под покровом веселой шутки, балаганного представления Крылов нарисовал вовсе не смешную картину тогдашнего положения вещей.
Главным героем комедии явился немецкий принц Трумф, наглый и бесцеремонный захватчик. Он неожиданно нападает на мирного и глупого царя Вакулу и насильно берет себе в жены его дочь Подщипу. Подщипа же влюблена в трусливого и ничтожного князя Слюняя, из страха перед Трумфом готового отказаться от невесты. Огорченная Подщипа противится и заявляет Трумфу:
Нет, нет, о государь! Не льсти себя напрасно!
Боюсь, с тобою мне супружество ужасно.
Коверкая русскую речь на немецкий лад, Трумф пытается успокоить плачущую княжну:
Паись, со мной? кафо? — На всех стреляй фелит!
Не пось, не там тебе, красафис мой, ф опит;
На карнафаль к тепе подсунься лишь тетинка,
Мой псарь тотшас тафай он фухтеля на спинка.
Мой стелай, штоп нихто на твой не смел клядить
И в спальна сарска наш нихто не смей кадить:
Ни графа, ни министр, ни сама генерала,
Отна фельфебель мой, унд два иль три капрала.
В этом бесцеремонном поведении самоуверенного немчуры легко можно было узнать дикие прихоти и чудовищный деспотизм императора. Однако сатира Крылова была шире. Он высмеял в ней не только Павла I и его фрунтоманию, но и деспотизм самодержавной власти вообще. Автор «Почты духов» и «Каиба» не сдал своих позиций. Ему по-прежнему ненавистны произвол самодержавия, невежество и тупость его защитников.
Поэтому и кроткий царь Вакула изображен в шутейном виде. Он впал в детство и для забавы запускает ребячьи кубари. Напуганный нашествием немчина, царь Вакула собирает совет своих министров, чтобы решить, как им сопротивляться Трумфу. Вакула держит речь перед советом:
Ну, вот, бояре, в чем все дело:
Нас семя вражье здесь немчинско одолело;
Ведь, слышь, сказать — так стыд, а утаить — так грех:
Я, царь, и вы, вся знать, — мы курам стали в смех.
Нам, слышь, по улицам ребята все смеются;
Везде за нами гвалт — бес знает где берутся!
Частехонько ну, страм! — немчина веселя,
Под царский, слышь ты, зад дают мне киселя!
Сам Трумф, ругаться вам став заражен повадкой,
Слышь, всем велит носить кафтаны вверх подкладкой.
И уж задумал, слышь, содрать с вас парики,
Чтоб лошадям своим свалять их в потники.
Так, знать, нельзя ль самим содрать с него нам кожу,
Иль, слышь, хоть, отманя к сторонке, треснуть в рожу,
Да вон и с челядью отсель его прогнать.
Ну, так ли, господа? Так, слышь, сберем мы рать!
Но воинственный призыв царя не вызывает восторга у его министров, давно уже оглохших или впавших в детство. Спасает положение цыганка, которая советует подсыпать в пищу Трумфа и его воинства «пурганцу», слабительного. Вакула так и поступает и побеждает обнаглевшего немца с его воинством. На радостях Вакула сам рассказывает об этой бескровной баталии, возглавляемой цыганкой:
Ну, слышь, с шайкою своей
По челяди его рассыпалася всей,
Да подпустила всем заряда два чихотки,
Да во щи пурганцу поболее щепотки;
Так, слышь, у них теперь такая чихотня,
А что еще смешней — такая беготня.
Что наши молодцы их только окружили,
Там немцы, слышь ты, все и ружья положили.
Не польстил Крылов и князю Слюняю и его невесте Подщипе. Он показал их жалкими пародиями на героев классических трагедий, придав им черты современных модников «петиметров», изнеженных праздностью, неспособных на подлинные чувства.
«Шуто-трагедия» Крылова являлась вместе с тем едкой пародией на псевдоклассические трагедии. Крылов жестоко высмеивал благородно-возвышенные монологи героев этих трагедий, их ходульный, риторический слог, искусственность и фальшь сценических коллизий.
С увлечением стали готовить постановку «шуто-трагедии». Тут во всем блеске проявились способности Федора Голицына. Он распределял роли, писал декорации и оборудовал сцену.
Крылов играл немецкого принца Трумфа и играл очень хорошо, заставляя зрителей буквально помирать со смеху. Роль цыганки исполняла Машенька Сумарокова.
Спектакль удался на славу: гости, собравшиеся из окрестных имений, были довольны, хотя и боялись прямо высказывать свои мнения. Всех давил страх: а вдруг сведения о «шуто-трагедии» дойдут до Павла, тогда не поздоровится ни Крылову, ни Голицыным, да и посетителям спектакля! Император всюду имел своих наушников, а за Голицыными установлено особое наблюдение.
Крылов тоже был обеспокоен. С затаенной тревогой все ждали вестей из столицы. Но пришла неожиданная радостная весть: Павел скончался! Вскоре просочились в Казацкое слухи и о подробностях его смерти. Император был задушен в ночь на 11 марта 1801 года. Калигула убит своими же приближенными в Михайловском замке, окруженном рвами с подъемными мостами, охраняемый множеством стражей.
Весть о смерти императора была встречена всеобщей радостью. На улицах обеих столиц разгуливали толпы разряженного народа. Снова появились франты в круглых шляпах, цветных жилетах и модных башмаках. Князь Сергей Федорович с сыном готовился к отъезду в столицу, куда их звали старые друзья. Надо было начинать новую жизнь и Крылову, похоронившему себя в глуши на целых восемь лет!
Умолк рев Норда сиповатый,
Закрылся грозный, страшный взгляд, —
писал Державин по поводу смерти Павла. Казалось, что на смену леденящему Норду пришла весна, наступило время благополучия и милосердия.
В манифесте, объявленном при вступлении на престол, новый император заверял, что он будет: «Управлять богом нам врученный народ по законам и по сердцу в бозе почивающей августейшей бабки нашей государыни императрицы Екатерины Великия, коея память нам и всему Отечеству вечно пребудет любезна, да по ее премудрым намерениям шествуя достигнем вознести Россию на верх славы и доставить ненарушимое блаженство всем верным подданным нашим…»
Мрачный Михайловский замок уже не пугал проезжих и прохожих своей тюремной гранитной тяжестью. Вновь по вечерам освещены были окна Зимнего дворца, где поселился молодой император. К дворцу подъезжали кареты, из которых весело выпрыгивали изящные дамы с обнаженными плечами, сверкающие брильянтами и улыбками. По улицам народ ходил без опаски, не пугаясь хриплого окрика императора.
Дворцовый переворот 11 марта показал, что деспотические методы правления опасны. Молодой император обещал новую, либеральную эру. Он обласкал екатерининских вельмож, одарил участников переворота, провозгласил широкий путь либеральных реформ. Учреждение министерств, указ об эфемерных «правах» Сената, усовершенствование бюрократической машины, некоторое облегчение цензурного гнета и полицейского режима, прекраснодушные речи самого императора должны были создать видимость преуспевания, начала новой, счастливой поры. Но за этой внешней стороной его деятельности скрывалось желание посредством уступок и улучшений сохранить незыблемость самодержавия.
Александр очень скоро удалил участников события 11 марта, опасаясь скомпрометировать себя связью с убийцами отца, действовавшими с его ведома и согласия. Не менее решительно он отстранил и деятелей «в бозе почивающей августейшей бабки», желавших принять на себя управление государством, расширив права Сената.
«Ненарушимое блаженство» подданных должен был установить сам император. Александр привлек к разработке проектов либеральных преобразований своих «молодых друзей»: Строганова, Новосильцева, Кочубея, Чарторижского, образовав из них «негласный комитет». Но, достигнув власти, он вовсе не собирался ее с кем-нибудь делить или связывать себя серьезными обязательствами. «Молодые друзья» теперь тоже повзрослели и перестали быть «якобинцами», а во многих вопросах были даже более умеренны, чем старики екатерининских времен. Да и с «друзьями» император не очень-то считался.
Надежды постепенно сменялись неуверенностью: «новый порядок» оказался хрупким и зыбким. Основные вопросы государственной жизни и прежде всего вопрос о крепостном праве оставались нерешенными.
Князь Сергей Федорович Голицын был обласкан молодым императором. Он получил ответственное назначение на должность лифляндского военного губернатора. Отправляясь в Ригу на место службы, Голицын взял с собою и Крылова.
Они побывали в Москве и Петербурге. В Петербурге Голицын выхлопотал Крылову официальное назначение на должность правителя канцелярии, на которую тот и был определен с 5 октября 1801 года.
По дороге из Казацкого Крылов заехал к своему другу Рахманинову. Вскоре по отъезде Крылова из столицы вышло второе издание «Почты духов» у петербургского книготорговца Свешникова. Крылов усилил в этом издании лишь место, направленное против деспотизма. Новое издание журнала являлось успехом, хотя «Почта духов» по-прежнему была напечатана без имени автора.
В Петербурге Крылов встретился и с Клушиным. За эти годы Александр Иванович преуспел. Он давно отказался от якобинских идей, удачно женился и занимал теперь должность театрального цензора. Незадолго до встречи со старым приятелем он издал оперу Крылова «Американцы». В ней с сочувствием говорилось о свободной жизни американских индейцев и осуждалась жестокость испанских завоевателей. Клушин сохранил стихотворные куплеты Крылова, но прозаический текст оперы заменил своим собственным, снабдив издание предисловием, в котором отмечал, что, «кроме стихов, в ней не осталось ни строки, принадлежащей перу г. Крылова». Это было явное самоуправство. Но особенно возмутило Крылова то, что Клушин написал хвалебную оду по случаю пожалования Андреевской ленты графу Кутайсову, бывшему фавориту Павла I, который принимал непосредственное участие в его убийстве. Граф снискал этим благоволение нового императора и стал опять делать карьеру. Клушин прочел оду приятелю. Крылов не смог одобрить его корыстного расчета и подхалимства перед убийцей своего покровителя. Он прямо сказал Клушину, что печатать такое произведение бесчестно, и посоветовал уничтожить оду. Клушин не внял голосу друга, и они прекратили знакомство. Даже много лет спустя, вспоминая эту историю, Крылов не мог сдержать негодования: «Он (то есть Клушин), — рассказывал Крылов Жихареву, — точно был умен… и мы с ним были искренними друзьями до тех пор, покамест не пришло ему в голову сочинить оду на пожалование Андреевской ленты графу Кутайсову…» — «А там поссорились?» — «Нет, не поссорились, но я сделал ему некоторые замечания насчет той цели, с какою эта ода была сочинена, и советовал ее не печатать из уважения к самому себе. Он обиделся и не мог простить мне моих замечаний до самой своей смерти, случившейся года три назад».
В Москве Крылов посетил Сандуновых и оставил им одноактную комедию «Пирог», написанную в Казацком. Он снова соприкоснулся с литературной средой, узнал новости, встретил многих из своих прежних друзей. Но Крылов еще не решался стать снова на путь сочинительства. Ему хотелось осмотреться, понять, что происходит кругом. Ведь прошло много лет бесплодных скитаний, унижений, вынужденного безделья, тревожной настороженности.
Теперь, казалось бы, наступило освобождение. Можно снова возвратиться к прежней жизни. Однако Крылов стал недоверчив. Ведь именно бабка императора, который объявил, что во всем станет ей следовать, вынудила его оставить литературу и скитаться по Руси неприкаянным странником. «Зови день по вечеру, днем не сеченный», — повторял Иван Андреевич народную пословицу. Да и начинать все заново было нелегко. Ведь у него нет ни средств, ни друзей. Рахманинов затворился в своей Казинке. Дмитревский состарился.
Ничего другого не оставалось, как принять предложение князя Голицына и с ним вместе отправиться в Лифляндию. Лишь в самом конце 1801 года они, наконец, добрались до Риги.
Рига была в то время оживленным портовым городом, через который шла торговля с заграницей. В ней имелось много ремесленных и мануфактурных предприятий, рижские купцы и цеховые старосты образовали магистрат, определявший порядок торговли. Купеческие гильдии и ремесленные цехи сохраняли еще средневековые традиции. В городе задавали тон немецкие купцы и бюргеры, упорно державшиеся за свои привилегии.
Одной из главных задач, стоявших перед Голицыным и русской администрацией, являлась ликвидация этих средневековых порядков и борьба с засильем немецкого бюргерства. Еще в конце екатерининского царствования были решительно урезаны права гильдий и цехов и введено русское торговое право. Но Павел отменил эти указы, и Голицыну предстояло вновь вводить изменения в деятельность гильдий и цехов, что создавало напряженные отношения с магистратом.
Рига поразила Крылова узкими улочками, остроконечными двухэтажными домиками, крытыми красной черепицей, с резными флюгерами на крышах. Массивный Домский собор с великолепным органом, угрюмая Пороховая башня, Дом Черноголовых, построенный рижскими купцами еще в XIV веке, городская ратуша придавали городу средневековый вид. Латышская и немецкая речь, национальные костюмы крестьян, педантическая чистота на улицах, размеренно-медлительный темп жизни — все это делало Ригу так не похожей на русские города.
Русской администрации приходилось нелегко. Надо было все время разрешать бесконечные споры и недоразумения, происходившие от смешения прежних порядков и нововведений. Лифляндские дворяне, спесивые немецкие купцы и бюргеры, негоцианты всех национальностей, простые латыши неизменно толпились в губернаторской канцелярии, приходили с многочисленными жалобами.
Хлопотливая служба в канцелярии Голицына мало привлекала Крылова. Нередко под предлогом срочных дел он удалялся в свою комнату и там безмятежно отсыпался. Не прошло и двух лет, как служба стала для него невыносимой. Пребывание в канцелярии, выслушивание бесконечных жалоб местных жителей, тоска по России — все это заставило Крылова просить князя Голицына отпустить его из Риги. Наконец осенью 1803 года князь согласился и выдал ему следующий аттестат:
«Отдавая справедливость прилежанию и трудам служившего при мне секретарем губернского секретаря Крылова, сопрягавшего с расторопностью, с каковою он выполнил все на него возложенные дела, как хорошее познание должности, так и отличное поведение, долгом почитаю засвидетельствовать сим, что достоинства его заслуживают внимания. Рига, Сентября 26-го дня 1803 года».
Они расстались друзьями. Крылов благодарен был князю за то, что тот выручил его в тяжелое время.
Он возвратился в Россию, по которой так тосковал. И направился прямо к брату в Серпухов, где тот проживал, вернувшись из заграничного похода под знаменами Суворова. Они не видались уже много лет. Левушка немало времени провел в походах, но оставался таким же беспомощным и робким, словно ему не пришлось переходить через Альпы и участвовать в опасных сражениях. Иван Андреевич сильно изменился: обрюзг, стал тяжел на подъем, флегматичен. Годы разочарований и вынужденного безделья наложили на него свою печать.
Многие из участников итальянского похода получили награды, повышения в чинах. Но скромный и застенчивый Левушка как был подпоручиком, так и остался им. Начальство постоянно о нем забывало. Он разделил судьбу их отца. Левушка жил бедно. Жалованья едва хватало на пропитание и одежду. Иван Андреевич в те редкие минуты, когда бывал при деньгах, посылал ему небольшие суммы и подарки. На этот раз он привез брату часы и скрипку. Левушка, как и старший брат, любил по вечерам играть на скрипке жалостные мелодии или читать книжки. Он был совершенно одинок, и весь свет сосредоточивался для него на его «тятеньке», которого Лев Андреевич трогательно, по-детски обожал. Время от времени он писал старшему брату письма с жалобами на свою грустную участь, на которые Иван Андреевич редко когда отвечал.
Серпухов оказался маленьким деревянным городком на берегу красавицы Оки, в ста верстах от Москвы. Там стоял Орловский мушкетерский полк, в котором служил Лев Андреевич. По вечерам в стареньком деревянном домике, где квартировал Левушка, собирались сослуживцы, товарищи по полку. Начинались бесконечные рассказы о недавних походах, пережитых опасностях, славных подвигах. Отчаянно дымились трубки, беспрестанно наполнялись стаканы пуншем. Ивана Андреевича было трудно подпоить. Он кушал с большим аппетитом и помногу, но пил умеренно. Да и пунш производил действие скорее на его ноги, чем на голову.
Иногда и старший брат рассказывал забавные истории о себе. Так он, смеясь и подшучивая, изобразил однажды индуса-фокусника, которого видел в Риге. Особенно большое впечатление на Ивана Андреевича произвел номер с мячиками. Индус ловко бросал и ловил по пять-шесть мячиков зараз, а потом закружил их вокруг головы так, что получился своего рода венок из стремительно пляшущих мячиков. Иван Андреевич решил и сам проделать этот номер. Придя домой, он закрылся в комнате на ключ и принялся упражняться в этом искусстве. В конце концов он наловчился жонглировать мячами не хуже индуса. Рассказывая эту историю, Иван Андреевич тут же продемонстрировал свое уменье на стоявших на столе рюмках.
В Серпухове время проходило медленно, незаметно. Крылов много ел, много спал, много рассказывал. И все же оно прошло слишком быстро. Левушке нужно было отправляться с полком на ученье, а Иван Андреевич продолжал свое странствование. Нам мало что известно об этом периоде жизни Крылова. Вскоре он возвратился в Москву, к тамошним друзьям и знакомым.
«Ты очень жалостлив, — сказала Трость в ответ, —
Однако не крушись: мне столько худа нет.
Не за себя я вихрей опасаюсь;
Хоть я и гнусь, но не ломаюсь:
Так бури мало мне вредят;
Едва ль не более тебе они грозят!..»
Москва веселилась. Каждый день давались званые балы, тянувшиеся до поздней ночи. По зимним улицам разъезжали на лихих тройках. Устраивались пышные маскарады. Особое многолюдство было в театре. Играли три труппы: русская в театре Медокса на Петровке, французская оперная и немецкая, ставившая пьесы Шиллера и чувствительные мелодрамы. Москвичи стали завзятыми театралами.
Крылов снова жил в Москве, вернулся под гостеприимный кров Елизаветы Ивановны Бенкендорф. Дом Елизаветы Ивановны служил для него тихой пристанью. Здесь он мог осмотреться, не спеша подумать о том, что делать дальше. Дом был большой, обжитой, по-московскому хлебосольный. Он находился возле Страстного монастыря. Иван Андреевич поселился во флигеле, во дворе. Там жили кучера, повар, слепой старичок Петр Иванович, какие-то старушки. «Моя инвалидная команда», — как шутя говорила Елизавета Ивановна. За стол садилось человек пятнадцать, потому что, помимо своих, приходили званые и незваные визитеры, и их тоже оставляли обедать. Если накануне не было бала, то вставали и пили чай рано. Елизавета Ивановна сразу же принималась хлопотать по хозяйству, выслушивала доклад своего главного министра — Якова Ивановича, ужасалась тому, как много идет денег на расходы по дому, а из деревни их не шлют, что деньги текут, как сор… Иван Андреевич в это время беседовал с девятилетней дочкой Елизаветы Ивановны — Сонечкой, с которой очень подружился. Они стали закадычными друзьями — солидный мужчина и маленькая голубоглазая девочка, похожая на светлокудрую фею. Он рассказывал ей забавные истории, позволял бесцеремонно перебивать себя и расспрашивать. С девочкой-подростком Крылов чувствовал себя особенно спокойным и, пожалуй, счастливым.
Особенно любила Сонечка, когда Иван Андреевич изображал в лицах сказочных зверей. Он становился при этом то настоящим волком с устрашающе оскаленной пастью, то хитрой лисицей, приветливо-лицемерно машущей пушистым хвостом, то неуклюжим медведем, добродушно протягивающим большую лапу. Эти превращения немало смущали чопорную француженку-гувернантку, с испугом глядевшую на Крылова из дальнего угла гостиной.
Потом он отправлялся гулять по Москве. На каждом шагу его встречали церкви и церковенки с пузатыми, как луковицы, куполами, стремящимися кверху колокольнями и звонницами, с нищими старушками на папертях. Одних только Никол было видимо-невидимо: Никола явленный, Никола дербентский, Никола — большой крест, Никола — красный звон, Никола — на щепах, Никола — в столпах, Никола — в кошелях, Никола — в драчах, Никола — в воробине, Никола — на болвановке, Никола — в котелках, Никола — в Хамовниках, Никола — на курьих ножках!..
Но Крылова влекли не церкви: он не отличался набожностью. Иван Андреевич любил народные сборища, кипение жизни, шумные гулянья. В особенности занимало его гулянье в Сокольниках, на которое стекалась вся Москва. Множество людей всякого звания толпилось там среди богатых турецких и китайских палаток с роскошно накрытыми столами и крепостными оркестрами, принадлежавшими знатным вельможам и богачам, среди чуть прикрытых сверху тряпками хворостяных шалашей с дымящимся, продавленным с боков самоваром и единственным бойко поющим пастушьим рожком. По дорогам и аллеям красовались модные кареты, запряженные цугом, и древние, прапрадедовские колымаги и рыдваны, щеголявшие веревочной сбруей. Кругом повсюду веселились, горланили песни, плясали барыню, захмелев от браги и ерофеича. Крылов под вечер возвращался домой, словно обновленный.
Как-то раз проходя по Тверской, Иван Андреевич заметил необычную афишу:
«КИНЕТОЗОГРАФИЯ.
Г. Робертсон имеет честь известить, что представление кинетозографии вскоре прекратится; он приглашает почтенных особ, коим еще неизвестны представления механических картин, его удостоить своим присутствием. Он продолжает представлять бурю на открытом море, со всеми случайностями кораблекрушения; сия картина ныне доведена до своего совершенства. Гидравлические эксперименты над водою и огнем будут представлены сегодня, завтра и в понедельник, против театра на Петровке, в 6 1/2 ч. пополудни».
Из любопытства он пошел на сеанс «кинетозографии».
Это был крошечный театр, состоящий из нескольких перемен разных видов: то Зимний дворец с огромной площадью перед ним, то селение с церковью, то прозрачное озеро с рощами вокруг него. По озеру плавали лодки, по небу ходили прозрачные облака, затем темнело, и выплывала полная луна! Наконец происходила и страшная буря на море. Взмывали до самых небес сердитые, черные волны. Корабль тонул. Матросы на шлюпке носились по волнам… Иван Андреевич даже подумал: не символ ли это его тревожной и походной жизни? Не такова ли и его горькая доля?
У Елизаветы Ивановны устраивались вечера, и на них приглашали московских сочинителей — читать стихи, рассуждать о новостях. Их ожидал обильный ужин. Собиралось избранное общество. В этот вечер пришел старый знакомец Крылова — Иван Иванович Дмитриев. С ним и другой московский стихотворец, всеобщий любимец и забавник — Василий Львович Пушкин. Василию Львовичу нравилось быть популярным. Он щегольски одевался, затягивался в корсет, носил на ленте лорнет. Во франтовском жилете, фраке мышиного цвета, в пышном накрахмаленном жабо, он сидел в кресле около Дмитриева и с упоением рассказывал о недавнем путешествии во Францию. Иван Иванович слушал его с серьезным, исполненным достоинства видом и слегка улыбался. Василий Львович был давним другом Дмитриева и единомышленником. Тут же находился Павел Иванович Кутузов — сенатор-стихотворец, попечитель Московского университета, ярый враг Карамзина. Вокруг них столпились молодые дамы и девицы — любительницы поэзии. Иван Андреевич сидел на диване и молча слушал.
Разговор зашел о модном тогда сочинительстве стихов на заданные рифмы — буриме. Василий Львович считался великим искусником на такие стихи. Одна из молоденьких девиц заметила, что Павлу Ивановичу подобных стихов не написать. «Да знаете ли вы, сударыня, что я на заданные рифмы лучше всякого стихи напишу!» — вспылил честолюбивый сенатор. «Не напишете». — «Не угодно ли попробовать?» — обиженно предложил Павел Иванович. Девица осмотрелась кругом, подумала и, услышав, что кто-то из гостей с жаром толковал о персидской войне и наших пленных, сказала: «Извольте: вот вам четыре рифмы: плен, оковы, безмен, подковы. Даю вам сроку до конца ужина». Павел Иванович с раскрасневшимся лицом вынул карандаш и погрузился в думу. Через несколько минут он с торжеством воскликнул: «Слушайте, сударыня! А вы, господа, будьте нашими судьями!» — и начал громко читать сочиненные им стихи:
Не бывши на войне, я знаю, что есть плен,
Не быв в полиции, известны мне оковы,
Чтоб свесить прелести, не нужен мне безмен,
Падешь к твоим стопам, хоть были б и подковы.
Все захлопали в ладоши и стали хвалить стихи. Один лишь Василий Львович помрачнел и молчал. Иван Андреевич незаметно улыбался. «Неужели можно тешиться подобными пустяками? — думалось ему. — Разве это литература? Забава для гостиных, развлечение в праздном времяпрепровождении».
Заговорили о французах и Наполеоне, о возможной войне с ним. Дмитриев стал рассказывать о том, как на днях какой-то помещик, отставной прапорщик и громогласный толстяк, в великом раздражении на французов кричал в Английском клубе: «Подавай мне этого мошенника Буонапартия! Я его на веревке в клуб приведу». Один из посетителей клуба спросил у Василия Львовича: не известный ли это генерал и где он служил? На этот вопрос, продолжал Дмитриев, Василий Львович ответил блестящим экспромтом. Все стали просить, чтобы Пушкин их познакомил со своими стихами. Василий Львович снова расцвел, почувствовав себя в центре внимания. Он заулыбался, поправил жабо и повторил свой удачно составленный экспромт:
Он месяц в гвардии служил
И сорок лет в отставке жил.
Курил табак,
Кормил собак,
Крестьян сам сек —
И вот он в чем провел свой век!
Все рассмеялись. Василий Львович был очень доволен и, чтобы закрепить свой успех, стал пресмешно рассказывать про то, как московские модницы тратят бешеные деньги на наряды во французском магазине на Кузнецком мосту у мадам Обер-Шальми. Эту мадам давно уже прозвали Обер-шельмой — столько доверчивых людей она разоряет.
Крылову рассказ понравился. Модные лавки стали настоящим бичом. Иностранные проходимцы пользуются доверчивостью московских барынь, их погоней за модой и безжалостно обирают их. Он тут же подумал, что стоит написать об этом комедию.
Тем временем гости перешли в столовую и уселись за ужин. За ужином Иван Андреевич много и со вкусом ел, не утруждая себя разговорами. Крылов давно не имел собственного угла и за годы скитаний привык чувствовать себя как дома под любым кровом. Находясь постоянно на людях, он наблюдал за ними, слушал разговоры окружающих, подмечал их характерные черты. Сам он теперь предпочитал сохранять молчание и редко говорил о своей жизни и о себе. Он словно копил наблюдения, услышанные разговоры, пережитые события на будущее.
Афиша торжественно извещала о том, что «Сего 1804 года, января 25 дня, в воскресенье, на Петровском театре представлена будет в первый раз новая комедия в одном действии, соч. г. Крылова: „ПИРОГ“ в пользу актера и актрисы Сандуновых». Помимо комедии, шла в этот день и модная опера «Русалка», в которой г-жа Сандунова выступала с особенным успехом. Спектакль давался для бенефиса Сандуновых и должен был поправить их материальные дела, так как давно уже дирекция театра не выплачивала актерам жалованья.
Для Крылова этот спектакль явился большим событием. Два года тому назад в Петербурге его комедия была играна, но прошла незаметно, да и сам он в это время находился в Риге и не смог присутствовать на представлении. В Москве он впервые появился в качестве автора новой комедии. Это означало возвращение в литературу, конец длительной и тягостной неизвестности. Иван Андреевич волновался. Как примет публика его комедию? Как ее сыграют актеры?
Подходя к театру, он все острее чувствовал нараставшую тревогу. Войдя через одну из четырех дверей в парадные сени, Крылов разделся в гардеробной, поднялся по лестнице, освещенной по бокам двумя фонарями, и прошел в галерею, из которой был вход в бенуарные ложи и партер. Он забрался в самый дальний угол ложи и стал осматривать огромный многоярусный зал, уже наполовину заполненный зрителями.
Представление началось с «волшебной оперы» «Русалка» венского композитора Кауера, уже завоевавшей громкий успех как в столице, так и в Москве. Арии из «Русалки» напевались всеми — и старыми и малыми, на балах исполнялись танцы из этой оперы, учителя музыки обязательно должны были поставлять московским девицам темы и вариации из «Русалки». Даже лакеи и мастеровые, гуляя под качелями и приветствуя своих красавиц из числа горничных и модисток, слышали в ответ на комплименты игривые куплетцы из той же «Русалки».
Театр скоро наполнился. Занавес поднялся, и «волшебная опера» со множеством чудесных превращений и фантастических приключений началась. На глазах у зрителей обыкновенный стол превращался в постель, сделанную из тростника, и на ней спала прелестная девушка. Подымалась буря, раздавался гром, сверкала молния, из волн являлись русалки, вооруженные луками. Лежавшие у водяной мельницы мешки с мукой подымались со своих мест и начинали танцевать. Комический герой Тарабар, убегая от танцующих мешков, скрывался за дерево, которое неожиданно превращалось в ветряную мельницу.
Душой оперы была Лизанька Сандунова. Она появлялась одетая то ребенком, то мужчиной, то девочкой, то русалкой, постоянно меняя грим, платье, голос и увеселяя публику игривыми песенками:
Мужчины на свете,
Как мухи, к нам льнут:
Имея в предмете,
Чтоб нас обмануть…
За годы, прошедшие со времени их встреч в Петербурге, Лизанька заметно потолстела, утратила легкость движений и не могла уже так бойко плясать и прыгать, как когда-то восемнадцатилетней девушкой. Зато она вновь порадовала своим чудесным серебристым голосом. Публика была в восторге и без конца ее вызывала.
В антракте Крылов сердечно поздравил свою давнюю приятельницу. После шумного успеха «волшебной оперы» должна была идти его комедия. Это было не очень удачно. Ведь публика уже насмеялась, насмотрелась, устала, а комедия мало кому известного автора ее не очень-то интересовала. Многие из зрителей бельэтажа и партера даже не остались на нее. Вся надежда была на Силу Николаевича. Он играл ловкого, продувного слугу Ваньку, хитроумно обкручивающего вокруг пальца своих недалеких господ.
Первая сцена — разговор Ваньки с мужиком — вызвала громкий смех зрителей. Сандунов так натурально, так забавно представлял ловкого слугу, так удачно перенял лакейские повадки, что нельзя было не смеяться. Весело прошло и объяснение Ваньки со своей приятельницей, горничной Прелесты — Дашей, когда, обсуждая дела господ, они за милую душу убирают всю начинку в пироге, который должен был поднести в качестве жениховского подарка мот и вертопрах Фатюев, хозяин Ваньки.
Однако появление помещичьей четы: Вспышкина и Ужимы, жеманной и восторженной модницы не первой молодости, которая желала выдать дочь за Фатюева, — не было по достоинству оценено зрителями. В Ужиме Крылов хотел показать карикатурный портрет провинциальной барыньки, которая начиталась чувствительных романов и ничего не видит в окружающей ее жизни. Ужима пеняет своему вспыльчивому и простодушному муженьку за его невнимание к ее тонкой натуре:
Ужима:…А я так думала, сударь, что, приехавши сюда за город, мы будем наслаждаться приятным воздухом; что мы где-нибудь сядем у ручейка; что вы станете целовать мои руки, а я буду отвечать на ваши нежности умильными взорами.
Вспышкин (передразнивая): Умильными взорами! Экая тебе на старости в голову дичь лезет! А это все твои романы. Я давно знал, что ты когда-нибудь с ума от них сойдешь.
Препирательство супружеской четы заканчивалось на том, что супруги решали не отдавать свою дочь за Милона, которого она любит, а обвенчать ее тотчас же с Фатюевым, обещавшим по этому случаю прислать на гулянье великолепный пирог. В дальнейшем выяснялось, что пирог — без начинки. И наладившаяся было свадьба расстраивалась, к вящему удовольствию Прелесты и Милона.
Зрители смотрели пьесу довольно равнодушно. Хлопали и смеялись лишь тогда, когда появлялся Сандунов. По окончании спектакля юбиляров вызывали на сцену, без конца аплодировали артистам, но об авторе комедии никто даже не вспомнил. То ли его ирония над чувствительными дамочками не дошла до зрителей, то ли самое исполнение комедии было слишком бледным?.. Крылов тихонько вышел из ложи и стал спускаться по лестнице. Он был огорчен. Неужели «Пирог» хуже этой нелепой «волшебной оперы»?
Он пробрался в актерскую уборную. Тускло чадили догоравшие сальные свечи. Лизанька, Сила Николаевич уже разгримировались и переоделись. Все вместе они отправились к Сандуновым, чтобы завершить этот знаменательный день. Пришел Плавильщиков и, казалось, одним собой занял всю комнату. Пришел брат Сандунова — Николай Николаевич, сенатский чиновник, переводчик «Разбойников» Шиллера, человек широко образованный. Там же сидел в углу седой, но довольно бодрый старичок, бывший суфлер, которого называли «дедушкой». Он зарабатывал на пропитание перепиской ролей, каллиграфически выводя круглые, как жемчуг, буквы.
Плавильщиков был всем недоволен. Он ходил по комнате большими шагами и хулил молодых людей, которые горят желанием поступить на сцену, а сами едва читать умеют, да вместо голоса у них какое-то шипенье. «Если имеешь орган и чистое произношение, — гремел великан, — то есть и возможность заставить слушать себя. Вот, говорят, в Петербурге славятся актеры — Шушерин и Яковлев! Ну, Шушерин еще и так и сяк, а Яковлев — неуч!»
Сила Николаевич слушал Плавильщикова с откровенной иронией. Он был остер на язык и неуживчив. Рассорился со всей актерской братией, даже между ним и Плавильщиковым пробежала черная кошка. Один лишь «дедушка» безмятежно сидел за столом, ожидая начала ужина. За бутылкой бархатного «дедушка» разговорился. Он знал наизусть все пьесы, которые суфлировал за сорок пять лет, и все закулисные похождения и сплетни. «Дедушка» вспоминал прежних петербургских актеров и даже осмелился восстать с критикой на Дмитревского, который, по его мнению, был человек умный, вежливый и тонкий придворный, но, в сущности, не имел ни сильных чувств, ни звучного органа, читал стихи и прозу нараспев и гонялся за эффектами.
Постепенно вся компания пришла в веселое настроение. Лизанька спела забавные куплеты, сочиненные Николаем Николаевичем:
Чернобровы, белокуры
Не откажут ни одна,
Денег не клюют лишь куры,
А любовь до них жадна…
Николай Николаевич любил театр и много писал и переводил для сцены и при всей солидности своей сенатской должности постоянно вращался среди актеров. Он о чем-то заспорил с братцем и в пылу спора сказал: «Тут, сударь, и толковать нечего: вашу братью всякий может видеть за рубль!» — «Правда, — отрезал Сила Николаевич, — зато, вашей братьи без красненькой и не увидишь!»
Словом, вечер удался на славу. Лишь под утро Иван Андреевич добрался до дому. Постановка его комедии, споры о театре, самый факт появления его имени на афише — все это встряхнуло Крылова, пробудило его от долгой спячки. Ему вновь захотелось писать для театра, увидеть освещенную сцену, услышать гул голосов зрителей, почувствовать чад свечей, освещающих зал.
Он не мог примириться с тем, что на театре с таким успехом идут глупейшие немецкие оперы и французские комедии, а русские ставятся редко и не пользуются вниманием публики. Даже знаменитая комедия Фонвизина «Недоросль» и та почти исчезла из репертуара! Надо поднять русский театр, дать актерам возможность проявить себя в пьесах, где герои будут взяты из жизни. В нем созрело решение написать комедию нравов, создать русскую оперу, которая заменила бы безвкусное изделие венского композитора. Иван Андреевич принялся за работу. Он просиживал долгие вечера при скудном свете свечи, исписывая неразборчивым, мелким почерком узкие листы бумаги. Комедия называлась «Модная лавка». С ее персонажами он был давно знаком. Он видел их в провинции и здесь, в Москве. Пусть узнают себя в его комедии легковерные провинциальные помещицы, их мужья и их глупенькие дочки!
Как-то раз Крылов листал томик басен любимого им Лафонтена. Ему попалась на глаза басня «Дуб и Трость». Он ее вновь и вновь перечитал. Французский фабулист хорошо знал жизнь, и ему тоже нелегко приходилось при дворе Людовика XIV. В своей басне он рассказывает про спор между могучим Дубом и слабой, легко гнущейся от ветра Тростинкой. Дуб горд сознанием своей силы и жалеет Тростинку, вынужденную склоняться от малейшего дуновения. Но налетела буря и вырвала могучий Дуб с корнями, а гибкая Тростинка, припавшая к земле, уцелела! Крылову показалось, что в этой басне говорится о нем самом. Ведь и он, подобно Тростиночке, не раз припадал к земле, и бури, бушевавшие вокруг, оставляли его невредимым! Тогда как многие могучие дубы оказались вырванными с корнем. Радищев, Новиков…
Иван Андреевич начал переводить эту басню. Работа давалась нелегко. Следовало сохранить краткость и точность французского баснописца и в то же время найти такие простые, ясные слова, которые исчерпывающе передавали бы смысл басни. Он зачеркивал, переправлял, тихонько читал вслух переведенные строки:
Тростинке как-то Дуб изволил сделать честь —
С ней разговор завесть:
«Куда тебя обидела природа! —
Он начал, — ведь тебе овсянка уж тяжка;
Чуть мелкой рябью лишь погода
Подернет по воде слегка,
Нагнешься так ты сиротливо!..
Не так, как я! Чело подъемля горделиво
До мест, где видишь ты небесную лазурь…»
Ему понравился перевод. Басня выходила какая-то своя, русская. Он даже поместил в нее скромную овсянку, птичку, о которой французский баснописец и вовсе не упоминал. Да и мелкая рябь, пробежавшая по поверхности воды, тоже его, крыловская! Он стал переводить дальше горделивую речь Дуба, предлагающего свою защиту Тростинке, и затем ее ответ:
«Ты очень жалостлив, — сказала Трость в ответ, —
Однако не крушись! мне столько худа нет:
Не за себя я вихрей опасаюсь —
Хоть я и гнусь, но не ломаюсь,
А ты еще во век не уклонял лица,
Как сдерживал порывы их ужасны;
Погнуть тебя досель все силы их напрасны!
Но подождем конца».
Едва лишь это Трость сказала,
Вдруг мчится с северных сторон,
Взвивая пыль столбом, ревущий аквилон,
Уперся Дуб; к земле Тростиночка припала,
Бунтует ветр, — удвоил силы он
И вырвал с корнем вон
Того, кто небесам главой своей касался
И в области теней пятою упирался.
Наконец Иван Андреевич закончил работу. Набело переписал басню.
Он и раньше пробовал свои силы в этом роде литературы, но лишь случаем, не придавая ему значения. Он вспомнил, как читал перевод басни Лафонтена Бецкому, а потом поместил несколько еще очень несовершенных басен в «Утренних часах». Да, это тот род литературы, в котором он может, не кривя душой, говорить то, что думает, продолжать свою деятельность сатирика!
Для начала, чтобы испробовать свои силы, он снова обратился к Лафонтену. Внимание его привлекла басня «La Fille»[12]. Иван Андреевич решил, что не станет ее буквально переводить, а напишет на ее сюжет свою собственную басню о русских нравах. Ведь и Лафонтен сюжеты для басен брал у древних баснописцев: Эзопа, Федра. В басне важен не сюжет, а его применение, его приноровление к нравам, ко времени. Иван Андреевич долго возился с этой басней: надо было найти каждую деталь, сжато передать капризы невесты, пренебрегавшей женихами и в конце концов наказанной за свою спесивость тем, что ей пришлось выйти замуж за калеку. В басне возникал сочно и живописно обрисованный русский быт, московские невесты-жеманницы. Он старался подобрать такие слова, такие обороты, чтобы басня звучала подлинно по-русски, так, как говорил народ. Что греха таить? Ведь даже басни самого Ивана Ивановича Дмитриева, которого поклонники почтительно называют «русским Лафонтеном», написаны хотя и правильным, но книжным, салонным слогом.
Крылов за годы скитаний досконально изучил язык народа, полюбил остроумие, меткость и живописность русских пословиц и поговорок, находчивость крестьянского просторечия. Он начал свою басню с живой, наглядной картины:
Невеста-девушка смекала жениха:
Тут нет еще греха.
А вот что грех: она была спесива!
Сыщи ей жениха, чтоб был хорош, умен,
Не ветрен, не угрюм, имел бы миллион.
И в лентах, и в чести, и молод был бы он:
К середнему сему была она брюзглива
(Красавица была немножко прихотлива):
Ну, чтобы все имел — кто ж может все иметь?
Еще и то заметь,
Чтобы любить ее, а ревновать не сметь.
Хоть чудно, только так она была счастлива,
Что женихи, как на отбор,
Презнатные катили к ней на двор.
Но в выборе ее и вкус и мысли тонки:
Такие женихи другим невестам клад,
А ей они на взгляд
Не женихи, а женишонки!..
Это было торжество живой, полнокровной народной речи. Тут и спесивая
Иван Андреевич еще немало потрудился над своими басенками, пока не достиг желаемого совершенства. И вот как-то утром, оставшись наедине с Сонюшкой в гостиной, он вместо сказки прочитал ей басню. Девочка слушала с восхищением. Иван Андреевич так славно читал, так наглядно изображал могучий Дуб и тонкую Тростиночку. А в дверях гостиной столпились горничные девушки, ключница, лакеи и тоже затаив дыхание слушали…
Ему захотелось поделиться своим трудом с кем-нибудь из авторитетных судей, услышать их мнение. Крылов подумал о Дмитриеве. Иван Иванович обладает тонким вкусом, он хороший стихотворец и давно пишет басни. Его суждение весьма важно: Дмитриев — признанный и неоспоримый авторитет.
Дмитриев недавно ушел в отставку и обосновался в Москве. Он купил у Красных ворот в приходе «Харитония в огородниках» небольшой деревянный домик с садиком. Переделал домик по своему вкусу, украсил комнаты эстампами, разместил библиотечку. Каждое утро и каждый вечер обходил он свой садик, следя за деревьями и цветами, ухаживая за ними с превеликим тщанием. В саду росли две старые тенистые липы, прозванные Филимоном и Бавкидою.
Иван Иванович встретил Крылова с сердечной приязнью. Крылов застал его за работой. Дмитриев переписывал свое послание Державину в ответ на стихи, присланные ему российским Пиндаром без подписи. С воодушевлением прочел он их Крылову:
Бард безымянный, тебя ль не узнаю?
Орлий издавна знаком мне полет.
Я не в отчизне, в Москве обитаю,
В жилище сует!
Закончив чтение, Дмитриев извинился за свое навязчивое желание поделиться новыми стихами. «У нас здесь в Москве был некто Левашов, весьма образованный и приятный человек, но отличавшийся неумеренным пристрастием к пиву, — смеясь, рассказывал он Крылову. — В гостях, однако, он совестился частых требований любимого напитка и выражал свое желание разными способами: то повелительным голосом приказывал слуге подать ему стакан пива, то просил вполголоса, а то мельком, незаметно, будто среди разговора. Вот так и я — не могу удержаться, чтобы не прочесть новые стихи».
Крылов заверил Ивана Ивановича в удовольствии, полученном от прослушанных стихов, и признался, что и сам пришел с подобной же целью.
Иван Иванович внимательно выслушал басни и принялся горячо хвалить: «Это истинный ваш род, наконец вы нашли его!» Он сделал несколько тонких замечаний по поводу отдельных фраз и предложил Крылову оставить басни для передачи князю Шаликову, который с начала нового года собирается издавать журнал и ищет материалов. Дмитриев сам взялся написать князю и переслать ему рукопись.
Князь Шаликов был известен в Москве своим жеманным и курьезным поведением, чувствительными стишками, предназначенными для прекрасного пола, большим грузинским носом и необычайной глупостью. Над ним посмеивались и острили, но к нему привыкли, как к забавной принадлежности московских гостиных. Шаликов вечно суетился, кокетливо и претенциозно одевался, повязывал свою тощую шею то розовым, то голубым шелковым платочком. О нем ходили по Москве злые стишки одного остряка:
С собачкой, с посохом, с лорнеткой
И с миртовой от мошек веткой,
На шее с розовым платком,
В кармане с парой мадригалов
И чуть звенящим кошельком.
Пустился бедный наш Вздыхалов
По свету странствовать пешком!
«Вздыхалов» был вечно полон всяческих планов. На этот раз он задумал издавать журнал под названием «Московский зритель». Дмитриев переслал ему басни Крылова, и в начале января 1806 года они были напечатаны в первом номере журнала под общим заголовком «Две басни для С. И. Бнкндфвой» (то есть для Софии Ивановны Бенкендорфовой — Сонечки Бенкендорф) с примечанием «издателя»: «Я получил сии прекрасные басни от И. И. Дмитриева. Он отдает им справедливую похвалу и желает, при сообщении их, доставить и другим то удовольствие, которое они принесли ему… Имя любезного поэта обрадует, конечно, и читателей моего журнала, как обрадовало меня».
Басни не прошли незаметно. На них обратили внимание знатоки и любители поэзии.
Но Крылова уже не было в Москве. 22 октября 1805 года сгорел Петровский театр от неосторожности гардеробщиков. Это был непоправимый удар для московских актеров. Трудно было рассчитывать на скорую постройку нового театра, а пока что приходилось ютиться по залам московских меценатов, тесным и не приспособленным для спектаклей. Надежды на постановку в Москве пьес, над которыми Крылов начал работу, было мало. Иван Андреевич решил возвратиться в Петербург. Он с грустью распрощался с гостеприимным домом Елизаветы Ивановны. Печально было и расставание с Сандуновыми. Милая, располневшая Лизанька сердечно поцеловала Ивана Андреевича на дорогу.
На этот раз он уезжал из Москвы не как изгнанник. Он теперь знал себе цену. Он автор русской комедии и сочинитель басен.
Любя отечество, люблю я тех душой,
Которы общею не страждут слепотой;
На моды не смотря, привыкли тем гордиться,
Что привела судьба их русскими родиться.
В числе их ты, Крылов, — и, дочкам дав урок.
Соотчичей драгих являешь нам порок…
Петербург был встревожен. Беспокойство из дворца проникало в гостиные, на улицы, в купеческие лавки. Начинались пересуды. Опасливо, вполголоса говорили о Бонапарте, который хочет захватить всю Европу и свергнуть государей с их тронов. Среди простого народа ходили слухи об освобождении крепостных из помещичьей неволи.
Правительство опасалось роста недовольства и брожения. Был спешно создан комитет по «сохранению всеобщего спокойствия и тишины граждан», который стал ведать полицейскими мероприятиями вместо «Тайной экспедиции», уничтоженной Александром при восшествии на престол.
Крылов приехал в Петербург вскоре после возвращения Александра I из бесславного заграничного похода в Пруссию, завершившегося поражением под Аустерлицем. Император вернулся омраченным и раздражительным. Посыпались наказания, разжалования, немилости.
Новый император мечтал о военных и политических подвигах, о переделе Европы, о роли дирижера в европейском оркестре. Крушение этих планов разочаровало Александра, оттолкнуло его от той игры в либерализм, которой он начинал свое царствование. Он приблизил любимца покойного государя — генерала Аракчеева. Этот был строг и положителен в суждениях, тверд и надежен. Престолу нужны преданные слуги. Аракчеев снова стал делать карьеру.
Перед самым Новым годом, в разгар театрального сезона приехали в Петербург Сандуновы. Елизавета Семеновна играла с неизменным успехом все в той же «Русалке», а Сила Николаевич выступал в роли Скапена в мольеровской комедии «Проделки Скапена». Его Скапен был изворотлив, находчив, лукав, хитер, и публика все время разражалась аплодисментами. Крылов постепенно осматривался. Столица была по-прежнему красива. Замерзшая Нева блестела на солнце миллионами искр. Снег плотно покрывал проспекты и площади, казавшиеся особенно чистыми, и заглушал городской шум. Около театра и на площадях горели в железных клетях костры, вокруг которых грелись извозчики, дворники, солдаты, разносчики. Иван Андреевич любил постоять с ними, поболтать, послушать новости, запомнить острое, бойкое словцо.
Он сразу же оказался в хорошо знакомой ему среде. Долго обнимался с Дмитревским, старым, заботливым другом. Иван Афанасьевич сильно одряхлел и уже не выступал на сцене. На театре появились новые таланты — трагик Яковлев, комик Пономарев, актрисы Самойлова и Екатерина Семенова. Произошли перемены и в репертуаре. Со сцены не сходила «Днепровская русалка», ставившаяся по частям: в трех спектаклях. Пользовались успехом комедии и оперы князя Шаховского — «Беглец от своей невесты», «Коварный». Дамы охотно проливали слезы над исторической драмой Коцебу «Гуситы», в которой главную трагическую роль играл Яковлев.
Начался новый, 1806 год.
Иван Андреевич приехал в Петербург не с пустыми руками. У него была с собой написанная еще в Москве комедия «Модная лавка». Вспомнился первый приезд в столицу, когда он, четырнадцатилетний подросток, ввалился к Брейткопфу с рукописью «Кофейницы». Но «Кофейница» так и не попала на сцену. «Модная лавка» должна принести ему победу.
Он читал ее у нового законодателя столичного театрального мира князя Шаховского. Александр Александрович Шаховской служил начальником репертуарной части петербургских театров. Он сочинял комедии и драмы, а в молодости выступал в качестве актера в любительских спектаклях. Он поклонялся театру, жил для театра. В его квартире собирались актеры, начинающие драматурги, переводчики.
Крылова привел к нему Дмитревский. Шаховской жил у Калинкина моста. Они вошли в обширный кабинет. С левой стороны стояли шкафы с книгами, на шкафах бюсты древних философов и великих писателей. По стенам развешаны, с соблюдением строгого хронологического порядка, гравированные портреты замечательных людей во всех областях человеческих знаний. Ближе к окнам помещалась конторка для писания. По всей комнате разбросаны были диваны, диванчики, табуреты, многоразличные кресла.
Шаховской встретил их приветливо. Был он тучен, лыс. Маленькая голова посажена на обширное, круглое туловище: казалось, что князь сложен из двух надувных шаров — малого и большого. По бокам лысого черепа вились длинные, тщательно завитые волосы. Острый, горбатый нос выглядывал между мясистых одутловатых щек. Лишь маленькие карие глаза были полны огня и блестели из-под нависших бровей. Несмотря на раннюю тучность, Шаховской был быстр в движениях.
В кабинете находилось уже несколько актеров — Яковлев, Рыкалов, Пономарев, Бобров, Рахманова. Крылов читал поначалу вяло, сбиваясь с тона. Но ко второму действию он разошелся и стал придавать действующим лицам характерное выражение. Комедия начиналась со сцены в модной лавке мадам Каре. Молодой офицер Лестов беседует с модисткой Машей, крепостной его сестры. Лестов рассказывает ей о своей любви к Лизе, дочери курского помещика. Он познакомился с Лизою во время похода, остановившись на постой в имении ее отца. В лавку входит помещица Сумбурова, мачеха Лизы. Она приехала с мужем и падчерицей в Москву за модными туалетами. Вздорная, невежественная Сумбурова — раболепная поклонница французских мод и презирает все свое, русское. Увидав Машу, Сумбурова разочаровалась было, заподозрив, что ее привели в русскую, а не французскую лавку: «Право, так? виновата, душа моя! Услышала, что ты говоришь по-русски, я уж было испужалась. Мои скоты ведь ничего не смыслят: они и в самом деле готовы завести в русскую лавку, а мне надобны лучшие товары: я сряжаю приданое падчерице». Госпожа Сумбурова во многом похожа на столь ненавистный Крылову тип крепостницы помещицы, властной и своевольной, который он не раз уже показывал в своих пьесах. Выясняется, что Сумбурова задумала выдать падчерицу замуж за соседа помещика. Лестов решает привлечь на свою сторону Машу, чтобы она помогла ему расстроить этот брак и жениться на Лизе.
По сравнению с прежними пьесами «Модная лавка» была сценичнее: комедийные ситуации в ней разработаны гораздо тщательнее и правдоподобнее, превосходен живой диалог, сочно и метко передана речь каждого персонажа. Комедия написана превосходным русским языком, изобилующим народными выражениями и словечками. Удались Крылову и крепостные: Маша, Андрей — слуга Лестова и Антропка — слуга Сумбуровой. Антропка по деревенской наивности все время удивляется нелепости и дороговизне барских затей: «Так сюда-то наши бояра из такой дали деньги возят?» — спрашивает он у Лестова, прибавляя: «…Ужели эти наряды в будни носят, что их наделано так много?» Эти простодушные реплики оборачивались весьма ядовитой сатирой.
Неожиданно появляется Сумбуров, взбешенный тем, что его супруга отправилась во французскую лавку. Отругав жену, он уводит ее из лавки, приговаривая, что «ни одна французская душа моей копейки в глаза не увидит». Заурядный провинциальный помещик, но наделенный здравым смыслом, Сумбуров получился живым, полнокровным. Это наиболее удачный персонаж комедии. Желая излечить жену от французомании, Сумбуров предлагает Маше перейти к ним в портнихи, но внезапно появившаяся супруга истолковывает этот разговор как шашни своего мужа с Машей. События все более и более запутываются. Лестов похищает Лизу, чтобы тайно на ней жениться. Маша прячет в шкаф Сумбурову во время полицейского обыска в лавке, учиненного по доносу проходимца француза Трише. Комедия кончается тем, что Лестов спасает от скандала и огласки чету Сумбуровых и получает в награду руку Лизы.
Дело, однако, не в занимательности сюжета и комизме отдельных ситуаций, а в верности красок, в типичности героев, выхваченных Крыловым из жизни. Крылов продолжил традиции фонвизинсккх комедий, коснулся наболевших сторон русской действительности, показал характеры в острых комедийных положениях.
Слушатели были захвачены комедией. По окончании чтения все расхваливали пьесу и предсказывали ей большой успех. Хозяин дома шумно вскочил и, переваливаясь с боку на бок, подбежал к автору. «Ну, братец, разодолжил ты меня! — без конца повторял он. — Наши барыньки будут злы как осы! Это тебе не французские ракалии, — Шаховской в волнении всегда повторял это полюбившееся ему словечко, — а настоящая русская комедия!» Дмитревский радостно улыбался. Актеры поздравляли Ивана Андреевича, уставшего от долгого чтения. Он тяжело дышал, даже сюртук на спине промок от пота.
«Модную лавку» приняли к постановке. Начались репетиции, и 27 июля состоялся первый спектакль в Большом театре. Рыкалов был превосходен в роли Сумбурова. Рахманова неподражаемо исполняла роль его жены. Особенным успехом пользовался Пономарев, отлично сыгравший слугу Антропку. Публика полюбила комедию, и «Модная лавка» в течение многих лет не сходила со сцены.
В журнале «Лицей» появилась восторженная рецензия, автор которой писал: «Из одного содержания можно увидеть, как должна быть смешна сия комедия. Но автор употребил машины такие комические, что почти в продолжение всей пьесы смеешься».
Роль разбитной, плутоватой Маши играла молоденькая актриса Бельо, перешедшая в драматическую труппу из балетной. Миловидная, изящная балерина покорила Ивана Андреевича. Он таял в ее присутствии и робко за нею ухаживал. Даже уговорил ее оставить балет и сам взялся руководить ею при разучивании роли. Эти занятия очень увлекали учителя, однако принесли несомненную пользу и ученице.
«Модная лавка» дала Крылову известность. О нем заговорили, его стали приглашать на вечера, на собрания литераторов, в столичные салоны. Знакомства с ним добивались. Он стал своим человеком в доме Державина на Фонтанке. Его приглашали на вечера к адмиралу Шишкову, у которого собирались приверженцы славянорусского слога. Шаховской ввел его в дом А. Н. Оленина, ученого-археолога, любителя и знатока искусств.
Успех «Модной лавки» побудил Крылова продолжить работу в театре. Вслед за комедией он написал «волшебную оперу», которая должна была своей национальной патриотической темой противостоять «Русалке», так пришедшейся по вкусу публике. Крылов обратился к былинам и русским сказкам, на основе которых и сложилась опера «Илья Богатырь». Это была опера-былина, действие которой происходило в древней Руси, на Черниговщине. Автор не стремился к исторической точности, сделав героями оперы придуманных им персонажей, да и самый сюжет свободно сочетал как былинные мотивы, так и сказочную фантастику. В «Илье Богатыре» события не сложны. Князь Черниговский Владисил ожидает свою невесту болгарскую княжну Всемилу, с которой он обручен. Но этому браку стремится помешать дочь князя печенегов Зломека, злая волшебница, которая находится в плену у Владисила. Зломека собирается женить князя на себе и подготовила коварный план. Ее отец князь печенежский Узбек захватывает Всемилу и осаждает со своим войском Чернигов. На выручку Владисилу приходит русский богатырь Илья и после ряда героических подвигов разбивает печенегов и освобождает Всемилу. Илье помогает волшебница Добрада и ее дочь Лена. Особенно понравились зрителям комические персонажи — шут Тароп и его невеста Русида.
31 декабря 1806 года был поставлен в первый раз «Илья Богатырь» — «волшебно-комическая опера в 4 действиях, соч. Крылова, с хорами, балетами и сражениями, музыка соч. Кавоса», как гласила афиша. В спектакле участвовали лучшие силы театра: роль Ильи исполнял Яковлев (а впоследствии Бобров), Владисила — Самойлов, Всемилу — Болина, Таропа — Воробьев. Спектакль прошел с большим успехом и долго привлекал публику. Патриотическая тема и сюжет оперы пришлись ко времени. Захватнические войны Наполеона, угроза нападения французов вызвали патриотический подъем в русском обществе.
Пышные декорации, шумные батальные сцены, героические арии, содействовали успеху. В конце последнего действия зрители становились свидетелями победы русских воинов во главе с Ильей Богатырем. Хор со сцены торжественно возглашал:
Вы летите к нам, забавы,
Радость, будь во всех сердцах.
Гром побед и нашей славы,
В ратных ты греми полях!
Этот патриотический апофеоз встречался бурей аплодисментов.
На первом спектакле присутствовал давний знакомец Крылова по Казацкому Филипп Филиппович Вигель. Со свойственной ему едкостью он рассказал Жихареву, что после того, как представления «Русалки» перестали привлекать публику, ей сделали наследницу «Днепровскую русалку», а затем, когда и к ней истощилась любовь зрителей, то сочинили и третью и четвертую части, успех которых был и вовсе невелик. Между «Русалками» и восстал «Илья Богатырь». Крылов, по словам Вигеля, написал свою оперу небрежно, шутя, но так умно и удачно, что его герой убил волшебницу немку.
Жихарев в ответ процитировал двустишие, которое приписывали директору театра Нарышкину:
Сравненья критиков двух опер очень жалки:
Илья сто раз умней «Русалки»!
Крылов прекрасно понимал, что его «Илья», при всем успехе у зрителей, не является путем, которым ему следует идти. «Волшебная опера» — лишь проба сил, дань жаждущему зрелищ зрителю. Он написал еще одну комедию — «Урок дочкам», поставленную в июне 1807 года. Этой комедией Крылов продолжил начатое им в «Модной лавке» осмеяние французомании, охватившей широкие круги дворянского общества. В «Уроке дочкам» много удачно найденных бытовых черт, комических ситуаций, выразителен и ярок ее язык. Это смешная история о том, как ловкий, разбитной слуга Семен, случайно оказавшийся в деревне провинциального помещика Велькарова, выдает себя за французского маркиза и одурачивает провинциальных модниц — дочерей Велькарова Лукерью и Феклу, благоговеющих перед всем иностранным.
Особенно удались Крылову эти доморощенные деревенские кокетки, мечтающие о праздной, но веселой столичной жизни и о французском языке, на котором отец запретил им разговаривать. Семен, изображая французского маркиза, говорит на ломаном русском языке, а Лукерья и Фекла тщетно пытаются объясняться с ним по-французски.
Комедия «Урок дочкам» имела не меньший успех, чем «Модная лавка». В ролях дочек выступали молодые актрисы Петрова и Бельо, так нравившаяся Крылову.
Особенно охотно Крылов посещал дом Олениных, в который ввел его Шаховской. Там всегда можно было узнать свежие политические новости, получить последние известия о литературной жизни, о театральных премьерах, о научных открытиях. У Олениных встречались дипломаты и ученые, писатели и художники, актеры и светские прелестницы. Здесь создавались репутации, произносились приговоры новым книгам и новым спектаклям. В гостиной Олениных бывали люди разных поколений, вкусов и взглядов. Наряду с Державиным, Дмитриевым, Капнистом, Дмитревским там появлялись люди нового времени — Гнедич, Озеров, Батюшков. Но и они чувствовали себя здесь уверенно и свободно. Их встречали столь же дружественно, привлекали к домашним пенатам с тем же радушием, что и чиновных и заслуженных деятелей прошлого века.
Сам хозяин — Алексей Николаевич Оленин, племянник екатерининского вельможи князя Григория Волконского, получил образование за границей. Он обучался в Страсбургском университете, а затем в Дрезденском артиллерийском училище. Участвовал в шведской кампании, строил фортификационные сооружения и дослужился до обер-офицерского чина. Лишь недавно ушел в отставку, но продолжал носить милиционный мундир. Алексей Николаевич отличался миниатюрностью, почти кукольностью. Знаток античной филологии и истории, он владел несколькими языками, был страстным археологом и нумизматом и преданно любил литературу и театр. Кроме того, Оленин прекрасно рисовал, хорошо знал естественные науки и состоял в переписке с европейскими знаменитостями — Гумбольдтом, Шамполионом, Шлецером. Сам император покровительствовал крошке Оленину и прозвал его «Tausendkünstler» — тысячеискусником.
Душою дома, его гением-хранителем была жена Оленина — Елизавета Марковна. Умная, добрая, хлопотливая женщина. Лицо ее сохранило былую красоту, хотя к сорока годам она стала грузной. Ее отец Полторацкий являлся основателем придворной певческой капеллы и родоначальником многочисленного потомства. Сама Елизавета Марковна имела двух дочерей и двух сыновей. Она часто болела и постоянно чувствовала какие-то недомогания. Но и лежа в гостиной на мягком диване, любезно улыбалась окружавшим ее гостям.
У Олениных Крылов встретился с Николаем Ивановичем Гнедичем. Гнедич писал стихи, любил декламировать их нараспев, с пафосом, наподобие античных гекзаметров. Жил он в мире Гомера, герои «Илиады» и их дела были ему лучше знакомы и ближе его сердцу, чем петербургские проспекты и канцелярии. Родом из Украины, Гнедич по окончании полтавской семинарии обучался в Московском университете. Переехав в столицу, он стал завсегдатаем у Олениных. С Алексеем Николаевичем его сближало их общее преклонение перед античностью. Гнедич уже начал главный труд своей жизни — перевод «Илиады» Гомера. Он мог часами спорить с Олениным о фасоне античных плащей: чем отличается хлена от фороса или паллиума. Лицо Николая Ивановича, от природы красивое и правильное, было изуродовано последствиями оспы. Один глаз вытек, кожа, испещренная мелкими рубцами и синими прожилками, напоминала мрамор.
В салоне Олениных Крылов познакомился и с трагиком Владиславом Александровичем Озеровым. Все с восторгом говорили о его новой трагедии «Дмитрий Донской», только что поставленной на театре.
Однако находились и критики. Старшее поколение не разделяло увлечения автора сентиментальными веяниями, которые так нравились молодежи. Державин и Шишков негодовали. Романтический сюжет: любовь Димитрия к княжне тверской Ксении — казался им неуместным в высокой трагедии. «Хорош великий князь московский, — ворчал Шишков. — Увидел красивую девицу и обо всем позабыл! Можно ли писать такую дичь о русском князе, жившем за четыреста лет до нас?»
Иван Андреевич с улыбкой выслушивал как похвалы, так и порицания, не высказывая своего мнения. За глаза его теперь часто называли чудаком. Он появлялся в неряшливом, со следами сигарного пепла сюртуке. Волосы непокорно ерошились на его тяжелой, большой голове: он не признавал парикмахерской завивки, помад и модных причесок. Крылов с некоторых пор предпочитал избегать споров, отмалчиваться. Но если заговаривал, то всегда остроумно, с лукавым простодушием, с народной меткостью и красочностью своей речи.
Как-то разговор зашел о минувшем царствовании. Вспоминали суровые годы правления безумного императора. Алексей Николаевич не мог нахвалиться новым государем. «Что за ангельское лицо, какая пленительная улыбка!» — повторял он. Желчный Вигель с кислой усмешкой рассказал о том, что неопытный царь, подстрекаемый письмами своего воспитателя швейцарца Лагарпа, хотел издать для России какую-то конституцию. «Хороши бы мы тогда были! — с возмущением заявил Филипп Филиппович. — Невежественный наш народ и непросвещенное наше дворянство и теперь еще в свободе видят лишь право своевольничать».
Возник оживленный спор о преимуществах того или другого политического строя. Либералы превозносили конституционные порядки и хвалили императора за его готовность пойти навстречу времени. Консерваторы с возмущением осуждали возможные перемены. Иван Андреевич флегматически слушал споры. Когда спросили о его мнении, он, не торопясь, вынул из сюртука сложенный вдвое листочек и прочел басню «Лягушки, просящие царя»:
Лягушкам стало не угодно
Правление народно,
И показалось им совсем не благородно
Без службы и на воле жить.
Чтоб горю пособить,
То стали у богов Царя они просить…
И Крылов с усмешкой поведал о том, как Юпитер, снизойдя на просьбы безмозглых лягушек, дал им в цари осиновый чурбан. Но лягушки и им остались недовольны — слишком уж бездеятелен и терпелив показался такой царь. Они снова стали докучать Юпитеру, чтобы тот дал им подлинного царя — «на славу», и Юпитер послал Журавля, который быстро расправился с глупыми лягушками:
Он виноватых ест: а на суде его
Нет правых никого.
Гости смущенно примолкли. Иван Андреевич явно написал что-то не то. Заключительный стих «Живите ж с ним, чтоб не было вам хуже!» звучал явной насмешкой и предостережением. В нем не было должной почтительности.
Неугомонный князь Шаховской стал уговаривать Крылова, принять участие в задуманном им театральном журнале, где можно было бы помещать рецензии на пьесы, представляемые на театре, разные театральные анекдоты, жизнеописания известнейших драматургов и актеров русских и иностранных — словом, все, что относится к театру. Вместе с тем, по словам князя, в журнале могли бы печататься также стихи, басни. Снова перед Иваном Андреевичем возникла неизменно привлекавшая его возможность журнальной деятельности. Соблазн был велик. Шаховской утверждал, что в сотрудниках недостатка не будет, а издержки издания примет на свой счет актер Рыкалов, содержатель театральной типографии.
Составилась дружеская компания — Шаховской, Крылов, А. Писарев, Д. Языков и С. Марин. В начале 1808 года вышел первый выпуск нового журнала — «Драматический вестник». На обложке имелся эпиграф: «Хоть критика легка, но мудрено искусство». Издатели журнала ставили перед собой широкие задачи. Прежде всего создание национального театра, ту же задачу, что когда-то ставил перед собой Крылов, предпринимая издание «Зрителя».
Видное место в журнале заняли статьи И. А. Дмитревского. Он поместил в одном из первых номеров биографическое «известие» о жизни «первого актера и основателя русского театра» Федора Волкова, а в последующих выпусках статьи о греческой и римской трагедии и комедии. Ряд переводов из Вольтера принадлежал А. А. Писареву. Крылов напечатал насмешливую рецензию на постановку бездарной драмы Павла Сумарокова «Марфа Посадница или покорение Новаграда».
Но главной приманкой журнала оказались басни Крылова, подписанные лишь первой буквой его фамилии — «К». Все прекрасно знали, что «К» — это и есть Иван Андреевич Крылов. На протяжении 1808 года он напечатал девятнадцать басен. Среди них были такие шедевры, как «Ворона и Лисица», «Музыканты», «Ларчик», «Лягушка и Вол», «Парнас», «Оракул», «Волк и Ягненок».
«Драматический вестник» просуществовал только один год — то ли его издатели были заняты другими делами, то ли оказалось, что недостаточно подписчиков. Русские пьесы уже заняли прочное место в репертуаре, и «Драматический вестник» сыграл свою роль.
В литературной жизни этой поры произошли значительные перемены. Карамзин и его последователи стали проповедовать чувствительность, отказ от официальной мажорности, от прославления самодержавного величия, обратившись к умилению перед тихими радостями природы, трогательными движениями сердца. Это вызвало негодование со стороны ревнителей возвышенных заветов классицизма. Защитники патриархальной старины обвиняли Карамзина и его приверженцев в том, что те подпали под влияние французской словесности, отступились от исконной русской речи во имя галломании. Сами литературные староверы ратовали за возврат к прошлому, за сохранение древнего славянского языка.
Престарелый адмирал Шишков и его единомышленники упрямо и упорно отстаивали незыблемые устои самодержавия и православия, а в литературе — классицизма, каким он был представлен писателями XVIII века. Всякое новшество в политической жизни, в управлении государством, в литературе представлялось им опасным заблуждением и встречалось с непримиримой враждебностью.
Узурпаторская деятельность Наполеона, которого шишковисты считали исчадием революции, подогревала их патриотический пыл. Они с ненавистью отнеслись и к либеральным проектам реформ Сперанского. Шишков призывал к непреклонной борьбе за самодержавно-патриархальный порядок, за сохранение древнеславянского языка, языка летописей и церковных книг, языка предков. Столь же незыблемыми для литературных «староверов» являлись и догмы классицизма, на которые покушались сторонники Карамзина.
Крылов оказался между двух лагерей. Для него неприемлема была салонная чувствительность и французомания карамзинистов, но и ретроградные позиции шишковистов были ему тоже чужды.
Гнедич познакомил Крылова со своим лучшим другом — Батюшковым. Константину Николаевичу Батюшкову было всего двадцать лет. Он воспитывался в Москве в университетском пансионе, его литературными занятиями руководил поэт М. Муравьев, близкий приятель А. Н. Оленина. Батюшков был талантлив и самолюбив. Он мечтал дать русской поэзии новое направление. Его стихи отличались чувствительной меланхолией и в то же время пластической завершенностью античных поэтов. Одевался он с изящным пренебрежением, был невелик ростом, рассеян. Друзья называли его «попинькой». Ему нравилась воспитанница Олениных — Аннета Фурман, и он мечтал на ней жениться. Но Аннета боялась поэтов и предпочитала более положительных и практичных женихов.
Еще в Москве Батюшков сблизился с Карамзиным и его друзьями — Жуковским, Вяземским, В. Л. Пушкиным, которые посмеивались над истовыми хранителями традиций классицизма и их «славенщизной». Шишков и его единомышленники представлялись молодому поэту врагами просвещения, стражами уже давно отживших канонов. Константин Николаевич отговорил Гнедича от посещения собраний у Шишкова. Не раз он пытался переубедить и Ивана Андреевича. Но тот только посмеивался, уверяя, что такого поросенка, какого подают на ужин у адмирала, он нигде не едал.
Батюшков написал злую сатиру «Видение на берегах Леты», направленную против Шишкова, Боброва, Ширинского-Шихматова и прочих литературных «староверов». Он прочел ее у Олениных. Все много смеялись, шутили, предостерегая отважного стихотворца от гнева адмирала и его приспешников. «Видение» начиналось со стихов, высмеивавших скучные и невразумительные вирши Боброва:
Вчера, Бобровым утомленный,
Я спал и видел чудный сон!
Как будто светлый Аполлон
(За что, не знаю, прогневленный)
Поэтам нашим смерть изрек.
Батюшков изобразил этих поэтов, являющихся после смерти на берега Леты, реки царства мертвых, со своими стихами. Едко высмеивая виднейших деятелей из лагеря «славенофилов», он, однако, делал исключение для Крылова. Иван Андреевич показан был во всей живости красок. Дружески подтрунивая над его безалаберностью и пренебрежением к своему туалету, над хорошо всем известной любовью баснописца вкусно покушать, Батюшков выделил его среди «теней» прочих участников шишковского синклита, предстающих перед судьей подземного царства — Миносом:
Тут тень к Миносу подошла
Неряхой и в наряде странном,
В широком шлафроке издранном,
В пуху, с нечесаной главой,
С салфеткой, с книгой под рукой.
«Меня врасплох, — она сказала, —
В обед нарочно смерть застала;
Но с вами я опять готов
Еще хоть сызнова отведать
Вина и адских пирогов:
Теперь же час, друзья, обедать;
Я — вам знакомый, я — Крылов!»
«Крылов! Крылов!» в одно вскричало
Собранье шумное духов,
И эхо глухо повторяло
Под сводом адским: «Здесь Крылов!»
«Садись сюда, приятель милый,
Здоров ли ты?» — «И так, и сяк!»
«Ну, что ж ты делал?» — «Всё пустяк,
Тянул тихонько век унылый;
Пил, сладко ел, а боле — спал.
Ну, вот, Минос, мои творенья,
С собой я очень мало взял:
Комедии, стихотворенья
Да басни все…» — «Купай, купай!»
О, чудо! всплыли все, — и вскоре
Крылов, забыв житейско горе,
Пошел обедать прямо в рай.
Когда Батюшков кончил чтение, Иван Андреевич смеялся до слез и тут же потащил поэта к столу ужинать, обещая на деле доказать справедливость его сатиры.
С начала 1807 года стали устраиваться собрания поочередно у Державина, Шишкова, Хвостова, на которых читались и обсуждались новые произведения. Тон на этих собраниях задавали литературные «староверы» и их приспешники.
3 февраля 1807 года в доме Шишкова собралось человек двадцать столичных сочинителей и любителей литературы. В обширной гостиной, уставленной громоздкой мебелью, сидели и прохаживались почтенные литераторы: Гаврила Романович Державин, сенатор Иван Семенович Захаров, Александр Семенович Хвостов, его кузен — бездарный пиит Д. Хвостов, Петр Матвеевич Карабанов, а также и молодые — князь Ширинский-Шихматов, Жихарев, Кикин, Писарев, Шулепников. Все они или писали стихи, или что-либо переводили и считали себя знатоками искусств. Был здесь даже некий Галинковский — автор книги «для прекрасного пола», в которой можно было прочесть «Любопытные познания для счисления времен» и «Белые листы для записок на 12 месяцев».
Долго рассуждали о кровопролитии при Эйлау. Одни говорили, что Бонапарту нужно много времени, чтобы оправиться от этого первого полученного им удара. Другие утверждали, что и наши потери велики, потому что из строя вышла почти половина солдат, бывших под ружьем. Кикин и Писарев, как военные люди, с жаром доказывали, что надо продолжать войну и что следует кончить полным истреблением французской армии и самого Бонапарта.
Время проходило в разговорах, а о чтении не было и речи. Наконец Гаврила Романович, задумчиво ходивший взад и вперед по гостиной, не слушая споров, уселся за стол и объявил, что пора уже приступить к делу. «Начнем с молодежи, — сказал А. С. Хвостов. — У кого что есть, господа?» Все переглянулись и в один голос ответили, что ничего не взяли с собой. «Как же вы идете без всякого оружия?» — рассмеялся Хвостов. Шулепников ответил, что может прочесть свои стихи «К трубочке». «Ну, хоть „К трубочке“, — подхватил Захаров, — стишки очень хорошие!» Шулепников подвинулся к столу и прочитал десятка три куплетов «К трубочке», но не произвел никакого впечатления. «Пахнет табачным дымком», — шепнул своему соседу Карабанов.
Наступило молчание. «А вы не слышали, — сказал князь Шаховской, — что Иван Андреевич написал еще одну новую басню, да притаился, злодей!» С этими словами князь поклонился в пояс Крылову. Толстый, неуклюжий, он проделал это так быстро и ловко, что все рассмеялись. «Батюшка Иван Андреевич, будьте милостивы до нас, бедных! — молил Шаховской, изображая сестру Шехерезады. — Расскажите нам одну из тех сказочек, которые вы умеете так хорошо рассказывать!» Все дружно приступили к Крылову, и после долгих отнекиваний он, наконец, разрешился басней «Крестьянин и Смерть». Простота и верность рассказа, точность подробностей русского быта всех восхитили. Крылов читал, как жаловался крестьянин:
«Куда я беден, боже мой!
Нуждаюся во всем, к тому ж жена и дети,
А там подушное, боярщина, оброк…
И выдался ль когда на свете
Хотя один мне радостный денек?»
Жихарев заметил: «Какие прекрасные стихи!» А про заключительные строки басни сказал, что они стоят Лафонтенова стиха: «Plutôt souffrir que mourir».
Что как бывает жить не тошно,
Но умирать еще тошней!
Все стали поздравлять Крылова.
Следующий литературный вечер состоялся через неделю на дому у Державина. Гаврила Романович сидел в коротком овчинном тулупе (ему было всегда холодно) с Бибишкой за пазухой, насупившись и свесив губы. Он был похож на старую нахохлившуюся птицу. Но лишь разговор заходил о поэзии, Державин воодушевлялся, колпак его сползал набекрень, глаза приобретали блеск, и он горячо ораторствовал перед собравшимися. Начался вечер с чтения стихов самого хозяина, написанных по случаю выступления в поход гвардии.
Стихи были слабые. То ли талант изменил поэту, то ли случай для стихов был недостаточно значителен.
После короткого перерыва сенатор и переводчик Иван Семенович Захаров вынул из портфеля претолстую тетрадь и пригласил всех прослушать перевод нравоучительных правил Рошфуко, сделанный, некиим Пименовым. Однако суровый адмирал без церемоний объявил, что он не охотник до этих нарумяненных французских моралистов, все достоинство которых заключается в одном щегольстве выражений.
«Все это так, — миролюбиво согласился А. С. Хвостов и обратился к Шихматову, — однако же пора вам, князь, познакомить нас с вашими „Пожарским, Мининым и Гермогеном“. Моралисты моралистами, а поэзия поэзией, и нам забывать ее не должно». — «Я и не думал отговариваться, — возразил Шихматов, — я сочинил мою поэму не для того, чтоб оставлять ее в портфеле…» Развернув объемистую рукопись, князь приготовился было читать, но адмирал не дал ему рта раскрыть, схватил тетрадь и сам начал чтение. Поэма была проникнута казенно-патриотическим духом и повествовала о чудесном спасении дома Романовых, восторженно прославляя прелести самодержавия. Это был набор трескучих, возвышенных фраз, одическое пустозвонство, перенасыщенное восторгами в честь царей дома Романовых. Посвящалось сие высокоторжественное изделие императору Александру.
Когда длительное, всех утомившее чтение закончилось, стали хвалить автора и пророчить ему славное будущее. Шишков особенно восторгался славяно-росским слогом, которым написана была поэма. Седой, багроволицый адмирал велеречиво расхваливал Шихматова за то, что тот не только не употреблял чужеземных оборотов, но возвысил слог свой важностию славянского наречия: «древний славянский язык, отец многих наречий, есть корень и начало российского языка».
Крылов ничего не прочел, сколько его о том ни просили. Извинялся, что нового не написал, а старого читать не стоит, да и не помнит. Зато бесталанный Федор Львов прочитал стихи свои «К пеночке». Эти стишки возбудили спор. Кикин ни за что не хотел допустить, чтоб в легком стихотворении к птичке можно было употребить выражение «драгая» вместо «дорогая» и сказать «крыло», когда надобно было бы сказать «крылья». За Львова вступился Карабанов и другие, но Захаров порешил дело тем, что слово «драгая» вместо «дорогая» может и в легком слоге быть допущено. Этот спор был неприятен для самолюбивого поэта, который то и дело посматривал на Крылова, как-то насмешливо улыбавшегося.
«А знаете ли вы, — спросил Шулепников у Жихарева, — стихи графа Хвостова, которые он в порыве негодования за какое-то сатирическое замечание, сделанное ему Крыловым, написал на него?» Однако всезнающий Жихарев должен был признаться в своей неосведомленности. «Ну, так я вам прочитаю их, не потому, что они заслуживают внимания, а для того, чтобы вы имели понятие о сатирическом таланте нашего стихоткача. Всего забавнее было, что граф выдал эти стихи за сочинение неизвестного ему остряка и распускал их с видом сожаления, что есть же люди, которые имеют несчастную склонность язвить таланты вздорными, хотя, впрочем, и очень остроумными эпиграммами». И Шулепников вполголоса прочел эти стихи Хвостова:
Небритый и нечесаный.
Взвалившись на диван,
Как будто неотесанный
Какой-нибудь чурбан,
Лежит, совсем разбросанный,
Зоил — Крылов Иван:
Объелся он иль пьян?
Жихарев взглянул на Крылова. Тот был не брит. Галстук съехал в сторону.
«Крылов тотчас же угадал стихокропателя, — продолжал, улыбаясь, Шулепников. — „В какую хочешь нарядись кожу, мой милый, а ушка не спрячешь“, — сказал он».
За ужином разговорились о Российской академии. «А сколько считается теперь всех членов?» — спросил Державин у секретаря академии Петра Ивановича Соколова. «Да около шестидесяти». — «Неужто же нас такое количество? — удивился Шишков, — я думал, что гораздо менее». — «Точно так; но из них, как вашему превосходительству известно, находится налицо немного: одни в отсутствии, другие избраны только для почета, а некоторые…» «Не любят грамоты!» — подхватил А. С. Хвостов. Все рассмеялись. «Правда, что иные точно бесполезны, — согласился Шишков, — втерлись в литераторы бог весть каким образом, не имея на то никакого права, между тем, как много писателей достойных не заседают еще в академии».
По просьбе Жихарева Соколов перечислил членов академии. Кого там только не было: преосвященный Ириней псковский, Анастасий белорусский, Феоктист курский, Мефодий тверской, Михаил черниговский! За иерархами церкви шли именитые светские сановники: граф Строганов, граф Мусин-Пушкин, сардинский граф Хвостов, князь Куракин, князь Белосельский, князь А. Н. Голицын. Лишь немногие из членов академии имели хотя бы отдаленное отношение к литературе, и только Державин, Дмитриев, Херасков, Капнист, Нелединский, Дмитревский могли ее достойно представлять. Академики избирались не по заслугам, а за верноподданнические чувства, готовность выполнять с усердием правительственные предначертания, а то и просто за полной неспособностью и ненадобностью в других местах. В результате Российская академия, основанная Екатериной II в 1783 году с целью составления «грамматики, русского словаря, риторики и правил стихотворства», стала оплотом консерваторов и узаконенным видом почетного безделья.
Иван Андреевич внимательно слушал этот разговор, со вкусом обсасывая гусиную ножку. Он привык прислушиваться и запоминать то, что его интересовало, не подавая об этом и виду. Придя домой, Крылов на листочке желтоватой бумаги набросал басню, названную им «Парнас». В ней он высказал свое подлинное отношение к высокопарным виршам Шихматова, к ученым рассуждениям проповедника славяно-российского слога Шишкова и ко всем бездарным сановным пиитам, захватившим российский Парнас:
Как в Греции богам пришли минуты грозны
И стал их колебаться трон;
Иль, так сказать, простее взявши тон,
Как боги выходить из моды стали вон,
То начали богам прижимки делать розны:
Ни храмов не чинить, ни жертв не отпускать;
Что боги ни скажи, всему смеяться;
И даже, где они из дерева случатся,
Самих их на дрова таскать.
Богам худые шутки:
Житье теснее каждый год!
И, наконец, им сказан в сутки
Совсем из Греции поход.
Как ни были они упрямы,
Пришло очистить храмы;
Но это не конец: давай с богов лупить
Все, что они успели накопить.
Не дай бог из богов разжаловану быть!
Угодьи божески миряна расхватали,
Когда делить их стали,
Без дальних выписок и слов
Кому-то и Парнас тогда отмежевали.
Хозяин новый стал пасти на нем Ослов.
Ослы, не знаю как-то, знали,
Что прежде Музы тут живали,
И говорят: «Недаром нас
Прогнали на Парнас:
Знать, Музы свету надоели
И хочет он, чтоб мы здесь пели».
«Смотрите же, — кричит один, — не унывай!
Я затяну, а вы не отставай!
Друзья, робеть не надо!
Прославим наше стадо,
И громче девяти сестер
Подымем музыку и свой составим хор!
А чтобы нашего не сбили с толку братства,
То заведем такой порядок мы у нас:
Коль нет в чьем голосе ослиного приятства,
Не принимать тех на Парнас».
Одобрили Ослы ослово
Красно-хитро-сплетенно слово:
И новый хор певцов такую дичь занес,
Как будто тронулся обоз,
В котором тысяча немазаных колес.
Но чем окончилось разно-красиво пенье?
Хозяин, потеряв терпенье,
Их всех загнал с Парнаса в хлев.
Мне хочется, невеждам не во гнев,
Весьма старинное напомнить мненье:
Что если голова пуста,
То голове ума не придадут места.
Он был доволен. Его басня собьет спесь с этих высокопоставленных ничтожеств. Пусть дуется сухопутный адмирал, узнав свои тяжеловесные славяно-росские речения, вроде «красно-хитро-сплетенно». Пусть обижается князь Шихматов, пытающийся при помощи своих косноязычных поэм взобраться на Парнас! Они не решатся признать себя в самонадеянных Ослах, оглашающих Парнас «разно-красивым пеньем»!
Крылову удалось напечатать свою басню в «Драматическом вестнике». «Парнасские ослы» молча затаили обиду. Они поняли, что протестовать смешно. Однако Крылову очень скоро припомнили его басню. Прошло около года с тех пор, как «Парнас» был напечатан. Вышла первая книжка его басен, и в ней пришлось исключить все начало «Парнаса», так как цензура обиделась за осмеяние богов. Ведь хоть и языческие, а все-таки боги! А 13 марта 1809 года в Российской академии состоялись выборы новых членов. Давнишний приятель Ивана Андреевича — Дмитревский выдвинул его кандидатуру, представив для обсуждения книгу басен и две комедии — «Модную лавку» и «Урок дочкам», завоевавшие широкую известность.
Но при баллотировке Крылов получил только два голоса, все остальные члены Российского Парнаса голосовали против. Большинство получил князь Шихматов, один из запевал хора «парнасских ослов», который и был избран членом академии.
Затем, что истина сноснее вполоткрыта.
В 1808 году А. Н. Оленин определил Крылова на службу в Монетный департамент, и Крылов был произведен в чин титулярного советника. Два года прослужил Иван Андреевич в этом департаменте, видимо не особенно переобременяя себя работой. Служба давала возможность кое-как свести концы с концами и даже посылать время от времени небольшие подарки братцу Левушке, по-прежнему тянувшему армейскую лямку в глухой провинции.
В начале 1809 года вышла первая книга басен Крылова. Это была скромная, небольшая книжечка: в ней помещены 23 басни. Но среди них такие, как «Ворона и Лисица», «Музыканты», «Ларчик», «Волк и Ягненок», «Мор зверей». Эти басни свидетельствовали о зрелости таланта баснописца, о его самобытности и совершенстве в избранном им жанре.
Свершилось второе рождение писателя: сатирик и драматург стал баснописцем. Его басни читали, переписывали, выучивали наизусть — взрослые, дети, слуги.
Через два года, в 1811 году, вышла вторая книжка, «Новые басни», дополнявшая первую. Слава лучшего русского баснописца была теперь незыблемо утверждена.
Даже Российская академия, еще недавно отвергшая баснописца, вынуждена была признать его заслуги и в 1811 году избрала своим членом. Он получил диплом с торжественным извещением о том, что
«Императорская Российская Академия, отдавая справедливость известному ей в словесных науках знанию вашему, а особливо сочинениям вашим, служащим истинным обогащением и украшением словесности российской, в бывшее сего декабря 16-го числа заседание, избрала вас действительным своим членом».
Наконец-то он нашел свою дорогу, свой род. Басня давала возможность говорить о том, о чем он хотел, говорить правду, хотя бы и «вполоткрыта», эзоповым языком. Ведь и фригийский раб Эзоп умел в своих притчах высказать мысли, неприятные для его хозяев.
Вокруг Крылова были люди, во многом ему чуждые, привыкшие к довольству и роскоши. Они неустанно хлопотали о приумножении богатств, о повышении в чине, о милостях знатного вельможи. Каждый стремился занять место ступенькой повыше, обеспечить свое благополучие за счет других. Ему ничего этого не надо. За годы скитаний, лишений, бездомного существования он хорошо узнал превратности судьбы, эфемерность славы, тщетность поисков справедливости. Его уже не манила опасность борьбы. Так мореплаватель после грозных бурь с радостью входит из разбушевавшегося моря в тихий залив, где его корабль не сотрясается от ударов всесокрушающих валов.
Это была ложная философия. Философия пассивности, отказа от открытой борьбы. Она возникла от душевной усталости, от желания покоя. И баснописец на себе испытал ее мучительные последствия: молчание тогда, когда хотелось протестовать, примирение с тем, против чего восставала душа. Горькой данью этой философии явились такие его басни, как «Конь и Всадник», «Колос». А расплатой — долгие годы одиночества среди чужих ему по духу людей.
В своих баснях Крылов не проповедовал какой-либо политической идеи, не отстаивал последовательной теории. Но в основе его взглядов, в основе его понимания жизни лежало неизменно разделение общества на знатных и простых людей, богатых и бедных, угнетателей и угнетенных, признание решающей роли народа.
В народе видел баснописец ту чудесную животворную силу, которая является источником существования общества и государства. Эта мысль положена в основу басни «Листы и Корни». В ней Листьям, кичащимся своей красотой, Крылов противопоставил Корни, питающие дерево, дающие ему жизнь. На хвастовство Листьев Корни отвечали гневной отповедью:
«Примолвить можно бы спасибо тут и нам», —
Им голос отвечал из-под земли смиренно.
«Кто смеет говорить столь нагло и надменно!
Вы кто такие там,
Что дерзко так считаться с нами стали?» —
Листы, по дереву шумя, залепетали.
«Мы те, —
Им снизу отвечали: —
Которые, здесь роясь в темноте,
Питаем вас. Ужель не узнаете?
Мы корни дерева, на коем вы цветете.
Красуйтесь в добрый час!
Да только помните ту разницу меж нас:
Что с новою весной лист новый народится;
А если корень иссушится, —
Не станет дерева, ни вас».
Этой басней Крылов напоминал паразитическим верхам общества о народе, о том, что в основе существования и процветания государства лежит созидательный труд народных масс.
Осуждая власть имущих, алчных и жестоких хищников, будь то корыстолюбивые вельможи, криводушные судьи, тупые и бездушные чиновники, будь то сам царь, он представлял их в баснях в облике хищных зверей — Львов, Медведей, Волков, Лисиц. Традиционная басенная символика позволяла безнаказанно говорить о преступлениях и безобразиях, которые беззастенчиво творились в государстве. Такова и одна из ранних басен Крылова — «Мор зверей». В ней он воспользовался сюжетом басни Лафонтена. Тем самым отводились подозрения, что в басне изображена современная русская жизнь, что баснописец имел в виду горькое и бесправное положение народа, который ограблен и придавлен тяжестью порабощения.
Стихийное бедствие — мор заставляет даже кровожадных хищников задуматься о том, как спасти свою шкуру. Царь Лев созывает совет зверей, на котором лицемерно предлагает принести в жертву богам того, кто «всех виновен боле» в творящихся преступных делах:
За Львом Медведь, и Тигр, и Волки в свой черед
Во весь народ
Поведали свои смиренно погрешенья;
Но их безбожных самых дел
Никто и шевелить не смел.
И все, кто были тут богаты
Иль когтем, иль зубком, те вышли вон
Со всех сторон
Не только правы, чуть не святы.
Виновным в общем бедствии оказался безобидный Вол, признавшийся в том, что он стянул из стога зимой клок сена.
Кричат Медведи, Тигры, Волки:
«Смотри, злодей какой!
Чужое сено ест! Ну, диво ли, что боги
За беззаконие его к нам столько строги?
Его, бесчинника, с рогатой головой,
Его принесть богам за все его проказы,
Чтоб и тела нам спасть и нравы от заразы!
Так, по его грехам, у нас и мор такой!»
Приговорили —
И на костер Вола взвалили.
Нет, Крылов не оставался в стороне от жизни. Под покровом флегматического равнодушия к окружающему он зорко следил за всем, что происходило в мире: будь то события международного характера или злободневные политические новости. Многие из них находили отклик в его баснях.
В обстановке обострения напряженности в европейских делах, благодаря завоевательным войнам Наполеона, который делил с Александром I государства и народы Европы, Крылов пишет басню «Лев на ловле», имевшую особенно злободневный и острый политический смысл. Басня была написана в 1808 году, вскоре после Тильзитского мира и свидания двух императоров, поклявшихся друг другу в вечной дружбе. Но Наполеон не пожелал делиться ни с кем своей «добычей» — господством над завоеванными им странами. Поэтому традиционный басенный сюжет о вероломстве Льва, нарушившего свои обещания, для современников связан был с положением дел в Европе. Лев, пользуясь своей силой, при дележе дерзко заявляет:
«Теперь давай делить! Смотрите же, друзья:
Вот эта часть моя
По договору;
Вот эта мне, как Льву, принадлежит без спору;
Вот эта мне за то, что всех сильнее я;
А к этой чуть из вас лишь лапу кто протянет,
Тот с места жив не встанет».
Своей басней Крылов как бы предупреждал о захватнических намерениях Наполеона, об угрозе, нависшей над Европой и прежде всего Россией!
Он написал басню «Ларчик» — о ларце, который некий «механики мудрец» тщетно пытался открыть. Но ларец вовсе не был закрыт. Крылов не любил ложной мудрости, высокомерного зазнайства. Каждая вещь, каждое произведение искусства должны быть просты, ясны по своему замыслу и значению. Должна быть проста, прозрачна и басня. Она хороша только тогда, когда всем понятна, не нуждается в объяснениях горе-мудрецов. «А Ларчик просто открывался!».
Его басни и были такими «ларчиками», доверху наполненными сокровищами народной мудрости.
Крылов читал свои басни Державину в его великолепном доме на Фонтанке. Гаврила Романович служил солдатом, губернатором, министром. Сейчас он стал стар и одряхлел. Ему приятен был этот простецкий, мужиковатый увалень. В нем он ценил задор, непокорность, затаенное лукавство. Он и сам когда-то был таким! Державин благосклонно слушал фабулиста. Однако басни своего покойного друга Ивана Ивановича Хемницера он ценил выше. Хемницер был простодушнее, не допускал грубости, его суждения не были столь резки!
На политическом горизонте сгущались зловещие тучи. В столицу доходили тревожные вести о завоевательных замыслах Наполеона, готовившегося напасть на Россию. Его союз с Пруссией и Австрией, захват герцогства Ольденбургского, наследницей которого являлась сестра Александра I, усиливали напряжение, создавали непосредственную угрозу войны. В этой обстановке в самых различных кругах русского общества росли патриотические настроения, тревога за судьбы страны.
Образование «Беседы любителей русского слова» явилось откликом на эти настроения. Поборники старины использовали патриотический подъем для усиления своего влияния.
Один из современников, рассказывая о возникновении «Беседы», писал: «Обстоятельства чрезвычайно благоприятствовали ее учреждению и началам. Мудрено объяснить состояние умов тогда в России и ее столицах. По вкоренившейся привычке не переставали почитать Запад наставником, образцом и кумиром своим; но на нем тихо и явственно собиралась страшная буря, грозящая нам истреблением или порабощением… Пристрастие к Европе приметно начало слабеть и готово было превратиться в нечто враждебное. Воспрянувшее в разных состояниях чувство патриотизма подействовало, наконец, на высшее общество: знатные барыни на французском языке начали восхвалять русский…»
В число членов «Беседы» входили почти все посетители вечеров Шишкова и Державина: Крылов, А. Хвостов, князь Д. Горчаков, князь С. Шихматов, граф Д. Хвостов, А. Оленин, Ф. Львов, князь А. Голицын, князь А. Шаховской, П. Карабанов, А. Писарев. Кроме членов-сотрудников, имелись в «Беседе» еще и почетные члены — церковные иерархи, крупные сановники и несколько писателей — Озеров, Капнист, актер Дмитревский, поэтесса девица Бунина.
Николай Иванович Гнедич с самого начала отнесся отрицательно к новой затее, не одобряя чиновный и славяно-российский характер создавшегося общества. «Это старая Российская академия, переходящая в новое строение! — насмешливо говорил он Ивану Андреевичу. — Уже куплен и орган и поставлен на хорах, уже и стулья расставлены, где кому сидеть, и для вас есть стул; только вы не будете сначала понимать языка господ членов. Чтобы не прийти вам в конфузию, предуведомляю вас, что слово проза называется у них — говор, билет — значок, номер — число, швейцар — вестник. В зале Беседы будут публичные чтения, где будут „совокупляться знатные особы обоего пола“, как сказано в уставе!» Иван Андреевич весело рассмеялся. «Ничего, бог не выдаст — свинья не съест!» — добавил он.
Для собраний Державин предоставил великолепную залу в своем доме на Фонтанке. Зала была украшена желтыми под мрамор колоннами и казалась еще больше и наряднее от яркого освещения. Заседания «Беседы» открылись 14 марта 1811 года торжественным публичным собранием. Как сообщает протокол этого заседания:
«Сего 14 марта пополудни в 8 часов в общем собрании гг. членов, попечителей разрядов, почетных членов и пред посетителями обоего пола особ открылась в первый раз „Беседа любителей русского слова“. Член и секретарь 1-го и должностного разряда г. Кикин начал заседание чтением письма от министра народного просвещения Его Сиятельства графа Алексея Кирилловича Разумовского к должностному 1-го разряда председателю Его Превосходительству Александру Семеновичу Шишкову от 17 февраля 811 года о Высочайшем утверждении Беседы и объявлении Его императорского величества благоволения за сие полезное учреждение; после которого тот же секретарь прочел извещение о намерениях Беседы и приглашение всех трудящихся в словесности соучаствовать ей. Потом должностной председатель г. Шишков читал речь, сочиненную им на сей случай, о пользе языка и словесности; член Беседы г. Политковский читал стихи члена Беседы князя Горчакова под названием „Бессмертие“ и окончено тремя баснями — „Огородник и Философ“, „Гуси“, „Осел и Соловей“ — члена Беседы г. Крылова, читанные им самим».
«Беседа» напоминала собой не столько литературное общество, сколько государственное учреждение. Она разделялась на четыре разряда, каждый из которых имел своего председателя и своего попечителя. Председателями являлись: Шишков, Державин, А. С. Хвостов и Захаров. Попечителями: министры — граф Завадовский, Мордвинов, граф Разумовский, Дмитриев.
Помимо членов, на заседаниях присутствовали многочисленные гости. Вот как описывает заседания «Беседы» Ф. Ф. Вигель: «В зале, ярко освещенной, как во храме бога света, зимой бывали вечерние торжественные собрания Беседы. Члены вокруг столов занимали середину, там же расставлены были кресла для почетнейших гостей, а вдоль стен в три уступа хорошо устроены были седалища для прочих посетителей, по билетам впускаемых. Чтоб придать сим собраниям более блеску, прекрасный пол являлся в бальных нарядах, штатс-дамьг в портретах[14], вельможи и генералы были в лентах и звездах и все вообще в мундирах. Часть театральная, декорационная была совершенство; заправлял ею, кажется, сам Шаховской. Чтение обыкновенно продолжалось более трех часов и как содержанием, так и слогом статей отнюдь не отвечало наружному убранству великой храмины. Дамы и светские люди, которые ровно ничего не понимали, не показывали, а может быть, и не чувствовали скуки: они исполнены были мысли, что совершают великий патриотический подвиг, и делали сие с примерным самоотвержением».
Главной приманкой для публики были басни Крылова, которые он читал с обычным своим искусством. Как же оказался баснописец в этом чопорном обществе, что связывало его с прочими участниками «Беседы»? Человек прошлого века, он чувствовал себя чужим среди людей нового поколения. Ему нужна была опора и защита. Принадлежность к «Беседе» служила своего рода прикрытием, давала возможность «вполоткрыта» говорить то, о чем он думал. Да и патриотические выступления «беседчиков», их отрицательное отношение к светской «галломании», приверженность к русской речи и ее истокам оказались близки Крылову, давнему противнику галломании. Однако он не был заодно с ними, презирал напыщенную и лживую демагогию их разговоров о народе, ходульную риторику их произведений. Про себя он подсмеивался над их ухищрениями. Это чувствовали и современники, с опасливым подозрением относившиеся к едкой иронии баснописца. Давний знакомец его Вигель писал в своих воспоминаниях: «Крылов, хотя и выдал свою особу „Беседе“, но, говорят, тайком подсмеивался над нею».
Другой знакомый Крылова, один из участников «Беседы», М. Лобанов, поведал нам и об эпизоде, наглядно рисующем отношение баснописца к собраниям «Беседы». На одном из очередных заседаний, рассказывает Лобанов, «приготовляясь к публичному чтению, просили его прочитать одну из его новых басен, которые тогда были лакомым блюдом всякого литературного пира и угощения. Он обещал, но на предварительное чтение не явился, а приехал в Беседу во время самого чтения и довольно поздно. Читали какую-то чрезвычайно длинную пьесу; он сел за стол. Председатель отделения А. С. Хвостов, сидевший против него за столом, вполголоса спрашивает у него: „Иван Андреевич, что, привезли?“ — „Привез“. — „Пожалуйте мне“. — „Вот ужо, после“. — Длилось чтение, публика утомилась, начинали скучать, зевота овладела многими. Наконец дочитана пьеса. Тогда Иван Андреевич руку в карман, вытащил измятый листочек и начал: „Демьянова уха“. Содержание, басни удивительным образом соответствовало обстоятельствам, и приноровление было так ловко, так кстати, что публика громким хохотом от всей души наградила автора за басню, которою он отплатил за скуку ее и развеселил ее прелестью своего рассказа».
Заключительная мораль басни весьма недвусмысленно адресована была к «писателю»:
Писатель, счастлив ты, коль дар прямой имеешь;
Но если помолчать вовремя не умеешь,
И ближнего ушей ты не жалеешь:
То ведай, что твои и проза и стихи
Тошнее будут всем Демьяновой ухи.
«Беседа» стала вскоре оплотом отживших мнений, литературной реакции, барьером против проникновения новых идей, новых художественных принципов. Попытки «славянороссов» и прежде всего их вдохновителя адмирала Шишкова задержать развитие литературы встретили дружное сопротивление молодого поколения поэтов и писателей, едко высмеивавших «Беседу» и «беседчиков» в шуточных поэмах и эпиграммах. Одной из первых сатирических стрел, направленных в лагерь «Беседы», была «баллада» Батюшкова «Певец в Беседе славянороссов», появившаяся в 1813 году. Она сразу же распространилась в многочисленных списках. Пользуясь формой и размером нашумевшей поэмы Жуковского «Певец во стане русских воинов», Батюшков создал злую сатиру, направленную против «Беседы» и ее участников. Его Певец провозглашает тост, который явился откровенной издевкой над «беседчиками»:
Сей кубок чадам древних лет.
Вам слава, наши деды!
Друзья! Почто покойных нет
Певцов среди Беседы?
Их вирши сгнили в кладовых,
Иль съедены мышами,
Иль продают на рынке в них
Салакушку с сельдями.
Но дух отцов воскрес в сынах!
Мы все для славы дышим!
Давно здесь в прозе и стихах,
Как Тредьяковский, пишем.
Гнедич показал список этих стихов Крылову, и Иван Андреевич громко смеялся, размахивая короткими руками и даже притопывая ногой от удовольствия. Они находились в гостиной Оленина, который хотя и входил в число членов «Беседы», но не разделял воинственных взглядов адмирала. Алексей Николаевич являлся поклонником античности, восхищался русской стариной, но стремился не отстать от века. Он был начитан в немецкой литературе, хорошо знал труды Винкельмана, мечтал о воскрешении русской старины не с топорной прямолинейностью Шишкова, а в новых формах, воспринявших пластическую красоту античности. Оленин высоко ценил Гнедича, Батюшкова, Озерова, видя в их творчестве осуществление своих идеалов, старался поддержать их и помочь в житейских делах. Иван Андреевич был откровенен с ним, охотно выслушивал советы маленького человечка, живого и быстрого как ртуть. Прослушав «Певца» Батюшкова, он не удержался и прочел новую басенку о «Беседе» — «Вельможа и философ». Под вельможею подразумевался Оленин, который неоднократно выражал свое возмущение бесплодием и схоластикой «беседчиков»:
Вельможа, в праздный час толкуя с Мудрецом
О том, о сем,
«Скажи мне, — говорит, — ты свет довольно знаешь,
И будто книгу разбираешь:
Как это, что мы ни начнем,
Суды ли, общества ль учены заведем,
Ну не успеем оглянуться,
Как первые невежи тут вотрутся?
Неужли уж от них совсем лекарства нет?» —
«Не думаю, — сказал Мудрец в ответ, —
И с обществами та ж судьба (сказать меж нами),
Как с деревянными домами». —
«Как?» — «Так же: я вот свой достроил сими днями;
Хозяева еще в него не вобрались,
А уж сверчки давно в нем завелись».
Иван Андреевич не обманывался в том обществе, которое его окружало. Он сохранил свое по-мужицки отрицательное отношение к аристократам, кичащимся своим происхождением, ведущим паразитическое существование за счет народа. На чинном и торжественном заседании «Беседы» Крылов как-то прочел с душевным удовольствием злую, насмешливую басню про гусей:
Предлинной хворостиной
Мужик Гусей гнал в город продавать;
И, правду истинну сказать,
Не очень вежливо честил свой гурт гусиной…
Гуси жалуются прохожему на то, что мужик ими помыкает, не смысля того, что они не простые гуси, а потомки тех гусей, которые когда-то спасли древний Рим. Однако прохожий дает достойную отповедь чванливым и глупым гусям:
— «А вы хотите быть за что отличены?» —
Спросил прохожий их. — «Да наши предки…» — «Знаю,
И все читал; но ведать я желаю,
Вы сколько пользы принесли?»
— «Да наши предки Рим спасли!»
— «Все так, да вы что сделали такое?»
— «Мы? Ничего!» — «Так что ж и доброго в вас есть?
Оставьте предков вы в покое:
Им поделом была и честь;
А вы, друзья, лишь годны на жаркое».
Крылов не побоялся выступить против чванных аристократических гусей, которые находились перед ним. Заключил он свою басню простодушно-лукавым признанием:
Баснь эту можно бы и боле пояснить,
Да чтоб гусей не раздразнить.
Гуси тут же сидели надувшись, блестя брильянтами, орденами. Они не пожелали признать себя в персонажах крыловской басни, но втихомолку ворчали, что сюжет, избранный баснописцем, неприличен, а самая басня мужицкая, грубая. «Ну, что это за татарское просторечие: „Предлинной хворостиной мужик гусей гнал в город продавать“. Хворостина, гнал, гурт гусиной — так только мужики разговаривают…» — перешептывались важные господа и дамы, сидевшие в мягких, удобных креслах. «А что за варварские звуки: „гу-гн-г-гу-гу“ — так только гуси гогочут, а пиит должен писать стихи, полные благозвучия!»
Все были недовольны. Дворяне и военные — разговорами о реформах, Сперанским, дружбой с Францией во главе с «узурпатором», захватившим власть законного короля. Купечество и ремесленный люд — блокадой, при помощи которой Наполеон пытался подорвать могущество Англии. Крестьяне — все возраставшими оброками и поборами. Слухи о конституции будоражили столичные салоны, вызывали негодование среди аристократии. Император желал снять с себя часть ответственности, не уступая полноты власти. Было решено создать орган, который, имея некую видимость власти, служил бы ширмой, отвлекал бы недовольство на себя. Создан был Государственный совет, ставший как бы первым, пробным шагом к конституции. Собственно, кадры этого нового учреждения уже сложились в департаментах и канцеляриях министерств, и реформа имела лишь внешний, формально-бюрократический характер. Тем не менее открытие Государственного совета было обставлено с большой торжественностью.
В девять часов утра 1 января 1810 года к собравшимся в зале Сената членам Государственного совета прибыл Александр I и обратился с речью, сочиненной Сперанским и собственноручно выправленной императором. Император долго говорил о значении Государственного совета, бытие коего «отныне станет на чреде установлений непременных и к самому существу империи принадлежащих». Однако за этими пышными фразами не скрывалось никакого конкретного содержания. По окончании речи император повелел Сперанскому, назначенному на пост государственного секретаря, прочитать манифест и список председателей департаментов.
Образование Государственного совета сопровождалось переменами в составе высших правительственных лиц, управлявших департаментами. Граф Аракчеев, назначенный председателем департамента дел военных, был уволен от звания военного министра. Председателем департамента государственной экономии назначен граф Мордвинов, министром юстиции — Иван Иванович Дмитриев, вместо князя Лопухина, занявшего должность председателя департамента гражданских и духовных дел. Министр народного просвещения граф Завадовский, назначенный председателем департамента законов Совета, был заменен графом Разумовским. Последовали и другие перемещения.
В обществе эти новшества встречены были с большим скептицизмом. Сперанского обвиняли в том, что он попирал священные традиции, называли агентом Наполеона. В салоне Олениных злобствующий Филипп Филиппович Вигель, знавший Сперанского по службе, ехидно бурчал: «Близ него мне все казалось, что я слышу серный запах и в голубых очах его вижу синеватое пламя подземного мира». В общем нововведение не было популярно. А главное — перетасовка министров и заведующих департаментами, во что фактически и вылилась новая «реформа», ничего не давала. Государственные дела оставались в столь же неопределенно-туманном положении: назревал конфликт с французами, торговля замирала, подати и оброки неумолимо росли. Четыре департамента Государственного совета оказались бессмысленным бюрократическим мероприятием. Образовалась лишь еще большая путаница в делах и неясность в правах и обязанностях вновь назначенных начальников департаментов.
А. Н. Оленин, ставший заместителем председателя одного из департаментов, рассказывал о продолжительных прениях по поводу того, как рассадить членов Совета, и даже о нескольких последовавших за этим передвижениях. Поэтому все сразу же прекрасно поняли злободневный смысл новой басни «Квартет», которую Крылов как ни в чем не бывало прочел на одном из оленинских вечеров.
Проказница-Мартышка,
Осел,
Козел
Да косолапый Мишка
Затеяли сыграть Квартет… —
с невинным видом читал Иван Андреевич. Он комично изобразил, как вертлявая Мартышка рассаживала музыкантов — и все же квартет не шел на лад! Все рассмеялись, когда Иван Андреевич укоризненно произнес заключительные слова Соловья:
«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье
И уши ваших понежней, —
Им отвечает Соловей:
„А вы, друзья, как ни садитесь,
Всё в музыканты не годитесь“».
Слушатели даже узнали в крыловских зверюшках председателей департаментов. В Медведе узнали грубого Аракчеева, в Мартышке — энергичного Мордвинова, в Осле — недалекого Завадовского. Иван Андреевич отнекивался и не отвечал на вопросы, обращенные к нему, говоря, что он никого не имел в виду, писал лишь о зверях, а совсем не о столь важных особах. Но ему никто не верил, да и сам баснописец тихонько посмеивался.
Придраться было невозможно. А басня запоминалась, ее передавали из уст в уста, ей смеялись.
Оленины привязались к Ивану Андреевичу, как к родному. Добрейшая Елизавета Марковна, похожая на круглый мячик, с вечным чепчиком на голове, хлопотливо заботилась о нем, подкладывала за ужином лучший кусочек. Алексей Николаевич был с ним прост и благодушен. В Крылове он видел народного самородка, редкий чисто русский талант, за которым, как он считал, нужен повседневный уход да и хозяйский глаз — не натворил бы чего!
Сам Иван Андреевич не противился тому мирному, спокойному течению, которое приняла теперь его жизнь. Но даже в радушном доме Олениных он чувствовал себя одиноким, далеким от всегда праздничной, оживленной атмосферы их гостиной, нарядно обставленной бронзой, фарфором, украшенной картинами и коврами. Свободно он чувствовал себя только с одним человеком — Николаем Ивановичем Гнедичем, с которым мог говорить по душам, ничего не утаивая.
Николай Иванович нравился ему откровенностью, душевным благородством, увлеченностью раз избранным делом. Подвиг, совершаемый Гнедичем, — перевод «Илиады», воодушевлял поэта, вселял в него силу и прилежание. Крылов навестил Гнедича в его скромной квартирке. Николай Иванович имел слабость — он любил читать друзьям свои стихи или произведения, ему нравившиеся.
Не успел Иван Андреевич удобно усесться в кресле, как хозяин стал горячо доказывать ему величие произведений Шекспира. Выхватив из шкафа шекспировы сочинения во французском переводе, он начал декламировать сцену из «Гамлета», в которой Гамлет беседует с привидением. Гнедич представлял попеременно то самого Гамлета, то тень его отца с такими странными телодвижениями и таким напряжением, что ласкавшаяся к Крылову собака Мальвина бросилась под диван и начала прежалобно выть.
Николай Иванович понемногу успокоился и принялся доказывать преимущества древнеславянского языка, богатство которого можно сравнить лишь с греческим. Разговор перешел на современное положение вещей. Гнедич сказал, что среди его сослуживцев по департаменту есть передовые, свободомыслящие люди, которые занимаются литературой и входят в Вольное общество любителей наук и художеств, существующее уже несколько лет. Все они ненавидят деспотизм и тиранию. Разгорячившись, Николай Иванович даже прочел Крылову монолог вольнолюбивого Перуанца из своего стихотворения «Перуанец к Испанцу»:
Рушитель милой мне отчизны и свободы,
О ты, что, посмеясь святым правам природы,
Злодейств неслыханных земле пример явил,
Всего священного навек меня лишил!
Доколе, в варварствах не зная истощенья,
Ты будешь вымышлять мне новые мученья?
Властитель и тиран моих плачевных дней!
Кто право дал тебе над жизнию моей?
Закон? какой закон? Одной рукой природы
Ты сотворен, и я, и всей земли народы.
Но ты сильней меня; а я — за то ль, что слаб,
За то ль, что черен я, — и должен быть твой раб?
Погибни же сей мир, в котором беспрестанно
Невинность попрана, злодейство увенчанно:
Где слабость есть порок, а сила — все права!
Где поседевшая в злодействах голова
Бессильного гнетет, невинность поражает
И кровь их на себе порфирой прикрывает!
Изуродованное лицо Гнедича побледнело и стало почти красивым. Он долго читал, словно бросая вызов тиранам, громко выделяя каждое слово стиха. Мечта о вольности, ненависть Перуанца к своему поработителю наполняли страстным напряжением его голос:
А! Се язык их душ, предвестник тех часов,
Когда должна потечь тиранов наших кровь!
Наконец в изнеможении он опустился на стул. Стихи звучали как обвинение, как вызов тиранам. Крылов долго молчал. Стихи Гнедича ему были близки и глубоко взволновали. Таким и он сам был в молодости! Ведь Гнедичу двадцать два года, а ему почти вдвое больше. Нет, сам он уже не в силах выступать с поднятым забралом. Иван Андреевич пожал Гнедичу руку. Его оружие — сатира. Он будет бороться «вполоткрыта». Он станет современным Эзопом. И Крылов прочел Гнедичу басню «Волк и Ягненок». Ведь перед властью тирана, перед жестокостью и вероломством неумолимого хищника все они беспомощные ягнята, которые не могут настоять на своем праве, на справедливости:
У сильного всегда бессильный виноват!
Хвала тебе, наш бодрый вождь,
Герой под сединами!
Как юный ратник, вихрь, и дождь,
И труд он делит с нами.
О сколь с израненным челом
Пред строем он прекрасен!
И сколь он хладен пред врагом
И сколь врагу ужасен!
Наступил 1812 год. Надвигалась угроза войны. В столице тревожно передавались новости, полученные из Франции. Еще в минувшем году Наполеон отозвал из России своего посла Коленкура, стоявшего за сохранение мира между обеими странами. Рассказывали, что старик Куракин, наш посол в Париже, во время торжественного празднования именин императора в тронном зале Тюильрийского дворца имел пренеприятнейший разговор с Наполеоном, который жаловался на происки Англии, ссорящей французов с русскими. Говорили о намерении Наполеона заключить важный для него военный союз с Пруссией и Австрией, откровенно направленный против России. Это была вызывающая демонстрация подготовки к войне.
События принимали все более угрожающий характер.
Крылов был в курсе всех этих новостей, пересудов, сплетен. В салоне Олениных узнавались самые последние известия из-за границы, свежие новости из дворцовых кругов, передавались рассказы приезжих. Оленин, Батюшков, Гнедич, А. Тургенев взволнованно обсуждали полученные новости, горячились, ругали французов, порицали бездеятельность Александра I и его министров. Крылов молча слушал эти споры, хотя и был взволнован и расстроен положением дел. Воинственные планы Наполеона, угроза его нападения на Россию вырисовывались все определеннее, вызывали тревогу и беспокойство.
19 марта Иван Андреевич явился на очередное заседание «Беседы». Ее члены были в сборе и слушали адмирала Шишкова, который злобно говорил о Сперанском, об его злокозненном влиянии на государя. Шишков видел в Сперанском причину всех бед, называл его агентом Наполеона, врагом России. Шишкова охотно слушали и сочувственно ему поддакивали. Для консервативно настроенных членов «Беседы» Сперанский со своими проектами реформ, ущемлявших дворянские права, был ненавистным якобинцем. Подождав, пока разговор прекратился, Крылов при всеобщем молчании прочитал новую басню — «Кот и Повар».
В басне шла речь о словоохотливом Поваре, который вздумал усовещать нашкодившего кота Ваську. Многословные поучительно-благоразумные призывы к порядочности и послушанию мало повлияли на Кота, продолжавшего как ни в чем не бывало уплетать курчонка.
«Кот Васька плут! Кот Васька вор!
И Ваську-де не только что в поварню,
Пускать не надо и на двор,
Как волка жадного в овчарню:
Он порча, он чума, он язва здешних мест!»
(А Васька слушает, да ест.)
Тут ритор мой, дав волю слов теченью,
Не находил конца нравоученью.
Но что ж? Пока его он пел,
Кот Васька все жаркое съел.
Трудно было не понять, о ком говорил Крылов в своей басне. Все присутствующие узнали в нахальном коте Ваське императора французов, который захватывал одну страну за другой, а аппетиты его отнюдь не уменьшались. Еще недавно он присоединил к своим владениям герцогство Ольденбургское, вопреки условиям Тильзитского мира наводнил войсками Пруссию и Польшу. И все это ему сходило безнаказанно. На протесты Александра Наполеон даже не ответил.
Поэтому заключение басни, ее «мораль» все отнесли к самому Александру I, хотя вслух об этом никто и не решился сказать:
А я бы повару иному
Велел на стенке зарубить:
Чтоб там речей не тратить попустому,
Где нужно власть употребить.
Басне шумно зааплодировали. Крылов спокойно улыбался и вытирал платком пот, капавший со лба. Бравый адмирал, отличавшийся военной прямотой, только крякнул и долго тряс руку Крылова крепкой, по-стариковски испещренной синими венами рукой.
События между тем нарастали, напряжение увеличивалось.
21 апреля Александр выехал из Петербурга к армии. Перед отъездом он через канцлера Румянцева передал французскому послу Лористону свое желание сохранить дружеские отношения с Наполеоном и избежать войны. А 19 мая Наполеон с императрицей отправился в Дрезден для смотра своих войск. Все знали, что это начало войны. По дороге его почтительно встречали вассальные германские государи без шляп, изгибаясь в раболепных поклонах и приветствиях. Французская армия прошла сквозь покорную Германию и вступила в Польшу. В ночь на 24 июня Наполеон приказал начать переправу через Неман.
Александр в это время был в Вильно. Ему сообщили о переходе французских войск через Неман во время бала, данного в его честь в одном из пригородных замков. Государь любил, чтобы им восхищались, считали его неотразимым. Он танцевал с самыми красивыми и знатными польскими аристократками, затянутый в зеленый, ловко сидевший на его стройной фигуре мундир с пышными эполетами. Среди всеобщего веселья к нему подошел министр полиции Балашов и доложил о начале военных действий. Александр, отойдя с ним в сторону, просил Балашова сохранить известие в тайне и продолжал танцы.
А в Петербурге узнали об этом днем позже. Вести были противоречивы. Передавали об отступлении армии Барклая, о посылке императором Балашова к Наполеону с письмом, предлагавшим прекращение военных действий, о возвращении Александра в Москву.
Войну Россия встретила неподготовленной. Крестьянство изнемогало под крепостным игом. Торговля была парализована блокадой. Дворянские круги возбуждены слухами о реформах. В военном отношении тоже все было неопределенным. Не имелось даже единого плана ведения войны. Александр I доверил разработку стратегического плана прусскому генералу Фулю, перешедшему на русскую службу после уничтожения французами прусской армии при Иене и Ауэрштадте. План этого тупого горе-теоретика предполагал сосредоточение русской армии в укрепленном лагере при Дриссе, где она должна была обороняться. Осуществление, его прожектов привело бы к тому, что русское войско оказалось в самом начале войны в ловушке. Лишь дружный протест русских генералов против этого нелепого плана вынудил в последний момент Александра от него отказаться.
Но и среди главного штаба армии не было единства мнений. Все дружно высказывались против плана Фуля, но каждый из его противников предлагал свой собственный план, противоречащий остальным. Это порождало напряженность отношений между руководящими верхами армии, вело к бесконечным спорам и столкновениям. Барклай-де-Толли, Бенингсен, Багратион, Армфельдт — все они не были согласны друг с другом, и каждый отстаивал свое мнение. А французская армия тем временем неумолимо надвигалась, захватывая один за другим города, села, деревни. Первой русской армией командовал Барклай, второй — Багратион, находившийся в его подчинении. Барклай основывал свою стратегию на растяжении коммуникаций противника и избегал боев, стремясь сохранить живую силу армии. Багратион кипел негодованием, он стоял за активную стратегию, за решительное сражение с неприятелем, которое, по его мнению, должно было преградить путь врагу внутрь страны.
Сведения о разногласиях и интригах в главной ставке доходили до столицы и тревожно обсуждались завсегдатаями оленинского кружка. Иван Андреевич с самого начала воспринял войну как общенародное дело. Он понимал, что не интересы отдельных партий или сословий поставлены здесь на карту, а судьба всей страны. Его смущали и беспокоили разногласия между различными сословиями и военачальниками, которые ослабляли сопротивление опасному и могущественному врагу. Когда его спрашивали о положении вещей, он обычно отмалчивался и мрачнел. Наполеон со своим войском уже был под Смоленском, а неурядица в главном штабе продолжалась.
Как всегда, Иван Андреевич высказал свое мнение басней. Она называлась «Раздел» и призывала к единству, к дружному самоотверженному отпору врагу. Перед лицом национальной катастрофы Крылов не желал молчать. В басне он говорил о «честных торгашах», которые так увлеклись спорами о дележе барышей, что не заметили пожара, охватившего дом:
Забывши, что пожар в дому,
Проказники тут до того шумели,
Что захватило их в дыму
И все они со всем добром сгорели.
Басню он заключил весьма весомым и многозначительным поучением, обращенным к тем, кто еще не проникся готовностью общее дело ставить выше защиты своих личных выгод:
В делах, которые гораздо поважней,
Нередко от того погибель всем бывает,
Что чем бы общую беду встречать дружней,
Всяк споры затевает
О выгоде своей.
Это являлось обращением к соотечественникам, призывом последовать своему патриотическому долгу. Басня была восторженно встречена всеми, кто ее слышал. Она переписывалась от руки, и копии ее посылались в армию, стали известны по всей стране.
В начале августа Александр I возвратился из Москвы в Петербург. Новости были невеселые. После падения Смоленска положение Барклая-де-Толли в армии оказалось невыносимым. Встал вопрос о новом главнокомандующем. В армии и в стране пользовался особенной любовью Михаил Илларионович Кутузов. Любимый ученик Суворова, он умел говорить с солдатами, не признавал парадного блеска и проявил себя талантливым и смелым полководцем в войне с Турцией. Кутузов вынес всю тяжесть последней кампании, разбив на Дунае турецкую армию и вынудив турок заключить мирный договор, выгодный для России.
Однако Кутузова не любил император. Он не мог простить ему своего поражения под Аустерлицем, когда вопреки советам Кутузова поспешил вступить в бой с Наполеоном и проиграл сражение. Теперь же под влиянием общественного мнения и давлением военных кругов Александр вынужден был призвать старого фельдмаршала и поставить его во главе войска.
Кутузов не в силах был сразу же нанести решающий ответный удар. Он продолжал тактику, начатую Барклаем, — изматывания неприятеля, сохранения живой силы армии. После сражения под Бородином Кутузов продолжал отступать и 2 сентября оставил Москву без боя.
В донесении императору, напечатанном 18 сентября в «Северной почте», фельдмаршал сообщал:
«…Войска, с которыми надеялись мы соединиться, не могли еще прийти; неприятель же пустил две новые колонны, одну по Боровской, а другую по Звенигородской дорогам, стараясь действовать на тыл мой от Москвы; а потом не мог я никак отважиться на баталию, которой невыгоды имели бы последствием не только разрушение армии, но и кровопролитнейшую гибель и превращение в пепел самой Москвы. В таком крайне сумнительном положении, по совещанию с первенствующими нашими генералами, из которых некоторые были противного мнения, должен я был решиться подпустить неприятеля взойти в Москву, из коей все сокровища, арсенал и все почти имущества, как казенные, так и частные, вывезены, и не один почти житель в ней не остался. Осмеливаюсь всеподданнейше донести вам, всемилостивейший государь, что вступление неприятеля в Москву не есть еще покорение России».
Крылова, как и всех русских людей, весть об оставлении Москвы глубоко потрясла. Он вспоминал улочки, по которым бродил, квартирку Сандуновых у Петровского театра, дом Бенкендорфов. Все это еще недавно было так знакомо, так обжито, а теперь там маршируют французские гренадеры, улицы и дома опустели…
По рукам ходило письмо Батюшкова к Вяземскому, в котором «попинька» писал: «Я решился и твердо решился отправиться в армию, куда и долг призывает, и рассудок, и сердце — сердце, лишенное покоя ужасными происшествиями нашего времени. Военная жизнь и биваки меня вылечат от грусти. Москвы нет! Потери невозвратные! Гибель друзей, святыни, мирное убежище наук — все осквернено шайкой варваров…»
Образ действий Кутузова вызвал нарекания и при дворе, и в обществе, и даже среди армии. Одним из ярых противников Кутузова был московский генерал-губернатор граф Ростопчин. В ядовитых наветах царю он резко осуждал «бездействие» фельдмаршала, называл Кутузова старой бабой, которая потеряла голову и думает что-нибудь сделать, ничего не делая. Да и сам император с настороженностью следил за действиями Кутузова. В руководящих сферах лишь немногие понимали значение кажущегося бездействия и осторожности Кутузова, и только его огромный авторитет в народе охранял старого фельдмаршала от открытых нападок.
В это тяжелое время Крылов смело выступил на защиту Кутузова. Он написал басню «Обоз», которая была напечатана в ноябрьском номере «Сына отечества», но еще до этого стала широко известна в читательских кругах. В басне Крылов уподоблял армию громоздкому обозу, который надо свезти с горы. Для этого следовало обладать опытом, выдержкой, осторожностью, которыми и отличается старый конь, медленно и уверенно спускающийся со своим тяжелым грузом. Старый конь — это и есть Кутузов. Но именно его осторожность и осмотрительность вызывают ропот и негодование молодой лошади, которая считает, что «конь хваленый» «лепится как рак», спускается с недопустимой медлительностью. Однако «конь добрый» успешно спустился с горы, тогда как «лошадь молодая», похвалявшаяся тем, что она «возик» свой не свезет, а скатит, бухнулась с возом в канаву. И баснописец заключал:
Как в людях многие имеют слабость ту же:
Все кажется в другом ошибкой нам;
А примешься за дело сам,
Так напроказишь вдвое хуже.
Кутузов планомерно и дальновидно осуществлял свой план истребления неприятеля, осторожно и мудро руководил военными действиями. Он говорил окружающим: «Наши молодые горячие головы нападают на старика, что я удерживаю их порывы. Они не обращают внимания ни на обстоятельства, которые делают гораздо более, нежели сколько могло бы сделать наше оружие».
С началом войны поредели обычные посетители оленинского кружка. Батюшков уехал в армию добровольцем, многие другие также оказались или в армии, или за пределами столицы. Лишь Иван Андреевич продолжал регулярно появляться в гостиной Олениных и восседал в кресле, внимательно прислушиваясь ко всем новостям, приходящим в эту хорошо осведомленную «штаб-квартиру».
Известие об оставлении Москвы, о пожарах, уничтоживших большую часть древней столицы, как бы воочию показало опасность, грозившую всей стране, пробудило новый подъем патриотических настроений. Война оказалась близкой, словно стоящей тут же рядом за окнами. О Москве велось много разговоров.
Этим вечером в гостиную Олениных пришел не по возрасту тучный Александр Иванович Тургенев. Он всегда знал последние новости, бывая в министерстве и встречаясь с влиятельными государственными сановниками.
Александр Иванович, волнуясь, рассказал о важной новости. О посылке Наполеоном бывшего французского посла при русском дворе графа Лористона в ставку Кутузова при Тарутине с предложением о мирных переговорах. 23 сентября Лористон прибыл в Тарутинский лагерь и был по его настоянию принят Кутузовым, которому вручил личное письмо Наполеона. «Государь мой искренне желает положить предел несогласиям между двумя великими народами и положить навсегда», — заявил посланец императора фельдмаршалу. Кутузов наотрез отказался вступать в какие-либо разговоры о мире. «Меня проклянет потомство, — сказал он, — если признают меня первым виновником какого бы то ни было примирения: таков действительный дух моего народа». Тургенев даже заплакал, передавая эти слова фельдмаршала. «Дела наши идут хорошо, — добавил он. — Неприятель чувствует решимость русского народа отстоять свою независимость и понимает, что война им проиграна».
Иван Андреевич слушал это с волнением, вскакивал с кресел, поминутно смахивая слезы. Решимость Кутузова, его слова потрясли Крылова. Он крепко обнял Тургенева и против своего обыкновения сразу же ушел домой. Лишь через несколько дней появился он у Олениных. Не говоря ни слова, вынул из кармана листок и прочел басню «Волк на псарне». Он начал басню с описания дружного отпора, который дан был Волку, попавшему не в овчарню, как он рассчитывал, а на псарню.
Крылов показывал в лицах, как Волк, неожиданно для него встретивший дружный отпор, ощетинившись, прижался в углу и лицемерно предложил мировую. Иван Андреевич изогнулся, сделал умильное лицо и просительным голосом передал заискивающе-примирительную речь Волка:
И начал так: «Друзья! К чему весь этот шум?
Я, ваш старинный сват и кум,
Пришел мириться к вам, совсем не ради ссоры,
Забудем прошлое, уставим общий лад!
А я не только впредь не трону здешних стад,
Но сам за них с другими грызться рад,
И волчьей клятвой утверждаю,
Что я…» — «Послушай-ка, сосед, —
Тут Ловчий перервал в ответ, —
Ты сер, а я, приятель, сед,
И волчью вашу я давно натуру знаю;
А потому обычай мой:
С волками иначе не делать мировой,
Как снявши шкуру с них долой».
И тут же выпустил на Волка гончих стаю.
Все узнали в мудром, седом Ловчем — Кутузова, а в лицемерном Волке — Наполеона. Баснописец выразил мысли не только присутствовавших, но и всей России.
Крылов собственноручно переписал басню и передал ее жене Кутузова, Екатерине Ильиничне, а она немедленно переслала ее Михаилу Илларионовичу в действующую армию. После сражения под Красным Кутузов собрал вокруг себя солдат и командиров и прочел им крыловскую басню. Вот как рассказывает об этом один из очевидцев, И. С. Жиркевич: «Вот послушайте, господа», — сказал Кутузов. Он вынул из-за пазухи листок с басней Крылова и прочел ее вслух. При словах «Ты сер, а я, приятель, сед», прочтенных с особенной выразительностью, фельдмаршал снял фуражку и указал на свои седины. В ответ раздались одобрительные возгласы и громкое «ура!». Этот рассказ, подтверждаемый многими очевидцами, достаточно убедителен. Басни Крылова стали грозным оружием.
Придя в Москву, Наполеон даже не поверил что она оставлена жителями. Жители толпами уходили из города. Выезжали в колясках, на телегах, шли пешком, везя и неся с собой то, что можно было увезти или захватить. На улицах встречались старики, женщины, дети, уходившие из насиженных гнезд, лишь бы не остаться под властью неприятеля. «Никто не помышлял о покорности неприятелю, о том, чтобы оставаться в своих домах, бить ему челом… — писал впоследствии в своих записках И. Лажечников, пошедший в качестве добровольца в армию. — Толпы, большею частью дети, женщины, старики, переходили с места на место, нередко по ночам, освещаемые кострами, воздвигаемыми из собственных домов». Другой свидетель этого исхода из Москвы, Д. Свербеев, видел «тележку с одной коровой, которая была как-то к ней пристегнута и ее везла, или какие-нибудь допотопные дрожки, запряженные парой, в одну лошадь и корова на пристяжку; куча народа на телегах или подле телег, наполненных без каких-либо сундуков разными пожитками; в этой толпе многие были полураздеты, в рубищах, другие одеты во весь свой туалет; у одного мужчины на голове был платок и в руках какая-то шляпенка; на женщине — мужская шинель или байковый сюртук, — одним словом, кто в чем и как попало, лишь бы вывезти с собою все, что можно было забрать, лишь бы не оставлять ничего в добычу злодеям».
План Кутузова начал приносить свои плоды. Растянутость коммуникации, внезапные удары, наносимые русскими войсками, активность партизан и всеобщая народная ненависть к врагу поставили армию Наполеона в трудное положение. В оставленной населением Москве, разрушенной и сожженной пожарами, без продовольствия французы начали испытывать тяжелые лишения, голод. Армия стала терять дисциплину, морально распадаться. Мародерство, дезертирство, непослушание офицерам превратилось в повседневные явления. Солдаты бродили по городу в поисках ценных вещей и продовольствия. Грабили опустевшие дома, набивали добром целые мешки. Приходилось питаться кониной, так как лошадей все равно нечем было кормить.
Крылов внимательно следил за каждой вестью, приходившей из армии. В начале ноября в журнале «Сын отечества», выходившем еженедельно тоненькими тетрадочками, Иван Андреевич прочел заметку: «Очевидцы рассказывают, что в Москве французы ежедневно ходили на охоту стрелять ворон… Теперь можно дать отставку старинной пословице: „Попал, как кур[16] во щи“, а лучше говорить: „Попал, как ворона в суп“». Эта заметка сопровождалась карикатурою Ивана Теребенева «Французский вороний суп», на которой изображены были четыре гренадера великой армии, с жадностью обгладывающие вороньи крылышки и ножки.
Торжество врага оказалось недолгим. Мудрая стратегия Кутузова, мужество и героизм русских воинов и общенародное патриотическое движение, проявившееся прежде всего в самоотверженных действиях крестьянских партизанских отрядов, сломили доселе непобедимого противника, деморализовали французскую армию, расстроили замыслы даже такого гениального полководца, каким был Наполеон. На защиту родины выступил народ. Поэтому особенно отвратительными и жалкими оказались те немногие отщепенцы, которые из-за личного благополучия остались в Москве, занятой Наполеоном, и пережидали развития событий.
Крылов гневно осудил их корыстолюбие и трусость. В том же «Сыне отечества» он поместил басню «Ворона и Курица», беспощадно высмеяв этих «ворон», собиравшихся поживиться на народной беде, забывших свой патриотический долг. Басня появилась вскоре после того, как Кутузову за победу под Красным был присвоен титул князя Смоленского. Крылов показал в басне тот решающий перелом, который наступил в войне благодаря героизму русского народа и прозорливости Кутузова:
Когда Смоленский князь,
Противу дерзости искусством воружась,
Вандалам новым сеть поставил
И на погибель им Москву оставил,
Тогда все жители, и малый и большой,
Часа не тратя, собралися
И вон из стен московских поднялися,
Как из улья пчелиный рой.
Теперь Крылов мог уже во весь голос говорить о подвиге народа и мудрости князя Смоленского, которого еще так недавно осуждали и злобно язвили его недоброжелатели. Острие его басни, ее гневная сатира направлены против мелкодушных, корыстолюбивых «ворон».
Ворона с кровли тут на эту всю тревогу
Спокойно, чистя нос, глядит.
«А ты что ж, кумушка, в дорогу? —
Ей с возу Курица кричит. —
Ведь говорят, что у порогу
Наш супостат». —
«Мне что до этого за дело? —
Вещунья ей в ответ. — Я здесь останусь смело.
Вот ваши сестры — как хотят;
А ведь Ворон ни жарят, ни варят.
Так мне с гостьми немудрено ужиться,
А может быть, еще удастся поживиться
Сырком иль косточкой, иль чем-нибудь.
Прощай, хохлаточка, счастливый путь!»
Ворона подлинно осталась;
Но вместо всех поживок ей,
Как голодом морить Смоленский стал гостей, —
Она сама к ним в суп попалась.
И Крылов закончил басню мудрым поучением:
Так часто человек в расчетах слеп и глуп.
За счастьем, кажется, ты по пятам несешься:
А как на деле с ним сочтешься —
Попался, как ворона в суп!
Басни Крылова читали в петербургских гостиных и крестьянских избах, купеческие сидельцы и солдаты в армии, искушенные литературные гурманы и малограмотные мужики. Басни отвечали чаяниям широких народных масс, способствовали сплочению патриотических сил. Иван Андреевич был особенно обрадован, когда поздно вечером в его комнату ворвался Гнедич с письмом от Батюшкова, находившегося в войсках, теснивших отступающего неприятеля. Батюшков сообщал: «Скажи Крылову, что ему стыдно лениться и в армии его басни все читают наизусть. Я часто их слышал на биваках с новым удовольствием». Это была лучшая награда баснописцу.
Наполеон поспешно отступал. Кутузов все неумолимее сжимал клещи, стремясь отрезать его армию, не дать ей уйти из России. И лишь неумелость и нерасторопность адмирала Чичагова, командовавшего особой армией, которая должна была завершить окружение французов и не дать им переправиться через Березину, спасла остатки «великой армии» от окончательного уничтожения. Наполеон искусным маневром обманул Чичагова, сделав вид, что хочет переправиться у Борисова, а фактически начал переправу у Студенки. Кутузов известил об этом Чичагова, но высокомерный адмирал, любимец императора, не счел за нужное торопиться, и Наполеон с остатками войска перешел Березину.
Разделяя общее возмущение сухопутным адмиралом, Крылов написал басню «Щука и Кот» — о пирожнике, взявшемся шить сапоги, то есть о моряке, взявшемся командовать сухопутным войском. Басня кончалась насмешливым поучением:
И дельно! Это, Щука,
Тебе наука:
Вперед умнее быть
И за мышами не ходить!
Крылова не беспокоило, что его басня не понравится в дворцовых кругах, — ведь Чичагова император хотел противопоставить нелюбимому им Кутузову!
Это была последняя басня о войне. Военные действия теперь перешли за пределы России, враг был сломлен, отечество избавилось от опасности порабощения.
Но война продолжалась. Добравшись с остатками войска до Парижа, Наполеон снова стал готовиться к борьбе и собирать армию, намереваясь весной 1813 года нанести союзным войскам ответный удар.
Старый фельдмаршал умер в самом начале заграничного похода, в прусском городке Бунцлау, накануне тяжелых боев с французской армией. Во главе войск встал сам император Александр I. Теперь не было никого, кто мог бы затмить его славу или осудить его распоряжения. Кровопролитное сражение под Дрезденом, «битва народов» у Лейпцига принесли новые жертвы, многие тысячи убитых и раненых. Наконец 19 марта 1814 года капитулировал Париж. Союзники добились окончательной победы над Наполеоном. Русские войска торжественно вступили в столицу Франции. Парижане теснились на улицах, даже крыши домов были покрыты зрителями. Женщины из окон и балконов махали белыми платками. Солдаты прошли церемониальным маршем через город. Наполеон подписал отречение.
На Вандомской площади была снесена статуя Наполеона, и на постаменте водрузили белое бурбонское знамя. А русский император посетил салон мадам де Сталь и очаровал ее своим либерализмом и приятностью обращения. Он даже обещал ей, что рабство будет повсюду уничтожено.
Началась полоса новых забот и волнений — дипломатических переговоров, уговоров, уступок, споров, новых уступок, проектов, деклараций, соглашений. Александр I выказал себя ловким и умелым дипломатом, обещая, пленительно улыбаясь, настаивая на своем. Наконец после полуторагодичного отсутствия он отправился назад в Россию. 12 июля он возвратился в Павловск. В Петербурге готовились к торжественному приему императора, сооружались триумфальные арки, поэты спешно писали восторженные оды и кантаты.
Престарелый патриарх поэзии Гаврила Державин написал оду «На возвращение императора Александра». Он читал ее в своем роскошном кабинете, зябко кутаясь в заячий тулупчик, хотя на улице палило жаркое июльское солнце:
Ты возвратился, благодатный,
Наш кроткий ангел, луч сердец!
Твой воссиял нам зрак прекрасный,
Монарх, отечества отец!..
Ура! Ура! Ура!
Стихи были слабые, натужные, лишенные того душевного жара, который покорял в его прежних одах. Их прослушали с вежливым вниманием и почтением к одряхлевшему поэту и событию, к которому они относились. Многократное повторение «ура!» показалось неуместным и неудачным. Стихи других поэтов были не лучше. Однако молчание по поводу приезда императора тоже могло показаться предосудительным.
Алексей Николаевич Оленин счел даже необходимым напомнить Крылову о его недопустимом небрежении. За все время войны он ни разу не похвалил Александра Павловича. Ведь «кроткий ангел» может обидеться. У Крылова есть и недоброжелатели, они не преминут обратить внимание на то, что баснописец прославлял Кутузова как бы вопреки самому императору. Теперь самое время откликнуться на общее ликование. Оленин молча пожевал губами и, не слушая оправданий Крылова, многозначительно похлопал его по плечу.
Уклониться было невозможно. Алексей Николаевич близок к дворцовым сферам и знал порядки. Во дворце уже был разговор: сама вдовствующая императрица Мария Федоровна осведомлялась.
Иван Андреевич вспоминал Александра — обольстительного и коварного, любившего очаровывать и внутренне глубоко холодного. Трудные месяцы войны он провел в огромных комнатах Зимнего дворца, управляя из ампирного, круглого кабинета военными действиями и всей страной, вдали от сражений, которыми руководил Кутузов. Теперь император пожинал жатву, выросшую на полях, обильно смоченных солдатской кровью, кровью тех безвестных мужиков, которые испокон веку обрабатывали земли помещиков. Помещики били их батогами, а в армии их секли шпицрутенами под грохот барабанов. Александр — освободитель Европы, «кроткий ангел» и «отец отечества», обещавший уничтожить рабство, не выполнил своих обещаний. Победители «непобедимой» наполеоновской армии снова вернулись под иго помещика, снова должны были от зари и до сумерек шагать за сохой.
Крылов написал басню. Она называлась «Чиж и Еж». В ней говорилось о скромном, робком Чиже, который на заре негромко «чирикал про себя». Когда во всем блеске и славе подымался над миром солнечный бог — Феб — и раздавался громкий хор соловьев, прославлявших его приход, робкий Чижик умолкал. Это молчание вызвало недовольство законопослушного Ежа, который заподозрил в скромном певце недостаток восхищения перед Фебом:
Мой Чиж замолк. «Ты что ж, —
Спросил его с насмешкой Еж, —
Приятель, не поешь?» —
«Затем, что голоса такого не имею,
Чтоб Феба я достойно величал, —
Сквозь слез Чиж бедный отвечал, —
А слабым голосом я Феба петь не смею».
Аллегорический смысл басни пояснен был в заключительных строках:
Так я крушуся и жалею,
Что лиры Пиндара мне не дано в удел:
Я б Александра пел!
Это был почтительный отказ. Крылов не пожелал ничего сказать в похвалу «отцу отечества». Ссылка на свою скромность, на отсутствие у него «лиры Пиндара» мало меняла дело.
Всегда сдержанный Оленин остался недоволен. Басня оказалась двусмысленной и не соответствующей важности момента. Она появилась в печати лишь через год, когда острота события прошла и многое забылось.
После празднеств, молебствий, парадов, балов наступили будни. Александр, увлеченный ролью руководителя Европы, был занят европейскими делами, созданием Священного союза, конгрессами и совещаниями. Страной управлял его «верный друг», низкопоклонный и жестокий граф Аракчеев, наперсник и наставник его покойного отца.
В память победоносной войны 1812 года была вычеканена на монетном дворе медаль по эскизу Оленина. На ней перед алтарем почтительно склонились воин в мундире, купец в кафтане и крестьянин в широкой рубахе, осеняемые благословением священника. Медаль напоминала о единодушии сословий, и надпись на ней гласила: «Мы все в одну сольемся душу». Но слияния не получилось. Сословия были недовольны. Молодые офицеры, которые вернулись из-за границы, повидав там новые учреждения и порядки, возникшие за годы революции и наполеоновского режима, были недовольны омертвением всего государственного организма, засильем одряхлевших вельмож и сенаторов. Разоренное войной купечество недовольно было наплывом иностранных промышленников, прибиравших к своим рукам сырье и промыслы, заводы и фабрики. Крестьяне чувствовали себя ограбленными и обманутыми. Пожертвовав всем для защиты родины, они по-прежнему остались в помещичьей кабале, нищими и голодными.
По Петербургу ходило теперь много штатских. Военная форма была не в моде. Александр разрешил офицерам носить в Париже фраки, и все вернувшиеся из-за границы ходили в круглых шляпах и во фраках. Собирались в домах всем известных лиц. Вели там тайные разговоры. Читали стихи и тексты конституций. Было беспокойно и неопределенно. «Беседа» оказалась давно отжившей. Над нею подшучивали, смеялись. Молодые остроумцы устроили новое общество — «Арзамас», в котором откровенно потешались над ревнителями старины и традиций.
В «Арзамас» вступили В. А. Жуковский, К. Н. Батюшков, А. И. Тургенев, князь П. А. Вяземский, В. Л. Пушкин, позже — А. С. Пушкин. Члены «Арзамаса» получили шуточные прозвища, заимствованные из баллад Жуковского: сам Жуковский — Светлана, Батюшков — Ахилл, Вяземский — Асмодей, а Александр Иванович Тургенев, по причине постоянного урчания в желудке, наименован был «Эоловой Арфой». Каждый вновь вступающий в общество арзамасец должен был произнести шуточную надгробную речь в честь кого-либо из членов «Беседы». Острые на язык арзамасцы, однако, уважали Крылова и его одного щадили в своих злых памфлетах.
И хотя «Беседа» вновь открыла свои заседания, они становились все скучнее, все малолюднее. Чтения не вызывали интереса, свет в зале дома Державина рано гасили, дверь закрывалась, и немногочисленные гости расходились позевывая.
«Крылов родился чудаком. Но этот человек загадка, и великая!..»
Незадолго до войны, в 1808 году, А. Н. Оленин был назначен директором Публичной библиотеки. Со свойственной ему энергией и деловитостью он принялся наводить порядки в библиотеке, запущенной и заброшенной ее прежними начальниками. Публичная библиотека основана была еще в 1795 году, когда после победы над Польшей Суворов перевез в Петербург знаменитое собрание книг и манускриптов графов Залусских, которое после смерти его владельцев находилось под угрозой расхищения. Однако и в Петербурге библиотека попала в дурные руки. В ней хозяйничали французские эмигранты-роялисты, выброшенные из Франции революцией и устроившиеся в России на хлебные места: сначала граф Шуазель-Гуаффье, а затем шевалье д'Огара. Они продолжали раздачу ценнейших изданий и рукописей, заботясь лишь о своих личных выгодах. А сокровища библиотеки лежали в непригодном для хранения садовом павильоне Аничкового дворца, куда их первоначально сложили в беспорядке. Лишь приход на пост директора графа А. С. Строганова спас библиотеку от окончательной гибели. Он настоял на том, чтобы библиотека, наконец, получила помещение, которое строилось для нее по проекту архитектора Соколова на углу Невского проспекта и Садовой улицы (тогда называвшейся Сенной). Но лишь с приходом Оленина библиотека обрела настоящего хозяина. При нем были разобраны и расставлены по полкам и шкафам книги и манускрипты, проверено их наличие, устроен читальный зал для посетителей.
В январе 1812 года А. Н. Оленин направил министру народного просвещения графу А. К. Разумовскому ходатайство о принятии на должность помощника библиотекаря титулярного советника И. А. Крылова, «который известными талантами и отличными в российской словесности познаниями может быть весьма полезным для библиотеки». Через несколько дней последовала резолюция министра, и Крылов был утвержден в должности библиотекарского помощника и приступил к работе.
Служба давала ему материальную независимость, возможность хотя и скромного, но безбедного существования. Он и его друг Гнедич, поступивший в библиотеку вместе с ним, получили в здании библиотеки по квартирке: Крылов — во втором этаже, Гнедич — над ним, этажом выше, — с окнами, выходившими на Садовую улицу и Гостиный двор.
Военные события задержали открытие библиотеки для посетителей, как намечалось Олениным. Наиболее ценные книги и манускрипты решено было вывезти на север из боязни нападения французов на Петербург. Книги погрузили на специальный корабль и отправили под наблюдением В. Сопикова на Ладогу. Там пришлось зазимовать около Лодейного Поля, а по прошествии опасности книги были на телегах доставлены обратно.
Открытие Публичной библиотеки для читателей состоялось лишь 2 января 1814 года. А. Н. Оленин, любивший официальную помпезность, придавал большую важность этому событию и обставил торжество с особенной пышностью. К открытию стали готовиться еще за несколько месяцев. Оленин заранее назначил темы для выступающих на торжественном заседании. Крылову поручено было написание аполога «О пользе истинного просвещения и о пагубных следствиях суемудрия», как обозначил его тему Оленин. В апологе должно было показать, что истинное знание и наука далеки от пагубного «суемудрия». Оленину этим хотелось успокоить церковные и реакционные круги, которые с подозрением относились к самой затее — публичной, для всех открытой библиотеки, опасаясь ознакомления читателей с безбожными и вольнодумными книгами. Приглашенный прочитать проповедь на открытии, ректор духовной академии архимандрит Филарет отказался от этого предложения. Иван Андреевич вынужден был подчиниться желанию своего покровителя и написал аполог «Водолазы». А. Н. Оленин направил Крылову особое письмо, в котором, обращаясь к баснописцу в третьем лице, сообщал, что «…он (то есть Крылов) знает, с каким удовольствием прекрасный его труд был уже принят в кругу его приятелей и знакомых (которые иногда строго разбирают его творения). Теперь остается ему только согласиться сей труд самому прочесть пред Публикою в день торжественного открытия императорской Публичной библиотеки. Вот о чем я решился Вас, Милостивый Государь мой, письменно просить, и надеюсь, что Вы в том не откажете; я уверен, что почтенная Публика с большим удовольствием будет слушать приятный и поучительный Ваш аполог, который Вы нынешним летом на даче моей сочинили под названием „Водолазы“. Пребываю и прочее».
Наконец все было подготовлено, приглашены самые видные и чиновные особы, и состоялось торжественное открытие в круглой зале второго этажа.
В первых рядах сидели члены Святейшего синода и духовенство. За ними виднелись господа сенаторы, чиновные особы первых классов и члены Государственного совета. Среди них Крылов увидел Гаврилу Романовича Державина, графа Дмитрия Ивановича Хвостова, Ивана Афанасьевича Дмитревского, Нелединского-Мелецкого. За креслами с этими знатными особами, блестевшими орденами и золотым шитьем мундиров, виднелись купеческие сюртуки и стриженные под горшок головы почтеннейшего купечества.
Вслед за открывшим торжественное собрание А. Н. Олениным выступил библиотекарь Красовский, прочитав «Рассуждение о пользе человеческих познаний и о потребности общественных книгохранилищ для каждого благоустроенного государства». Красовский читал глухим, деревянным голосом, произнося высокопарную и весьма скучную речь, хотя и ратовавшую в пользу просвещения и науки. Он поминал и Невтона, и Линнея, и Колумба, и Кука, халдеев и финикиян и множеством своей учености совсем усыпил было слушателей, излагая историю возникновения библиотек в древнем и новом мире. Наконец он кончил. Все облегченно вздохнули.
Следующим оратором был Николай Иванович Гнедич, коллежский асессор и кавалер, как его отрекомендовал Оленин. Николай Иванович прочел свое «Рассуждение о причинах, замедляющих успехи нашей словесности». Он читал с пафосом, почти декламируя, отчетливо произнося каждую фразу, и его охотно слушали. Гнедич говорил о великом примере античного мира, о звуках Аполлоновой лиры, о том, что изучение древних питает и укрепляет разум и облагораживает душу. Его единственный глаз светился неподдельным восторгом, а испещренное шрамами лицо стало почти привлекательным. Заканчивая свою речь, он выразил надежду, что мирное владычество наук будет более славным, чем владычество оружия и брани.
Шелковые рясы и позолоченные мундиры слушали Гнедича с недоверием, даже легким раздражением. В его речи не было надлежащего смирения, туманно говорилось о предрассудках и заблуждениях врагов «истинного просвещения» и о недостаточных успехах в словесности. Оленин забеспокоился. Не ровен час придется объясняться по поводу этой речи!
Но вот вышел к столу Иван Андреевич. Он также приоделся по случаю торжества. На нем был новый синий фрак, шея утопала в обширнейшем жабо, непокорные пряди волос были тщательно приглажены. Крылов начал чтение аполога. Однако голос его звучал вяло, аполог оказался чересчур длинным, а смысл его недостаточно вразумительным. Речь шла о некоем древнем царе, который хотел изгнать из своего царства ученых, но на всякий случай собрал совет из вельмож для решения вопроса: приносят ли науки вред или пользу?
Один из мудрецов и рассказал ему притчу о трех ловцах жемчуга. Первый из них — ленивец, искал лишь раковины, выброшенные приливом на берег. Другой хотя и не жалел труда, но выбирал глубину себе по силам. Третий же решил нырнуть в самую глубь моря, но, не достигнув дна, погиб. В заключение Крылов пояснил свою притчу:
Хотя в ученьи зрим мы многих благ причину,
Но дерзкий ум находит в нем пучину
И свой погибельный конец.
Лишь с разницею тою,
Что часто в гибель он других влечет с собою.
Требование осторожности и умеренности в изучении наук, провозглашенное баснописцем, казалось несколько двусмысленным. Предостережение по адресу тех, кого ждет погибельный конец, могло одинаково относиться и к вольнодумцам, ищущим законов, управляющих миром, и к религиозным фанатикам и «философам», погружающимся в бездну мистики. Иван Андреевич схитрил и здесь.
Почетные гости расходились с сожалением о напрасно потраченном времени. Все было как-то неопределенно, неясно, самое начинание подозрительно по своим последствиям. Гости молча проследовали по мягким коврам через великолепные залы с колоннами, статуями, картинами, заставленные шкафами, в которых по формату были расставлены книги в пергаментных переплетах.
Крылов стал библиотекарским помощником, служащим государственного учреждения, который должен точно и неукоснительно исполнять свои служебные обязанности. Алексей Николаевич Оленин требовал от подчиненных добросовестного и усердного труда. До его назначения дела шли необычайно медленно. Служащие смотрели на работу, как на обременительную и излишнюю затею, и занимались больше личными заботами, чем служебными.
С приходом Оленина все пошло по-другому.
Оленин решительнейшим образом изменил порядки, господствовавшие в библиотеке. Прежде всего пригласил новых сотрудников — людей опытных в библиотечном деле, образованных, старательных и добросовестных. Одним из них был В. Сопиков, лучший тогдашний библиограф, большой знаток книги, автор «Опыта российской библиографии». Другим — Александр Иванович Красовский. Сын придворного протоиерея, он получил образование в академической гимназии, а затем сам преподавал в ней географию. В библиотеку он был принят за знание множества языков и широкие библиографические сведения.
Согласно распоряжению Оленина Крылов совместно с Сопиковым ведал отделом русских книг: «Помощник библиотекаря г. коллежский асессор Крылов, обще с помощником библиотекаря 14-го класса Сопиковым, заведывает все печатные книги на славянском и российском языке».
Основной задачей было собирание книг. При приходе Крылова на службу в библиотеку во всем отделе имелось всего четыре русские книги. Понадобилось много труда, чтобы приобрести через книготорговцев и издателей книги русских авторов, журналы и газеты прошлого века.
Хотя согласно официальному распоряжению и был установлен обязательный экземпляр всех печатавшихся книг, но библиотека нередко его не получала. Много энергии и труда потратил Крылов, следя за неукоснительным исполнением этого предписания. Необходимо было обходить книготорговцев, просматривать каталоги, знакомиться с частными библиотеками и отдельными поступлениями, предлагавшимися для продажи. Надо было великолепно знать книгу, чтобы разыскивать редкие, недостающие издания. В делах Публичной библиотеки сохранилось немало докладных записок и рапортов Крылова, дающих представление о той неустанной работе, которая им велась на протяжении многих лет. Так, например, ознакомившись с реестром книг, предложенных библиотеке книгопродавцем М. Глазуновым в апреле 1821 года, Крылов делает следующее заключение: «Означенных в сем реестре книг в Библиотеке не имеется, и приобретение оных было бы полезным оной приумножением».
Крылов подбирал книги по самым различным областям знания: географии, физике, астрономии, военному делу, медицине, истории, сельскому хозяйству и домоводству, художественную литературу. Особенно много внимания уделял он приобретению старых книг. Так, в рапорте от 18 февраля 1829 года он пишет: «Санкт-петербургский книгопродавец Александр Смирдин по приложенному реестру представил в императорскую Публичную библиотеку для покупки разного звания книг, вышедших из печати до 1811 года, ценою до 5 000 рублей, а так как оных книг в Библиотеке не находится, то я, полагая нужным таковое приумножение и находя очень выгодным для Библиотеки, — имею честь представить все сие на благоусмотрение вашего превосходительства». Библиотека росла и множилась, и в этом немалая заслуга принадлежала Ивану Андреевичу.
В библиотеке встретился Крылов и со своим давним благодетелем — Брейткопфом. Бернард Фридрихович постарел, полысел, но был по-прежнему добродушен и старателен. Он работал над описанием особенно ценных и редких изданий. Брейткопф прослужил в библиотеке уже более десяти лет и хорошо знал ее сокровища. Старый типографщик дружески обнял Крылова и напомнил, как тот, еще четырнадцатилетним юношей, приходил к нему с рукописью комической оперы. Смущающийся, в плохо пошитом, потертом сюртучке. Через несколько дней Брейткопф принес эту рукопись «Кофейницы» в библиотеку и возвратил ее автору.
С начала 1814 года Публичная библиотека была открыта для читателей три раза в неделю — среду, четверг и пятницу. Остальные дни предназначались для разборки книг, каталогизации и других работ. Дежурный библиотекарь обязан был принимать заказы на книги, доставать их и следить за порядком в читальном зале и сохранностью книг. Он же являлся и советчиком читателей в подыскании нужных изданий. В круглой зале нижнего этажа, украшенной мраморными колоннами и статуями, бюстами ученых и писателей, даже в летнюю жару тихо и прохладно. Тишина иногда нарушалась легким шорохом перелистываемых страниц. Дежурить по библиотеке приходилось два-три раза в месяц. Иван Андреевич любил эти однообразно-тихие дни. Можно было сидеть в удобном кресле за невысокой перегородкой, отделявшей читальный зал от служебного помещения, и думать о своем.
Посетителей было немного. А сегодня пришло только двое — седой моряк с обветренным, загорелым лицом и огромными бакенбардами во всю щеку, по-военному подтянутый, в аккуратном, только что отутюженном мундире, и молодой человек, франтовато одетый в серый модный сюртук, по-видимому поляк. Крылов отметил в журнале дежурств от 29 октября 1814 года: «Дежурный Крылов». В графе выдачи билетов он записал: «Губернскому регистратору Ежицкому. Капитану 2-го ранга Повиликину». В графе выдачи книг: «Виргилиева „Энеида“». Конституция польская 1775 года. «Reise von Krusenstern. 1, 2, 3».
Капитан погрузился в чтение записок знаменитого мореплавателя Крузенштерна, внимательно разглядывал карты, делал выписки. Молодой поляк перелистывал польскую конституцию, читая отдельные параграфы. К «Энеиде» он даже не прикоснулся, видимо выписав ее из предосторожности. Поляк привлек внимание Ивана Андреевича. Ведь когда-то и он сам интересовался конституциями, читал Монтескье, Беккариа, Мерсье. Теперь он давно забросил эти книги, перестал заниматься политикой. Слышал лишь толки у Олениных о том, что император собирается дать полякам конституцию, предоставить им самостоятельное управление. Но тогда как же с Россией? Неужели здесь все останется по-старому?
Немало потрудился Крылов над улучшением библиотечного дела. Завел особые футляры для небольших брошюр, участвовал в разработке правил описания и каталогизации книг, несколько лет работал над составлением предметного каталога книг на русском языке по всем отраслям знаний.
После ухода в отставку Сопикова в 1818 году Крылов занял его должность и квартиру. Здесь и прожил он почти тридцать лет. По той же узкой лестнице, выше этажом, находилась квартира Гнедича. Крылов все теснее сближался с этим человеком. Николай Иванович был в личной жизни несчастлив. Его изуродованное оспою лицо отпугивало. Много лет был он влюблен безответно в талантливую актрису Екатерину Семенову, давал ей уроки декламации, подготовлял с нею роли. Он мечтал сделать из Катеньки знаменитую актрису — соперницу Клерон и Лекуврер.
Катенька Семенова была необыкновенно хороша. Высокого роста, величественная, с правильными чертами лица, она походила на римскую статую, но розово-белую, с русским румянцем, с лучащимися глазами и мягким, чарующим голосом. Особенно прославилась она в трагедиях Озерова, исполняя роли Антигоны в «Эдипе» и Ксении в «Дмитрии Донском». Гнедич переводил для нее шекспировского «Короля Лира», мечтая о том, чтобы она сыграла роль Корделии. Семенова благосклонно принимала эти заботы, была послушна и понятлива во время уроков. Но все труды наставника вознаграждались лишь легким прикосновением руки, приветливой улыбкой. Красавица по окончании занятий исчезала, оставляя волнующий запах парижских духов.
Иван Андреевич часто заглядывал к соседу. Гнедич с горечью рассказывал ему о холодности своей прекрасной ученицы, о замечательных успехах, сделанных ею под его руководством, и читал стихи, посвященные Катеньке.
Стихи были длинные, Иван Андреевич молча слушал, покуривая сигарку и сочувственно улыбаясь. Николай Иванович находил забвение от своих горестей в труде. Он переводил «Илиаду» и, казалось, жил во времена Троянской войны. Целыми днями, а то и ночами он бормотал греческие строки, декламировал во всю силу легких гекзаметры. Несмотря на внешнюю сухость, даже суровость, Николай Иванович был большой добряк, готовый каждому помочь в трудную минуту. Но любил поучать, и когда к нему приходил Крылов, то и ему читал длиннейшие наставления.
У Гнедича была даже особая тетрадь, куда он записывал свои мысли и афоризмы. Он доставал ее из шифоньера и читал Ивану Андреевичу при случае. «Государства доводятся до такого положения, — громогласно читал Гнедич, — что в них мыслящему человеку ничего не можно сказать без того, чтобы не показаться осуждающим и власти, которые это делают, и народ, который это переносит. В такие времена безнадежные должно молчать. В такие времена печальные молодые люди до старости, а старые до гроба доходят в молчании. Или горе безрассудному, который начнет говорить, что думает, прежде нежели обеспечил себе хлеб на целую жизнь. Горе ему, если чувство добра и справедливости поселилось в сердце бедняка. Лицемерие, притворство — вот верховный закон общественный для того, кто рожден без наследства».
Иван Андреевич тяжело вздыхал: похоже, что Гнедич писал это о нем.
Дома было неприбрано и неуютно. Квартира для Крылова была даже великовата. Она состояла из трех комнат, выходивших окнами на улицу, и кухни. В окна напротив был хорошо виден Гостиный двор с неторопливо бредущими прохожими, разряженными покупательницами, купцами в длинных сюртуках. Средняя, большая комната представляла почти пустую залу, боковая, влево от нее, была вовсе пустой, а последняя, угольная, и служила обыкновенно местопребыванием хозяина. Здесь за перегородкой стояла кровать, а в светлой половине, у окон, обычно сидел на диване перед небольшим столиком сам Иван Андреевич.
У него не было ни кабинета, ни письменного стола с бронзовыми фигурами и отточенными перьями в специальной вазе. Трудно было даже отыскать нужные бумаги и захламленную чернильницу. Комната редко убиралась, и на всех вещах лежал толстый, словно пудра, слой пыли.
Приходивший к нему посетитель, в особенности если был еще и щегольски разодет, решался сесть на стул, лишь предварительно смахнув пыль своим носовым платком. Иван Андреевич беспрестанно курил сигары с мундштуком, предохраняя этим глаза от сигарного дыма. Пепел в изобилии сыпался на пол. При разговоре сигара поминутно гасла. Тогда Иван Андреевич звонил в колокольчик, и из кухни появлялась маленькая девочка. Проходя через залу, она напевала веселую песенку и приносила тоненькую восковую свечку без подсвечника, накапывала воском на стол и ставила таким образом перед носом Ивана Андреевича зажженную свечу. Он гладил девочку по головке и давал леденец.
Иногда в комнату заглядывала миловидная служанка Феничка, мать девочки. Феничка чувствовала себя здесь полной хозяйкой, но при посторонних была робка и застенчива.
В полупустой зале на парадном месте висел большой портрет Ивана Андреевича работы художника Волкова. Крылов был изображен на нем в своем любимом халате.
Ивана Андреевича пригласил на обед граф Дмитрий Иванович Хвостов. Среди молодых насмешников граф Хвостов слыл под непочтительным прозвищем — Хлыстов или Свистов. Его стихи доставляли неизменную пищу для острот, их читали как образец бездарности. Граф Хвостов, казалось, нарочно был создан для пародий и насмешек. В нем все было ненастоящее, начиная с его графства. Дмитрий Иванович женился на племяннице генералиссимуса Александра Васильевича Суворова. Суворов выхлопотал для него у сардинского короля несуществующее сардинское графство. При Павле I он был назначен обер-прокурором Святейшего синода, а Александр сделал его сенатором. Дмитрий Иванович был весьма высокого мнения о своих литературных талантах и, подобно Горацию, воспевшему Бандузский ключ, горделиво называл себя «певцом Кубры» — речки, протекавшей в его поместье. Граф писал во всех родах и жанрах, но прежде всего ценил свои басни, хотя именно басни давали особенно много пищи для насмешников и зоилов. Его даже называли «отцом зубастых голубей», как однажды он написал в своей басне. К басням Крылова граф относился скептически, считая их мужицкими и недостаточно нравственными. Однако он побаивался острого языка Ивана Андреевича и считал за лучшее сохранять с ним дружеские отношения.
Граф любезно встретил Крылова, пришедшего вместе с приятелем Окладниковым. Сухонький, с острым носиком, в напудренном паричке, суетливый и в то же время преисполненный важности, Дмитрий Иванович радушно повел гостей в свой кабинет. «Садитесь, господа, я прочту вам свои новые произведения!» — «Нет, не сядем, — отвечали гости, — пока не ссудишь нас двумя стами рублей!» Дмитрий Иванович сокрушенно отнекивался. «Прощайте», — сказал Окладников и пригласил Крылова последовать его примеру. «Останьтесь, выслушайте, — уговаривал хозяин, устрашенный возможностью остаться без слушателей, — право, не будете раскаиваться!» — «Дай двести рублей, — настаивал Окладников, — останемся». — «Дам, но выслушайте наперед». — «Нет, братец, не проведешь: дай двести рублей, а там читай сколько тебе угодно». — «И вы останетесь у меня и будете слушать?» — недоверчиво воскликнул граф, изголодавшийся без слушателей. «Останемся и будем слушать!» — великодушно ответили гости. Деньги были отсчитаны, гости уселись поудобнее на диван, и хозяин начал свое чтение с басен.
«Щука и уда», — торжественно провозгласил пиит и с жаром начал читать басню о Щуке, проглотившей уду.
Щука уду проглотила;
От того в тоске была
И рвалася, и вопила.
Близ ее плотва жила;
Вопрошает Щуку:
«Мне, кума, поведай муку,
Рвет, которая тебя».
«Ненавижу я себя, —
Щука отвечает, —
Все меня здесь огорчает.
И в другую я реку
Плыть хочу прогнать тоску». —
«Ни с какою
Ты рекою,
Кумушка, покою
Век не можешь получить,
Хоть и в море станешь жить.
Если внутренность терзает,
Счастье исчезает;
Нас тревожит каждый час
Совести немолчный глас».
Иван Андреевич благосклонно качал головой, насмешливо ухмыляясь про себя. Басня была нелепая и смешная. «Знатно написана!» — одобрил он фабулиста. За этой басней последовала следующая, за нею еще одна. Граф все более и. более одушевлялся и в порыве творческого восторга уже не замечал слушателей. Он делал выразительные жесты рукою, возвышал и приглушал голос. Окладников не выдержал и исчез. Иван Андреевич мирно дремал, когда чтец, наконец, заметил произведенное им опустошение. «Не правда ли, друзья, — произнес стихотворец, прервав свое чтение, — этот стих поистине гениален!» Не слыша ответа, граф оглядел комнату и увидел лишь спокойно дремлющего в кресле Крылова.
Примирившись с утратой одного из слушателей, граф завел разговор о басне вообще. Он считал себя выдающимся теоретиком в вопросах поэзии, так как перевел тяжеловесными стихами «Поэтическое искусство» Буало, эту своего рода библию классицизма.
«Баснь, — поучительно говорил Хвостов, — родилась от некоторого сражения между свободою мыслить и опасением, чтобы не раздражать. Счастливые природные умы, — здесь граф сделал ударение, так как под счастливыми умами подразумевал самого себя, — избегают свирепости тиранства, усыпляют страсти вельмож, не подвергаясь их несправедливости. Под забавным вымыслом укрывают огорчительные по себе наставления и восприемлют свое владычество, делая вид, будто его оставляют». Граф остановился, чтобы перевести дух после столь длинной и витиеватой тирады. Иван Андреевич, притулившись в кресле, спокойно дремал. Удовлетворенный покорным и внимательным слушателем, граф распространился о нравственном и назидательном назначении басни, которая под видом бессловесных животных или неодушевленных вещей изображает наши пороки, слабости или предрассудки и тем самым служит нашему наставлению.
Подкупленный молчанием собеседника, граф признался Крылову, что из всех баснописцев он более всего уважает покойного Александра Петровича Сумарокова, притчи которого ценил и его близкий родственник по жене — Александр Васильевич Суворов. Дмитрий Иванович даже прочел одну из басенок Сумарокова — про Ворону и Лису:
И птицы держатся людского ремесла:
Ворона сыру кус когда-то унесла
И на дуб села.
Села,
Да только лишь еще ни крошечки не ела.
Увидела Лиса во рту у ней кусок,
И думает она: «Я дам Вороне сок.
Хотя туда не вспряну,
Кусочек этот я достану,
Дуб сколько ни высок».
«Здорово, — говорит лисица, —
Дружок Воронушка, названая сестрица!
Прекрасная ты птица!
Какие ноженьки, какой носок,
И можно то сказать тебе без лицемерья,
Что паче всех ты мер, мой светик, хороша;
И попугай ничто перед тобой, душа;
Прекраснее сто крат твои павлиньи перья.
Нелестны похвалы приятно нам терпеть.
О если бы еще умела ты и петь!
Так не было б тебе подобной птицы в мире!»
Ворона горлышко разинула пошире,
Чтоб быти соловьем,
«А сыру, — думает, — и после я поем:
В сию минуту мне здесь дело не о пире».
Разинула уста
И дождалась поста:
Чуть видит лишь конец лисицына хвоста.
Хотела петь — не пела,
Хотела есть — не ела,
Причина та тому, что сыру больше нет:
Сыр выпал из роту Лисице на обед.
Иван Андреевич проснулся и слушал. Когда чтец, слегка ослабев от долгого чтения и разговора, остановился и замолчал, Крылов скромно попросил хозяина разрешить ему прочесть эту же басню, но в своем переводе. Граф не весьма охотно согласился. Иван Андреевич приподнялся и со свойственным ему искусством прочел:
Вороне где-то бог послал кусочек сыру;
На ель Ворона взгромоздясь,
Позавтракать было совсем уж собралась,
Да призадумалась, а сыр во рту держала.
На ту беду Лиса близехонько бежала;
Вдруг сырный дух Лису остановил:
Лисица видит сыр, Лисицу сыр пленил.
Плутовка к дереву на цыпочках подходит;
Вертит хвостом, с Вороны глаз не сводит,
И говорит так сладко, чуть дыша:
«Голубушка, как хороша!
Ну что за шейка, что за глазки!
Рассказывать — так, право, сказки!
Какие перышки, какой носок!
И, верно, ангельский быть должен голосок!..»
Даже напыщенный граф понял, насколько лучше эта басня вышла у Крылова, который сумел передать и лукавую иронию, и красоту, и выразительность русской речи, ее свободу, богатство красок и интонаций. Дмитрий Иванович почувствовал себя слегка сконфуженным. Разговор как-то сам собой прекратился, и хозяин пригласил гостя в гостиную. Иван Андреевич был вознагражден. Обед оказался хорош. Поросенок под хреном оправдал все ожидания. Вина тоже были не плохи. В кармане сюртука приятно топорщилась графская сторублевка. Хозяин был гостеприимен и хлопотлив. Иван Андреевич благосклонно улыбался и подкладывал себе на тарелку лакомые куски поросенка.
На прощание ему вспомнились стихи о Хвостове Батюшкова из «Певца в Беседе славянороссов». Он повторил их про себя, не решаясь обидеть хозяина:
Хвала, читателей тиран,
Хвостов неистощимый,
Стихи твои, как барабан,
Для слуха нестерпимы.
Везде с стихами, тут и там,
Везде ты волком рыщешь,
Пускаешь притчу в тыл врагам,
Стихами в уши свищешь.
Лишь за поэму — прочь идут,
За оду — засыпают,
Ты за посланье — все бегут
И уши затыкают.
Лисица унесла кусочек сыра.
В восемнадцати верстах от Петербурга, вблизи Парголова, находилось небольшое именьице Олениных — Приютино. Оно служило местом летнего отдыха всей семьи, охотно посещавшимся столичными друзьями и знакомыми. Там постоянно бывали поэты, писатели, художники: Гнедич, Крылов, Жуковский, Батюшков, А. И. Тургенев, О. Кипренский. Крылов же и Гнедич гостили в летние месяцы подолгу. Для них отводились даже специальные помещения.
Приютино славилось живописными местами. Пруд, перед которым на пригорке стоял небольшой барский дом. Сад с аккуратными дорожками и изобилием цветов. Любительницей цветов была сама хозяйка Елизавета Марковна — Элиз, как ее называли домашние и близкие друзья. В саду разбросаны небольшие флигеля, избушки для приезжих гостей. Крылову отводилась старая банька, перестроенная в домик. Около пруда в тени деревьев находился мавзолей из белого мрамора, построенный в память сына Олениных Николая Алексеевича, павшего в Бородинском сражении. Сад переходил в дубовые рощи, за ними дальше тянулся сосновый лес.
Старшая дочь Олениных, Варвара Алексеевна, впоследствии вспоминала: «В известном многим Приютине жизнь текла тихая, мирная, аккуратная, простая, деревенская — и казалось по образу жизни — верст за 500 от Петербурга. По вечерам обществом гуляли за грибами, черникой, костяникой и др., потом брусникой. Все ходили, кроме батюшки и Крылова. Вечером собирались и читали. Был издан закон, кто уже слишком много глупого скажет, того тотчас заставить прочесть басню Хвостова: а смысл этой басни прочесть в предыдущей басне. Все было весело, радушно, довольно, дружно, просто, свободно, а между тем sans de dignité[17], играли в разные игры, как-то: лапта, горелки, жгуты, la balle[18] и прочее: в кольца, в мячики, в волан. И не находили, que ce n’st ni ennuieux, ni mesquin, ni ridicule[19].
В один вечер батюшка и матушка, будучи уже весьма за шестьдесят лет, заметили, что игры что-то невесело шли; вдруг, как никто не ожидал, пустились наши два старичка бежать как два шарика. Натурально все оживилось. Вот и жизнь Приютина».
В Приютине, в баньке, Крылов чувствовал себя как дома. Его друзьями были и староста Гаврила и старушка огородница Василиса, приносившая каждый день по пучочку моркови. С утра начиналось чаепитие — утренний чай подавался на веранде барского дома. Чай заваривали из листьев черной смородины и к нему подавали пшеничные булочки, сливки, творог. Правда, Иван Андреевич частенько просыпал утренний чай, и тогда к нему посылали Вареньку: ей поручалось будить его и звать к столу. Он ласково шутил с нею и заявлял, что встанет только тогда, когда она прочтет наизусть одну из его басен. Варенька с хохотом читала:
Вороне где-то бог послал кусочек сыру…
Потом они с шутками и смехом вдвоем спешили на веранду.
«Матушка Елизавета Марковна, — вспоминала Варвара Алексеевна, — любила Крылова совершенно чувством матери и часто звала „милый Крылочка“, что не очень гармонировало с его большой и тучной наружностью. Он же часто говаривал, что он ее любил и почитал, как матерь свою, так что она этим чувством воспользовалась и в Приютине запирала его над баней дни на два, носила сама с прислугой ему кушанье и держала его там, покуда он басни две или три не написал».
Среди семейства Олениных он был спокоен, весел, приветлив, хотя, как обычно, молчалив, стараясь отмолчаться от споров и разговоров. В присутствии же посторонних для него людей он становился еще более несловоохотливым, в особенности же терпеть не мог, когда ему казалось, что за ним наблюдают.
Иван Андреевич привязался к дочерям Оленина — Вареньке и Аннете, называя их своими «фавориточками». Он даже написал для Вареньки стихи в альбом, хотя тут же признался, что терпеть не может альбомов, и умолял ее никогда больше их не заводить. «И. А. Крылов, — рассказывает В. А. Оленина, — мне, двенадцатилетней, написал стихи, „попрекавшей ему, что он никогда ни строчки мне не написал“»:
Вот вам мои стихи:
Не кушайте ухи,
А что-нибудь другое,
Пожалуй, хоть жаркое.
Я гнусь пред вами, как дуга,
И вам покорный я слуга.
Вот как писали девчонкам в наше время. Однако я обиделась на то, что Крылов мне сказал: «Ах! фавориточка, фавориточка, да подумайте, какие же могу стихи я вам писать иные?»
Чтобы ее утешить, Батюшков, гостивший тогда в Приютине, взял альбом, в который записал Крылов свой экспромт, и сочинил преуморительные стишки на ломаном французском языке.
Константин Николаевич Батюшков был частым посетителем приютинских красот. Он с детства знал семью Олениных и находился в большой дружбе с Крыловым и Гнедичем. Он описал Приютино и его обитателей в дружеском послании к Александру Ивановичу Тургеневу, приглашая его побывать вместе с ним в этом гостеприимном уголке.
Есть дача за Невой,
Верст двадцать от столицы,
У Выборгской границы,
Близ Парголы крутой;
Есть дача или мыза,
Приют для добрых душ,
Где добрая Элиза
И с ней почтенный муж,
С открытою душою
И с лаской на устах,
За трапезой простою
На бархатных лугах,
Без дальнего наряда
В свой маленький приют
Друзей из Петрограда
На праздник сельский ждут…
Поэт, лентяй, счастливец
И тонкий философ,
Мечтает там Крылов
Под тению березы
О басенных зверях
И рвет парнасски розы
В Приютинских лесах.
И Гнедич там мечтает
О греческих богах,
Меж тем как замечает
Кипренский лица их
И кистию чудесной,
С беспечностью прелестной,
Вандиков ученик,
В один крылатый миг
Он пишет их портреты…
Стихотворение с восторгом читали в Приютине. Оно стало своего рода приютинским гимном, и все знали его наизусть.
Каждый год 5 сентября в Приютине торжественно праздновался день именин Елизаветы Марковны. В этот день сюда съезжались многочисленные гости. Для празднества готовился специальный спектакль, который и разыгрывался в небольшом домашнем театре самими гостями и членами семьи Олениных. Руководил этими постановками обычно Гнедич как знаток и любитель театра. Особенно великолепным и многолюдным было празднование в 1815 году, впервые после окончания войны; Николай Иванович с помощью Крылова сочинил специальную комедию. Была даже выпущена афиша.
Главные роли в этой комедии исполняли сам Гнедич, игравший бездарного виршеплета Ивана Сидоровича Стихоплеткина, и Крылов, который выступал в роли тамбовского откупщика Дубинина. Остальные роли исполнялись детьми Олениных и постоянными жителями приютинского имения. В афише фамилии исполнителей обозначены были прозвищами, рисующими их характеры. Так, Крылов назван «г. Леньтягиновым», а Гнедич — «г. Приютиным», Варенька — «Ленивиной», а Аннета — «Догадкиной».
Сюжет пьесы был не сложен. Богатый провинциальный откупщик Дубинин заказывает на именины своей супруги поздравительные стихи бездарному рифмоплету Стихоплеткину.
Стихоплеткин принимает заказ и обещает в срок изготовить вирши, хотя еще раньше он обещал одному купцу написать стихи к его свадьбе да знакомый стихотворец Хлыстов (прозрачный намек на графа Хвостова) тоже просил приискать для него рифмы. Ни один из заказов не поспевает в срок, тем более что откупщик поспешил прислать стихотворцу две бутылки вина. После долгих пререканий Стихоплеткин сбывает, наконец, откупщику Дубинину какие-то старые, незаконченные стишки и благополучно от него отделывается.
О Стихоплеткине в самом начале пьесы смешно рассказывала его супруга Матрена Саввична: «Либо пишет кому-нибудь в Гостином дворе салютации, либо в конфектной лавке билетцы. Ох, уж эти мне проклятые стихи! Наказание божие человеку, если у кого страсть к этим виршам так одолеет, как моего мужа она одолела, погибельная! Недоспит, недоест, несет ложку в рот да и остановит; сидит, разиня рот и выпуча глаза, словно лунатик!»
Едкой пародией на творения графа Хвостова, бывшего излюбленной мишенью для насмешек приютинского общества, являлся монолог сынка поэта Хлыстова, развязного и наглого юнца, рассуждающего о том, что Эзоп писал басни прозою, а его папенька стихами: «В изобретении же папенька, конечно, превзошел Эзопа, в этом уверен и я, и вы, и сам папенька. Папенька создал новый мир, папенька населил его новыми тварями, у папеньки горлицы с зубами, собаки с рогами, животные, если нужно, изменяют свой образ: например, помните ли, Иван Сидорович, притчу „Корова и Липка“, когда корова лезет на макушку липки, чтобы спрятаться от дождя, и вдруг слезает назад быком!»
Особенно хорош был Крылов в роли толстого, необразованного и тщеславного откупщика Дубинина. Иван Андреевич создал выразительный портрет, необыкновенно живой и комический, самодовольного, невежественного богатея. Актерская натура его сказалась здесь с особенной очевидностью.
Благодарные зрители без конца хлопали артистам. В заключение дан был «дивертисмент», в котором Варенька и Аннета мило танцевали русскую, а затем по проволоке спускался подрумяненный свекольным соком маленький мальчик, сын бывшей воспитанницы Олениной, изображавший амура с золочеными крылышками.
В гостеприимном и радушном доме Олениных имелось еще одно милое и чарующее существо — Аннета Фурман. Она рано потеряла мать, а ее отец — выходец из Саксонии Фридрих Антонович Фурман — женился вторично. Маленькую Аннету взяла на воспитание бабушка, а после ее смерти девочка попала под крыло добрейшей Елизаветы Марковны. Аннета выросла и воспиталась в семье Олениных наряду с их дочерьми. Теперь она превратилась в красивую девушку с правильными чертами лица, голубыми прозрачными глазами и золотистыми локонами. Она была неизменно со всеми мила, услужлива, чуть-чуть кокетлива. За ней ухаживали. Нежно и застенчиво в нее был влюблен Батюшков. Он посвятил ей томные и грустные стихи — «Мой гений», в которых воспевал голубые очи и золотые локоны «пастушки несравненной». Пастушка была мила с ним, но холодна. Говорили даже, что эта неразделенная любовь стала причиной меланхолии поэта, перешедшей впоследствии в душевную болезнь.
Следующим претендентом на руку Аннеты явился Николай Иванович Гнедич, который, убедившись в безнадежности страсти к Катеньке Семеновой, сделал официальное предложение золотокудрой пастушке. Но Аннета отказала и новому искателю. Ее пугали изуродованное лицо и суровая важность переводчика «Илиады». Прельстился прекрасной пастушкой и Иван Андреевич. Он стал тщательнее бриться, причесываться, сделался разговорчивее и любезнее. Всегда небрежно одетый, он приоделся, завел тонкое белье из голландского полотна. Иван Андреевич, однако, скоро понял, что и ему не улыбнется счастье у прекрасной пастушки. Анкета была к нему внимательна и благосклонна; он шутил с ней, как с ребенком, приносил сладости. Она дарила его дружбой, но баснописец был более чем вдвое старше, и она не захотела связать с ним свою судьбу.
В 1820 году старый Фурман вызвал дочь в Дерпт, где в это время проживал, для того, чтобы она воспитывала его младших детей. Это был удар и для Аннеты и для Ивана Андреевича. Аннета давно отвыкла от отца. Да и участь воспитательницы своих сводных сестер не была заманчивой. Уезжала она со слезами. Через год старый Фурман перебрался в Ревель. Жизнь Аннеты у отца оказалась настолько печальной, что она приняла, хотя и без особенной радости, предложение состоятельного местного коммерсанта Оома и вышла за него замуж. К несчастью, господин Оом вскоре же после брака разорился, и бедной Аннете пришлось пожертвовать скромным приданым для удовлетворения ненасытных кредиторов.
Иван Андреевич вместе с А. Н. Олениным приезжал в 1824 году в Ревель и навестил бедняжку. Это было его первым и последним путешествием. Труд но ему оказалось расстаться с установившимися привычками, ехать на пироскафе, переносить дорожные неудобства и качку.
Аннета с мужем перебралась снова в Петербург под покровительство Олениных. Бремя семьи теперь пало на ее нежные плечи. Оома Алексей Николаевич устроил на службу в Академию художеств, а Аннета давала уроки русского языка в немецком пансионе госпожи Гельмерсен. Но во время наводнения 1824 года вода залила их квартиру, и господин Оом простудился и вскоре умер. Аннету — теперь ее называли Анной Федоровной — устроили воспитательницей в Сиротском институте. Ее достоинства были оценены императрицей Марией Федоровной: госпожу Оом назначили директрисой института и дали ей там небольшую квартирку. Иван Андреевич остался по-прежнему предан прекрасной пастушке. Он навещал ее на новой квартире, даже подарил мебель красного дерева для убранства гостиной.
Незадолго до смерти неудачливого господина Оома Анна Федоровна родила сына, крестным отцом его стал Иван Андреевич. Крылов нередко просиживал вечера в ее уютной гостиной с огромными изразцовыми печами, сложенными еще при императрице Елизавете Петровне. Анна Федоровна занималась рукоделием, в котором была великая искусница, а Иван Андреевич играл с маленьким крестником.
Дома неуютная, вечно неприбранная квартира, неряшливая, надутая Феничка. На службе в библиотеке жизнь неподвижная, словно застывшая в больших прохладных залах между огромными шкафами с тысячами книг. Милая суматоха, привычный покой и веселая болтовня в доме Олениных. Но ему хотелось другого: сердечного тепла, женского обаяния, внимательно-ласкового взгляда, неуловимого пожатия руки. У Анны Федоровны были по-прежнему золотые волосы и небесно-голубые глаза, но она стала озабоченной, одевалась в темно-серые платья строгого фасона, всегда куда-то спешила, или ее вызывали по делу. Он любил смотреть, как в свободные часы ловко и быстро двигались ее изящные, словно выточенные пальцы, вышивая цветистые шелковые узоры, как отсвечивали на солнце ее волосы.
Потом он долго прощался, задерживая маленькую тонкую ручку в своей тяжелой, мясистой ладони. Медленно спускался по лестнице и задумчиво шагал грузными ногами на стрелку Васильевского острова. Если по дороге нагонял извозчик, он его подзывал, долго с ним торговался, давая двугривенный вместо испрашиваемых тридцати копеек, и, не сторговавшись, продолжал путь пешком. У величественного здания Биржи, напоминавшего античный Форум, Иван Андреевич встречал знакомых, любителей полакомиться заморскими устрицами, которые привозили сюда купеческие суда. На стрелке шла бойкая торговля привозными товарами, сновали английские, голландские, французские моряки и купцы. Тут же открывали бочки со свежими устрицами и пенящимся черным английским портером. Иван Андреевич с аппетитом проглатывал несколько десятков холодных, скользящих устриц, запивая их портером из большой глиняной кружки. Узнавал от знакомых новости, а затем, так же не спеша, направлялся домой, к библиотеке через Адмиралтейский мост по Невскому проспекту. Дома он облачался в старый, засаленный халат и ложился на продавленный диван подремать часок-другой.
Перед вечером, отдохнув, он с тяжелым кряхтеньем одевался и отправлялся в Английский клуб или к Олениным. В Английском клубе у него было свое, давно облюбованное место у стены, неподалеку от голландской печки. В клубе он или играл по маленькой в карты, или держал заклады при занимательной и острой бильярдной игре. Любил он также играть в триктрак, старинную французскую игру восточного происхождения, в которой шашки двигались по шашечной доске в зависимости от брошенных костей с очками. В триктрак он играл со своим неизменным партнером — генерал-аудитором флота Михаилом Сергеевичем Шулепниковым, с которым был знаком еще с давних времен. Они долго, словно прицеливаясь, сжимали в кулаке кости и затем быстро со стуком выбрасывали их на стол. Это были последние знатоки триктрака. После смерти Шулепникова триктрак в Английском клубе прекратился.
Завсегдатаи Английского клуба давно привыкли видеть в послеобеденные часы громоздкую фигуру Крылова с большой, тяжелой головою. Он сидел молча, прикрыв глаза тяжелыми веками, и, казалось, дремал. Однако он все слышал, что говорилось вокруг него, и внимательно наблюдал за окружающими, иногда подавая свои реплики, делая резкие, насмешливые замечания.
Однажды, вспоминали его соклубники, приезжий помещик, любивший прилгать, рассказывая о стерлядях, которые ловятся на Волге, неосторожно увеличил их размер. «Раз, — сказал он, — перед самым моим домом мои люди вытащили стерлядь. Вы не поверите, но уверяю вас, длина ее вот отсюда… до…». Помещик, не договоря своей фразы, протянул руку с одного конца длинного стола по направлению к другому, где сидел Иван Андреевич. Тогда Иван Андреевич, хватаясь за стул, сказал: «Позвольте, я отодвинусь, чтоб пропустить вашу стерлядь!»
Чаще же всего он проводил вечера у Олениных. Оленины жили в собственном особняке с колоннами у входа, поддерживавшими балкон второго этажа, на Фонтанке, близ Семеновского моста. От Публичной библиотеки до их дома было недалеко. Там всегда было шумно, весело, людно. Миниатюрный Алексей Николаевич не стеснял своих гостей. Он любил, чтобы у него все чувствовали себя свободно. Елизавета Марковна наблюдала за всеобщим весельем, заботилась о сытном и вкусном ужине. Располневшая и вечно чем-то больная — нервы! — она возлежала на мягкой кушетке, принимая тем не менее самое горячее участие в возникавших спорах и разговорах.
У Олениных устраивались для молодежи игры — в фанты, шарады — и танцы.
Дочери Варенька и Аннета составляли главный магнит, притягивавший молодежь. Варенька, правда, вскоре вышла замуж за своего дальнего родственника и однофамильца Григория Никаноровича Оленина и уехала с ним в Ревель. Младшая же, Анна Алексеевна, славилась изяществом и чудесными, маленькими ножками. Пылкий Пушкин увлекся ею и сделал ей предложение. Аннета любила поэтов, она даже сама втайне писала роман из своей жизни. Но предложение поэта она отвергла: Пушкин легкомысленный и злой насмешник! К тому же без состояния.
Ивана Андреевича привычно встречали у Оленина, как родного. Он садился в привычное кресло, закуривал свою вечную сигарку и внимательно прислушивался к разговору. Оживлялся он за ужином: в особенности если приготовлялся поросенок под хреном. Это было его любимое кушанье. Елизавета Марковна сама следила, чтобы Ивану Андреевичу подавался лучший кусочек, чтобы ее «Крылочка», как она на правах давнего знакомства и материнской опеки его называла, не остался голоден.
Алексей Николаевич, подобно маленькому волшебнику, управлял беседой. Своей крохотной ручкой он останавливал слишком вольные суждения, давал ход разговору, указывал его направление. Он был великим искусником по части уловления настроений в политических сферах и всегда очень ловко приспосабливался к ним. Он посвящен был в тайны высшей политики: в течение ряда лет он занимал должность государственного секретаря, был членом Государственного совета, сенатором, человеком, близким ко двору.
Ивану Андреевичу исполнилось пятьдесят лет. Он обрюзг, отяжелел, стал флегматичен. «Когда-то приобрел он для украшения жилища своего несколько картин, — рассказывает П. Плетнев. — Впоследствии он охладел ко всему. За чистотой и порядком смотреть было некому. От пыли, густым слоем везде ложившейся, позолоту на нижней части рам выело у всех картин. Из них одна висела в средней комнате над диваном, где случалось сидеть и хозяину». Об этой картине писал Пушкин в своих «Table-tack»[21]: «У Крылова над диваном, где он обыкновенно сиживал, висела большая картина в тяжелой раме. Кто-то дал ему заметить, что гвоздь, на который она была повешена, не прочен и что картина когда-нибудь может сорваться и убить его. „Нет, — отвечал Крылов, — угол рамы должен будет в таком случае непременно описать косвенную линию и миновать мою голову“.
В этом сказалась не только присущая Крылову беспечность, но и его любовь к математике. В досужие часы он всерьез вычислил кривую падения своей картины.
При всем пренебрежении Ивана Андреевича к общепринятым правилам светского этикета он отнюдь не предавался ленивому безделью. Уже самая служба в Публичной библиотеке требовала немало времени и труда. Помимо регулярных дежурств, необходимо было следить за выходившими изданиями, вести переговоры с книгопродавцами о пополнении книжных фондов. Особенно много труда поглощал каталог русских книг, над которым Иван Андреевич работал более десяти лет. Этот капитальный библиографический труд под названием: „Библиографические алфавитные указатели, составленные Иванам Андреевичем Крыловым, библиотекарем имп. Публичной библиотеки“, представлял собой рекомендательный перечень около трех тысяч названий по философии, праву, физике, химии, художественной литературе. В своем указателе Крылов поместил наиболее значительные книги по всем этим отраслям знаний, а также издания художественной литературы.
Кроме того, за время пребывания в библиотеке он выполнял по заданию Оленина ряд специальных заданий. В частности, являлся членом комиссии по составлению славяно-русского словаря, писал записки о принципах каталогизации книг.
В библиотеке в свободные часы нередко собирался дружеский кружок: Батюшков, Милонов, Дельвиг, Лобанов, Никольский. Обсуждались выходившие книги и литературные новости.
Легенда о беззаботном и бездумном ленивце, в беспечной праздности проводящем все свое время на пролежанном диване, не соответствовала действительности. Уже друг Пушкина — П. А. Вяземский, отнюдь не принадлежавший к числу поклонников Крылова, писал о нем: „Крылов был вовсе не беззаботный, рассеянный и до ребячества простосердечный Лафонтен, каким слывет он у нас… Но во всем и всегда был он, что называется, себе на уме… Басни и были… призванием его как по врожденному дарованию, так и по трудной житейской школе, через которую он прошел. Здесь и мог он вполне быть себе на уме, здесь мог он многое говорить не проговариваясь; мог, под личиною зверя, касаться вопросов, обстоятельств, личностей, до которых, может быть, не хватило бы духа у него прямо доходить“.
В один из зимних вечеров 1819 года в гостиной Олениных было как-то особенно весело. Среди гостей — Крылов, Гнедич, молодой, недавно окончивший лицей поэт Александр Пушкин, приехавший сюда вместе с родственником Елизаветы Марковны Александром Полторацким, Иван Матвеевич Муравьев-Апостол, родственник Н. М. Карамзина — Александр Алексеевич Плещеев.
Украшением вечера являлась племянница Елизаветы Марковны молоденькая Анна Петровна Керн, которая приехала в Петербург из украинской глуши вместе со своим отцом и стариком мужем — дивизионным генералом Ермолаем Федоровичем Керном.
Пушкин был худощав, невысок ростом, желтоват лицом. Его карие глаза суживались в смешливой гримасе. Он был задорен, шаловлив, подвижен. Иван Андреевич отметил его умный взгляд, его непоседливость. Анна Петровна была во всеоружии чувственной, роскошной красоты. Пушкин неотступно ходил вокруг нее.
Но предоставим слово самой А. П. Керн: „Из-за траура при дворе в этот день у Олениных не танцевали. Но зато играли в разные занимательные игры и в особенности в шарады в лицах, в которых принимал участие и Иван Андреевич, с добродушной усмешкой исполнявший роли купцов и престарелых дядюшек“. Отец Анны Петровны, казавшийся очень моложавым, знакомя ее с Крыловым, сказал ему: „Рекомендую вам меньшую сестру мою“. Иван Андреевич улыбнулся, как только он умел улыбаться, и, протянув мне обе руки, сказал: „Рад, очень рад познакомиться с сестрицей!“
За какой-то проигранный фант Крылова заставили прочитать одну из его басен. Он сел на стул посередине залы; мы все столпились вокруг него, и я никогда не забуду, как он был хорош, читая своего „Осла“! И теперь еще мне слышится его голос и видится его разумное лицо и комическое выражение, с которым он произнес:
Осел был самых честных правил!
В чаду такого очарования мудрено было видеть кого бы то ни было, кроме виновника поэтического наслаждения, и вот почему я не заметила Пушкина. Но он вскоре дал себя заметить. Во время дальнейшей игры на мою долю выпала роль Клеопатры, и, когда я держала корзинку с цветами, Пушкин вместе с братом Александром Полторацким[22] подошел ко мне, посмотрел на корзинку и, указывая на брата, сказал: „Et c’est sans doute, monsieur, qui fera l’aspic“[23]. Я нашла это дерзким, ничего не ответила и ушла. После этого мы сели ужинать. У Олениных ужинали на маленьких столиках, без церемоний и, разумеется, без чинов».
Пушкин понравился Ивану Андреевичу смелостью суждений, независимостью, с которой он держал себя в обществе, остроумием и язвительной иронией разговоров. Молодой поэт вскорости близко сошелся с Гнедичем. Оказалось, что Пушкин, только что вышедший из лицея, не только дружил там с гусарами и писал злые эпиграммы, но был и автором смелых, свободолюбивых стихов. Гнедич по секрету показал Ивану Андреевичу его дерзкую оду о вольности и стихотворение «Деревня», в котором Пушкин нападал на барство дикое, на крепостнические порядки. Крылов прочел эти крамольные стихи с одобрением, но и с опаской и посоветовал Николаю Ивановичу припрятать их подальше.
Пушкин, однако, вскоре исчез. Иван Андреевич узнал от Олениных, что бунтовские стихи его, ходившие в списках, стали известны правительству и разгневали самого императора. Пушкину грозило строгое наказание — ссылка в Сибирь или в Соловецкий монастырь. Лишь заступничество Оленина и Жуковского смягчило его участь, и в мае 1820 года он был отправлен в Кишинев под начальство наместника Бессарабии генерала Инзова. Через Оленина и Гнедича Крылов знал все подробности тревожных событий в судьбе поэта. Незадолго до отъезда Пушкин читал у Жуковского новую поэму — «Руслан и Людмила», а рукопись передал Гнедичу, взявшему на себя хлопоты по ее изданию. В этой поэме бродил хмель молодого задора, озорная насмешка над чопорной поучительностью староверов-классицистов и в то же время над мистическими туманностями чувствительной школы Жуковского. Написана поэма была великолепными, коваными стихами, полными зажигательной силы, искрометного веселья. Крылову она пришлась по душе.
Гнедич долго возился с типографией, с гравировкой рисунков к поэме по эскизу А. Н. Оленина. Наконец поэма вышла в свет. Появление «Руслана и Людмилы» вызвало подлинный переполох. Критика принялась поносить Пушкина за его «мужицкую поэму», высмеивать «просторечие» ее языка, ханжески возмущаться ее «неприличием». Крылов был глубоко возмущен этими нападками на Пушкина и ответил на них эпиграммой:
Напрасно говорят, что критика легка.
Я критику читал «Руслана и Людмилы».
Хоть у меня довольно силы,
Но для меня она ужасно как тяжка!
Эпиграмма немедленно стала известна в списках, а затем была напечатана в журнале «Сын отечества» без подписи. Но все и так знали, что ее автором был Крылов. Пожалуй, это было единственное полемическое выступление баснописца. Он избегал вмешиваться в политические и литературные споры, откликаясь на них лишь в своих баснях. Литературные бои романтиков и классицистов проходили без его участия. Его басенный жанр сложился в недрах классицизма, и романтизм был ему далек и непонятен. Но в своих баснях Крылов обращался к жизни и решительно преодолел искусственные правила классицизма.
С давних лет баснописец высоко ценил великий пример античного искусства, перед которым благоговел его друг Гнедич: поэмы Гомера, басни Эзопа. На склоне лет он решил выучить древнегреческий язык, чтобы в подлиннике читать Гомера и Эзопа. Во избежание насмешек над столь поздним обучением Крылов прибегнул к шуточной мистификации. Он объявил, что желает состязаться с Гнедичем и в течение двух лет выучит древнегреческий язык настолько, чтобы свободно читать Гомера.
Вот как об этом рассказывает П. А. Плетнев: «Разговорились однажды у Оленина, как трудно в известные лета начать изучение древних языков. Крылов не был согласен с общим мнением и вызвал Гнедича на заклад, что докажет ему противное. Дело принято было всеми за шутку, о которой и не вспоминал никто. Между тем Крылов, сравнительно с прежним, реже видался с Гнедичем, давая знать ему при всех встречах, что пустился снова играть в карты. Через два года, у Оленина же, он приглашает всех присутствующих быть свидетелями экзамена, который Гнедич должен произвесть ему в греческом языке. Раскрывают в „Илиаде“ одно место, другое, третье — и так далее. Крылов все объясняет свободно. Каково было при этой новости всеобщее удивление, особенно Гнедича, который узнал, что приятель его без помощи учителя, сам собою, только в течение двух лет достигнул того, над чем сам Гнедич провел половину жизни своей! Но Крылов не собирался извлечь из этого никакой выгоды ни себе, ни обществу: он удовольствовался только тем, что выиграл заклад у Гнедича и развеселил приятелей своих. Правда, он купил всех греческих классиков и прочел их от доски до доски. На чтение их он употреблял все свои вечера перед сном. Потому-то греческие книги у него уставлены были под кроватью, откуда легко было доставать ему всякую, как только в постели приходила ему охота к чтению. По окончании экзамена он охладел к греческим классикам и не дотрагивался до них несколько лет. Раз как-то он протянул было под кровать руку за Эзопом, но там уже не осталось никого из греков. Служанка Крылова, заметив, что эти пыльные книги никогда не читаются, и подумав, что, как бесполезные, нарочно брошены они под кровать, вздумала употреблять их каждый раз на подтопку, когда приходилось топить печь в спальне».
Растроганный Гнедич обратился к победителю с приветственными стихами:
Сосед, ты выиграл! скажу теперь и я!
Но бог тебе судья,
Наверную поддел ты друга!
Ты с музой Греции и день и ночь возясь,
И день и ночь не ведая досуга,
Блажил, что у тебя теперь одна и связь
С Плутусом и Фортуной;
Что музою тебе божественная лень,
И что тобой забыт звук лиры златострунной:
Сшутил ты басенку, любезный Лафонтень!
К себе он, заманив Гомера, Ксенофонта,
Софокла, Пиндара и мудреца Платона,
Два года у ночей сон сладкий отнимал.
Ленивец,
Чтоб старых греков обобрать;
И к тайнам слова их ключ выиграл, счастливец!
Умен, так с умными он знал на что играть.
Крылов, ты выиграл богатства,
Хотя не серебром —
Не в серебре же все приятства, —
Ты выиграл таким добром,
Которого по смерть и как ни расточаешь,
Не проживешь, не проиграешь.
Следом этого изучения древнегреческого языка остался перевод начала «Одиссеи» Гомера, сохранившийся в бумагах баснописца:
Мужа поведай мне, муза, мудрого странствия многи,
Им понесенны, когда был священный Пергам ниспровергнут.
Много он видел градов и обычаев разных народов;
Много, носясь по морям, претерпел сокрушений сердечных.
Пекшися всею душою о своем и друзей возвращеньи.
В 1825 году Пушкин обратился с резкой отповедью по адресу французского критика Лемонте, который утверждал, что Крылов не знает языков. «…Крылов знает главные европейские языки, и, сверх того, он, — писал Пушкин, — как Альфиери, пятидесяти лет выучился древнему греческому. В других землях таковая характеристическая черта известного человека была бы прославлена во всех журналах; но мы в биографии славных писателей наших довольствуемся означением года их рождения и подробностями послужного списка…»
Крылов любил смотреть на пожары. Не ленился даже в ночную пору отправиться туда, где происходил пожар. Багровые языки пламени, рассыпающиеся, как фейерверк, искры, гирлянды огненных цветов будили в нем смешанное чувство тревоги, ужаса перед разрушительной силой огня и восхищения грозной красотой величественного зрелища. Он написал басню «Пожар и Алмаз», в которой изобразил стихийную мощь огня. Пожар в ней хвалится перед Алмазом своей неистовой силой и могуществом:
«…Не так легко затмить мое сиянье,
Когда я, в ярости моей,
Охватываю зданье.
Смотри, как все усилия людей
Против себя я презираю;
Как с треском все, что встречу, пожираю, —
И зарево мое, играя в облаках,
Окрестностям наводит страх!»
Грозным пожаром являлся и деспотизм самодержавной власти, слепо и жестоко разрушавшей и истреблявшей все, что вставало на его пути. Лишь твердый Алмаз смог вынести испепеляющую силу огня. Следовало оставаться таким Алмазом в руинах и пепле — неизбежных последствиях пожара. И он старался походить на алмаз, лишь прикидываясь чудаком, ленивцем, далеким от мирских сует.
Иван Андреевич нередко вспоминал Эзопа. Тот был рабом богатого человека, философа Ксанфа, и выполнял приказы и распоряжения хозяина. Крылов не был рабом. А Оленин не только его покровитель и начальник, но и друг. Однако благополучие баснописца всегда было связано с заступничеством Оленина. Алексей Николаевич ничего не приказывал, всегда оставался заботливым и внимательным, хлопотал об его нуждах. Но в то же время он внимательно наблюдал за Крыловым, удерживал его от поступков, которые могли навлечь недовольство правительственных кругов, старался направлять творчество баснописца по нужному ему руслу. Хлопотливый, занятый множеством дел, Оленин никогда ни о чем не забывал. Издавна повелось, что он первым выслушивал или прочитывал каждую новую басню Крылова.
Когда вышла в 1825 году новая книга его басен, Иван Андреевич написал к ней посвящение в стихах, обращаясь с благодарностью к своему меценату за то, что тот способствовал их рождению:
…Ленивой Музе и беспечной
Моей ты крылья подвязал.
И, может, без тебя б мой слабый дар завял
Безвестен, без плода, без цвета,
И я бы умер весь для света.
Выходило, что Оленин «подвязал» его музе крылья, способствовал его поэтическому полету. Но так ли это было на самом деле? Ведь опытный и ловкий «тысячеискусник» обладал и искусством уловления людских умов и душ, он умел руководить ими в направлении, соответствующем желаниям его высоких вдохновителей. В этом духе направлял он и творчество Крылова, постоянно чувствовавшего его внимательное, а подчас и строгое руководство. Об этой идейной опеке Оленина Крылов сказал более прямо в басне «Соловьи». Здесь он мог не кривить душой. Здесь он выступал уже не как коллежский асессор Иван Андреевич Крылов, помощник библиотекаря, а как «фабулист», всеми уважаемый и любимый баснописец.
В басне «Соловьи» Крылов говорил о бедняжке Соловье, посаженном в клетку и тоскующем в ней день и ночь. Желая сократить срок своей неволи, Соловей стал петь в клетке. Но чем лучше он пел, тем дольше не выпускал его на волю хозяин.
Он только отягчил свою тем злую долю:
Кто худо пел, для тех давно
Хозяин отворил и клетки и окно
И распустил их всех на волю;
А мой бедняжка Соловей,
Чем пел приятней и нежней,
Тем стерегли его плотней.
Варвара Алексеевна Оленина впоследствии на полях книги Крылова против этой басни отметила: «Для батюшки, А. Н. Оленина», подтвердив тем самым, что содержание относилось к ее отцу — «хозяину» Соловья-баснописца, посаженного в клетку.
Несколько басен Крылов принужден был написать и с его голоса. Такова басня «Конь и Всадник». В ней он рассказывал о Всаднике, который опрометчиво ослабил поводья и тем самым предоставил свободу Коню. Конь, не чувствуя узды, понесся и свалился в овраг и «до смерти убился». Из басни следовала горькая и безнадежная мораль:
Как ни приманчива свобода,
Но для народа
Не меньше гибельна она,
Когда разумная ей мера не дана.
Этот вывод знаменовал горечь поражения, признание ненужности свободы для народа. На Крылова порой находили эти настроения безнадежности, неверия, пассивности. Он был далек от той среды, в которой загоралось пламя протеста, рождалось новое движение будущих декабристов. Он оставался человеком XVIII века, воспитанным на идеях просветителей, на вере во всепобеждающую роль человеческого разума, идей, подготовивших Великую французскую революцию, но с ее крушением, как ему казалось, утративших свою силу. Ему было трудно разобраться в тех новых стремлениях и взглядах, которые воодушевляли его младших современников — Рылеева, Бестужева, Пушкина. Волею судеб он оказался в кругу Оленина, среди людей, которые не только были далеки от нового революционного поколения, но и враждебны ему. Сам же баснописец не мог порвать опутавших его сетей. Во многом он оставался на тех позициях, при тех взглядах, которые усвоил в юности. Он сохранил веру просветителей XVIII века в разум, но в то же время полагал, что силой достигнуть изменения общества невозможно. Крылов не примирился с царящей вокруг него несправедливостью, с угнетением народа, произволом дикого барства, хотя и считал, что бороться с этим следует путем просвещения и воспитания.
Поэтому вопросы морали, нравственного совершенствования в его баснях занимали такое большое место. Однако мораль басен была не отвлеченной, а конкретной и жизненной. Как ни умело раскидывал свои сети хитроумный птицелов, лукавый Эзоп нередко их обходил или прорывал.
В своих баснях Крылов неизменно противопоставлял сильным мира сего, алчным и жестоким хищникам, угнетенный и забитый народ. Он протестовал против несправедливости тех общественных отношений, при которых труженики, создающие материальные блага и ценности, вынуждены бедствовать и покорно подчиняться паразитической верхушке, их грабящей.
Еще в 1811 году Крылов написал басню «Орел и Пчела», в которой кичащемуся своей грозной силой Орлу, «всюду рассевающему страх», противопоставил скромную, трудолюбивую Пчелу, работающую для «общей пользы». Чтобы не было сомнений в смысле этой басни, Крылов предварил ее пояснением:
Счастлив, кто на чреде трудится знаменитой:
Ему и то уж силы придает,
Что подвигов его свидетель целый свет.
Но сколь и тот почтен, кто, в низости сокрытый,
За все труды, за весь потерянный покой,
Ни славою, ни почестьми не льстится,
И мыслью оживлен одной:
Что к пользе общей он трудится.
В сущности, положение вещей мало изменилось с тех пор, когда он еще подростком служил «копиистом» в судейских канцеляриях. Воры и мздоимцы сделались только увертливее и опытнее. Департаменты и канцелярии множились и приобретали все больший вес и значение: вся жизнь страны была подчинена строгому регламенту. Чин и должность давали власть и возможность обогащения. Злоупотребления, взяточничество, беззаконие стали обычными явлениями.
Иван Андреевич обо всем этом написал в 1830 году в одной из лучших басен — «Щука», напечатав ее в «Литературной газете», издававшейся при участии Пушкина. В этой басне он рассказал, как опасную и дерзкую хищницу, уличенную во множестве беззаконий и преступлений, судьи и прокурор, которые делили совместно с нею барыши, фактически избавляют от наказания. Даже дают возможность и дальше продолжать свои темные дела: «И Щуку бросили — в реку!»
Иван Андреевич хорошо понимал, что народ, простые люди живут плохо и бедно, разорены поборами, бессильны против своих угнетателей. Наблюдая за жизнью, он пришел к выводу, что безнадежно ждать улучшения от реформ и мелких поблажек сверху. В либеральных преобразованиях Александра I он видел обман и уловку, при помощи которых правительство стремилось смягчить всеобщее недовольство. Басню «Мирская сходка» Крылов начинал словами:
Какой порядок ни затей,
Но если он в руках бессовестных людей,
Они всегда найдут уловку,
Чтоб сделать там, где им захочется, сноровку.
А в самой басне он с едкой иронией рассказал о том, как лицемерно и цинично власть имущие попирают права простого народа: ведь в «овечьи старосты» назначен Волк, утвержденный на сходке, на которую овец «забыли» пригласить.
Эта басня — злой, беспощадный памфлет и на «либерализм» Александра I и на лицемерие господствующих классов, связанных общностью корыстных интересов, круговой порукой. «Бессовестные люди» ничем не пренебрегали для упрочения своей власти, и путей для противодействия им Крылов не видел.
Его упрекали за то, что он слишком легко со всем соглашался, примирился с окружавшим его обществом. Это было несправедливо. Лучшим ответом на подобные упреки являлись его басни. Смирение, лакейство перед сильными мира сего он зло заклеймил в басне «Две собаки». В ней дворовый пес Барбос, усердно несущий барскую службу, никак не может понять, почему он живет в холоде и голоде, а его приятель Жужу и ест и пьет на серебре, валяется по коврам и диванам:
«…Чем служишь ты?» — «Чем служишь!
Вот прекрасно!» —
С насмешкой отвечал Жужу: —
«На задних лапках я хожу».
И баснописец, чтобы не оставалось сомнения в смысле его басни, добавляет:
Как счастье многие находят
Лишь тем, что хорошо на задних лапках ходят.
Нет, он не уподоблялся этим барским прихлебателям. Он презирал их угодничество.
Крылов осудил все показное, лживое в окружающем его обществе. В этом обществе все фальшиво, продажно, основано на чинопочитании, корысти, честолюбии, обмане, погоне за богатством и чином. В сущности, его басни стали обширной человеческой комедией, роли в которой играли сказочные звери, наделенные людскими слабостями и пороками.
Иван Андреевич написал басню про Осла, возомнившего себя важным вельможей, потому что хозяин прицепил ему на шею звонок. В этой басне он высказал свое отношение к «знатности» и привилегиям, которые основаны на происхождении и чине. Он вынужден был жить среди подобных вельмож, среди людей, которые считали, что чин, орден, происхождение, богатство сами по себе дают право командовать всеми и презирать простых тружеников! Иван Андреевич никогда с этим не мог примириться. Психология и мораль барина были ему неизменно ненавистны. Он все расценивал с точки зрения интересов простого человека, честного труженика.
Басни Крылова учили скромности, трудолюбию, честному служению обществу. Крылов чувствовал себя воспитателем: он внушал своими баснями неприязнь и насмешку к лености, хвастовству, чванству и зазнайству, чинопочитанию, лжи и лицемерию.
Счастье человека в труде, в его трудовой деятельности, в его свободе от стяжательства. У Лафонтена он нашел басню о бедняке сапожнике и богаче финансисте. Крылов по-своему передал этот сюжет. У него богатый Откупщик, у которого «сокровищ нет счета», завидует нелегкой, но счастливой жизни бедняка сапожника. Весельчак Сапожник весь день «без умолку поет». Богач дарит Сапожнику много рублевиков, и с той поры пропало у того веселье. Сапожник стал бояться за судьбу сокровища, зарытого им в подземелье. Лишь догадавшись отдать мешок с рублевиками обратно Откупщику, он обретает потерянный покой.
Тесная клетка, в которую Крылов был посажен, узкое пространство между Публичной библиотекой и гостиной Олениных не смогли ограничить его славы, заглушить его голос. Его стихи превращались в пословицы и поговорки, их знали все от мала до велика.
Если читатели сразу же полюбили басни Крылова, то по-иному дело было с критикой. Народное просторечие, разговорная свобода языка, жизненная верность изображаемых им картин нередко коробили и возмущали тогдашних критиков.
Крылов не боялся жизненной правды, даже ее далеко не всегда приятных, а порой неприглядных сторон. Он ничего не приукрашивал и не сглаживал, выступив одним из зачинателей реализма в литературе. Дальнейшее развитие начатого им завершили Пушкин и Гоголь.
С нескрываемым недоброжелательством и иронией относился Крылов к тем критикам, которые упрекали его за «грубость», за отсутствие «хорошего вкуса».
Сборник басен, вышедший в 1811 году, он заключил басней «Свинья», в которой довольно недвусмысленно намекал на тех сторонников строгих правил «изящного», которые считали, что произведения искусства должны не изображать жизнь, а возвышаться над нею, приукрашивать ее.
Свинья на барский двор когда-то затесалась;
Вокруг конюшен там и кухонь наслонялась;
В сору, в навозе извалялась,
В помоях по уши досыта накупалась;
И из гостей домой
Пришла свинья-свиньей.
«Ну, что ж, Хавронья, там ты видела такого? —
Свинью спросил пастух. —
Ведь идет слух,
Что все у богачей лишь бисер да жемчуг,
А в доме так одно богатее другого?»
Хавронья хрюкает: «Ну, право, порют вздор.
Я не приметила богатства никакого:
Все только лишь навоз да сор;
А, кажется, уж, не жалея рыла,
Я там изрыла
Весь задний двор».
Крылов добавил к ней краткое послесловие, обращенное к критикам:
Не дай бог никого сравненьем мне обидеть!
Но как же критика Хавроньей не назвать,
Который, что ни станет разбирать,
Имеет дар одно худое видеть?
Этой Хавроньей был московский критик Т. Каченовский, педант и бездарный буквоед, профессор древней словесности в Московском университете. Да, конечно, для него, сторонника классической пиитики по законам Лагарпа и Батте, в баснях Крылова все было неприемлемо и одиозно. И самая близость их к жизни, к «натуре», и «грубые», простонародные выражения («В сору, в навозе извалялась», «В помоях по уши досыта накупалась»), и язык басен с их «площадными» словами, вроде «затесалась», «навоз», «помои», которые оскорбляли его слух, привыкший к салонному изяществу. Понятно поэтому, что критик Каченовский, и раньше хаявший крыловские басни, обрушился на эту басню с особенным раздражением и писал о ней в журнале «Вестник Европы»: «Собрание сих „Новых басен“ заключается престранным сочинением, которое ниже всего того, что ни есть самого отвратительного в баснях Сумарокова. Пиит есть художник: он должен искать образцов своих в изящной природе, должен творить идеалы прекрасные и благородные, а не заражать своего воображения смрадом запачканных нелепостей. Вот чудовище, поставленное наряду с баснями!» И разъяренный Каченовский с негодованием выписал первую половину басни и в заключении своей статьи возмущался по поводу того, что Крылов уподобил Свинью критику, который «имеет дар одно худое видеть»: «Но что же другое может увидеть критик в некоторых сочинениях, а именно, например, в этой хавроньиной истории?»
Да и некоторые из последователей Карамзина — арзамасцев — были шокированы этой «грубостью» и просторечием баснописца. Так, арзамасец Д. Блудов, просмотрев книжку басен Крылова, сказал со снисходительной иронией, что вышли новые басни Крылова с свиньею и с виньетками.
Даже для друга Пушкина П. А. Вяземского Крылов являлся «счастливым смельчаком, бесстрашным наездником, который, смеясь законам, умел приковать победу к себе и закупить навсегда пристрастие народа», — как писал он в 1816 году А. И. Тургеневу. В статье о И. Дмитриеве Вяземский уже в 1823 году, когда Крылов завоевал всенародную славу, высоко оценил басни Дмитриева и недооценил басни Крылова. Крылов откликнулся на высказывания Вяземского ядовитой басней «Прихожанин», в которой рассказал про прихожанина, равнодушно выслушавшего трогательную и красноречивую проповедь церковного проповедника только потому, что сам он был «не здешнего прихода».
В защиту Крылова выступил в 1825 году Пушкин. В своей статье, направленной против французского критика Лемонте, Пушкин назвал Крылова «истинно народным поэтом». Сравнивая его с великим французским баснописцем Лафонтеном, он отдал предпочтение Крылову: «простодушие (naïveté, bonhomie), — писал Пушкин, — есть врожденное свойство французского народа; напротив того, отличительная черта в наших нравах есть какое-то веселое лукавство ума, насмешливость и живописный способ выражаться: Лафонтен и Крылов представители духа обоих народов». Так Пушкин первым определил национальный и народный характер творчества русского баснописца.
Весной 1823 года Иван Андреевич почувствовал себя плохо. Затылок сжимала тупая мучительная боль, в глазах мелькали неуловимые черные мухи, тело отяжелело. От прилива крови к голове в ушах стучали молоточки. Подымаясь с дивана, он упал. Через несколько дней последовал второй удар. Щека оказалась парализованной, лицо искривилось. С большим трудом добрался он до Олениных. Заплетающимся языком проговорил, обращаясь к Елизавете Марковне: «Ведь я сказал вам, что приду умереть у ног ваших!»
Немедленно были призваны врачи, за ушами поставлены пиявки, и Иван Андреевич несколько недель пролежал в доме Олениных. Недюжинное здоровье и внимательный уход победили болезнь. Он стал поправляться, правда очень медленно. Весть о болезни баснописца всполошила всю столицу. По городу ходила злая эпиграмма, сочиненная Кондратием Рылеевым:
Нет одобрения талантам никакого,
В России глушь и дичь.
О даровании Крылова
Едва напомнил паралич.
Эпиграмма была вызвана тем, что, узнав о тяжелом состоянии баснописца, вдовствующая императрица Мария Федоровна пригласила его к себе в Павловск до выздоровления.
Мария Федоровна любила, чтобы ее считали благодетельницей литературы и искусства. Забота о Крылове делала ее популярной в глазах общества. Она родилась в маленьком немецком княжестве, и молодость будущей императрицы прошла при захудалом герцогском дворе. По прихоти Екатерины II нищая немецкая принцесса София Доротея Августа Луиза сделалась в семнадцать лет женою наследника русского престола Павла Петровича и, перейдя в православие, стала именоваться великой княгиней Марией Федоровной. При жизни Екатерины она испытала немало лишений и унижений, так как властная императрица ненавидела своего сына и держала его и невестку в постоянном подозрении и страхе. Да и после воцарения Павла I бывшей принцессе Софии Доротее пришлось нелегко: она была вынуждена делить влияние с любовницей императора — Нелидовой. Лишь теперь, являясь матерью царствующего императора, она нашла свое настоящее место. Она основала ряд благотворительных учреждений, покровительствовала литературе и искусству, собирая в Павловске поэтов и художников.
В Павловске господствовал культ семьи и сельского благодушия. Имелась «Семейная роща» с мраморной урной, «Храм дружбы», посвященный Екатерине II, «Памятник родителям» с высеченными на мраморных досках именами немецких родственников Марии Федоровны и, наконец, «Памятник супругу» — Павлу I: здание в стиле античного храма. Внутри храма помещался монумент, на котором изображена была сама Мария Федоровна, распростершаяся перед урной, а на барельефе пьедестала — все осиротевшее семейство задушенного императора. Подобно своим сверстницам, принцессам маленьких германских княжеств, Мария Федоровна была сентиментальна. Она любила сельскую идиллию и показывала пример хозяйственности.
В Павловском парке построены были «Шале» и «Ферма», при которой имелся коровник и птичник. Мария Федоровна в молодости даже сама доила самую спокойную из коров.
Но главной достопримечательностью Павловска являлся Розовый павильон, построенный Воронихиным. Деревянный павильон был окружен розами, розы вытканы на мебели и изображены на посуде. Павильон служил приютом для писателей и художников. Здесь читал главы «Истории государства Российского» Карамзин, читали свои стихи поэты — Нелединский-Мелецкий, Жуковский, Гнедич, Ф. Глинка, рисовал Орест Кипренский, декорации писали Гонзаго и Бруни.
Время в Павловске проходило в беспрерывных развлечениях. Императрица то ездила с гостями по парку в колясках, то устраивала литературные чтения, то приглашала для забавы общества фокусников или заезжих иностранцев с учеными обезьянами, собаками, дрессированными лошадками.
В Павловске обед неизменно начинался в четыре часа. Иван Андреевич кушал вдоволь, не обращая внимания на разговоры. Придворный куртизан Нелединский-Мелецкий как-то не удержался и шепнул ему: «Иван Андреевич, да пропусти хоть одно блюдо и дай императрице возможность попотчевать тебя». — «А ну как не попотчует?» — отвечал Крылов.
В зеленых рощах Павловского парка, в прогулках вдоль вьющейся лентой Славянки здоровье баснописца скоро восстановилось. Он повеселел и охотно шутил с окружающими. Ведь отшучиваться было много проще, чем говорить всерьез! Он отшучивался и от придворного этикета, и от покушений на его свободу, и от посягательства на его басни. Иван Андреевич избегал парадных вечеров, официальных излияний. Накануне торжественного обеда по случаю семейного праздника в царской фамилии он сослался на нездоровье, на то, что он якобы укушен ядовитой мухою, и не явился во дворец. На случай, если бы императрица обратила внимание на его отсутствие, Иван Андреевич направил шуточное послание ее любимой фрейлине Варваре Павловне Ушаковой:
Обласканный не по заслугам,
И вам и вашим всем подругам
Крылов из кельи шлет поклон,
Где, мухою укушен он,
Сидит, раздут как купидон —
Но не пафосский и не критский,
А иль татарский, иль калмыцкий.
Что ж делать?.. надобно терпеть!..
Но, чтоб у боли сбавить силы,
Нельзя ль меня вам пожалеть?..
Вы так добры, любезны, милы, —
Нельзя ль уговорить подруг,
Чтоб вспомнить бедного Крылова,
Когда десерт пойдет вокруг?..
Поверьте, он из ваших рук
Лекарством будет для больного.
Шутка была оценена по заслугам, и любителю десерта тотчас отправили фрукты и конфеты.
Во время пребывания Ивана Андреевича в Павловске во дворце был поставлен домашний спектакль. Разыгрывали в лицах «Демьянову уху». Сам баснописец изображал Фоку, а не в меру радушного хлебосола давний знакомец Крылова — князь Федор Голицын. Княжна Хилкова представляла безмолвную хозяйку. Зрители смеялись до слез, когда тучный и неуклюжий Иван Андреевич с непривычной быстротой, забрав в охапку свои пожитки, поспешно убегал от назойливого хозяина.
Иван Андреевич окреп и отдохнул. Его стала тяготить необходимость каждодневно облачаться во фрак или форменный вицмундир, обедать в чопорном обществе, быть неизменно приятным и улыбающимся. Он затосковал по своей засыпанной табачным пеплом квартире, по такому удобному, промятому его тяжеловесным телом дивану, Феничке, вечерам в Английском клубе.
Отпроситься было не так просто. Императрица скучала, и баснописец со своими забавными шутками и чудачествами развлекал ее. Иван Андреевич решил польстить императрице, заранее поблагодарить ее за гостеприимство, тогда она скорее его отпустит к привычной, привольной жизни. Он написал в ее честь басню «Василек», где в прозрачно аллегорической форме сравнивал себя с вянувшим васильком, оживленным взошедшим солнцем.
Свою басню он переписал в один из альбомов, находившихся в Розовом павильоне. Иван Андреевич правильно рассчитал — басня дала ему свободу. Польщенная императрица не стала противиться его отъезду.
Мария Федоровна и в дальнейшем благоволила к баснописцу. Она даже подарила ему дорогую фарфоровую чашку с крышкою. Чашка была тонкой работы, настоящий сакс, покрыта кобальтом, с живописью на клеймах. Но императрице стало ее жалко, и она послала камер-лакея взять чашку обратно. Однако Иван Андреевич не отдал. Императрице не осталось ничего другого, как сказать: «Что делать со стариком? Пусть она у него останется». Когда Ивану Андреевичу об этом сообщили, он тут же сочинил не очень-то почтительный экспромт:
Ест Федька с водкой редьку,
Ест водка с редькой Федьку.
Крылов не любил царей. В его жизни они сыграли печальную роль. Екатерина прогнала его из столицы. При Павле I он не смел даже нос высунуть. Александру I Иван Андреевич также не доверял. Сладкие слова, многоречивые обещания нового императора расходились с его делами. Народ жил по-прежнему плохо. Мужики голодали и натужно шли за сохой, вспахивая помещичьи земли. Помещики немилосердно грабили и притесняли крепостных, праздно и постыдно живя за их счет. В судах и канцеляриях по-прежнему царили взяточничество, произвол. В литературе приходилось опасаться за каждое слово правды.
А царь, передав управление государством Аракчееву, беспрерывно разъезжал по заграницам и России. Говорили, что он уже наездил больше двухсот тысяч верст!
Александр никому не доверял: хотел все сам проверить, убедиться в том, что все находится в порядке, который он установил. Ему нравились долгие часы быстрой езды, депутации, торжественные обеды, высокопарные приветственные речи, склоненные в покорном поклоне спины и головы дворян, чиновников, городских обывателей. В 1819 году он отправился в далекий Архангельск. Рассказывали, что в каком-то провинциальном городке император, уже готовясь к отъезду, увидел из окна, что к дому приближалось довольно большое число людей. На вопрос государя губернатор отвечал, что это депутация от жителей, желающих принести его величеству благодарность за благосостояние края. Государь, поспешая с отъездом, отклонил прием этих людей. А как выяснилось позднее, они шли с жалобой на губернатора — жестокого лихоимца, который, однако, получил от государя награду.
Иван Андреевич немало смеялся этой истории. Он расспрашивал рассказчика о подробностях происшествия. Целую неделю Крылов не появлялся у Олениных. Сидел в халате на диване, выкуривая сигару за сигарой. Услышанный им рассказ задел его за живое. Ему представилась вся Россия: нищие мужики, жестокий произвол Аракчеева, безнаказанный грабеж народа, лицемерие царя, делающего вид, что он якобы заботится о порядке и законности. Иван Андреевич написал басню «Рыбья пляска». Это была смелая басня. В ней сказался прежний автор «Почты духов».
От жалоб на судей,
На сильных и на богачей,
Лев, вышед из терпенья,
Пустился сам свои осматривать владенья.
Он идет, а Мужик, расклавши огонек,
Наудя рыб, изжарить их сбирался.
Бедняжки прыгали от жару, кто как мог;
Всяк, видя близкий свой конец, метался.
На мужика, разинув зев,
«Кто ты? Что делаешь?» — спросил сердито Лев.
«Всесильный царь! — сказал Мужик, оторопев, —
Я Старостою здесь над водяным народом;
А это — старшины, все жители воды;
Мы собрались сюды
Поздравить здесь тебя с твоим приходом!» —
«Ну, как они живут? Богат ли здешний край?» —
«Великий государь! Здесь не житье им — рай!
Богам о том мы только и молились,
Чтоб дни твои бесценные продлились».
(А рыбы, между тем, на сковородке бились.)
«Да отчего же, — Лев спросил, — скажи ты мне,
Они хвостами так и головами машут?» —
«О мудрый царь, — Мужик ответствовал, — оне
От радости, тебя увидя, пляшут».
Тут Старосту лизнув Лев милостиво в грудь,
Еще изволя раз на пляску их взглянуть,
Отправился в дальнейший путь.
В басне все было неблагонамеренно. И весьма схожий с Аракчеевым Староста, который лживо уверял царя в благополучии «водяного народа», в то же время поджаривая своих подопечных на сковородке. И сам царь, продолжавший путешествие, не разобравшись в обмане и лицемерии своего Старосты!
Крылов долго таил эту басню даже от друзей. Ведь в ней речь шла о том, о чем отваживались говорить только близко знавшие друг друга люди и то лишь с глазу на глаз. Аракчеев внушал всеобщую ненависть. Его боялись. После событий в Чугуеве имя его произносилось с особенной ненавистью. Аракчеев по всей России основал военные поселения для солдат. Это были лагеря, в которых солдаты совмещали военную муштру с занятием сельским хозяйством. В поселениях были введены военный режим, палочная дисциплина, жесточайшие наказания за малейшую провинность. Все это вызывало ропот и широкое возмущение во всех кругах общества. Бунт в Чугуеве, вызванный жестоким обращением начальников, получил широкую огласку. На кровавую расправу граф Аракчеев явился лично. Он приговорил многих солдат к «лишению живота» и наказанию шпицрутенами, а остальных заставил каяться на коленях, что также не избавляло от тяжелых побоев и увечий. В ответ на письмо Аракчеева, извещавшего царя о «благополучном завершении» экзекуции, Александр I прислал палачу свою «искреннюю благодарность» за его «труды».
Иван Андреевич ядовито высмеял в басне и жестокое самоуправство Аракчеева и лицемерные «заботы» царя — весь тот произвол и безобразия, которые господствовали в стране. Алексей Николаевич Оленин, когда Крылов, наконец, показал ему басню, пришел в ужас. Неужели Крылову мало тех бед и неприятностей, которые он испытал в молодости! Нельзя же не понимать, что появление такой басни, даже если ее пропустит цензура, что весьма маловероятно, повлечет за собой немилость, а быть может, и новые гонения? А в какое положение Иван Андреевич ставит его, Оленина, своего друга и покровителя, которому он обязан благополучием? Нет, он не может этого допустить! Басня должна быть решительным образом переделана, а ее первоначальный текст уничтожен.
Крылову не оставалось ничего другого, как послушаться своего начальника и благодетеля, и он с крайней неохотой переделал басню. Старосту, в котором легко было узнать Аракчеева, он заменил воеводой Лисой. Остальное осталось по-прежнему. Только в заключении басни царь Лев не «милостиво» лизнул «воеводу», а подверг его вместе с «куманьком» заслуженному наказанию, тем самым показав свою справедливость и заботу о подданных:
Не могши боле тут Лев явной лжи стерпеть,
Чтоб не без музыки плясать народу,
Секретаря и воеводу
В своих когтях заставил петь.
Но и в таком виде басню удалось напечатать лишь через четыре года, когда из памяти современников изгладились события, натолкнувшие баснописца на ее написание. Много лет спустя после смерти баснописца его давняя приятельница В. А. Оленина подтвердила истинный смысл басни. «В таком виде (то есть в первоначальной редакции, в тайне сохраненной Крыловым для потомства. —
На Марсовом поле регулярно устраивались парады. Сверкавшие на солнце штыками, с начищенной до блеска амуницией, проходили стройными рядами солдаты, старательно вытягивая носки лакированных сапог. Александр Павлович любил парады, марши военных оркестров, сверкание эполет, орденов, ослепляющих на солнце сабель. В шляпе с пучком пестрых перьев, в туго натянутых лосинах, в парадном мундире, он особенно зримо чувствовал свою власть и силу. Шеренги солдат послушно выполняли сложные построения и казались неодушевленными существами, аккуратно отлитыми и раскрашенными оловянными солдатиками.
Солдаты не должны думать: их дело послушно маршировать. Да и вообще думать не следовало и дворянству. Оно лишь обязано выполнять царские предначертания. Все беды от вольтерианцев и масонов, немецких тугендбундов и итальянских карбонариев. Необходимо строго следить за порядком, пресекать вольномыслие. Император поручил это испытанному и верному слуге Аракчееву. Граф Аракчеев твердо знал свои обязанности: девизом он избрал слова «Без лести предан», выгравированные на его печати. Аракчеев хорошо знал службу. Его карьера началась еще при безумном Павле. Главное — это точное исполнение предписаний, дисциплина, послушание. Он принялся настоятельно насаждать эти устои. Завел железную дисциплину в армии, шагистику, жестокие наказания. Для крестьян — военные поселения, тоже с грохотом барабанов, шпицрутенами, учениями.
В 1820 году произошла новая трагическая история: взбунтовался Семеновский полк — любимый полк императора. В этом полку среди офицеров имелось немало членов тайного общества. Командный состав отличался гуманным обращением с солдатами, в полку не приняты были телесные наказания, солдат хорошо кормили и не мучили бессмысленными учениями. Этот вольнодумный дух раздражал Аракчеева, и для наведения порядка командиром полка назначен был его ставленник — полковник Шварц, известный своей жестокостью и педантизмом. Шварц завел новые порядки: бесконечные ученья, шагистику, штрафы и суровые наказания за малейшую оплошность. Озлобленные, ожесточенные солдаты отказались от повиновения. Это не был бунт или вооруженное восстание, но в условиях беспрекословной дисциплины подобное неповиновение приравнено было к бунту. Казармы семеновцев окружили войсками, солдат предали военному суду.
История возмущения Семеновского полка стала широко известна в столице. О ней много и с гневом говорили, правда озираясь по сторонам: не подслушивают ли? Во всех подробностях эта история стала известна и в доме Олениных. Алексей Николаевич передавал, что император, находившийся в это время за границей, заподозрил в «бунте» происки тайных революционных организаций и настаивал на беспощадной расправе с семеновцами. Александр I писал Аракчееву: «Легко себе можно вообразить, какое печальное чувствие оно во мне произвело, происшествие, можно сказать, неслыханное в нашей армии… Заключаю я, что было тут внушение чуждое… я его приписываю тайным обществам». Эти слова императора Оленин передавал шепотом, сообщая, что граф Аракчеев самолично ведет следствие и надо ожидать строгих мероприятий. Наконец по возвращении царя был издан приказ, в котором переплеталось показное «великодушие» Александра с требованием самых суровых и жестоких кар. «С непоколебимою решимостью, но с душевным сокрушением и не останавливаясь чувством личной моей привязанности… повелеваю: всех нижних чинов лейб-гвардии Семеновского полка распределить по разным полкам армии. Виновнейшие же и подавшие пагубный пример прочим, преданные уже военному суду, получат должное наказание по всей строгости законов». Говорили, что, подписывая этот приказ, царь плакал. Александр I был прирожденный актер и опытный лицемер. Он умел обманывать своим притворством даже близких ему людей.
На вечерах Оленина по-прежнему собиралось общество его друзей и постоянных завсегдатаев. Горячо обсуждали недавние события, все были взволнованы трагической судьбой семеновцев. Иван Андреевич, как и всегда, не выказывая особенного внимания, слушал споры и рассказы. Ему ясно представлялась горестная судьба несчастных солдат, многие из которых геройски сражались в Отечественную войну.
Вскоре после этих событий, потрясших всю столицу, Иван Андреевич, подождав, пока от Олениных разошлись гости и остались лишь домашние, отозвал Алексея Николаевича в угол гостиной и вполголоса прочел новую басню. Она называлась «Пестрые овцы»:
Лев пестрых не взлюбил овец.
Их просто бы ему перевести не трудно;
Но это было бы неправосудно:
Он не на то в лесах носил венец,
Чтоб подданных душить, но им давать расправу;
А видеть пеструю овцу терпенья нет!
Как сбыть их и сберечь свою на свете славу? —
начал свою басню Иван Андреевич и стал рассказывать дальше о том, как царь Лев призвал на совет Медведя и Лису, чтобы решить, каким образом избавиться от «пестрых овец». Прямолинейное предложение Медведя «передушить» всех овец «без дальних сборов» не встречает сочувствия у Льва: он не желает прослыть жестоким деспотом. Ему по душе совет Лисицы, лицемерно возражающей против «пролития» «невинной крови». Лисица предложила более тонкий способ уничтожения ненавистных царю овец:
«Дай повеленье ты луга им отвести,
Где б был обильный корм для маток
И где бы поскакать, побегать для ягняток;
А так как в пастухах у нас здесь недостаток,
То прикажи овец волкам пасти.
Не знаю, как-то мне сдается,
Что род их сам собой переведется.
А между тем пускай блаженствуют оне;
И чтоб ни сделалось, ты будешь в стороне».
Алексей Николаевич серьезно встревожился. Его миниатюрная ручка сжалась в кулачок. Он почти закричал тоненьким, ребячьим голоском: «Иван Андреевич! любезнейший друг! Ну что ты такое написал? А ежели граф Алексей Андреевич на свой счет Медведя примет? Да и намек смогут увидеть на известную историю? Да и сам Лев — кто такой? Страшно помыслить даже!» Маленький, смертельно напуганный, он трясся как в лихорадке, размахивая своим крошечным кулачком. «Нет, Иван Андреевич, ты мне этого не читал и не писал. Забудем об этом».
«Пестрые овцы» так и не были напечатаны при жизни баснописца.
Иван Андреевич продолжал добросовестно трудиться в библиотеке. Почти ежедневно он отправлялся по вечерам к Олениным или в Английский клуб, а дома полеживал на своем протертом диване. Со всеми он был равно доброжелателен и приветлив. Обычно учтиво хвалил все, что ему предлагали, и, казалось, сейчас же об этом забывал, погружаясь в свои мысли. «В домашнем быту и обхождении, — вспоминал о нем его сослуживец М. Е. Лобанов, — Иван Андреевич был отменно радушен, приятно разговорчив, но искренен редко и только с ближайшими, испытанными друзьями. Он все хвалил из учтивости, чтобы никого не огорчить, но в глубине души своей не много одобрял…»
Затаенное высказывалось в баснях. Война 1812 года, военные поселения, бунт Семеновского полка и многие другие события вызвали появление басен «Волк на псарне», «Ворона и Курица», «Рыбья пляска», «Пестрые овцы». Но иногда и незначительные происшествия привлекали внимание баснописца. Это случалось, когда в этих происшествиях проявлялись типичные для своего времени черты.
В 1814 году в столице сильно нашумело бракоразводное дело Е. Б. Фукса, который, разведясь с первою женою и не дождавшись окончания дела, возникшего по поводу его развода со второю, перешел из лютеранского вероисповедания в православное и вступил в третий брак. По указанию царя это дело разбиралось в Сенате. Возникло много споров, росли тома протоколов, показаний, мнений. Иван Андреевич внимательно следил за перипетиями этого процесса и, наконец, напечатал в журнале «Сын отечества» басню «Троеженец». В ней он язвительно советовал вернуть «троеженцу» всех его жен. После появления басни во время очередного заседания Сената кто-то из сенаторов заявил: «Что же нам рассуждать об этом? Крылов прежде нас решил дело!» Фукс был весьма обижен на баснописца. Однако Крылов и в этом случае не собирался только посмеяться над незадачливым любвеобильным мужем. Сатира его басни приобрела широкое обобщение и сохранила свою остроту даже тогда, когда о Фуксе давным-давно позабыли.
К домашним делам и событиям Крылов стал совершенно равнодушен, неприхотлив и в своих бытовых нуждах. Важнее всего было избавиться от посягательств на его личную жизнь, получить досуг для мыслей. Его считали лентяем? Ну и пусть! Меньше внимания обратят на его басни. Его считают скрытным? Прекрасно! Пускай так думают, лишь бы не мешали…
Был лишь один человек, которого он нежно любил и жалел. Его брат Левушка. Иван Андреевич заменял ему отца. Но Левушка давно уже вырос и даже состарился прежде времени, а все оставался неудачником, бедняком-горемыкой, одиноким бобылем, как и сам Иван Андреевич. За тридцать лет военной службы, походов, сражений, скитаний по маленьким провинциальным городкам и местечкам Левушка совсем расстроил свое здоровье. Он часто присылал «тятеньке» длинные письма, исполненные жалоб на здоровье, на расстроенное зрение и на не менее расстроенные финансы. «Я нетерпеливо желаю тебя видеть, — сообщал Левушка брату в 1818 году, — мы никогда не были столь долго с тобою в разлуке. Вот уже двенадцать с половиною лет, как мы с тобою расстались, а у нас никого больше родни нет. Божусь тебе, любезный тятенька, меня это весьма крушит, что мне кажется, что я умру, не видевши тебя». Далее Левушка по обыкновению сообщал, что по милости брата он ни в чем нужды не терпит и всем доволен, и в заключение просил Ивана Андреевича прислать его новые сочинения.
Иван Андреевич любил братца, но писал ему редко, хотя больно переживал разлуку с ним. Ведь братья не виделись с тех пор, как Левушка служил в Серпухове и к нему приезжал Иван Андреевич в 1805 году. Теперь Левушка оказался в далеком Каменец-Подольске: поди-ка туда доберись! Иван Андреевич дальше, чем в Приютино, не ездил: путешествие хлопотно, утомительно, дорого. А Левушку посылают в разные места, все равно за ним не угонишься! Вот и теперь у него неприятности.
Поздравляя брата с пасхой, Левушка сообщил ему о новой, неожиданно нагрянувшей беде. В Каменец ожидается проездом государь Александр Павлович. Приготовления к встрече государя поглотят все годовое жалованье, так что на жизнь ничего не остается. «Я, слава богу, здоров и по милости твоей нужды не терплю, — писал, как обычно, Левушка. — Мы теперь, любезный тятенька, имеем уже маршрут путешествия государя императора. Он сюда прибудет непременно 25-го апреля на ночь, а 26-го здесь будет обедать, и уже делают приготовления для угощения государя. Мы также приготовляемся: наш гарнизонный караул ему будет, и для того баталионный командир всем офицерам в счет жалованья купил весь прибор серебряный, то есть шарфы, темляки, витишкеты, эполеты, и строит всем новые мундиры с панталонами единообразные, что все будет стоить около 250 рублей ассигнациями на каждого… а если хороший прибор, то и в 400 рублей не вогнали бы. И как теперь я должен быть почти целый год без жалованья. Но я надеюсь на тебя, голубчик тятенька, что ты меня не оставишь и не допустишь до нищеты… Прошу тебя, голубчик тятенька, помоги!»
Месяца через полтора после императорского посещения Левушка был переведен в «инвалид» и назначен командиром инвалидной команды в Винницу. Тут опять пошли новые непредвиденные расходы, так как Левушка решил обзавестись «маленькой лачужкой и огородом» и купил себе хутор. Иван Андреевич и здесь помог и для развлечения брата прислал ему скрипку.
Но неприятности незадачливого Левушки продолжались. То снова ожидался приезд государя и шился новый мундир, то Левушка прожился, выезжая на следствие, то пала корова, то он болел.
Левушка был большим почитателем басенок своего «тятеньки» и постоянно просил его о присылке новых. В одном из писем к брату в 1823 году он сообщал: «Читал я басни г. Измайлова, но в сравнении с твоими, как небо от земли: ни той плавности в слоге, ни красоты нет, а особливо простоты, с какою ты имеешь секрет писать, ибо твои басни грамотный мужик и солдат с такою же приятностию может читать… как и ученый… Читал и сочинения г. Жуковского, но он, как мне кажется, пишет только для ученых и занимается вздором, а потому слава его весьма ограниченна. А также г. Гнедич, человек высокоумный и щеголяет на поприще славы между немногими. — Но как ты, любезный тятенька пишешь — это для всех: для малого и для старого, для ученого и простого, и все тебя прославляют… Басни твои — это не басни, а апостол».
Несмотря на беспрерывные просьбы братца Иван Андреевич так и не решился к нему выбраться, посмотреть его хуторское хозяйство. А в 1824 году он получил известие о неожиданной смерти Левушки.
Так братьям и не довелось свидеться. Братний хуторок Иван Андреевич подарил его денщику, преданно ухаживавшему за Левушкой, а немудреный домашний скарб — соседям и сослуживцам. После смерти Левушки Иван Андреевич помрачнел, хотя и ни в чем не изменил своего образа жизни. По-прежнему проводил он вечера у Олениных, посещал Английский клуб, курил сигары на протертом диване своей комнаты. Его мрачность и молчаливость беспокоили окружающих, но они не решались расспрашивать Ивана Андреевича, зная его постоянную скрытность. Лишь добрейшая Елизавета Марковна, улучив подходящую минуту, спросила его: «Что с вами было, Крылочка? Вы на себя не походили». — «У меня, Елизавета Марковна, было на свете единственное существо, связанное со мною кровными узами: у меня был брат. Недавно он умер. Теперь я остался один».
Время переменилось. Снова стало тревожно. По рукам ходили дерзкие стихи Пушкина и Рылеева, восхвалявшие свободу. Их тайком переписывали, передавали друг другу. В гостиных привлекали всеобщее внимание не гвардейские мундиры, а черные фраки. В разговорах сквозили пренебрежение, ирония, недовольство. Молодые люди обменивались многозначительными взглядами и уединялись для длительных бесед. Дамы перестали восхищаться чувствительными романами мадам Жанлис и Дюкре-Дюмениля. А мужчины читали Плутарха, «Историю» Карамзина, Гизо, Гельвеция, Руссо, Кандильяка. В воздухе чувствовалось напряжение, как перед грозой. За ужинами нередко провозглашались непонятные для непосвященных тосты, произносились острые эпиграммы на самых почтенных особ в государстве. У Олениных хранились стихи молодого Пушкина, его ода «Вольность» и «Деревня», дерзкое послание Рылеева «К временщику» — Аракчееву. Даже в Английском клубе громко говорили о политике, читали иностранные газеты.
Крылов встречал нередко и поэта Рылеева, и пылкого Александра Бестужева, и Никиту Муравьева, которые были одними из главных фигур тайного «Северного общества» декабристов. Конечно, он не знал их планов, не был знаком с их идеями. Но он не отгораживался от них, его интересовали и привлекали эти «новые люди». Крылов числился почетным членом Общества соревнователей просвещения и благотворения, являвшегося своего рода легальным филиалом «Союза благоденствия». В 1819 году его имя помещено было в «Сыне отечества» в числе членов «ланкастерского» Общества взаимного обучения, организованного декабристами. В извещении значилось, что «изъявили свое желание содействовать трудам комитета общества: князь Трубецкой, Никита Муравьев, Бурцев, Иван Андреевич Крылов…». Далее в числе действительных членов-жертвователей общества были перечислены братья Муравьевы, Кюхельбекер, Крылов… В этих перечнях все, кроме Крылова, участники событий 14 декабря 1825 года.
Басни Крылова печатались в журнале Общества соревнователей просвещения и в декабристской «Полярной звезде». В «Полярной звезде» помещена была такая смелая басня, как «Крестьянин и Овца», а на страницах «Соревнователя» появилась в 1824 году басня «Кошка и Соловей», в которой Крылов ядовито высмеял царскую цензуру. Эта басня написана была в связи с подготовкой нового цензурного устава. В басне Кошка, сжимая в когтях Соловья, наивно удивляется тому, что он плохо поет:
Сказать ли на ушко, яснее, мысль мою?
Худые песни Соловью
В когтях у Кошки.
В первом же выпуске «Полярной звезды» декабрист А. Бестужев восторженно писал о Крылове: «И. Крылов возвел русскую басню в оригинально-классическое достоинство. Невозможно дать большего простодушия рассказу, большей народности языку, большей осязаемости нравоучению. В каждом его стихе виден русский здравый ум. Он похож природою описаний на Лафонтена, но имеет свой особый характер; его каждая басня — сатира, тем сильнейшая, что она коротка и рассказана с видом простодушия».
Крылов не подозревал, что эти люди ведут двойную жизнь, что у них есть тайны от него. Его приятель Гнедич, друживший с Никитою Муравьевым и Кюхельбекером, мог догадываться кое о чем, но, естественно, не посвящал в свои догадки Ивана Андреевича. Ему было невдомек, что близится взрыв.
В сумрачном здании Публичной библиотеки было, как всегда, тихо и спокойно. Стол, за которым обычно работал Иван Андреевич, находился в углу залы против окна, выходившего на перекресток Невского проспекта и Садовой. В окно можно было видеть проходивших по Невскому пешеходов, щегольские кареты с ливрейными лакеями на запятках, нарядных дам в модных шляпках, напоминавших корзинки для цветов. По залу, неслышно ступая, ходили служащие библиотеки. Со стен смотрели портреты великих людей.
Спокойствие было нарушено утром 14 декабря 1825 года. В библиотеку дошли вести о грозных событиях на Сенатской площади. Крылов вместе со своим сослуживцем М. Е. Лобановым, подстрекаемые любопытством, поспешили на площадь. Дойдя до Адмиралтейства, они сразу увидели потрясшее их зрелище.
На площади, перед строившимся Исаакиевским собором, расположились друг против друга два лагеря. Войско мятежников выстроилось в каре около памятника Петру I, а конногвардейские полки Николая I стояли в строю за Сенатом, по Галерной улице. Восставшие, несмотря на мороз, были в одних мундирах. Они держали ружья с примкнутыми штыками. Кавалергарды и кирасиры, закованные в тяжелые черные кирасы, неподвижные, как статуи, сидели на огромных лошадях.
На глазах выстроившихся в каре солдат Александр Бестужев в парадном мундире, в белых панталонах и гусарских сапогах точил свою саблю о гранит монумента Петра. В углу площади на ступенях манежа среди генералов и офицеров стоял Николай I. Изредка раздавались выстрелы, зловещим эхом отдававшиеся на площади. Восставшие стреляли вверх, поэтому жертв не было.
Напряжение нарастало. Обе стороны ждали прибытия подкреплений и начала решительных действий.
Вот как об этом рассказывает М. Е. Лобанов: «В 14-е число, в день страшный и священный для России, поутру, ходя по залам императорской Публичной библиотеки и радуясь вместе с Иваном Андреевичем о благополучном воцарении императора Николая I, вдруг слышим от прибежавших людей о тревоге, нарушившей столь священное торжество. Пораженные и изумленные такою нечаянностию, по естественному любопытству отправились мы с Иваном Андреевичем на Исаакиевскую площадь. Видели государя на коне перед Преображенским полком, потом прошли по булевару, взглянули издали на мятежников, и тут-то Иван Андреевич исчез. Вечером того дня, собравшись в доме А. Н. Оленина, мы передавали друг другу виденное и слышанное, каждый новый человек приносил какие-нибудь слухи и известия. Является Иван Андреевич. Подсевши к нему, я спрашиваю: „Где вы были?“ — „Да вот я дошел до Исаакиевского моста, и мне крепко захотелось взглянуть на их рожи, я и пошел к Сенату и поравнялся с их толпою. Кого же я увидел? Кюхельбекера в военной шинели и с шпагою в руке. К счастию моему, он стоял ко мне профилем и не видел меня“. — „Ну, слава богу! А ведь им легко было бы схватить вас и силою затащить в их шайку“. — „Да, как не легко? А там поди после оправдывайся, а позору-то натерпелся бы“. Между тем принесли уже печатные листки о мятеже с именами некоторых мятежников, в числе которых с ужасом заметили мы имена некоторых литераторов, и Иван Андреевич сокрушался этим; он полагал, что это обстоятельство наведет неблагоприятную тень на русскую словесность…»[24]
Рассказ М. Лобанова пристрастен. Автор его являлся преданным сторонником правительства и стремится «реабилитировать» Крылова, оправдать непонятное для него поведение баснописца. Свидетельство Лобанова дополняется записью В. А. Олениной, в которой имеется существенная деталь. По ее словам, «бунтовщики» кричали Крылову: «Иван Андреевич! Уходите, пожалуйста, скорей!», беспокоясь о его безопасности. Конечно, Крылов не собирался перейти на сторону декабристов. Но пришел он на площадь не ради пустого любопытства.
Восстание декабристов, выступление их на Сенатской площади знаменовало начало нового исторического этапа. Это был революционный акт, и хотя восстание было подавлено, оно в глазах современников и потомства явилось смелым, самоотверженным подвигом, показало возможность борьбы с самодержавием с оружием в руках. Для Крылова оно было уроком, даже укором. Издатель «Почты духов», решительный противник деспотизма в прошлом, он оказался теперь лишь зрителем, лишь наблюдателем возгоревшейся борьбы.
Насколько потрясен был Крылов событиями 14 декабря и последующими жестокими репрессиями, видно из того, что почти два года после этих событий он не писал басен. Лишь в «Северных цветах на 1829 год» появилась после длительного молчания басня «Пушки и Паруса». В ней можно усмотреть попытку разобраться в недавних трагических событиях. Противопоставляя «Пушкам» — военной силе «Паруса» — гражданские власти, Крылов, возможно, хотел подчеркнуть гибельность для «корабля»-государства внутренней распри.
Еще определеннее отклик на последствия событий 14 декабря в басне «Бритвы», опубликованной одновременно с «Пушками и Парусами». В «Бритвах» речь идет об умных и способных людях, замешанных в движении декабристов и отстраненных от государственной деятельности. В заключение Крылов спрашивал:
Вам пояснить рассказ мой я готов:
Не так ли многие, хоть стыдно им признаться,
С умом людей боятся
И терпят при себе охотней дураков?
Гоголь, который, как современник, был лучше осведомлен о замыслах Крылова, писал впоследствии об этой басне, что она имела в виду «недальнозорких начальников», у которых «утвердилось было странное мнение, что нужно опасаться бойких, умных людей и обходить их в должностях из-за того единственно, что некоторые из них были когда-то шалуны и замешались в безрассудное дело». Даже спустя двадцать лет приходилось говорить о событиях 14 декабря «эзоповым языком», туманными намеками, так щекотлива казалась эта тема. Естественно, что Крылов в еще большей мере вынужден был скрывать свое истинное отношение к недавним событиям.
Где нужно он навесть умеет
Свое волшебное стекло,
И в зеркале его яснеет
Суровой истины чело.
Весь мир в руках у чародея,
Все твари дань ему несут:
По дудке нашего Орфея
Все звери пляшут и поют.
Длись судьбами всеблагими,
Нить любезных нам годов!
Здравствуй с детками своими,
Здравствуй, дедушка Крылов.
Крылов пережил трех царей. Теперь царствовал новый — император Николай I. Он так же, как и его предшественники, любил парады, военный строй, дисциплину, покорность. Силу взяло III отделение собственной его императорского величества канцелярии во главе с шефом жандармов графом Бенкендорфом. После событий 14 декабря правительство пристально следило, чтобы не произрастали новые семена вольнодумства. Россия представлялась императору огромным департаментом, военной казармой, и он неустанно насаждал в ней порядок и дисциплину. Время от времени, однако, обнаруживались непорядки и непокорство.
14 декабря 1825 года стало тем рубежом, который подвел итог первой четверти века. Герцен писал: «Первые годы, последовавшие за 1825-м, были ужасны. Понадобилось не менее десятка лет, чтобы человек мог опомниться в своем горестном положении порабощенного и гонимого существа. Многими овладело глубокое отчаяние и всеобщее уныние. Высшее общество с подлым и низким рвением спешило отречься от всех человеческих чувств, от всех гуманных мыслей».
Это объясняет и молчание Крылова после 1825 года. В начале 1825 года вышло своего рода итоговое издание его басен в семи книгах, и лишь через пятилетие оно пополнилось еще одним разделом.
После 14 декабря Крылов почувствовал себя особенно чужим в опустевших дворянских салонах. Он еще более замкнулся. Лишь давний, испытанный друг его Николай Иванович Гнедич мог иногда проникнуть в сокровенные мысли баснописца. Крылов окончательно утвердился в своем скептическом отношении к окружающему, в невозможности перемен, хотя и не примирился с угнетенным положением народа, с хищничеством господствующих классов. В его баснях, напечатанных после 1825 года, продолжают звучать прежние мотивы, слышен голос в защиту народа.
В сборнике «Новоселье», вышедшем в самом начале 1833 года, Крылов поместил басню «Волки и Овцы». В ней он продолжил прежнюю демократическую тему протеста против угнетения народа. В первом же стихе он заявлял: «Овечкам от Волков совсем житья не стало». Всем было понятно, что под «Овечками» баснописец подразумевал крестьян, честных тружеников, а под «Волками» — жестоких и алчных помещиков и чиновников. В басне ядовито развенчивалось лицемерие правительственных кругов, пытавшихся уверить народ в том, что законы способны защитить его права и интересы. Едким издевательством над официальными заверениями выглядят стихи о том, что «правительство зверей» «благие меры взяло» и на своем «совете» придумало «закон».
Вот вам от слова в слово он:
«Как скоро Волк у стада забуянит,
И обижать он Овцу станет,
То Волка тут властна Овца,
Не разбираючи лица,
Схватить за шиворот и в суд тотчас представить,
В соседний лес иль в бор».
В законе нечего прибавить, ни убавить.
Да только я видал: до этих пор —
Хоть говорят, Волкам и не спускают —
Что будь Овца ответчик иль истец,
А только Волки все-таки Овец
В леса таскают.
Обобщенность и резкость сатиры этой басни сохранила всю свою силу вплоть до нашего времени, столь же метко поражая лицемерную буржуазную «демократию», как и бюрократически-помещичий режим крепостнической монархии.
Той же непримиримостью дышат басни «Мирон», «Булат», «Осел», «Лещи», «Щука», «Вельможа», написанные в 1830–1834 годах. Они заключали в себе большую взрывную силу. «Эзоповским языком» баснописец ухитрялся говорить о таких вещах, о которых в печати сказать во всеуслышание и подумать было нельзя.
Недаром Грибоедов в «Горе от ума» заставляет подхалима и доносчика Загорецкого с раздражением признаться:
«…А если б, между нами,
Был цензором назначен я,
На басни бы налег: ох! басни — смерть моя!
Насмешки вечные над львами! над орлами!
Кто что ни говори:
Хотя животные, а все-таки цари!»
Крылов привязался к семейству Олениных, заменившему ему родной дом. Там всегда приветливо и ласково его встречали, делились с ним семейными радостями и горестями. Дочери Оленина — младшая Аннета и старшая Варенька — уже давно выросли. Варенька была рассудительна, мила, хотя и не очень хороша собой. Иван Андреевич любил Вареньку за положительность. Варенька вышла замуж и жила теперь в Ревеле, лишь ненадолго наезжая в Петербург. Крылов скучал по «фавориточке» и при всей нелюбви своей к письмам время от времени писал ей. В весьма малочисленном эпистолярном наследстве баснописца эти письма занимают особое место. В них он отступает от деловой сдержанности и позволяет себе и пошутить с собеседницей и пуститься в веселое балагурство.
В письме от 1 февраля 1827 года к Варваре Алексеевне в Италию, куда она уехала лечиться, он подшучивает над самим собой, своей леностью и нелюбовью к сочинению писем: «За тридевятью морями, в тридесятом царстве вспомните иногда, любезная и почтенная Варвара Алексеевна, неизменного своего Крылова. Я, кажется, слышу ваш вопрос: „Да полно, стоит ли он этого?..“ Конечно, стою, да, стою. Возьмите беспристрастно и взвесьте все мое хорошее и худое. Кажется, вижу, что вы на одну сторону кладете лень, мою беспечность, несдержание данного слова писать и пр. и пр. Признаюсь, копна великая и очень похожа на большой воз сена, как, я видал, весят на Сенной площади. Но постойте, я кладу на другую сторону мою к вам чистосердечную привязанность. Может быть, она не приметна: однако ж посмотрите, как весы потянули на мою сторону. Вы улыбаетесь и говорите: „Точно, он меня любит: ну, бог его простит!“ Иван Андреевич в этой насмешливой автохарактеристике не щадит себя. В письме сказались и те дружеские отношения, которые существовали между ним, человеком весьма пожилым, и молоденькой женщиной, которую он знал еще ребенком: „Теперь вопрос: прощу ли я вас, что вы так надолго нас оставили, а, что и того хуже, не порадуете нас доброю вестью о поправлении вашего здоровья? Ездите по Италии, ездите, где хотите, только ради бога выздоравливайте и возвращайтесь к нам скорей веселы, здоровы и красны, как маков цвет. Смотрите, если долго промешкаете, то я, право, того и гляди что уеду далее чужих краев; а, право, я бы еще хотел на вас взглянуть и полакомиться приятными минутами вашей беседы. И видеть своими глазами и слышать своими ушами, все ли еще по-прежнему вы любите доброго своего Крылова? Что писать вам о нас? Старое по-старому, а в Петербурге у нас все по-петербургски. Сегодня мы празднуем рождение вашей сестрицы, фрейлины двора их императорских величеств, Анны Алексеевны. Вы ее не узнаете: она прелестна, мила и любезна, и если б постоянство не была моя добродетель особенная, то едва ли бы я вам не изменил. Но не бойтесь, обожатель в 57 лет бывает очень постоянен…“»
Этот тон дружеской приязни, неизменной сердечности проходит через все сохранившиеся письма Ивана Андреевича к Вареньке Олениной. Двумя годами позднее он снова пишет ей в Москву (по ее возвращении из Италии) в том же шутливом тоне, с той же милой нежностью: «Здравствуйте, любезнейшая и почтеннейшая Варвара Алексеевна. Итак, наконец, вы в России, в Москве, но все не в Петербурге, и я лишен удовольствия вас видеть. Для чего нет у меня крыльев, чтоб лететь в Москву! Какая бы я была хорошенькая птичка! Вы пишете к своим, чтоб я приехал; благодарю вас за такое желание, и если бы это зависело от одного
Служба в Публичной библиотеке шла своим чередом. Количество дел и работ здесь неизменно увеличивалось. Росло число книг, фонды пополнялись, необходимо было все время следить за приобретением недостающих изданий. Кроме того, как и во всяком учреждении, в библиотеке возникали интриги, происходила закулисная борьба между начальством. Министр просвещения, А. Н. Оленин и помощник директора библиотеки С. С. Уваров находились в натянутых отношениях и вели между собой глухую борьбу. Оленина упрекали в том, что он не выпускал печатных каталогов библиотеки, мало уделял внимания ее работе. Алексей Николаевич, как опытный дипломат, «отсиживался», предпочитал тактику умолчания и ничегонеделания, любил писать торжественные, но бессодержательные донесения и докладные записки о течении дел, ценил четко поставленное делопроизводство.
Крылову приходилось постоянно докладывать, писать заявления и рапорты, которые поступали в недра канцелярии и там длительное время лежали, пока их не подшивали в соответствующие папки, нумеровали и клали на полки. Донесения должно было писать по всей форме, почтительно, обстоятельно, не заставляя начальство раздумывать над их содержанием. Иван Андреевич привлек для этой цели помощника — Ивана Павловича Быстрова, человека услужливого, робкого и исполнительного. Привлечение Быстрова тоже потребовало долгих хлопот и многочисленных заявлений. 27 февраля 1829 года Крылов сообщал А. И. Оленину:
«Его превосходительству господину директору Императорской публичной библиотеки, тайному советнику, члену Государственного совета и разных орденов кавалеру Алексею Николаевичу Оленину.
От библиотекаря коллежского советника и кавалера Ивана Крылова.
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ.
Вашему превосходительству известно, сколь число книг в Российском отделении Императорской публичной библиотеки умножилось, так что уже мало остается сделать приобретений для укомплектования сего собрания изданиями, вышедшими до 1811 года; но с количеством возросла также и трудность как в содержании в порядке книг, так и в приготовлении чистым письмом карточек для составления каталогов, притом находится множество и других занятий по сей части, как Вашему превосходительству небезызвестно. А как я нахожусь по Русскому отделению один, то при всем моем усердии не могу выполнить всего, что требуется для содержания оного в совершенном порядке — и тем более, что с беспрестанным получением новых книг и труд в исправлении службы возрастает. Почему и нахожу нужным представить Вашему превосходительству, дабы благоволено было в помощь мне определить писца — и нашел, что для сего может быть способен губернский секретарь Быстрое, который желает определиться для таковой должности в Императорскую публичную библиотеку, что и представляю на благоусмотрение Вашего превосходительства.
«Их превосходительство» после многократных настояний удостоили, наконец, утвердить губернского секретаря Быстрова в должности писца, и у Ивана Андреевича появился помощник, которому он смог препоручить добрую половину своих дел.
В «Отрывках из записок моих об И. А. Крылове» Быстров свидетельствует: «Ивану Андреевичу обязан я первыми и некоторыми сведениями моими в библиографии. Советы и наставления его заохотили меня к изучению сей науки. В мае 1829 года Иван Андреевич писал мне: „Пришлите мне мои карточки. Что у вас сделано? Не скучаете ль новою должностью? — Старайтесь, старайтесь, мой милый! Сопиков много трудился, ему и честь. Но не без греха и он, и при ссылках на него будьте осторожны. В чем усомнитесь, спросите Анастасевича…“» Так Крылов обучал своего помощника, прививая ему любовь к библиографии.
3 февраля 1833 года умер Гнедич. Он давно уже болел, а последние недели был совсем плох и слаб. События, последовавшие за разгромом декабристов на Сенатской площади, его сломили. Казнь Рылеева, ссылка в Сибирь Кюхельбекера, Никиты Муравьева и других его друзей, опасение, что и до него самого может дойти мстительный бич правосудия, волновали Николая Ивановича, исподволь подтачивали его здоровье. Гнедич завершил героический труд — перевод «Илиады», труд, над которым он работал более четверти века. В 1829 году «Илиада» была, наконец, напечатана и восторженно встречена. Но силы поэта оказались надломлены.
Теперь он лежал в гробу, исхудавший, с заострившимся, гордым лицом, на котором выступали узором побелевшие шрамы от оспы. В день похорон сияло холодное зимнее солнце, на улицах блестел снег. Гроб с трудом снесли по узкой лестнице и поставили на катафалк. Впереди провожавших шел священник с кадилом, вполголоса бормотавший молитвы, а за ним — Иван Андреевич, Пушкин, семейство Олениных, Жуковский и другие видные литераторы столицы. Родных у Гнедича не было. Иван Андреевич тяжело шагал рядом с Пушкиным. С Гнедичем уходило из его жизни не только прошлое, но и настоящее — откровенные беседы и споры по вечерам, встречи на лестнице, разговоры на службе в библиотеке. Ушел преданный друг, благородный и чистый человек, которому одному Крылов приоткрывал свои истинные думы.
На кладбище священник с дьяконом быстро отслужили панихиду. Гроб опустили в заранее вырытую яму. Ивану Андреевичу первому выпала горькая честь бросить на гроб несколько мерзлых тяжелых комьев земли. Стали расходиться, с тревожным чувством поглядывая друг на друга: при солнечном свете видно было, как все постарели за время, прошедшее с последних встреч.
На обратном пути Пушкин подвез Ивана Андреевича в своей карете. Пушкин рассказал ему, что только что приступил к работе над историей Пугачева, единственного, по его словам, поэтического лица в русской истории. Александр Сергеевич улыбнулся, сверкнув ослепительно белыми зубами, и доверительно сообщил, что он пустился на хитрость и, для того чтобы познакомиться с секретными бумагами о Пугачеве, заявил, что они ему нужны для изучения жизни Суворова. Александр Сергеевич поделился планом задуманной им поездки на Урал по пугачевским местам. В свою очередь, Иван Андреевич вспомнил о детских впечатлениях. Ведь его отец защищал от Пугачева Троицкую крепость, а сам он с матерью пережил трудное время в осажденном Пугачевым Оренбурге. Пушкин с большим интересом слушал рассказы Крылова и попросил разрешения навестить его и записать эти воспоминания, которые ему будут полезны для работы. На углу Невского и Садовой они попрощались. Иван Андреевич с трудом вылез из кареты и медленно поднялся в свою квартиру. Она стала еще более пустынной и осиротевшей после смерти друга. Феничка с обычной воркотней и жалобами принесла ему обед: борщ да кашу. Ее кулинарные способности и охота далее этого не простирались. Сашеньки не было. Она была отдана в пансионат некоей немецкой мадам и там обучалась наукам и искусствам, служащим на пользу молодым девицам.
На могиле Гнедича вскоре был установлен памятник. Среди друзей, подписавшихся на сооружение надгробного монумента переводчику Гомера, в списке жертвователей имена Крылова и Пушкина стояли рядом.
На граните высечен был стих «Илиады», избранный Жуковским: «Речи из уст его вещих сладчайшия меда лилися».
Жизнь шла своим чередом. Теперь пришло новое поколение, которое сложилось в годы безвременья, пустоты, страха. Оно не отвергло прошлого, но еще не обрело будущего, еще не знало путей, которыми надо было идти.
Иван Андреевич не чуждался людей тридцатых и сороковых годов, хотя и плохо понимал их. Для них он оставался памятником прошлого, любимым и уважаемым дедушкой Крыловым. Его они чтили, но отнюдь не помнили, что когда-то он был яростным автором «Почты духов», современником, а во многом и единомышленником Радищева.
Крылову также непонятны были их рассуждения о хозяйстве, экономических вопросах, о политике, сменах министров во Франции, пауперизме. Он хорошо знал многих из декабристов. Мимо него прошли люди возвышенных дум, благородной самоотверженности, душевной чистоты. Они верили в свое назначение, считали своим долгом бороться с деспотизмом, отдать жизнь на благо родины. Они были уничтожены самодержавием — казнены, заточены в сибирские остроги, погибли в рудниках или под пулями горцев непокорного Кавказа. Рылеев, Александр Бестужев, Кюхельбекер, Грибоедов… Он встречался с ними, пожимал им руки. Но они пугали его страстностью, безрассудностью молодости.
Иван Андреевич часто бродил по городу. Особенно он любил захаживать на Дворцовую площадь. Там воздвигался гранитный столп: сновали мастеровые и работные люди. Зимой на площади строили ледяные горы, а летом качели. Качели были круглые, маховые, подвесные, украшенные флагами и пестро раскрашенные. Летом около качелей воздвигали деревянные горы, с которых спускались по покатым желобам на маленьких колясках. Вокруг качелей разбивались шатры: там продавали крепкие напитки, сбитень, квас, пирожки, жареную рыбу, рубцы. Тут же представляли фокусники и дурачились паяцы, выделывая всякие штуки.
Крылову любо было толкаться среди этого веселого, пьяного люда, подслушивать острое, а часто и нецензурное словцо, соленую шутку, смачную прибаутку. Ежели где случалась драка, будочники тут же поливали дерущихся холодной водой из пожарной кишки.
Чаще же всего он отправлялся на прогулку вдоль Гостиного двора, обходя четырехугольник, им образуемый. Сначала он, не торопясь, шел по Суконной линии вдоль Невского. Там продавали шерстяной товар, сукна, бархат. Затем поворачивал по Большой Суровской линии, где торговали шелками и «сурожскими» товарами, полученными из-за Сурожского, Азовского, моря из азиатских стран. Против Суровской линии находился Бабий ряд, или Перинная линия, где торговали пухом, перьями, перинами, подушками одни только женщины. Здесь он особенно любил постоять и погуторить с бойкими торговками, не лезшими за словом в карман. За Бабьим рядом тянулся Мебельный ряд, а напротив него — Банковская линия, где сидели менялы. Иван Андреевич терпеливо осведомлялся у них о курсе на ассигнации и на английские фунты стерлингов и, не торопясь, следовал дальше. Выйдя на Садовую, он завершал свой поход по Зеркальной линии; в лавках там продавался всякий «светлый» товар: женские украшения, галантерея, обувь. Он ничего не покупал, но строго и придирчиво справлялся о ценах. Если шел дождь, он избирал для прогулок второй ярус Гостиного двора.
Купцы и сидельцы не раз его ожесточенно осаждали, выхваляя свои товары. «У нас самые лучшие меха! Пожалуйте-с, пожалуйте-с!» Как-то они схватили за руки Ивана Андреевича и втащили в лавку насильно. Тогда Иван Андреевич решил их проучить.
«Ну, покажите же, что у вас хорошего?» Сидельцы понатаскали ему енотовых, медвежьих мехов, бобровых шкур. Он их развертывал, разглаживал, любовался их отливом. «Хороши, хороши! А есть ли еще лучше?» «Есть-с». Притащили еще. «Хороши и эти! — с видом знатока похвалил Иван Андреевич. — Да нет ли еще получше?» — «Извольте-с, извольте-с!» Еще разостлали перед ним мехов и черно-бурых, и собольих, и песцовых! Так он перерыл всю лавку. «Ну, благодарствуйте, — попрощался он наконец. — У вас много прекрасных мехов, да дороговато!» — «Как, сударь, да разве вам ничего не угодно купить?» — «Нет, друзья, мне ничего не надобно. Я прохаживаюсь здесь для здоровья, а вы насильно затащили меня в вашу лавку!» Таким же образом он поступил и в следующей лавке, куда торговцы также заманили его чуть ли не силком. Зато дальше уже купцы и сидельцы, узнав о проказах дедушки Крылова, лишь улыбались и перешептывались между собой, свободно пропуская его и учтиво кланяясь.
Теперь в летнее время он никуда уже не уезжал из города, а открывал окно в комнате и, положив на подоконник подушку и надев любимый халат, курил трубку или сигару, разглядывая прохожих. Если узнавал кого-нибудь из знакомых, тут же окликал его. В окно влетали голуби, прижившиеся в галереях Гостиного двора, он насыпал им на подоконнике крошек, они заглядывали и в комнаты, оставляя там щедрые следы своего пребывания. Феничка ворчала, иногда прогоняла их метлой, но справиться с ними не могла.
Рано утром мимо его окон к Гостиному двору проходили нищие: бабы с грудными младенцами, а то и запеленатым поленом, благородный чиновник с лицом зеленым и опухшим от алкоголя, но в фуражке с кокардой. На вопросы Ивана Андреевича он рассказал ему запутанную историю своих бедствий. Финские девушки из окрестных деревень ходили попарно и собирали на свадьбу со словами: «Помогай невесте». Проходил и квартальный с большим кренделем в платке, направляясь поздравить гостинодворцев с тезоименитством. Бродил здесь и нищий поэт Петр Татаринов с акростихом на листе белой бумаги, из заглавных букв которого выходило: «Татаринову на сапоги». Приходил и артист со скрипкой и весьма осипшим голосом, лихо наигрывал полонез Огинского. Иван Андреевич всегда выносил ему семишник.
Иногда забредала и толстая Макарьевна, называвшая себя «голубицей оливаной». «Голубица» носила черный подрясник с широким ременным поясом, а на голове иерейскую скуфью. Говорила она иносказательно, все больше священными текстами и занималась лечением купчих в бане разными снадобьями и травами. Иван Андреевич и с ней охотно побеседует, вышлет ей кусок вчерашнего пирога. Так день проходил незаметнее, да и наслушаться можно было всяких диковин!
Приведем относящуюся к середине тридцатых годов неизвестную запись из дневника В. П. Завилейского о его встрече с баснописцем: «Однажды, когда я служил в департаменте Внешней торговли, я встретился с славным нашим баснописцем на Дворцовой площади у Александровской колонны. Колонна стояла тогда вся еще в лесах и закрытая холстом: ее полировали. Подходя к ней, я догнал высокого и массивного на вид человека в коричневом или кофейном сюртуке, с круглою шляпою на голове и с толстою палкою, которая лежала у него на самом изгибе талии, а обе руки его заложены были за палку. Человек этот довольно скоро шел прямо к тому месту пьедестала колонны, откуда начинается лестница и всход на подмостки, я ускорил шаг, человек этот, поставя ногу на первую ступень лестницы, оглянулся, — и я узнал Крылова. Не будучи знаком с ним, я, однако ж, снял почтительно шляпу и поклонился нашему славному поэту. Он так приветливо взглянул на меня, что я влюбился в его ласковую улыбку. Он спросил меня: „И вы тоже наверх?“ Я отвечал: „Да-с!“ Он взял свою палку в правую руку, а левою, как бы приглашая меня, указал наверх. Я пропустил его вперед и шел за ним до самых верхних подмосток. Взойдя на площадку, он остановился и окинул взглядом вокруг. Там, на углах подмосток, сидя на стульях перед столиками, два молодых художника что-то рисовали на больших листах бумаги, наклеенных на досках. Они встали и тоже почтительно поклонились Крылову. Он что-то сказал им, но я не расслышал: тут ветер шумел порядочно. Мы любовались молча видами вдаль и начали спускаться вниз. На половине лестницы Крылов спросил меня: „Вы служите у Канкрина?“ Я был в вицмундирном фраке, и поэтому он узнал министерство, в котором я служу. Я отвечал: „Да-с! Я служу в департаменте Внешней торговли, помощником столоначальника“. Нельзя же было не похвастать перед таким лицом! Знайте, мол, что и я не последняя спица в колеснице. Он сказал: „А, знаю, там славный директор — Бибиков! Знаю!“ Мы сошли на мостовую площади. Крылов пошел на Невский, а я поворотил к Адмиралтейскому бульвару…»
Иван Андреевич часто посещал книжные лавки, тем более что и помещались они в те годы неподалеку — в том же доме Публичной библиотеки на Садовой, почти рядом с его парадным. А книжная лавка Смирдина с 1833 года находилась на Невском. Он долго рылся в старых книгах, перелистывал страницы, любовался старыми гравюрами, приценивался, прижимисто, со вкусом торговался, откладывал понравившиеся книги, но покупал редко.
«Иван Андреевич, — вспоминал впоследствии И. Быстров, — любил читать романы в старинных переводах, и чем роман был глупее, тем он более нравился нашему поэту. В марте 1829 года при первом свидании и разговоре моем с Иваном Андреевичем я увидел на столе его книгу: это, как на другой день узнал я, была повесть под названием: „Похождение задом наперед“. Дорожа и мелкими чертами великого человека, я сохранил собственноручную ко мне записку Ивана Андреевича, в которой он говорит: „Посылаю 27 книг счетом. У меня остались пять книг, да покорно прошу прислать ко мне „Сказки духов“, чем очень одолжите“». Быстров был весьма исполнителен, но совершенно лишен чувства юмора. К этому письму он сделал примечание: «Иван Андреевич не любил медицины и всегда, как только начинал чувствовать себя под влиянием хандры, обращался к чтению нелепых романов. Это было единственное средство к восстановлению его здоровья».
Со вниманием читал Крылов и лубочные издания «нравственно-сатирических» повестушек московского «сочинителя» Александра Анфимовича Орлова. Такие, как «Зеваки на Макарьевской ярмарке», «Родословная Ивана Выжигина, сына Ваньки Каина». Орлов сочинял для мещанского читателя, лакеев, купеческих сидельцев, «сатирические романы», в которых описывались похождения степных помещиков и купчиков на ярмарках и в первопрестольной. Его «романы» были нелепы, юмор их груб и бесцеремонен, но бойкое балагурство делало эти повестушки полезными для баснописца. Александр Анфимович щедро уснащал их взаправдашними сценками ярмарок, драк, а главное — написаны они были тем непринужденным «просторечием», которым изъяснялись его герои и в жизни.
В них можно было прочесть, как говорила тетка Вахрамевна: «Иван Иванович! Анфисочка в летах! Мешкать нечего. Вон век сидят в девках и знатные барышни. Мечутся туда да сюда, а уж как переступит за двадцать, женишки-то и обегают. С пятнадцати лет их тучка, в двадцать одна кучка, в двадцать пять сожмет их в кулачке уж одна ручка, в тридцать сидючка; сорок же лет и весь бабий век!..»
Все это шло на пользу баснописцу, обогащало язык его басен.
Каждая басня стоила много труда. Он работал над ней, как ювелир над драгоценным камнем, с бесконечной тщательностью шлифуя и оттачивая ее грани. Сохранилось множество черновиков, по нескольку редакций его басен, дающих представление о филигранной, трудоемкой работе баснописца. Он целыми днями бормотал про себя начатую басню, пока она не отливалась в безупречную, сжатую форму.
«Иван Андреевич, — свидетельствует М. Е. Лобанов, — любил делать первые накидки своих басен на лоскутках, с которых переписывал на листочки, поправлял и снова переписывал… „Я до тех пор читаю мои новые стихи, — говорил мне Иван Андреевич, — пока некоторые из них мне не причитаются, то есть перестанут нравиться: тогда их поправляю или вовсе переменяю“». Работа над баснями не заканчивалась даже после их напечатания. В новое издание Крылов неизменно вносил поправки.
Басни Крылова рождались из жизни. Часто отдельные события, привлекшие внимание баснописца, какой-либо случай, являлись поводом, толчком для создания той или иной басни. Со временем забывались те случаи, те факты, которые послужили толчком для создания басни, но еще полнее и шире становился ее обобщающий смысл, ее общечеловеческая мораль. Басни не умирали. Каждый находил в них новое значение, применимое к событиям своей жизни, своего времени.
«Он любил сам извлекать правила из самых источников, — писал в своем жизнеописании Крылова его первый биограф М. Лобанов, — и потому-то иногда заглядывал в первообразы этого рода поэзии, и потому-то иногда находили его с Эзопом в руке, скромно отвечающего на вопросы: „Учусь у него“. Отныне надобно учиться у Крылова; но где взять дар его и разум!»
Крылов не боялся обращаться к сюжетам, уже знакомым в басенной традиции. Ведь в басне важно свое, новое истолкование сюжета. А Крылов не только заново открывал, казалось бы, традиционную ситуацию, но и вкладывал в нее новую жизнь, делал басню своей, крыловской. Он вступал в соревнование со своими предшественниками — Эзопом, Федром, Лафонтеном, Сумароковым и Хемницером — и неизменно выходил победителем.
Крылов отбросил все лишнее, тяжеловесное, искусственно-риторическое, что было в баснях его предшественников. Тот же сюжет, тот же басенный образ под пером Крылова, словно волшебством, приобретал жизненную правдивость, прозрачность, точность, полнокровность. В его баснях возникали типические черты характеров, стих достигал эпиграмматической скупости и меткости.
Басни Крылова не навязчивые поучения. Он обладал чудесной способностью создавать наглядную картину, не условную аллегорию, а сценку, полную неподдельного юмора, выхваченную из гущи жизни. Чудо басенного искусства его басня «Муха и дорожные».
В притче Федра — лишь схема басни о хвастливой Мухе, которая, сидя на оглобле, укоряла Ослицу за то, что та идет слишком тихо. У Крылова же типическая бытовая сценка: путешествие провинциальной помещичьей семьи, о которой рассказывается с точно наблюденными подробностями:
В июле, в самый зной, в полуденную пору,
Сыпучими песками, в гору,
С поклажей и семьей дворян
Четверкою рыдван
Тащился.
Даже самым размером, ритмом стиха, его интонацией передает баснописец, как медленно, с трудом тащился этот помещичий рыдван по сыпучим пескам. На первый план выступает изображение нравов помещичьей семьи: барин, ушедший со смазливой служанкой якобы по грибы, барыня, кокетничающая с учителем ее ребят.
Гуторя слуги вздор, плетутся вслед шажком;
Учитель с барыней шушукают тишком;
Сам барин, позабыв, как он к порядку нужен,
Ушел с служанкой в бор искать грибов на ужин…
И хвастунья Муха на фоне всей этой картины кажется не искусственной аллегорией, а необходимой частью провинциальной сценки: Крылов ее метко сравнивает с откупщиком на ярмарке, который развивает там особенно бурную деятельность.
В умении показать «мораль» не в общей, отвлеченной форме, а в жизненном, наглядном преломлении Крылов не только пошел неизмеримо дальше даже великого французского баснописца Лафонтена, но и стал одним из предшественников реализма Пушкина и Гоголя.
Такова и одна из лучших басен Крылова — «Лжец». В ней он наново пересказал сюжет басни Сумарокова — «Хвастун». Но сравните строку за строкой крыловскую басню с басней Сумарокова. Сумароков рассказывает скучно, с ненужными подробностями, тяжелым, косноязычным слогом:
Шел некто городом, но града не был житель,
Из дальних был он стран,
И лгать ему талант привычкою был дан.
За ним его служитель,
Слуга наемный был из города сего,
Не из отечества его.
Вещает господин ему вещанья новы…
И говорит ему: «В моей земле коровы
Не менее слонов…»
Как после этих грузных строк, с однообразным, хромающим ритмом, с их книжной интонацией, по-разговорному живо, насмешливо звучат крыловские басни!
Из дальних странствий возвратясь,
Какой-то дворянин (а может быть, и князь),
С приятелем своим пешком гуляя в поле,
Расхвастался о том, где он бывал,
И к былям небылиц без счету прилыгал…
Тут нет ни скучного «служителя», ни ненужных деталей. А главное — все так наглядно, доходчиво! Самый лжец у Крылова не сумароковский «некто», а аристократический лоботряс. Он не только враль, но и космополит, огульно осуждающий все отечественное.
«Нет, — говорит, — что я видал,
Того уж не увижу боле.
Что здесь у вас за край?
То холодно, то очень жарко,
То солнце спрячется, то светит слишком ярко.
Вот там-то прямо рай!
И вспомнишь, так душе отрада!
Ни шуб, ни свеч совсем не надо:
Не знаешь век, что есть ночная тень,
И круглый божий год все видишь майский день.
Никто там не садит, не сеет,
А если б посмотрел, что там растет и зреет!»
В своем беззастенчивом хвастовстве крыловский Лжец утверждает, что видел в Риме огурец величиною с гору. Приятель, желая его проучить, в свою очередь, рассказывает о чудесном свойстве моста, по которому они должны перейти реку:
Однако ж, как ни чудно,
А все чуден и мост, по коем мы пойдем:
Что он Лжеца никак не подымает;
И нынешней еще весной
С него обрушились (весь город это знает)
Два журналиста да портной.
Даже такие подробности, как то, что жертвами своей лжи оказались журналисты и портной, у Крылова не случайны, а полны легкой иронии. Ведь профессия журналиста в то время обычно сопряжена была с преувеличением, а то и прямой ложью, так же как и профессия портного, обманывающего клиентов в сроках пошивки. А сколько здесь щедрого юмора, как смешно изворачивается Лжец, стараясь преуменьшить объемы чудесного огурца, который постепенно достигает размеров дома («Гора хоть не гора, но, право, будет с дом»), а затем и самый дом становится необычно маленьким («В один двоим за нужду влезть»). В конце концов Лжец полностью выдает себя, трусливо предлагая:
«Послушай-ка, — тут перервал мой Лжец, —
Чем на мост нам идти, поищем лучше броду».
Басни Крылова хороши тем, что он не докучает читателю навязчивой моралью, не делает из басни аллегорию. Его басня — смешная, искрящаяся юмором сценка, а ее персонажи кажутся нам хорошо знакомыми. Даже его басенные звери, передавая отрицательные черты людских характеров, не условные, сказочные фигуры, они сохраняют естественный облик.
Иван Андреевич всегда рассказывал свои басни с серьезно-простодушным видом, так, чтобы казалось, будто бы он отнюдь не вмешивается в течение событий. «Слон и Моська» начинается с описания уличного происшествия:
По улицам Слона водили,
Как видно, напоказ.
Известно, что Слоны в диковинку у нас, —
Так за Слоном толпы зевак ходили.
И рассказ уже начат, так естественно, словно сам баснописец просто говорит читателям о том, что довелось ему увидеть на улице. Поэтому и выбежавшая откуда-то навстречу Моська — обычная дворовая шавка:
Отколе ни возьмись, навстречу Моська им.
Увидевши Слона, ну на него метаться,
И лаять, и визжать, и рваться;
Ну, так и лезет в драку с ним.
Как выразительно передает Крылов этот визгливый, надоедливый собачий лай, пользуясь звукописью, почти звукоподражанием: лаять, визжать, рваться… лезет в драку… Так и слышится задорный и хриплый лай. Однако этот лай не действует на Слона, который не замечает визготни шавки.
«— Соседка, перестань срамиться, —
Ей шавка говорит, — тебе ль с Слоном возиться?
Смотри, уж ты хрипишь, а он себе идет
Вперед
И лаю твоего совсем не примечает».
Тут баснописец и кладет последний штрих, который по-новому освещает всю картину и делает ее не просто зарисовкой обычной уличной сценки, а басней.
«Эх, эх! — ей Моська отвечает: —
Вот то-то мне и духу придает,
Что я, совсем без драки,
Могу попасть в большие забияки.
Пускай же говорят собаки:
„Ай Моська! Знать, она сильна,
Что лает на Слона!“»
Эта реплика ничтожной и глупой Моськи не только раскрывает ее мелкое тщеславие, но и приобретает широкий смысл, становится «моралью» басни, ее душою (хотя никакого прямого поучения в ней и не содержится). Здесь заклеймены мелкое тщеславие, зависть, стремление добиться любым средством популярности, обратить на себя внимание. Крыловские Слон и Моська стали нарицательными.
Баснописец, казалось, не знал трудностей. Он мог передать пение соловья, его чудесные переливы.
Тут Соловей являть свое искусство стал:
Защелкал, засвистал
На тысячу ладов, тянул, переливался,
То нежно он ослабевал
И томной вдалеке свирелью отдавался,
То мелкой дробью он по роще рассыпался.
В самих звуках слышится соловьиное пение. Он умел передать подлинный народный говор, разговор мужиков — всамделишный, не нарочитый, а выхваченный из жизни. Вот в басне «Два мужика»:
«— Здорово, кум Фаддей!» — «Здорово, кум Егор!»
— «Ну, каково, приятель, поживаешь?»
— «Ох, кум, беды моей, что вижу, ты не знаешь!
Бог посетил меня: я сжег дотла свой двор
И по миру пошел с тех пор».
В баснях Крылова сказался и опыт его как драматурга, автора комедий. Белинский сравнивал крыловские басни с «Горем от ума» Грибоедова, а по поводу басни «Крестьянин и Овца» писал: «Это просто поэтическая картина одной из сторон общества, маленькая комедийка, в которой удивительно верно выдержаны характеры действующих лиц и действующие лица говорят каждое сообразно с своим характером и своим званием».
Басня Крылова — маленькая комедия, которую можно разыграть в лицах, настолько каждый персонаж завершен, обладает «характером». Крестьянин по-хозяйски перечисляет свои убытки:
«…Поутру у меня двух кур не досчитались:
От них лишь косточки да перышки остались,
А на дворе одна Овца была».
Показания Овцы простодушно-правдивы: она ни в чем не повинна, и слова ее дышат искренностью:
Овца же говорит: она всю ночь спала;
И всех соседей в том в свидетели звала,
Что никогда за ней не знали никакого
Ни воровства,
Ни плутовства;
А, сверх того, она совсем не ест мясного.
Ясным и убедительным фактам, этим простым, бесхитростным словам противостоит лживая, казуистическая речь Лисы-прокурора, подлинной виновницы исчезновения кур у крестьянина. Самый «приговор» — острая пародия на судейское красноречие с его казенными формулами, лишенными реального содержания:
«Не принимать никак резонов от Овцы:
Понеже хоронить концы
Все плуты, ведомо, искусны:
По справке ж явствует, что в сказанную ночь —
Овца от кур не отлучалась прочь;
А куры очень вкусны…»
Крылов знал множество пословиц. Нередко он просматривал старинный сборник под заглавием «Собрание 4291 древних российских пословиц», который издан был еще в 1770 году.
Иван Андреевич набрел там на пословицу о тщеславной Синице: «Летела Синица море зажигать; моря не зажгла, а славу наделала». Это была дельная пословица. Сколько уж раз доводилось ему видеть таких самонадеянных Синиц, собиравшихся море зажечь, а кончавших позорным провалом!
Народ не любит хвастовства, смеется над хвастунами.
Толчок был дан. Постепенно рождалась басня. Пословица о хвастливой Синице обрастала все новыми и новыми подробностями, приобретала жизненные черты, бытовую конкретность, которая так свойственна крыловским басням. Он представил себе, что бы случилось, если в столице прослышали бы о таком чуде:
Синица на море пустилась:
Она хвалилась,
Что хочет море сжечь.
Расславилась тотчас о том по свету речь.
Страх обнял жителей Нептуновой столицы;
Летят стадами птицы;
А звери из лесов сбегаются смотреть,
Как будет Океан, и жарко ли, гореть.
Крылов едко смеялся и над праздным любопытством и над тем корыстным ажиотажем, который вызвало хвастовство Синицы, над легковерием праздных «охотников таскаться по пирам»:
И даже, говорят, на слух молвы крылатой,
Охотники таскаться по пирам
Из первых с ложками явились к берегам,
Чтоб похлебать ухи такой богатой,
Какой-де откупщик, и самый тороватый,
Не давывал секретарям.
Так несбыточное чудо превратили в весьма прозаическое событие, в возможность для легкой поживы городских тунеядцев. Тем злее сатира Крылова, тем беспощаднее развенчание нелепой затеи Синицы, ее хвастовства и позорного провала. Море не загорелось, и «величавые затеи» кончились тем, что «Синица со стыдом всвояси уплыла».
Многие басни Крылова родились из русских пословиц. Басня «Мот и Ласточка» возникла из пословицы «Одна ласточка весны не делает», басня «Пастух» — из пословицы «На волка слава, а крадет овец Савва». Пословица учила народной мудрости, краткости и точности выражения мысли.
В свою очередь, стихи самого баснописца превращались в пословицы. Такие крыловские слова и поговорки: «А Ларчик просто открывался!», «Что сходит с рук ворам, за то воришек бьют», «Слона-то я и не приметил», «А Васька слушает, да ест!», «Услужливый дурак опаснее врага», «Чем кумушек считать трудиться, не лучше ль на себя, кума, оборотиться», и множество других давно стали пословицами, вошли в сокровищницу русской речи. Крылов щедро отдавал народу взятое у него.
В 1834 году А. Ф. Смирдин выпустил издание басен Крылова. Оно включало восемь книг басен (в последнее прижизненное издание 1843 года вошло девять книг — всего 197 басен). Издание 1834 года осуществлено было в двух томах большого формата с прекрасными рисунками художника Андрея Петровича Сапожникова. Художник глубоко понял реалистический, народный характер басен Крылова, воссоздав в точных скупых рисунках картины русской жизни, создав верное воплощение крыловских образов. Рисунки Сапожникова очень нравились Ивану Андреевичу. Они были высоко оценены и Белинским, который в 1840 году с негодованием отверг коммерческую затею того же Смирдина, издавшего сороковую тысячу басен Крылова с французскими политипажами. Белинский противопоставил им рисунки Сапожникова: «…сколько в этих очерках (то есть рисунках Сапожникова) таланта, оригинальности, жизни! — восторженно писал Белинский. — Какой русский колорит в каждой черте!»
По субботам у Василия Андреевича Жуковского собирались друзья-литераторы. Жуковский был приветлив, шутлив, благодушен. Жил он в одном из зданий Зимнего дворца, именовавшемся Шепелевским домом. Наставник великого князя, Жуковский был близок ко двору и нередко выступал перед царем заступником опальных писателей. Он не раз хлопотал о Пушкине, добиваясь смягчения его участи.
Комнаты Жуковского находились на третьем этаже. С возрастом он отяжелел, и ему стало трудно взбираться. «Жаль, что мы так живем высоко, — жаловался он друзьям, — мы чердашничаем». Кабинет был большой, поместительный, хотя и низковатый. Убран с изящною простотой. Удобные кресла, диванчики, письменные столы, библиотека — все было уставлено так, что тут он мог писать, там читать, а там беседовать с друзьями. На большом письменном столе и в углах комнаты возвышались слепки с античных бюстов, на стенах висели любимые картины и портреты, которые напоминали прошлое и отсутствующих друзей. Особенно любил Василий Андреевич ландшафт немецкого художника Фридриха, изображавший кладбище в лунную ночь. Он и сам был отличным художником, с большой поэтичностью и графической четкостью рисовал пером пейзажи.
В одну из декабрьских суббот 1835 года в кабинете Жуковского собрались писатели: Пушкин, молодой Гоголь, В. Ф. Одоевский, Крылов, только что приехавший из Воронежа Кольцов, друг Пушкина профессор Плетнев.
Впоследствии П. А. Плетнев, вспоминая об этих литературных субботних собраниях, писал: «Здесь и Крылов являлся, как общий друг. Его практический ум и тонкое соображение находили много пищи независимо от приятного развлечения, представляемого разнообразием гостей, любивших его одинаково. Еще заметнее отдавался он игре своего остроумия и любезности по субботам у Жуковского, где отсутствие дам, чтение литературных новостей и большая свобода в отношениях развязывали его всегдашнюю осторожность. Между лучшими русскими писателями, со времен Ломоносова до смерти Пушкина, всегда заметно было искреннее дружелюбие. Ни тени той взаимной зависти, в которой обвиняют соперников. Это низкое чувство никому не знакомо было в их кругу, всегда оставаясь только в низшем слое литературном. Крылов сознавал в Жуковском талант независимый и энергический. Он постоянно сохранял к нему в душе чувство братства и дружбы. Шутя и любезничая с ним, Крылов бывал особенно приятен. Раз на одном из этих вечеров он стал искать чего-то в бумагах на письменном столе. „Что вам надобно, Иван Андреевич?“ — спросили его. „Да вот какое обстоятельство, — сказал он, — хочется закурить трубку; у себя дома я рву для этого первый попадающийся мне под руку лист, а здесь нельзя так: ведь здесь за каждый лоскуток исписанной бумаги, если разорвешь его, отвечай перед потомством“».
В кабинете Жуковского на этот раз обсуждался вопрос об издании журнала. Пушкин совместно с Одоевским и другими своими друзьями хотел начать издание нового журнала, который смог бы противостоять недавно появившейся «Библиотеке для чтения». Ее издавал книготорговец А. Смирдин, а редактировал ловкий, беспринципный журналист Сенковский — Барон Брамбеус.
В Василии Андреевиче чувствовалось турецкое происхождение: лицо было слегка желтовато, широкий короткий череп с высоким лбом, острый профиль, склонность к тучности. При этом мягкость и ребяческая беспечность и доброта, привлекавшие к нему окружающих.
Василий Андреевич предложил поговорить о плане журнала. Он стал бы прибежищем для всех тех писателей, которые не согласны с «коммерческим» направлением «Библиотеки для чтения». Булгарин, Греч и Сенковский захватили в свои руки всю русскую журналистику. Пользуясь покровительством властей, они одни получали право на издание газет и журналов. «Северная пчела» Булгарина задавала тон, раболепно выполняя начертания правительства и неустанно проповедуя любовь к царю и верность заветам религии.
«Библиотека для чтения» грозила стать столь же благонамеренным и реакционным органом, что и «Северная пчела». Первоначально «Библиотека для чтения» предполагалась как издание, широко объединявшее литературные силы тех лет. В ней участвовали и Пушкин, поместивший там «Пиковую даму», и Жуковский, и Крылов. Крылова Смирдин даже уговорил принять участие в редактировании журнала. Когда в середине 1835 года выяснилось, что журналом стал полновластно заправлять Сенковский, Крылов отказался от совместной с ним работы. В заметке, помещенной в «Библиотеке для чтения», деликатно сообщалось: «Еще с мая месяца „Библиотека для чтения“ лишилась лестного руководства, которое принял было на себя знаменитый наш поэт И. А. Крылов. Преклонность лет не дозволила ему продолжать мучительных занятий редактора».
Теперь предполагалось создать новый журнал, который мог бы соперничать с «Библиотекой» и объединить вокруг себя писателей, близких Пушкину и Жуковскому. Времена настали тяжелые. На издание новых журналов разрешения не давалось. Необходимо было непосредственное обращение к царю, на которое надежды также мало. Пушкин предложил издавать альманах, и в первом же выпуске его он собирался печатать «Коляску» Гоголя и свое «Путешествие в Арзрум». Он полагал, что альманах следует назвать «Арион» или «Орион» — именем, не имеющим конкретного значения, чтобы «шуточкам привязаться не к чему». Художнику Лангеру, говорил он, следует поручить нарисовать виньетку — цветочки, да лиры, да чаши, да плющ, как на квартире Александра Ивановича в комедии Гоголя[26]!
Гоголь стоял тут же, облокотившись на кресло. Он был во франтовском синем сюртуке, ярком цветном жилете, по-модному причесан — с коком из белокурых волос. Гоголь держался важно и произнес целую речь. Он говорил о том, что профессор арабской словесности Сенковский и книгопродавец Смирдин, издавая «Библиотеку для чтения», сеют литературное безверие и литературное невежество. Они завлекают себе подписчиков тем, что помещают на обложке журнала список известных имен, многие из которых впоследствии вовсе и не появляются. Журнал исправно выходит первого числа каждого месяца и представляет объемистую, толстую книгу, часто вдвое большую, чем обещано при подписке. «Однако, — продолжал Гоголь, — изящная проза, оригинальная и переводная, печатающаяся в „Библиотеке для чтения“, оказывает очень мало вкуса и выбора. Сам редактор Сенковский переделывает и кромсает все, что печатается в журнале».
Заканчивая свою речь, Гоголь осудил беспринципность «Библиотеки» и ее неразборчивость, которые привели к тому, что из нее ушли Пушкин, Крылов, Жуковский.
Крылов молча сидел на диване рядом с Пушкиным. Грузный, неподвижный, в расстегнутом жилете, он внимательно прислушивался к разговору, и лишь его мохнатые брови медленно шевелились, когда Пушкин стремительно вскакивал с дивана. Они так не походили друг на друга: стройный, с вьющимися волосами, нервным, подвижным лицом Пушкин и обрюзгший, словно сонный, Крылов.
Заговорили о цензуре. Она столь подозрительна, что невозможно стало печатать самые безобидные вещи. Пушкин, смеясь, напомнил конфуз, происшедший недавно с «Библиотекой», когда цензора Никитенко, профессора российской словесности, посадили на гауптвахту. Поэт Деларю напечатал в журнале Смирдина перевод оды Гюго. В ней говорилось о том, что если бы автор был богом, то отдал бы свой рай и ангелов за поцелуй Милены или Хлои. Митрополит пожаловался государю, прося защитить православие от нападок Деларю.
Иван Андреевич пробудился и тут же сочинил экспромт:
Мой друг! Когда бы был ты бог,
То глупости такой сказать бы ты не мог!
Пушкин обнял Крылова и безудержно расхохотался. «Это все равно, — добавил Крылов, — что я бы написал: когда б я был архиерей, то пошел бы во всем облачении плясать французский кадриль». — «А все виноват Федор Глинка, — смеялся Пушкин. — После его ухарского псалма, где он заставил бога говорить языком Дениса Давыдова, цензор подумал, что он пустился во все тяжкое… Псалом Глинки уморительно смешон»[27].
Иван Андреевич разошелся. Веселость Пушкина его подзадорила. Он приподнял нависающие брови и серьезно сказал, что цензура напоминает ему сторожа, что стоит у двери в комнату, в которую запрещено впускать плешивых. «Кто чисто плешив, тому нет входа. Но тот, у кого или лысина, или только показывается на голове как будто такое место, что делать? Тут и наблюдателю и гостю худо. А если наблюдатель трус, то он и примет лысину за плешь».
Все сошлись на том, что надо издавать журнал, бороться с влиянием на читателя Булгарина и Греча. Их раболепное подчинение властям, тесная связь с III отделением, указания которого они холопски выполняют, позорят русскую литературу. Следует объявить войну этим низкопоклонным и беспринципным журналистам, вдобавок выхваляющим и беззастенчиво рекламирующим в газетах и журналах друг друга.
Василий Андреевич, выслушав все толки, обратился к Крылову с просьбой прочитать басенку, которую тот написал, как говорит молва, о Грече и Булгарине. Иван Андреевич долго отнекивался, говорил, что такой басни и вовсе нет, но, наконец, согласился и достал из необъятного фрака маленький, замаслившийся по краям листочек. Это была басня «Кукушка и Петух», недавно им сочиненная, но до сих пор не напечатанная. Благодушно улыбаясь, он очень точно и выразительно передал и осиплый голос Булгарина и скрипучую речь Греча. Басня высмеивала взаимное восхваление несуществующих достоинств Кукушки и Петуха:
За что же, не боясь греха,
Кукушка хвалит Петуха? —
За то, что хвалит он Кукушку.
Все стали поздравлять Ивана Андреевича с превосходной басней. Он же, вынув из кармана огромную трубку, неторопливо набил ее табаком, раскурил и погрузился в кольца дыма.
Покурив, Иван Андреевич признался, что эту басню он задумал, прочтя в «Телескопе» статью Феофилакта Косичкина «Торжество дружбы», едко высмеивавшую взаимные хвалы «братьев-разбойников» — Греча и Булгарина. Только потом он узнал, что этот остроумный памфлет написал Пушкин.
Было поздно. Напудренный лакей в ливрее принес большой поднос с чаем…
Прошло немногим более года, и Пушкин был убит на дуэли с Дантесом. Незадолго перед дуэлью он приезжал к Ивану Андреевичу. Они беседовали о литературе и общих знакомых. Крылов не знал, что видит его в последний раз. Смуглое лицо Пушкина было омрачено каким-то беспокойством, крупные белые зубы, рыжеватые бакенбарды, темные глаза под высоким лбом и кудрявые волосы навсегда запомнились Крылову.
Это была его последняя басня. Ею он как бы прощался со своей полувековой писательской деятельностью. Крылов не захотел напоследок промолчать и высказал в ней все, что думал о современном порядке вещей. Когда-то в «Почте духов» он писал о том, что когда властителю подземного царства Плутону доктора сообщили, что из трех адских судей двое оглохли, а третий лишился рассудка, то властитель подземного царства обратился к бывшему танцовщику Фурбинию, назначенному им начальником над тенями. Фурбиний посоветовал приставить к судьям умного секретаря, который бы вместо них рассматривал дела, а они бы подписывали то, что он им скажет.
Но ведь и сейчас все, как прежде.
Дела в государстве вершатся чиновниками, корыстолюбивыми и недобросовестными, а их начальники, именитые вельможи, лишь им потакают и равнодушно относятся к нуждам народа. Иван Андреевич вернулся к теме юношеской сатиры, назвав басню «Вельможа».
Какой-то, в древности, Вельможа
С богато убранного ложа
Отправился в страну, где царствует Плутон.
Сказать простее — умер он;
И так, как встарь велось, в аду на суд явился.
Тотчас допрос ему: «Чем был ты? где родился?»
— «Родился в Персии, а чином был сатрап,
Но так как, живучи, я был здоровьем слаб,
То сам я областью не правил,
А все дела секретарю оставил».
— «Что ж делал ты?» — «Пил, ел и спал,
Да все подписывал, что он ни подавал».
— «Скорей же в рай его!» — «Как! где же справедливость?» —
Меркурий тут вскричал, забывши всю учтивость,
— «Эх, братец! — отвечал Эак, —
Не знаешь дела ты никак,
Не видишь разве ты? — Покойник был дурак!
Что если бы с такою властью
Взялся он за дела, к несчастью?
Ведь погубил бы целый край!..
И ты б там слез не обобрался!
Затем-то и попал он в рай,
Что за дела не принимался!»
Вчера я был в суде и видел там судью:
Ну, так и кажется, что быть ему в раю!
Когда он захотел напечатать эту басню, цензура ее не пропустила. Ей показалась слишком неблагонамеренной насмешка над вельможами, да и в сатрапе — не приведи господь! — еще кто-нибудь заподозрит царского министра или губернатора! Крылов попытался добиться разрешения непосредственно у Николая I. Он передал басню министру народного просвещения графу Уварову, которого лично знал по оленинскому кружку. Но Уваров не исполнил просьбы баснописца, а рукопись басни даже не вернул. Ему также эта басня представлялась крамольной. Прошло больше года.
Между тем кто-то ее списал, передал другому, тот третьему, и за короткое время басня разошлась в публике в списках. Ее знал весь Петербург. Дошло до того, что воспитанники Пажеского корпуса читали ее на экзамене. Поговаривали, что Крылов назло цензуре, вопреки ее запрещению сам распространил эту басню. Алексей Николаевич Оленин был в большой тревоге и настойчиво советовал баснописцу обратиться к императору, чтобы положить конец слухам.
Иван Андреевич решил подчиниться его настояниям и воспользовался представившимся случаем. В январе 1836 года во дворце устраивался маскарад. Крылов был в числе приглашенных. За несколько дней до маскарада он в мрачном расположении духа сидел в гостиной Олениных.
«Что с вами, дедушка?» — спросила его Варвара Алексеевна. «Да вот беда, — тяжело вздохнул Крылов, — надо ехать во дворец в маскарад, а не знаю, как одеться». — «А вы бы, дедушка, — рассмеялась Варенька, — помылись, побрились, оделись чистенько, вас там никто бы и не узнал!» Иван Андреевич весело рассмеялся на эту шутку своей «фавориточки», но оставался по-прежнему озабочен. Наряжаться для маскарада для него было делом не легким. Только желание осуществить задуманный план заставляло его жертвовать покоем для утомительного и шумного празднества, на котором вдобавок он должен был играть довольно заметную роль.
Выручил его актер Каратыгин, который придумал для грузной фигуры Ивана Андреевича подходящий костюм кравчего[28]. Костюм состоял из старинного русского кафтана, шитого золотом, красных сапог. Крылову подвязали большую серебристую бороду.
На праздник съехался весь аристократический Петербург. По английскому обычаю вечер начался с раздачи праздничного пирога, в котором был запечен боб. Тот, кому доставался этот боб, объявлялся царем праздника. К этому «царю» и должен был обратиться с приветствием баснописец. Иван Андреевич заранее приготовил поздравительную речь в стихах и, тяжело ступая в боярском костюме кравчего, прочел шутливые стихи перед счастливым обладателем заветного боба:
По части кравческой, о царь, мне речь позволь,
И то, чего тебе желаю,
И то, о чем я умоляю,
Не морщась, выслушать изволь.
Желаю, наш отец, тебе я аппетита,
Чтоб на день раз хоть пять ты кушал бы досыта,
А там бы спал, да почивал,
Да снова кушать бы вставал.
Вот жить здоровая манера!
С ней к году, — за то я, кравчий твой, берусь —
Ты будешь уж не боб, а будешь царь-арбуз!
Отец наш, не бери ты с тех царей примера,
Которые не лакомо едят,
За подданных не спят,
И только лишь того и смотрят и глядят,
Чтоб были все у них довольны и счастливы;
Но рассуди премудро сам,
Что за житье с такой заботой пополам,
И, бедным кравчим, нам
Какой тут ждать себе наживы?
Тогда хоть брось все наше ремесло.
Нет, не того бы мне хотелось!
Я всякий день молюсь тепло,
Чтобы тебе, отец, пилось бы лишь да елось,
А дело бы на ум не шло.
Стихи были встречены слышавшим их Николаем I благосклонно: он много смеялся и милостиво обнял Крылова. Это была лесть, но лесть уместная, тактичная. Иван Андреевич рассчитал проницательно. И теперь, когда император одобрил его стихи и весело смеялся, лукавый старик обратился к нему с просьбой разрешить прочесть еще и новую басню. Получив согласие, Крылов вынул из-за обшлага кафтана «Вельможу» и прочел перед всеми присутствующими. Граф Бенкендорф слушал с недовольным видом, но император, не выходя из благодушного настроения, милостиво промолвил: «Пиши, старик, пиши!» Тогда, понимая, что надо ковать железо, пока горячо, Иван Андреевич испросил разрешение эту басню напечатать. Дозволение было дано, несмотря на явное неудовольствие графа Бенкендорфа.
Так в 1836 году в журнале «Сын отечества» появилась эта последняя басня Крылова. Больше Крылов не писал басен. Он сказал все, что мог.
Его страшила возможность самоповторения, ослабления своего таланта. Еще в 1829 году, посылая три новые басни В. А. Олениной, он писал ей: «По крайней мере, чтоб вы не подумали, что я уже совсем поглупел, посылаю к вам трех молоденьких своих деток, примите их поласковей, хотя из дружбы к их папеньке. Не шутя, прочтите мои басни и скажите (если лень вам не помешает ко мне отписать), скажите чистосердечно: намного ли я поглупел и как они в сравнении с прежними моими баснями? Ах, как я боюсь, чтоб не стать архиепископом Гренадским, чтоб мне не сказали: „Point d’homélies, Monseigneur!“[29] Право, мне кажется, я похож на старого танцовщика, который хотя от лет сутулится, а все еще становится в третью позицию».
Теперь жизнь проходила медленно и незаметно. Он спал, курил свои сигары, сидел у окна, наблюдая за проходящей жизнью. Друг Пушкина, профессор Петербургского университета и поэт, Петр Александрович Плетнев оставил о Крылове почтительный и сердечный биографический очерк. С огорчением вспоминает он многочисленные примеры рассеянности, небрежности Ивана Андреевича, пренебрежение им светским этикетом. Ему казалось непонятным и одиозным и то, что Крылов не ценил знаков внимания высокопоставленных особ, и то, что он небрежно одевался, пускал голубей в свою комнату, равнодушно относился к порядку и благоустройству своей квартиры и жизни.
Плетнев рассказывает о сцене, особенно его поразившей: «Раз выпросил он (Крылов) у Оленина дорогую и редкую книгу на дом к себе для прочтения. Это было роскошное издание описания Египта, которое составлено во время кампании Наполеона. Поутру за своим кофе, чтобы разглядеть все яснее, он сел у окна на стуле, который вместе со столиком стоял на приделанном тут возвышении. Положив перед собой огромную книгу и разогнув ее так, что одна половина была на столике, а другая на окне, он, поддерживая левой рукою корешок, любовался прелестными гравюрами, приложенными к тексту. Вдруг он почувствовал, что его стул покачнулся, как будто соскользнувши с возвышения. Усиливаясь сохранить равновесие, Крылов второпях схватил правою рукою за блюдечко чашки с кофе. Чашка опрокинулась на книгу — и разогнутые листы фолианта облиты были кофе. В одно мгновение он бросился в кухню, которая только узеньким коридорчиком отделялась от залы, где произошла беда. Схватив ушат с бывшею в нем водою, он втащил его в залу и, кинув на пол разогнутую книгу, стал поливать ее из ушата».
Плетнев привел этот эпизод для подтверждения «находчивости ума» баснописца. Это, конечно, очень наивно. Но нарисованная им сценка живо передает обстановку, царившую в доме Крылова, к тому же она свидетельствует, что Иван Андреевич отнюдь не ограничивался кормлением голубей и выкуриванием своих сигарок. Он по-прежнему интересовался самыми разнообразными вопросами — историей, искусством.
Крылова уже знала вся Россия. Ласковое прозвище «дедушка Крылов», данное ему народом, было лучшим свидетельством его популярности. Ни одна книга не расходилась в то время в таком количестве, как басни Крылова. Их знали наизусть.
Ему пошел уже семидесятый год. Он был старым мудрецом, равнодушным к суетам и жизненным дрязгам, чуждым тщеславию, зависти, обидам. Он чувствовал себя Эзопом, однако прошедшим более счастливый и благополучный путь жизни.
Друзья баснописца решили ознаменовать пятидесятилетие его литературной деятельности торжественным праздником. Был составлен комитет по проведению юбилея под председательством А. Н. Оленина. Членами его стали В. А. Жуковский, П. А. Плетнев, П. А. Вяземский, В. Ф. Одоевский и В. И. Карлгоф. Решено было в день рождения Крылова, 2 февраля 1838 года, устроить торжественный обед в зале Дворянского собрания. Приглашенных оказалось около трехсот человек.
В назначенный день Плетнев и Карлгоф незадолго до начала обеда поехали за Крыловым. Стихотворец и переводчик Карлгоф — высокий, худощавый господин в очках, с маленькой головой и беспокойными телодвижениями — был преисполнен важности и в почтительном усердии все время именовал Крылова «ваше превосходительство». Они застали Ивана Андреевича одетым в просторный черный фрак, причесанным и чисто выбритым.
«Иван Андреевич, — торжественно произнес Плетнев, — сегодня исполнилось пятьдесят лет, как вы явились посреди русских писателей; они собрались провести вместе этот день, достопамятный для них и для всей России, и просят вас не отказаться быть с ними, чтобы этот день сделался для них навсегда незабвенным праздником».
Крылов спокойно выслушал эту речь и шутливо поблагодарил: «Я не умею сказать, как благодарен за все моим друзьям, и, конечно, мне еще веселее их быть вместе с ними; боюсь только, не придумали бы вы чего лишнего: ведь я то же, что иной моряк, с которым оттого только и беды не случалось, что он не хаживал далеко в море».
В великолепно украшенной и освещенной зале собравшиеся дружно Крылова приветствовали. Был зачитан рескрипт на имя баснописца о пожаловании ему ордена Станислава второй степени. После приветственного слова, произнесенного Олениным, начался обед. Хоры заполнены были нарядно одетыми дамами. Крылов сидел за столом против своего бюста, украшенного лавровым венком. Возле баснописца поместились члены комитета, распоряжавшиеся празднеством. Оркестр заиграл увертюру из «Волшебной флейты» Моцарта.
За обедом произносились тосты. Тост в честь Крылова провозгласил министр народного просвещения граф Уваров. После него слово взял Жуковский. «Любовь к словесности, входящей в состав благоденствия и славы отечества, — сказал он, — соединила нас здесь в эту минуту. Иван Андреевич, мы выражаем эту нам общую любовь, единодушно празднуя день вашего рождения. Наш праздник, на который собрались здесь немногие, есть праздник национальный. Когда бы можно было пригласить на него всю Россию, она приняла бы в нем участие с тем самым чувством, которое всех нас в эту минуту оживляет, и вы, от нас немногих, услышите голос всех своих современников». В заключение своей речи Жуковский напомнил о преждевременной гибели Пушкина, заслужившего славу народную, и пожелал баснописцу продолжать давать те «уроки мудрости», которые «дойдут до потомства и никогда не потеряют в нем своей силы и свежести, ибо они обратились в народные пословицы, а народные пословицы живут с народами и их переживают».
Затем раздался голос знаменитого певца Петрова, который пропел куплеты, сочиненные П. Вяземским и положенные на музыку графом М. Виельгорским:
На радость полувековую
Скликает нас веселый зов:
Здесь с Музой свадьбу золотую
Сегодня празднует Крылов.
На этой свадьбе все мы сватья!
И не к чему таить вину:
Все заодно, все без изъятья
Мы влюблены в его жену.
Длись счастливою судьбою,
Нить любезных нам годов!
Здравствуй с милою женою,
Здравствуй, дедушка Крылов!
После тостов перешли к обеду.
Сохранилось меню этого обеда:
Демьянова уха.
Суп жулиен.
Крыловская кулебяка и пирожки.
Майонез из дичи.
Ростбиф.
Форель под шампиньонами.
Рябчиковые филеи на трюфелях.
Спаржа.
Жаркое — пулярды и рябчики.
Салат.
Желе из vin de cap.
Десерт.
Когда Крылов встал из-за стола и подошел к хорам, чтобы поблагодарить присутствующих, дамы осыпали его цветами и увенчали лавровым венком. Оркестр и хор исполнили победную песнь из оперы «Илья Богатырь». Гром рукоплесканий и серебряный звон бокалов увенчал торжество. Иван Андреевич взял лавровый венок и роздал из него по листку своим друзьям.
В честь юбилея была отлита медаль с профилем Крылова и надписью: «2 февраля 1838 года. И. А. Крылову в воспоминание пятидесятилетия литературных его трудов от любителей русской словесности».
Это была запоздалая победа. Рядом с ним сидели министры, сенаторы, известные писатели. Он был увенчан лавровым венком. Но Иван Андреевич уже знал истинную цену этим бездушным вельможам, самодовольным и спесивым и в то же время ласкательным перед милостью государя. Его поддержка — те люди, которые остались за стенами этого ярко освещенного, празднично убранного зала. Он встречал их на улицах, на базаре, в лавках, на прогулках в Летнем саду. Это были простые люди: мелкие чиновники, слуги, школяры, сидельцы в лавках, бойкие мужички, торгующие на лотках вразнос, а главное — подростки и дети, повторяющие его басни еще до знакомства с грамотой.
Торжества закончились. На следующий же день тот же министр народного просвещения граф Уваров обратился в Цензурный комитет с циркулярным письмом о запрещении печатать сообщение о состоявшемся праздновании:
«Господин министр Народного просвещения приказал известить господ цензоров С.-Петербургского Цензурного Комитета, чтоб ни в одном периодическом издании не было ничего печатаемо о вчерашнем празднике в честь И. А. Крылова без особенного разрешения его превосходительства.
Сим канцелярия Цензурного Комитета по приказанию его сиятельства господина председателя имеет честь сообщить вашему высокоблагородию к должному исполнению.
3 февраля 1838».
Так был скрыт от народа юбилей баснописца. Лишь в специальном ведомственном «Журнале министерства народного просвещения» в отделе «Разные известия» появилась информация о юбилее, да Плетнев напечатал в своем «Современнике» статью «Праздник в честь Крылова», но и она появилась уже спустя много времени.
Друзей становилось все меньше. Давно он похоронил Гнедича, Пушкина, Дмитриева, Рахманинова, Силу и Лизаньку Сандуновых!.. Умерла вскоре после его юбилея добрая и приветливая Елизавета Марковна Оленина — оборвалась еще одна нить, связывавшая его с жизнью. Умерла и сварливая Феничка, последнее время жившая с Сашенькой отдельно от него. Сашенька вышла замуж, у нее самой были две маленькие дочки. Он изредка навещал их, привозил конфеты и пряники, читал им свои басни.
Дома его ждало одиночество, неприютство.
Жизнь уходила. Он старел. Ему надобно было все меньше и меньше. Еще в 1830 году Иван Андреевич написал басню «Белка». Это была басня о нем самом, басня о царской милости и безрадостной старости.
У Льва служила Белка,
Не знаю, как и чем; но дело только в том,
Что служба Белкина угодна перед Львом;
А угодить на Льва, конечно, не безделка.
За то обещан ей орехов целый воз.
Обещан — между тем все время улетает;
А Белочка моя нередко голодает
И скалит перед Львом зубки свои сквозь слез…
В заключение басни Крылов с горечью говорил:
Вот Белка, наконец, уж стала и стара
И Льву наскучила: в отставку ей пора.
Отставку Белке дали,
И точно, целый воз орехов ей прислали.
Орехи славные, каких не видел свет;
Все на отбор: орех к ореху — чудо!
Одно лишь только худо —
Давно зубов у Белки нет.
Басня была столь недвусмысленна, что цензор побоялся ее пропустить без специального решения Цензурного комитета.
Среди немногих сверстников, оставшихся с екатерининских времен, Иван Андреевич сохранил добрые отношения со старым вельможей и любезником Александром Михайловичем Тургеневым. Тургенев когда-то содействовал поступлению Крылова учителем в семью Голицыных. Александр Михайлович жил теперь на покое и писал мемуары. Он славился хлебосольством. У него была превосходная кухарка, прожившая в доме почти полвека, и он любил накормить всласть.
Обедали здесь рано, в пять часов. Иван Андреевич аккуратно появлялся в половине пятого. Перед обедом он обыкновенно прочитывал две-три басни, послушать которые собирался весь дом: и дети и дворня. Лучше всего выходила у Крылова «Демьянова уха». После чтения Иван Андреевич водворялся в кресло и, если обед запаздывал, осторожно заглядывал в свой великолепный брегет. Но вот наступала торжественная минута: дверь в столовую раскрывалась, и доносился голос: «Обед подан». Иван Андреевич с необыкновенной легкостью подымался и решительно направлялся в столовую, как человек, готовый, наконец, приступить к работе. Перед Иваном Андреевичем ставилась глубокая тарелка с ухой и другая — с расстегаями. За обедом он не любил говорить, лишь время от времени похваливал понравившееся ему блюдо: «Александр Михайлович, — ласково прищурясь, говорил Крылов, — а Александра-то Егоровна какова! Недаром в Москве жила! Ведь у нас здесь такого расстегая никто не смастерит! — и ни одной косточки! Так на всех парусах через проливы в Средиземное море и проскакивает. — Крылов ударял себя при этом ниже груди. — Уж вы, сударь мой, от меня ее поблагодарите. А про уху и говорить нечего — янтарный навар… Благородная старица!»
Телячьи отбивные котлеты обычно бывали громадных размеров — еле на тарелке умещались. Крылов брал одну, затем другую, приостанавливался и, окинув взором обедающих, быстро производил математический подсчет, а затем решительно тянулся за третьей… «Ишь, белоснежные какие! Точно в белокаменной!» Громадная жареная индейка вызывала его неподдельное восхищение. «Жар-птица! — твердил Крылов, — у самых уст любезный хруст… Ну и поджарила Александра Егоровна! Точно кожицу отдельно и индейку отдельно жарила. Искусница!..»[30]
Вина Иван Андреевич пил мало, но сильно налегал на квас. Наконец обед кончался, и Крылов грузно опускался в кресло и погружался в блаженную дремоту.
Он стал тяжело чувствовать свою старость. Тело казалось непомерно грузным, ноги словно налиты свинцом, голову сжимал тугой обруч. Он уже не писал: было трудно работать, мысли не шли. Много спал.
Однообразие своей жизни Крылов порой скрашивал почти детскими фантазиями и чудачествами. М. Лобанов рассказывает: «Иногда, будучи при деньгах, Крылов позволял себе, как дитя, забавные фантазии. Некогда собирал он картины и редкие гравюры, потом сбыл гравюры все до одной; картины, однако ж, сохранились до самой кончины… Однажды наскучила ему чернота и неопрятность его быта; он переменил почерневшие от времени рамки всех своих картин, завел новую мебель, купил серебряный, богатый столовый сервиз; пол устлал прекрасным английским ковром, купил у Гамбса лучшую горку красного дерева за 400 рублей, наставил на нее множество прекрасного фарфора и хрусталя, завел несколько дюжин полотняного и батистового белья. Показывая мне расходную свою книжку: „Вот посмотрите сами, — говорил он, — это стоит мне более 10 000 рублей“. И несколько лишь дней все это было в порядочном виде. Недели через две вхожу к нему и что же вижу? На ковре насыпан овес: он заманил к себе в гости всех голубей Гостиного двора, которые пировали на его ковре, а сам он сидел на диване с сигаркою и тешился их аппетитом и воркованьем. При входе каждого голуби с шумом поднимались, бренчали его фарфоры и хрустали, которые, убавляясь со дня на день, наконец вовсе исчезли, и на горке, некогда блиставшей лаковым глянцем, лежала густая пыль, зола и кучи сигарочных огарков. А ковер? О ковре не спрашивайте: голуби привели его в самое плачевное состояние. К числу этих роскошных затей принадлежит и сад, в который однажды ему вздумалось превратить свою квартиру. Он купил до 30 кадок с деревьями, лимонными, померанцевыми, миртовыми, лавровыми и разными другими, и так заставил свои комнаты, что с трудом проходил и ворочался между ними. Но этот эдем его, оставленный без надзора и поливки, завял, засох и в короткое время исчез».
Он не был Дон-Кихотом, принимавшим видения своей фантазии за действительный мир, одержимым идеей добра. Крылов скорее походил на Санчо Пансу с его мужицкой смекалкой, практичностью, лукавым добродушием. Но ведь и Санчо Панса преданно следовал за Дон-Кихотом и отстаивал справедливость.
Жизнь была прожита. Это была долгая, нелегкая жизнь.
Она научила его осторожности. Чернокожий и гугнивый Эзоп погиб, потому что говорил правду и высмеивал своих хозяев. Иван Андреевич уцелел. Уцелел, потому что сумел переждать бурю, укрылся в пустынных залах библиотеки, спрятался под маской ленивого чудака. Но он не изменил идеалам своей молодости, не отвернулся от народа. И народ признал его своим, назвал дедушкой Крыловым.
Иван Андреевич хотя и не часто теперь бывал в обществе, но и не избегал его. Он любил слушать разговоры, встречать незнакомых, новых людей, пытливо всматриваться в их лица. В литературе появились сыновья духовных чинов, чиновники, разночинцы. Интересовались теперь не изящной словесностью, а науками: химией, политической экономией, физикой, ботаникой, географией. Разговоры велись мудреные, иногда даже не очень понятные Ивану Андреевичу.
Охотно посещал он вечерние собрания у князя В. Ф. Одоевского, с которым был давно знаком, хотя раньше редко встречался. Как-то его пригласили затем, чтобы познакомить с молодым критиком из московских студентов, недавно переехавшим в Петербург. О нем начали говорить и весьма его хвалили.
Когда Иван Андреевич приехал к князю, гости уже собрались. Они теснились в его большом кабинете, заставленном необыкновенными столами и столиками, таинственными ящичками и шкафами. Книги, казалось, заполняли все остальное пространство: книги на стенах, на окнах, на диванах, на полу, в старинных пергаментных переплетах. Сам хозяин стоял посреди комнаты в странном наряде и остроконечном шелковом колпаке на голове, делавшем его похожим на астролога. Среди гостей выделялся Жуковский. Он сидел на диване рядом с Вяземским и, наклонив голову, слушал его рассказ. Тонкие, жидкие волосы всходили косицами на совсем почти лысый череп Василия Андреевича. Тихая благость светилась в углубленном взгляде его темных задумчивых глаз. В углу сидел на стуле человек небольшого роста, сутулый, с неправильными, но приятными чертами лица и нависшими на лоб белокурыми волосами. Это и был Белинский.
Иван Андреевич уселся неподалеку и, удобно устроившись, стал прислушиваться к разговорам. На вопрос франтовски разодетого господина с холеными усами и эспаньолкой, оказавшегося литератором Панаевым, о его здоровье Белинский, махнув рукою, пожаловался: «Рука отекла от писанья… Я часов восемь сряду писал не вставая. Говорят, я сам виноват, потому что откладываю писанье свое до последних дней месяца. Может быть, это правда, но взгляните, бога ради, сколько книг мне присылают… и какие еще книги — азбуки, сонники, грамматики, гадальные книжонки! Другое дело — писать об Иване Андреевиче, — резко повернулся он к Крылову. — Иван Андреевич больше всех наших писателей кандидат на никем еще не занятое на Руси место народного поэта. Он им сделается тотчас же, когда русский народ весь сделается грамотным народом».
На вечере присутствовал и молодой Тургенев. Он лишь недавно окончил свое образование за границей и появился в столичных гостиных. Высокий, стройный, с изящными движениями, он привлекал к себе общее внимание. Впоследствии Иван Сергеевич, вспоминая об этом вечере, писал: «Крылова я видел всего один раз — на вечере у одного чиновного, но слабого петербургского литератора. Он просидел часа три с лишком неподвижно между двумя окнами — и хоть бы слово промолвил! На нем был просторный поношенный фрак, белый шейный платок; сапоги с кисточками облегали его тучные ноги. Он опирался обеими руками на колени и даже не поворачивал своей колоссальной, тяжелой и величавой головы; только глаза его изредка двигались под нависшими бровями. Нельзя было понять: что он, слушает ли и на ус себе мотает или просто так сидит и „существует“? Ни сонливости, ни внимания на этом обширном, прямо русском лице, а только ума палата, да заматерелая лень, да по временам что-то лукавое словно хочет выступить наружу и не может — или не хочет — пробиться сквозь весь этот старческий жир… Хозяин, наконец, попросил его пожаловать к ужину. „Поросенок под хреном для вас приготовлен, Иван Андреевич“, — заметил он хлопотливо и как бы исполняя неизбежный долг. Крылов посмотрел на него не то приветливо, не то насмешливо… „Так-таки непременно поросенок?“ — казалось, внутренне промолвил он, грузно встал и, грузно шаркая ногами, пошел занять свое место за столом».
Служить ему было уже трудно. Ему исполнялось семьдесят два года. И с 1 марта 1841 года Крылов ушел в отставку. В распоряжении министра народного просвещения по этому случаю отмечалось:
«Библиотекарю Имп. Публичной Библиотеки,
Это была милость и благотворение. Но она пришла так же поздно, как и орехи, которыми была награждена в крыловской басне Белка, потерявшая все зубы!
Выйдя в отставку, Иван Андреевич переехал в дом купца Блинова на Первую линию Васильевского острова. Квартира его находилась в первом этаже.
Сашенька была замужем за чиновником, служившим в штабе военно-учебных заведений, — К. С. Савельевым. Ее старшей дочери Наденьке теперь было лет шесть. Каллистрат Савельевич оказался усердным чиновником, добрым человеком и хорошим отцом. Иван Андреевич помогал своей «крестнице» и ее детям. Начальник штаба военно-учебных заведений — Яков Иванович Ростовцев, хорошо знакомый ему по Английскому клубу, покровительствовал почтительному и услужливому подчиненному. Скромное будущее «крестницы» было обеспечено.
На новую квартиру Крылов перевез и семейство «крестницы», удочерив ее. Теперь в доме стало люднее, веселее. Около него играли внучки. Он учил их грамоте. Прослушивал заданные им уроки музыки.
Болезнь пришла, как всегда, неожиданно. Всю жизнь Крылов пользовался завидным здоровьем. Он никогда серьезно не болел, если не считать паралича, перенесенного им в 1823 году. Как-то к случаю Яков Иванович Ростовцев напомнил ему о бывшем когда-то параличе и спросил, не мнителен ли он. Иван Андреевич рассмеялся: «А вот я что-то расскажу вам, и вы узнаете, мнителен ли я? Давно как-то, уж не помню сколько лет тому назад, я почувствовал онемение в пальцах одной руки. Показываю ее доктору и спрашиваю, что бы это значило. Вот, как вы же, он наперед и выведывает у меня: не мнителен ли я? „Нет“, — говорю. „Так с вами, — сказал он, — может сделаться паралич“. — „Да нельзя ли как отвратить эту беду?“ — „Можно: вам надобно во всю жизнь не есть мясного и вообще быть осторожным“. — „Вы, без сомнения, — спросил Я. И. Ростовцев, — строго исполняли это?“ — „Да, исполнял месяца два!“ — „А потом?“ — „А потом нисколько и не думал об этом, как сами, конечно, заметили. Вот как я не мнителен“», — заключил Крылов. Этот разговор передал со слов Ростовцева друг и биограф баснописца — П. А. Плетнев.
В конце 1843 года Иван Андреевич просмотрел корректуру нового издания своих басен. Теперь они выходили в девяти книгах. Там были собраны все басни, которые он когда-либо написал, за исключением басни «Пестрые овцы».
Еще днем он был здоров. К вечеру приказал приготовить себе кашу из протертых рябчиков с маслом. Иван Андреевич по-прежнему любил сытно поужинать, говоря, что от ужина он откажется только тогда, когда не сможет и обедать. Как и обычно, он поиграл с детьми, подремал после обеда. Поговорил с домочадцами о покупке дома, здесь же, на Васильевском, около Тучкова моста. Из окон этого дома видна была Нева, имелся небольшой садик. Иван Андреевич с удовольствием рассказывал о своих планах. Прямо из кабинета он хотел даже сделать дверь на балкон с крыльцом в сад: тогда бы он мог проводить много времени в саду, на воздухе.
Но наутро Крылов почувствовал себя плохо. Послали за врачом. Все принятые меры не помогли. Иван Андреевич быстро слабел, но не унывал, сохраняя спокойствие и свойственный ему юмор. Смерть не пугала его. Жизнь была позади. С добродушной усмешкой Иван Андреевич рассказал свою последнюю притчу. Эта притча была о нем самом. Со слов Я. И. Ростовцева ее записал М. А. Корф: «Когда я, — сказал Крылов, — еще в первой моей молодости был в Оренбургской губернии, мне попался как-то денщик очень хороших свойств, но всегда чрезвычайно угрюмый. На расспросы мои, отчего бы это происходило, он сознался, что горюет о настоящем своем положении сравнительно с прежним. „Да зачем, братец! Ведь служба царская тоже дело хорошее“. — „Оно так, но теперь я гол как сокол, а тогда был человеком богатым: моя семья жила в деревне над озером, где водилось рыбы без счету. Бывало, наловишь ее, да навалишь на воз пудов четыреста и зашибешь хорошую копейку!“ — „С умом ли ты: можно ли навалить на один воз четыреста пудов?“ — „Да ведь рыба-то была сушеная!“ Так и я, братец Яков Иванович, вообразил, видно, что каша сушеная, да и наклал ее себе свыше меры.»
На другой день Крылов попросил, чтобы ему дали любимую книгу, сопровождавшую его в превратностях жизни, — басни Эзопа. Когда принесли старый, засаленный томик с подклеенными страницами, Иван Андреевич слабеющей рукой стал перелистывать «Эзопово житие», всегда трогавшее его многочисленностью злосчастий и неудач, которые пришлось претерпеть древнему баснописцу. Он перечел последние страницы. В них рассказывалось, как Эзоп прибыл в Дельфы, рассчитывая познакомиться там со «славнейшими философами и мудрыми людьми», но нашел лишь мелких завистников и сребролюбцев. Тогда Эзоп обратился к ним с речью: «Любопытство приезду моего сюда, — с трудом читал Крылов, водя пальцем по строкам, — подобно у моря стоящему человеку, который, нечто по морю плывущее издали увидя, за какую-нибудь важную вещь почитает, а как сие чаемое чудо к берегу приплывет или ветром принесено будет, то человек с сожалением рассмотрит, что сия диковина куча травы или от людей в воду брошенные обноски». Эта притча привела в ярость знатных начальников, и они сговорились его убить, чтобы в других местах он не разгласил правды о них и их городе. Эзопу незаметно подложили в сундучок золотую чашу из дельфийского храма, а затем облыжно обвинили в краже священного сосуда. Согласно решению суда его приговорили к казни: «…Его с превысокой каменной горы столкнули, откуды летящее тело его в мелкие части разбилось». Иван Андреевич дочитал до конца. Таков удел всех тех, кто говорит правду. Его самого не сбрасывали с высокой скалы, и он дожил до семидесяти пяти лет, но и ему пришлось сносить несправедливость и ненависть.
Он все больше слабел. Сознание затуманилось. Перед глазами мелькала высокая скала с острыми каменными ребрами. Со стоном он пожаловался: «Тяжко мне!» — и впал в забытье. Сделался, как тогда говорили, «антонов огонь» — заражение крови. Иван Андреевич приказал перенести себя в кресла, попрощался с домашними, оставил последние распоряжения Я. И. Ростовцеву, назначив его своим душеприказчиком.
Около восьми часов утра следующего дня, 9 ноября 1844 года его не стало.
По сделанному заранее распоряжению Крылова Я. И. Ростовцев, как душеприказчик покойного, вместе с извещением о похоронах направил друзьям и знакомым Крылова экземпляр нового издания басен в траурной обертке. На заглавном листе было напечатано:
НА ПАМЯТЬ ОБ ИВАНЕ АНДРЕЕВИЧЕ.
Книга продолжала жить и после смерти баснописца. Жива она и сейчас.
Погребение было назначено на 13 ноября. Однако возникло затруднение: на торжественных траурных щитах, украшающих катафалк, принято было помещать дворянский герб. Но у сына скромного армейского капитана, выслужившегося из солдат, такого герба не было. После долгих хлопот и споров решили нарисовать на щитах лавровые венки. Так лавр поэта победил геральдических львов и тигров.
Согласно подробному отчету, помещенному в «Северной пчеле», отпевание и вынос тела писателя происходили в Исаакиевском соборе: «К выносу тела в девять часов утра собрались в Адмиралтейскую церковь св. Исаакия Далматского государственные сановники, ученые, литераторы, дамы, сколько могли вместиться в церкви». Царское правительство даже теперь, после смерти Крылова, попыталось отгородить его от народных масс блеском генеральских мундиров, начальственной важностью чинов, роскошью и церемониалом погребального обряда. «Гроб вынесли из церкви и поставили на дроги, — захлебывалась от восторга и почтительности „Северная пчела“, — гг. военные генералы и первоклассные государственные чиновники…»
Но хищные «львы» и «волки», которых ненавидел и обличал всю жизнь баснописец, все-таки не смогли заслонить его от народа. За стенами собора траурный кортеж встречен был огромной толпой, молча последовавшей за процессией, умножаясь в числе по мере приближения к Александро-Невскому кладбищу. Даже благонамеренный хроникер «Северной пчелы» не мог не отметить, что «Будущее поколение, знающее наизусть поучительные рассказы дедушки Крылова, студенты здешнего университета окружали гроб, поддерживали балдахин и несли ордена. При сопровождении гроба в Александро-Невскую лавру множество народу следовало за печальною процессией и встречало ее на улицах. Отцы и матери провожали добродушного наставника своих детей; дети оплакивали своего любимого собеседника и учителя, весь народ прощался с своим писателем, равно для всех понятным, занимательным и поучительным».
Другой свидетель похорон — Плетнев — указывает, что «народ, столпившийся при погребальном шествии, занял весь Невский проспект». Такой народной демонстрации не было со смерти Пушкина.
Крылов погребен был рядом со своим другом Н. И. Гнедичем.
Вскоре после смерти баснописца Гоголь сказал о нем слова, которые навсегда остались в памяти потомков, как надпись, высеченная на граните: «Его притчи — достояние народное и составляют книгу мудрости самого народа».
1769, 2 февраля (13 н. ст.)[31] — В Москве, в семье капитана Андрея Прохоровича и его жены Марии Алексеевны Крыловых родился Иван Крылов.
1769–1774 — Жизнь на Урале, в Яицком городке и Оренбурге.
1775 — А. П. Крылов выходит в отставку, и вся семья переезжает в Тверь.
1775–1782 — Жизнь в Твери. Отец служит в губернском магистрате Тверского наместничества.
1778, 17 марта — Смерть отца. Поступление подростка Крылова на службу в Тверской губернский магистрат.
1782 — Переезд в Петербург с матерью и братом.
1783 — В сентябре поступает на службу «приказным исполнителем» в С.-Петербургскую казенную палату. Завершена «Кофейница» — комическая опера в стихах.
1784–1785 — Увлечение театром; знакомство с актером И. А. Дмитревским. Написана трагедия «Клеопатра».
1786 — Написаны трагедия «Филомела», комедии: «Бешеная семья», «Сочинитель в прихожей». Первое выступление Крылова в печати: в журнале «Лекарство от скуки и забот».
1787, 1 мая — Поступление на службу в Горную экспедицию. Смерть матери поэта — М. А. Крыловой.
1787–1788 — Написана комедия «Проказники». Написано либретто оперы «Американцы». Разрыв Крылова с Княжниным и ссора с Соймоновым.
1788, 29 мая — Уход из Горной экспедиции.
1789 — Крылов сближается с И. Г. Рахманиновым.
С января по август издает журнал «Почта духов».
1791, 8 декабря — Открытие типографии и книжной лавки «И. Крылова с товарищи» (И. А. Дмитревским, П. А. Плавильщиковым, А. И. Клушиным).
1792 — Издание журнала «Зритель».
1793 — Издание журнала «С.-Петербургский Меркурий».
1797 — Сотрудничество в журнале «Приятное и полезное препровождение времени». Знакомство с князем С. Ф. Голицыным.
1798–1800 — Жизнь у князя Голицына в его имении Казацком в качестве секретаря и учителя детей князя.
1800 — Написана «шуто-трагедия» «Подщипа» («Трумф»), сыгранная в домашнем театре в Казацком.
1800–1801 — Написана комедия «Пирог». Переезд в Ригу в качестве секретаря князя Голицына.
1802, 26 июля — В Петербургском театре поставлена комедия «Пирог». Вышла вторым изданием «Почта духов».
1803, 26 сентября — Крылов увольняется со службы из канцелярии князя Голицына и уезжает из Риги.
1804 — В Москве поставлена комедия «Пирог».
1805—Пребывание в Москве. Первые басни Крылова, переведенные из Лафонтена: «Дуб и Трость», «Разборчивая невеста».
1806 — Переезд в Петербург. Сближение с драматургом князем А. А. Шаховским. 27 июля поставлена на сцене комедия «Модная лавка».
1807 — Написана и в июне поставлена комедия «Урок дочкам». Написаны басни: «Ворона и Лисица», «Ларчик», «Лягушка и Вол», «Оракул», «Пустынник и Медведь», «Крестьянин и Смерть».
1808 — Сотрудничество Крылова в журнале «Драматический вестник». В октябре поступил на службу в Монетный департамент.
1809 — Выход в апреле первой книги басен Крылова.
1811 — Избрание в члены Российской академии. Напечатаны: «Басни Ивана Крылова, вновь исправленные» и «Новые басни Ивана Крылова».
1812, 7 января — Поступление на службу в императорскую Публичную библиотеку помощником библиотекаря Русского отдела. Отклики на события Отечественной войны 1812 года — басни: «Кот и Повар», «Ворона и Курица», «Раздел», «Волк на псарне», «Обоз» и др.
1814, 2 января — Торжественное собрание, посвященное открытию Публичной библиотеки.
1815 — Вышли «Басни Ивана Крылова».
1816 — В марте произведен в библиотекари императорской Публичной библиотеки. Выбран в действительные члены Общества любителей российской словесности при Московском университете.
1819—Вышли «Басни И. А. Крылова» в 6 частях.
1823, в январе — получение золотой медали от Российской академии за литературные заслуги.
1824, 9 июля — Поездка в Ревель.
25 ноября — смерть брата Льва Андреевича.
1825—Вышли «Басни Ивана Крылова» в 7 книгах.
1830 — Вышли «Басни Крылова» в 8 книгах.
1833, 3 февраля — Смерть Н. И. Гнедича.
1834 — Выход двухтомного издания басен с иллюстрациями А. П. Сапожникова.
1838 — Торжественное празднование пятидесятилетнего юбилея литературной деятельности Крылова.
1841 — Выход с 1 марта в отставку со службы в Публичной библиотеке. Утверждение ординарным академиком по отделу русского языка и словесности Российской академии наук.
1843, декабрь — Вышли «Басни И. Крылова» в 9 книгах.
1844, 9 (21 н. ст.) ноября — Смерть И. А. Крылова. Похороны в Александро-Невской лавре.
1855 — Открытие первого памятника И. А. Крылову (работы Клодта) в Летнем саду в Петербурге.
И. Крылов, Басни в девяти книгах. Пб., 1843.
Полное собрание сочинений И. А. Крылова. С биографией его, написанной П. А. Плетневым. Тт. I–III. Пб., 1847.
Полное собрание сочинений И. А. Крылова. Под ред. В. В. Калаша. Тт. I–IV. Пб., 1904–1905, то же 1918.
Полное собрание сочинений И. А. Крылова. Под ред. Д. Бедного, Д. Благого, Н. Бродского и Н. Степанова. Тт. 1–3. М., Гослитиздат, 1944–1946.
Сочинения И. А. Крылова в 2 т. Под ред. Н. Л. Степанова. М., Гослитиздат, 1955.
И. А. Крылов, Басни. Под ред. А. П. Могилянского. М.—Л., изд-во Академии наук СССР, 1956.
А. Пушкин, О предисловии г. Лемонте к переводу басен Крылова. В Собр. соч. Пушкина в 10 т., т. VI. М., Гослитиздат, 1962.
В. Г. Белинский о Крылове. М., Гослитиздат, 1944.
М. Лобанов, Жизнь и сочинения И. А. Крылова. Пб., 1847.
В. Кеневич, Библиографические и исторические применения к басням Крылова. Изд. 2-е. Пб., 1878.
Сборник статей, читанных в Отделении русского языка и словесности имп. Академии наук, т. 6. Пб., 1869.
И. А. Крылов, Исследования и материалы. Сборник статей Института мировой литературы имени А. М. Горького. М., 1947.
С. Дурылин, И. А, Крылов. Краткий очерк жизни и творчества. М., Гослитиздат, 1944.
М. Шагинян, И. А. Крылов. Ереван, Армгиз, 1944.
А. Западов, И. А. Крылов (драматург). М.—Л., 1951.
С. Бабинцев, И. А. Крылов. Очерк его издательской и библиотечной деятельности. М., 1955.
И. Сергеев, И. А. Крылов (биография). М., Детгиз, 1955.
Н. Степанов, Мастерство Крылова-баснописца. М., 1955.
Н. Степанов, И. А. Крылов. Жизнь и творчество. М., Гослитиздат, 1958.
Демьян Бедный, Честь, слава и гордость русской литературы. Собр. соч., т. V. М., Гослитиздат, 1954, стр. 301–307.
А. В. Десницкий, Крылов-баснописец (Этюды о творчестве И. А. Крылова). Ученые записки Ленинградского педагогического института имени А. И. Герцена. Т. VII. Л., 1937, стр. 7—54.
А. В. Западов и В. А. Гофман, Крылов. История русской литературы, том V. Изд-во Академии наук СССР, М.—Л., 1941, стр. 235–266.
В. В. Виноградов, Язык и стиль басен Крылова. Известия Академии наук СССР. Отделение литературы и языка, том IV, выпуск 1. М., 1945, стр. 24–52.
С. М. Бабинцев, И. А. Крылов. Указатель его произведений и литературы о нем. К столетию со дня смерти. 1844–1944. Л.—М., изд-во «Искусство», 1945.
История русской литературы XIX века. Библиографический указатель под ред. К. Д. Муратовой. М.—Л., изд-во Академии наук СССР, 1962.
Архив Государственной публичной библиотеки имени М. Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде. Дела управления Публичной библиотекой. (Служебные письма, доклады и распоряжения.)
Фонд Олениных. Рукописное отделение Государственной публичной библиотеки имени М. Е. Салтыкова-Щедрина. Фонд № 877. (Записи воспоминаний В. А. Олениной, переписка А. Н. Оленина и др.)
Фонд П. Н. Тихонова. Рукописное отделение Государственной публичной библиотеки имени М. Е. Салтыкова-Щедрина. Фонд № 2545. Неопубликованные страницы из книги М. Е. Лобанова «Жизнь и сочинения И. А. Крылова» (Спб., 1847).
Рукописное отделение Института русской литературы Академии наук СССР (Пушкинский дом) в Ленинграде. Фонд И. А. Крылова.
М. А. Корф, Отрывки, заметки и воспоминания о И. А. Крылове. Рукописное отделение Института русской литературы Академии наук СССР (Пушкинский дом). Архив А. В. Никитенко. № 19616. CXXVIII б. 25.
В. А. Завилейский, Записки. Хранятся у И. Л. Андроникова.