Франко Саккетти
Европейская новелла Возрождения
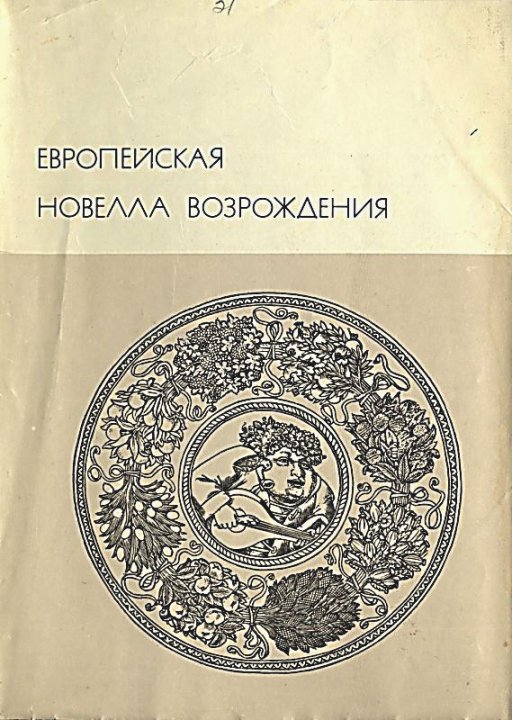
В поисках сколько-нибудь общего определения для новеллы, в отличие от рассказа, краткой повести, бытовой сказки, может помочь связь этого жанра с эпохой Возрождения. Краткое описание одного события или несложной группы событий, связанных единством ясно обозначенного конфликта, действия, немногочисленностью персонажей; событие, поданное в прозе как нечто реально, там-то и тогда-то происшедшее, а между тем и нечто необычное, «unа поvеllа» — «новость» для слушателя или читателя; заострение этой новизны остроумной анекдотичностью, неожиданностью концовки, сразу выводящей за круг устоявшихся и освященных религией нравственно-правовых норм; все это с внутренним одобрением, с утверждением человеческих качеств героя, его избытка энергии, смекалки и изворотливости, помогающих обойти и осмеять подавляющий личность сословно-церковный распорядок жизни, — такова раннеренессансная новелла.
Это один из специфических для литературы Возрождения и замечательно ее характеризующих жанров. Новелла народна по своему происхождению из разных видов позднесредневекового рассказа, расцветавшего в демократических слоях города, а при более благоприятных обстоятельствах, и деревни, причем не только в Европе, но также во многих странах Востока, когда с нарастанием предренессансных процессов раскрепощения личности простой человек осознавал ценность народного опыта и начинал чувствовать себя личностью, способной и достойной наслаждения и мысли. У непосредственных предков новеллы — в устных и записывавшихся повестушках-анекдотах, шванках, фаблио, наконец, в анонимных итальянских рассказах-новостях XIII века, которые и положили начало жанру, сила была заключена в очевидной реальности сообщаемого, способной, по крайней мере в ситуации, описанной в той или иной новелле, противостоять тысячелетним идеологическим устоям феодализма — мифу церкви и мифу рыцарства, а главным оружием был веселый непочтительный смех, с которым утверждались победы ренессансных идеалов.
Новелла была народна не только близостью к демократическим слоям, их стихийно материалистическому здравомыслию и смеховой культуре. Новелла Возрождения оказалась способной выразить и общие интересы народа как основы складывавшихся в антифеодальной борьбе наций. Именно в рамках жанра новеллы впервые было — в «Декамероне» — осуществлено соединение гуманистической культуры, которая складывалась в творчестве Данте, Петрарки и самого Боккаччо, с непосредственно народной культурой. Реалистический характер новеллы Возрождения шел не только и не столько от ее исконной жизненной эмпиричности, сколько от крупномасштабной ренессансной проблематики.
В народности и высокой реалистичности «Декамерона» и ренессансной новеллы, историю которой он открывает, — выступают общие черты культуры Возрождения как таковой. И хотя от такого органического синтеза могли в связи с историческими обстоятельствами и спецификой жанра уклоняться и ученая деятельность гуманистов, и некоторые направления в поэзии, и ренессансно-классицистическая драма, — самые великие достижения литературы Возрождения осуществлялись чаще всего там, где идеи гуманизма сближались с непосредственно народной культурой — у Боккаччо, Ариосто, Рабле, Шекспира, Сервантеса, Лоне.
Ренессансная новелла наибольшего развития достигла в классической стране Возрождения — в Италии и не получила большого распространения там, где Возрождение не осуществилось в завершенных формах. Развитие новеллы на более поздних этапах Возрождения связано не только с ренессансной славой, но и с бедой Италии — с продолжавшейся раздробленностью и преобладанием частных форм выражения гуманистической идеи. В объединенной Франции «Декамерону» соответствовал не ряд — замечательных самих по себе — книг новелл, а роман Рабле. В Англии после блестящего позднесредневекового (хотя в проходившего под влиянием Боккаччо) начинания Чосера, видимо, в силу еще большего развития общественной жизни в национальном масштабе, проблематика Возрождения полнее всего выразилась в драме. В Испании, где частная жизнь была драматизирована и казалась поднятой до общенациональных проблем необходимостью отвоевания страны от мавров, выходом на стрежень великих географических открытий, трагическим полуторастолетним противостоянием народа реакционной монархии Габсбургов, — функции новеллы принимали на себя то романс, то повесть о заморских странах и, наконец, драма. В Испании и в Англии сам термин, la novela, the novel, стал обозначать прежде всего не вид рассказа, а роман, но, сохранив отпечаток своего происхождения, — обозначал роман из реальной жизни, а не роман авантюрный или фантастический.
До начала эпохи Возрождения новое связывалось главным образом с чудесным, странным, необычным. Оно почти не ассоциировалось с происшествиями сегодняшнего дня. В средневековой литературе время как бы не двигалось. Ее читателей не удивляло присутствие рыцарей на казни Христа: время не знало исторических перемен и сразу вливалось в вечность. В первом, еще средневековом, сборнике итальянских новелл (он создан в 80-е годы XIII в. и озаглавлен: «Книга новелл и красивой вежливой речи») рассказывается такой случай: перед началом пира один из рыцарей Фридриха II отправился в дальние страны, совершил там множество подвигов, выиграл три сражения, женился, воспитал сыновей, но когда он вернулся ко двору императора, гости еще не успели усесться за стол. Вся многотрудная жизнь рыцаря оказалась равной мгновению. Средневековое религиозное и аскетическое сознание пренебрегало всем земным, в том числе и земным временем. Однако, собираясь вместе, люди делились новостями о себе, своих друзьях или недругах. В средние века «новелла» соседствовала со сплетней, с волшебной сказкой. Она была фактом быта и устного творчества. Но от фольклора до прозы расстояние огромное. Для того чтобы новости, касающиеся повседневности, приобрели в глазах средневекового человека общественную ценность и начали восприниматься как материал, достойный литературной обработки, потребовались огромные перемены в социальной психологии и в самих условиях человеческого существования.
Одним из первых завоеваний идеологической революции Возрождения стал «Декамерон». Джованни Боккаччо — первый новеллист, которого мы знаем по имени. Его книга дала меру всей ренессансной новеллистике и создала стиль, который вошел в исторический стиль эпохи. «Декамерону» много и долго подражали. Некоторые литературоведы считают теперь, что история возрожденческой новеллы является серией более или менее удачных попыток повторить беспрецедентный успех Боккаччо. Это не так. Читатель сможет в этом убедиться на примере Мазуччо, Ласки, Маргариты Наваррской и других новеллистов, свободно перестраивавших декамероновские сюжеты и ситуации.
Непосредственно следовавшие за Боккаччо новеллисты читали «Декамерон», но не оценили его главных художественных открытий. По своим взглядам они принадлежали к предшествующей «Декамерону» эпохе. О первом из них почти ничего не известно. Мы не знаем даже, что такое «Пекороне», — заглавие книги или фамилия автора, сера Джованни, прозванного Флорентийцем. Обрамление «Пекороне» примитивно: юный Ауректо, оказавшись во Флоренции и прослышав о красоте и добродетелях монахини Сатурнины, влюбился в нее и тоже ушел в монахи. Ауректо и Сатурнина встречаются в монастырском парлаторни, где их разделяет решетка, и рассказывают друг другу новеллы. Много новелл «Пекороне» построено на материале «Флорентийской хроники» Виллани. Сер Джованни оказался не слишком умелым рассказчиком, но попытка ввести в новеллу недавние, почти современные исторические события была новаторской. В новеллу входило время. Правда, пересказы Виллани соседствовали с вневременными анекдотами, но и соседство истории создавало перспективу, придававшую традиционным фабулам иллюзию реального факта. Это было открытие, и в XVI веке его широко использовал Банделло.
Сер Джованни не умел подчинить себе стихию слова, но и его посещали смелые мысли. Идеей его новеллы о рубашке счастливой женщины (Второй день, новелла II) воспользовался Анатоль Франс. В литературе эпохи Возрождения «Пекороне» оставил след. Напечатанная в нашем сборнике новелла легла в основу фабулы «Венецианского купца» Шекспира. Новеллистика Возрождения оказалась арсеналом, вооружившим Шекспира, Лопе де Вегу, Вебстера и других драматургов XVI–XVII столетий.
Наиболее даровитым рассказчиком второй половины XIV века был Франко Саккетти. Он был флорентийцем не только по рождению, но и по складу души. Тогдашняя Флоренция была самым передовым государством Европы. В нем жилось и думалось свободнее, чем где бы то ни было, и, возможно, поэтому ни один из городов Италии не дал миру столько великих художников и поэтов. Саккетти в предисловии к сборнику «Триста новелл» объявил, что следовал «примеру превосходного флорентийского поэта, мессера Джованни Боккаччо», однако опыт «Декамерона» учтен им не был. Саккетти ставил перед собой другие задачи и писал в иной манере. Язык и стиль декамероновского общества казались ему утонченными и неправдоподобно гармоничными. В предисловии он демонстративно называл себя «человеком невежественным и грубым». Автор «Трехсот новелл» был начитан, знал латинских поэтов, много повидал. Однако гуманизм его не затронул. Перед Боккаччо он преклонялся, но в новелле о Коппо ди Боргезе высмеял последователей Петрарки, ошибочно предположив, что новая филологическая ученость уводит от действительности. В сборнике «Триста новелл» говорится о «новых людях», но это не герои новой эпохи, а традиционные шуты или чудаки, попадающие в смешные ситуации. «Новое» в книге Саккетти нередко понимается по-старому. Оно все еще отождествляется с «необычным», однако таким, какое постоянно случается в повседневной жизни. Для читателя XIV века подробности его собственного быта обладали большей новизной, чем фантастика арабской сказки. Саккетти понял это. Он ценил правдивость детали, был наблюдателен, сумел изобразить суматоху флорентийского рынка. По сравнению с «Декамероном» «Триста новелл» могут показаться произведением значительно более правдивым в частностях. Однако сопоставлять Саккетти с Боккаччо не следует. Наибольшие эстетические достижения итальянского Возрождения оказались связанными не с эмпирическим стилем «Трехсот новелл», а с идеализирующим человека стилем ренессанс, художественным стилем гуманизма, великие образцы которого были созданы Петраркой и Боккаччо.
Ренессанс «Декамерона» — это стиль огромных реалистических возможностей. Гуманисты поняли «Декамерон» тоже не сразу. Петрарка, намечая перспективы развития высокой ренессансной прозы, счел необходимым перевести новеллу о Гризельде на латинский язык. На какое-то время это стало традицией. В первой половине XV века новеллы «Декамерона» переводили на латынь Антонио Лоски, Леонардо Бруни, Бартоломео Фацио. Их переводы были экспериментами, для литературы Возрождения необходимыми и важными. Обращение гуманистов к языковым формам древнеримской литературы тогда не мешало, а помогало создавать в феодально раздробленной Италии большой стиль новой национальной литературы.
Однако как раз для новеллы, с ее ориентацией на современность, классическая латынь оказалась малоподходящей. В 1438 году уже упоминавшийся Бруни пересказал народным языком фабулу одной из самых патетических новелл «Декамерона», новеллу о Гисмонде (IV, 1). Однако он все-таки перенес действие в античность и закончил новеллу счастливой развязкой, превратив жестокого салернского принца в великодушного царя Селевка. Бруни хотелось придать новеллистической прозе еще большую ренессансность, чем она имела у самого Боккаччо. Бруни утверждал, что перекроил декамероновскую фабулу только для того, чтобы показать «сколь далеко древние греки превосходили в человечности и благородстве сердца наших итальянцев».
В гущу современности новеллу вернул знаменитый Леоне Баттиста Альберти. В его «Маленькой истории о любви Леоноры де'Бради и Ипполито Буондельмонте» (1470) возникла характерная для литературы Возрождения драматическая ситуация Ромео и Джульетты, которую в начале XVI века с большой поэтичностью разработает рыцарственный Луиджи Да Порто, а затем обессмертит гений Шекспира.
Альберти был архитектором, скульптором, теоретиком искусства, атлетом, философом, драматургом, прозаиком и поэтом, равно свободно владевшим и классической латынью, и языком флорентийских закоулков. Это соответствовало духу времени, но универсальность Альберти поражала даже его современников. Кроме того, Альберти оказался превосходным организатором новой культуры: с одной стороны, он сознательно побуждал гуманистов заниматься народным языком и народной поэзией, а с другой — планомерно приобщал народных художников, все еще живших традициями средневекового ремесла, к гуманистическим концепциям искусства и человека. Он ломал стены, отделявшие народное творчество от филологической учености гуманистов.
Навстречу Альберти из глубин флорентийской демократической культуры поднимались такие гиганты, как скульптор Донателло и архитектор Брунеллеско. Обоих их мы встретим в «Новелле о Грассо». Автор ее не установлен (полагают, что им был Антонио Манетти), но она справедливо считается одним из шедевров новеллистики Возрождения. Подлинно ренессансен ее сюжет. Он построен на шутке-мистификации («бурле»), предметом которой оказывается реально существовавший резчик по дереву. «Бурлы» были среди флорентийских художников делом обычным. Они не однажды давали благодарный материал и для Боккаччо и для Саккетти, к стилю которого примыкает «Новелла о Грассо». Новым по сравнению с Саккетти в новелле оказалась архитектурная виртуозность «бурлы», не случайно приписанной Брунеллеско, создателю купола флорентийского собора, психологическая глубина при изображении растерянности центрального героя, а главное — характер ее несколько жестокого комизма. Брунеллеско заставляет Грассо поверить в то, что тот перестал быть самим собой. В средние века, в латинской поэме Виталия из Блуа, аналогичное недоразумение выглядело просто смешным. В новую эпоху, гуманизм которой отстаивал ценность и индивидуальную неповторимость человеческой личности, забавно-фривольная ситуация плавтовского «Амфитриона» порождала ренессансный смех, утверждающий новые жизненные идеалы. Возможно, именно поэтому читатели XV века охотно верили, что в «Новелле о Грассо» рассказан подлинный случай, хотя им была знакома поэма в народных октавах «Гета и Бирра», восходящая через «Амфитрионеиду» Виталия к Плавту.
«Новелле о Грассо» в XVI веке подражали такие крупные новеллисты, как Ласка и Фортини. Во второй половине XV века «бурла» лежала в основе ряда новелл, написанных народным языком и входящих в народное течение, питающее культуру итальянского Возрождения. Центром этой культуры по-прежнему оставалась Флоренция, формально сохранившая демократический строй, но фактически управляемая купеческой династией Медичи. Лоренцо, прозванный Великолепным, будучи искусным дипломатом, держал в своих руках судьбы всей Италии, но делал вид, что он не тиран, а такой же человек, как все, только имеющий возможности тратиться на украшение родного города. Он дружил с поэтами, писал стихи на народном языке, содействовал учреждению Платоновской Академии, защищал Пико делла Мирандолу от преследований папского Рима, покровительствовал живописцам, среди которых выделялись Боттичелли и юный Микеланджело. Культура стала у Лоренцо частью его политики; но это не помешало тому, что именно при нем флорентийский Ренессанс достиг наивысшей точки.
Душой так называемого кружка Лоренцо Медичи были Анджело Полициано, самый тонкий лирик XV столетия, и Луиджи Пульчи, автор народно-ренессансной эпопеи «Морганте», однако здесь отдавали должное и новой художественной прозе. Полициано оставил «Книжицу» изящных анекдотов-фацеций, написанных уже не на латинском языке, как это было у Поджо, а по-итальянски; Луиджи Пульчи сочинил новеллу, в которой по традиции посмеялся над жителем соседней Слоены, а Лоренцо написал одно из уникальных произведений XV века — «Новеллу о Джакопо».
Излюбленной темой новеллистики Возрождения было лицемерие и сластолюбие монахов. Тема эта пришла из средневековья. Враждебность горожан к монахам определялась условиями бытия. «Причину их яростных нападок на безбрачие духовенства никто так хорошо не объясняет, как Боккаччо»[2]. Однако даже по отношению к осмеиваемым им монахам автор «Декамерона» был несравненно человечнее, нежели средневековые бюргеры. Для гуманистов Возрождения характерен антиаскетизм и сознательное безразличие к спорам о догмах. В то время как на германском Севере готовилась почва для торжества Лютера, который, по словам К. Маркса, «…освободил человека от внешней религиозности, сделав религиозность внутренним миром человека…»[3], на романском Юге «…стало все более и более укореняться перешедшее от арабов и питавшееся новооткрытой греческой философией жизнерадостное свободомыслие, подготовившее материализм XVIII века»[4]. Итальянские гуманисты безбожниками, как правило, не были. Однако в некоторых случаях антиклерикализм итальянских гуманистов принимал весьма радикальные формы. «Новелла о Джакопо» уникальна тем, что само таинство христианской исповеди оказывается главной частью скандально-эротической «бурлы», жертвой которой делается не только придурковатый супруг Кассандры, но и репутация католической церкви. «Новелла о Джакопо» дала сюжетный материал для «Мандрагоры» Никколо Макьявелли; созданный Лоренцо образ брата Антонио предвосхитил фра Тимотео, а заключительная «мораль» новеллы перекликалась с наиболее антирелигиозными максимами из макьявеллевых «Рассуждений о первой декаде Тита Ливия».
Такой силы антиклерикализм можно обнаружить в «Новеллино» Томмазо Гуардати, называвшего себя Мазуччо. Он родился, жил и издал свою книгу, состоявшую из пяти «декад» и содержавшую пятьдесят новелл, в Неаполитанском королевстве, которое во второй половине XV века жестоко враждовало с папским Римом. На «Новеллино» лежит некоторый отпечаток политики Арагонского двора, а также аристократических предрассудков тех часто именитых особ, которым дворянин Томмазо Гуардати посвящал свои «повестушки». Тем не менее выводить «Новеллино» за пределы демократической культуры итальянского Возрождения было бы неправильно. Распри между королем Фердинандом и папской курией дали возможность типографу Франческо де Туппо напечатать в Неаполе эту поразительно смелую книгу, но содержание ей дали не они, Мазуччо шел по следам Боккаччо. В то время как неаполитанские гуманисты, сгруппировавшиеся вокруг Понтано, совершенствовали изобразительные возможности латыни и пользовались только ею, Мазуччо обратился к «вульгарному» говору неаполитанского простонародья и, подобно флорентийцам XIV века, создавал литературный язык итальянской прозы, используя ресурсы местного диалекта.
Ренессансной гармонии «Декамерона» Мазуччо достичь не удалось. Он обладал меньшей филологической культурой. Впрочем, дело было не только в этом. В Арагонском Неаполе более, чем во Флоренции Боккаччо и Саккетти, выпирала трагическая дисгармоничность действительности. Оставалось либо бесстрашно взглянуть в лицо жизни и превратиться в сатирика, либо бежать в идиллию прекрасной, но выдуманной Аркадии, как поступит чуть позже Якопо Саннадзаро. Мазуччо выбрал первое. Он изображал мир «черно-белым», и это отделяло «Новеллино» от жизнерадостного многокрасочного «Декамерона». Грубоватые подробности, угловатость слога, трагическая гротескность — все это в книге Мазуччо идет не только от рудиментов готики или от испанского влияния, сильного в Неаполе, — это также стилевой результат критического отношения автора к окружающей его социальной действительности. В прологе к «Новеллино» говорится: «по утверждению философа, сопоставление вещей противоположной природы ярче оттеняет их различие». Мазуччо полагал, что для писателя показывать не примиренные противоречия жизни не менее важно, чем ставить перед человечеством высокие, но вряд ли достижимые идеалы.
В XVI веке эти противоречия стали еще острее. Большинство государств Италии утратило политическую независимость. Родина гуманизма и жизнеутверждающего ренессансного искусства надолго сделалась ареной варварских войн, которые вели на ее территории испанцы, французы и немцы. В 1527 году ландскнехты набожного Карла V безжалостно разграбили Рим. В 4530 году во Флоренции пала республика. Ее сменило деспотическое правление герцогов Медичи. Во всей стране начиналась феодально-католическая реакция, принявшая форму контрреформации. В 1545 году открылся Тридентский собор. Его постановления осуждали не только протестантов, но и новую светскую культуру, которая двести пятьдесят лет развивалась в Италии. В 1559 году был обнародован первый «Индекс запрещенных книг». В него сразу же попали произведения Данте, «Декамерон», «Новеллино» Мазуччо, «Моргайте» Пульчи и многие книги гуманистов, в том числе «Фацеции» Поджо.
Тем не менее неверным было бы предполагать, будто в XVI веке культура итальянского Возрождения сразу вступила в полосу упадка. XVI век — этап длительный, сложный и крайне противоречивый. Именно в первой половине XVI века филологические и художественные эксперименты гуманистов XV столетия дали блестящие результаты. В этот период, по словам Ф. Энгельса, «…в Италии наступил невиданный расцвет искусства, который явился как бы отблеском классической древности и которого никогда уже больше не удавалось достигнуть»[5]. С началом XVI века большой национальный стиль начал формироваться также в Риме, Ферраре, Падуе, Венеции, Милане, Сиене и многих других итальянских государствах. Поэзия тоже жизнь: когда выявилась маловероятность государственно-экономического объединения Италии, нация на какое-то мгновение сплотилась духовно и утвердила себя эстетически. В этом — великое общечеловеческое и конкретно-социальное, жизненное содержание, казалось бы, далекого «черни» и с виду аполитичного Высокого Ренессанса Леонардо да Винчи, Рафаэля, Джорджоне, Тициана, Ариосто, Бембо и Кастильоне.
Характерные черты стиля Высокого Ренессанса с его культом совершенной гармонии и одухотворением нагого тела нетрудно обнаружить в новеллах Луиджи Да Порто, Франческо Марии Мольцы, в лице которых современники надеялись обрести «нового народного Петрарку и Боккаччо», и особенно в «Беседах о любви», написанных Аньоло Фиренцуолой. Противоречие между неоплатоническими рассуждениями участников «Бесед» в обрамлении и по-возрожденчески откровенным изображением любви в самих новеллах является мнимым. Неоплатонизм в «Беседах» — тоже от Ренессанса. Искусство итальянского Возрождения не просто «реабилитировало плоть», а обожествляло земного человека. Фиренцуола писал новеллы разным слогом, умело приноравливая его к изображаемой среде, но диссонансов в «Беседах о любви» не возникло.
Духовное сплочение, одним из художественных проявлений которого стал Высокий Ренессанс, не могло быть ни абсолютным, ни длительным. В Италии даже в начале XVI века гуманистическая интеллигенция не была единой. Часть ее рассчитывала противопоставить иноземным «варварам» не столько эстетические ценности, сколько военно-политическую силу и искала нового сближения с народом, прежде всего с крестьянством, жестоко эксплуатировавшимся и феодалами, и сменявшими их городскими республиками. «Установление иностранного господства на полуострове, — писал А. Грамши, — сразу же вызвало ответную реакцию: возникло национально-демократическое направление Макьявелли, выражавшее одновременно скорбь по поводу потерянной независимости, которая существовала ранее в определенной форме (в форме внутреннего равновесия между итальянскими государствами при руководящей роли Флоренции во время Лоренцо Великолепного), и вместе с тем — зародившееся стремление к борьбе за восстановление независимости в исторически более высокой форме…» [6].
Макьявелли — тоже прозаик Высокого Ренессанса. Этим классическим национальным стилем написаны и трагический «Государь» и шутливая «Сказка» о Бельфагоре, в которой социальная гармония либерального ада иронически противопоставлена земной действительности. Очень примечателен в «Сказке» Макьявелли фольклорный образ крестьянина, идейно перекликающийся с «якобинством» (термин Грамши) его «Рассуждений о первой декаде Тита Ливия» и «Диалогов о военном искусстве».
Не принимая во внимание национально-народное направление XVI столетия, трудно понять шекспировскую глубину трагизма Высокого Ренессанса Микеланджело и Тициана, а также подлинную реалистичность Фоленго, эпопея которого лишь недавно перестала рассматриваться как лингвистический каприз гуманизма.
В новеллистике XVI века традицию Макьявелли продолжил Антонфранческо Граццини, прозванный Ласка (то есть Голавль), поборник чистоты флорентийского народного языка и враг классицизма стиля Чинквеченто, возникшего в творчестве писателей, полагавших, что подражать классическим образцам значит просто-напросто повторять Петрарку, Боккаччо, Вергилия и греческих трагиков. Искусствовед П. Муратов считал Ласку «самым замечательным флорентийским новеллистом после Боккаччо»[7], Но Граццини писал «Вечерние трапезы» уже в то время, когда в Тосканском герцогстве устанавливалась феодальная государственность. Абсолютизм в его мелкодержавном варианте резко и надолго обособили «народное» от «национального». В новеллах Ласки грубоватый фольклорный юмор перемежался с жестокими «шутками», которые «эти господа Медичи» разыгрывали над своими беззащитными подданными. Гармонии не получалось. Граццини придумал для «Вечерних трапез» поэтичное обрамление, но, так же как и «Беседы о любви», его новеллистическая книга осталась незаконченной. Вряд ли это было просто случайностью. В середине XVI века все более обнажающиеся социальные противоречия не создавали больше возможности для того оптимистически цельного миропонимания, которое породило когда-то художественную структуру «Декамерона». Лучше всего это доказал опыт Маттео Банделло.
Банделло отказался от декамероновского единства. Все новеллы у него обособлены, а общее обрамление заменено развернутыми посланиями-посвящениями к каждой новелле. В них вводится рассказчик и воспроизводится обстановка, в которой была рассказана новелла. В качестве рассказчиков у Банделло фигурируют политические деятели, известные писатели, философы и художники — Макьявелли, Помпонацци, Леонардо да Винчи. Банделло вложил в их уста и фольклорные анекдоты о шуте Гонелле, и истории, вычитанные у античных авторов, и новеллы своих предшественников, а также рассказы о подлинных происшествиях. Последних в «Новеллах» больше всего. К ним принадлежит, например, новелла об Антонио Болонье (часть первая, новелла XXVI), давшая фабулу трагедиям Лопе и Вебстера о герцогине Амальфской.
Эпоха Возрождения порождала в Италии яркие, цельные характеры. Но она не была идилличной. Никто из новеллистов Чинквеченто не показал так убедительно, как Банделло, что его время было кровавым, жестоким веком, когда торжествовали не только сильные страсти, но и железные сердца. В стремлении к воспроизведению хроники современной жизни Банделло в чем-то перекликается с Саккетти, однако, в отличие от новеллиста XIV века, он избегает нравственных и социально-политических оценок изображаемого, поэтому по аналогии с представителями итальянского реалистического течения конца XIX века его иногда именуют «веристом». Банделло явно не одобрял сословных предрассудков братьев герцогини Амальфской, но в его изображении гибели Антон по Болоньи отсутствует трагизм; о ней упоминается как о несчастном случае, которого могло и не быть. Банделло не без основания называл себя писателем «без стиля». Это не значит, конечно, что он писал кое-как. Язык Банделло, ориентированный на речь образованного общества не одной Флоренции, а всей Италии, сближал литературу с новой действительностью. Однако писателем Высокого Ренессанса Банделло уже не назовешь. Отказ Банделло от декамероновского обрамления был вызван не столько желанием воспроизвести эту действительность в ее калейдоскопическом многообразии, сколько утратой гуманистической веры в разумность жизни и в способность человека подчинять ее своей воле. Именно поэтому «верист» Банделло предпочитал рассказывать о «случаях столь странных», что даже ему самому они представлялись «скорее сказками, нежели историями». В его новеллах, недавно еще «божественный», всесторонне развитый герой гуманистов оказывается жертвой или орудием жестокой иррациональности бытия. Для новеллистики Банделло типичен скорее не рассказ о Ромео и Джульетте, который является растянутым пересказом новеллы Луиджи Да Порто, а мрачная история о графине ди Челлан, своеобразная поэзия которой обусловлена необъяснимостью действий ее инфернальной героини.
Внутреннюю целостность «Декамерона» в середине XVI века иногда пытались повторить чисто формально. Несколько позднее «Новелл» Банделло появились «Экатоммити» Джиральди Чинтио, тщательно воспроизводившие внешнюю структуру «Декамерона» и приподнятость его слога. Но, внешне подражая Боккаччо, Джиральди не продолжал его традицию, а полемизировал с ней. Это подчеркивалось и эллинизированным заглавием его книги. Джиральди ставил задачей создать своего рода «Антидекамерон», противопоставив веселому и, как ему казалось, непристойному гуманистическому смеху «ста новелл» Боккаччо контрреформационную благопристойность «ста мифов» «Экатоммити», написанных во славу христианской морали, католической церкви и Тридентского собора. Из книги были изгнаны насмешки над монахами и все «соблазнительные» сцены. «Порок» изображается, но только для того, чтобы быть жестоко наказанным. Почти на каждой странице книги Джиральди льются потоки крови. Автор «Экатоммити» хотел исправлять нравы. Но так как нравственные принципы, на которые он опирался, были ложными и реакционными, ему приходилось устрашать читателей, навязывая им религиозно-моралистические выводы, не вытекающие даже из содержания его же собственных «мифов». Новеллы «Экатоммити» грубо риторичны, отличаются подчеркнутой контрастностью добра и зла, использованием необычных, авантюрных ситуаций, сценами насилия и т. д. В середине XVI века, в результате кризиса возрожденческой идеологии, вызванного как ее собственными внутренними противоречиями, так и развернутым наступлением на гуманизм феодально-католической реакции, в литературе и искусстве Италии появляется маньеризм. Подобно классицизму XVI века, он противостоял классике Высокого Ренессанса, но получил значительно большее распространение, наложив отпечаток и на стиль далеких от контрреформации художников.
Во второй половине XVI века тот маньеризм, который был связан с контрреформацией, нашел продолжение в пресно-моралистической новеллистике Себастьяно Эриццо, напечатавшего в 1567 году обрамленную книгу «Шесть дней», но подавить ренессансную традицию «Декамерона» все-таки не удавалось. Жизнерадостное свободомыслие Возрождения воскресало в чувственности Фортини, в шутках Парабоско, в рационализме Шипионе Баргальи, новеллы которого, правда, перекраивали декамероновские фабулы во многом уже по-барочному.
К второй половине XVI века развитие демократизма ренессансной новеллы оказалось связано не с консервацией ее классического канона, а с отступлением от него, порой даже непреднамеренным, как это было у Джованфранческо Страпаролы. Ни одна из новеллистических книг середины XVI века не пользовалась в Италии такой популярностью, как «Приятные ночи». Вопреки запрещениям церковной цензуры, они переиздавались около пятидесяти раз. Беспрецедентный успех книги Страпаролы объясняется прежде всего необычностью ее содержания. С ней в литературу Возрождения вошла крестьянская волшебная сказка, с ее диалектальными словечками, пословицами и прибаутками, с ее феями, удачливыми дураками и непобедимым народным оптимизмом. Но успех «Ночей» развит не был. Страпарола наткнулся на крестьянскую сказку случайно и не оценил всех заложенных в ней возможностей. Основную часть «Приятных ночей» составили не сказки, а бытовые новеллы, в которых автор тщился подражать все тому же Боккаччо. Главное открытие Страпаролы было понято лишь через восемьдесят лет, когда крестьянская волшебная сказка организовала язык, стиль и художественную структуру «Пентамерона» Джамбаттисты Базиле, этого едва ли не самого яркого прозаика итальянского демократического барокко.
Французский эквивалент слова «новелла» — «нувель» — как термин, обозначающий литературный жанр, возник, несомненно, под итальянским влиянием, хотя то, что затем стало новеллой, родилось во Франции, на тесных улочках ее средневековых городов, раньше итальянской новеллы и передало ей свой повествовательный опыт. Это были смешные и поучительные повествования в стихах — «фаблио». Их восьмисложный стих с парной рифмой не считался тогда поэзией. Когда иной художественной прозы не было, он был «прозой». «Поэзия» же средневековья знала многообразную метрику, сложную строфику, изысканную образность и, естественно, совсем иную тематику.
В романе и рыцарской повести исключительность героев подана была на некоем нейтральном фоне повседневной жизни. В фаблио исключительность иная, это — исключительность наизнанку. Вместо небывалой смелости, неподкупной верности, всепреодолевающей любви романа в фаблио мы находим редкостную глупость, невообразимую жадность или похотливость. Хотя в куртуазном романе происходили события необычайные, для простолюдина они не могли быть «новостью», ибо новость — в обиходном бюргерском или крестьянском понимании — предполагала и конкретное место, и вполне определенное время, и реальных участников события. Стремление к правдивости, понимаемой довольно упрощенно, типично и для фаблио, и для ранней новеллы. Фантастика появится в новелле позднее и укажет на сложность и развитость литературного процесса.
Однако бытописательство еще не делало новеллу возрожденческой. Ей потребовался еще и гуманизм — и как определенного рода ученость, и как специфический — широкий и свободный — взгляд на человека и его земные дела. Пришло это не сразу, и французская новелла проделала за первые сто лет своего существования большой путь.
У его начала стоит анонимный сборник «Пятнадцать радостей брака», возникший, по-видимому, в первой трети XV века. По тематике книга примыкает к средневековой антифеминистской литературе, но это не столько инвектива в адрес слабого пола, сколько собрание забавных историй о проделках коварных жен и об их легковерных мужьях. По всем новеллам разбросаны черточки, скупо, но точно характеризующие быт западноевропейского города на исходе средневековья. Автор проводит читателя по всем кругам семейного ада: тут и ожесточенные перебранки со сварливой женой, и беготня по лавочкам в поисках заморских лакомств, и скитания по заимодавцам, чтобы достать деньги на новое платье жене. Наполняют книгу и нападки на монахов, которые либо просто склоняют женщин к распутству, либо внушают им неуважение к мужьям.
Многое в книге — от средневековых душеспасительных «примеров» и морально-дидактических трактатов. Типичный бюргерский морализм еще не был в сборнике преодолен. В этом направлении едва был сделан первый шаг. Однако антифеминизм книги вряд ли следует до конца принимать всерьез: осуждение женских слабостей постоянно уступает место удивленному восхищению хитроумными проделками, находчивостью, изворотливостью женщин. Отрицание спорит с утверждением, и в этом споре проглядывают предпосылки новой, возрожденческой концепции человека.
Пятнадцатое столетие во Франции создало и другой новеллистический сборник, по форме и по содержанию близкий к типично ренессансным повествовательным циклам. Эта книга — «Сто новых новелл», возникшая между 1456 и 1461 годами в Женаппе (Брабант), при дворе Бургундского герцога Филиппа Доброго, где литература издавна была в особой чести. Хотя каждая новелла сборника приписана определенному рассказчику (зачатки обрамления, столь характерного для ренессансной новеллы), на книге лежит печать единства стиля: на каком-то этапе текст всех новелл подвергся обработке большого мастера, быть может, Антуана де Ла Саля.
Обычно указывают на подражательный характер этой книги. Однако связь с «Декамероном», который был уже широко известен во Франции, ограничивается, пожалуй, одинаковым числом новелл, зачатками обрамления и двумя упоминаниями итальянского писателя. Правда, по сюжету около трети новелл могут быть соотнесены с произведениями Боккаччо, Саккетти или Поджо Браччолини, но эти же самые новеллы обнаруживают сходство и со средневековыми французскими фаблио. Большинство же новелл восходит лишь к реальным фактам жизни эпохи. Эта привязанность как к «домашним» сюжетам, так и к демократической среде станет затем важной приметой наиболее плодотворного направления новеллы эпохи Возрождения во Франции.
Народный характер книги проявился прежде всего в тематике. Действие новелл редко переносится в дворянский замок, хотя в книге есть истории о дворянах, цепляющихся за свои былые привилегии. События разворачиваются на улочках и в домах средневекового города — в Лилле, Сент-Омере, Камбре, в сельских трактирах, на теряющихся в полях проселках Нормандии, Артуа, Пикардии, Шампани или Бургундии. В большинстве случаев это рассказы о любовных проделках монахов, о неверных женах и сластолюбивых мужьях. Обо всем этом рассказано подробно и откровенно. Но за грубоватым юмором «Ста новых новелл» встает правдивая картина жизни, а у героев на первый план выдвигается находчивость, ловкость. Эти качества помогают неверным женам избежать гнева ревнивых мужей, выручают простофилю кюре, забывшего объявить прихожанам о начале поста, вызволяют из беды деревенского священника, похоронившего на кладбище любимого пса; находчивость же позволяет молодому писцу открыто забавляться с женой своего патрона, а благочестивому отшельнику — вкусить любовь молодой девицы. В обилии любовных историй вряд ли следует видеть ренессансную «реабилитацию плоти», это скорее — отражение развлекательного, праздничного характера книги, связанного с травестирующими тенденциями народной карнавальной культуры. Для многих новелл книги типичен мотив любовной связи людей разной сословной принадлежности: родовитые дворяне волочатся за служанками, а их жены домогаются любви простого конюха или лакея. Как правило, подобные коллизии не приводят к трагическим конфликтам, что указывает на оптимистический тон книги, но и на известную упрощенность трактовки поднимаемых в сборнике проблем.
В отличие от «Пятнадцати радостей брака», в, «Ста новых новеллах» нет и в помине антифеминистских настроений; напротив, создатели сборника не без восхищения описывают замысловатые уловки неверных жен и откровенно смеются над незадачливыми рогоносцами. Трудно говорить и об осознанно сатирическом изображении монахов и священников. Если они и оказываются невежественными и глупыми, то природная смекалка позволяет им выпутываться из, казалось бы, безнадежных положений, о чем и говорится одобрительно. Есть в книге трагические новеллы, например, история о неверной жене, попавшей в расставленную ревнивым мужем ловушку и сожженной заживо, но преобладает веселый, жизнерадостный тон.
Становление жанра новеллы означало рождение новой ренессансной прозы, на страницах которой вместо аллегорических фигур городской дидактики и фантастических персонажей куртуазных романов, вместо социально дифференцированных, но схематичных действующих лиц фаблио и фарсов появляются индивидуализированные характеры с личной судьбой и частными интересами.
В «Ста новых новеллах» перед нами уже сложившийся тип новеллистической книги, который будет затем варьироваться на множество ладов, но в основе своей останется неизменным. Во-первых, это целостное собрание новелл, это определенным образом организованный цикл, как бы делающий заявку быть большим, чем простое собрание рассказов. Цикл предполагал и некую общую стилистическую тональность, и единый угол зрения на изображаемое, и более широкое, чем в изолированном рассказе, воспроизведение действительности. Во-вторых, именно в процессе циклизации производилась перелицовка иноземных сюжетов на французский лад (если использовались чужие сюжеты) и происходило переосмысление старых национальных повествовательных моделей, что столь специфично именно для Ренессанса во Франции (в котором некоторые исследователи не без основания видят не только освоение античности, но и возврат к готическому наследию).
Эта национальная укорененность сделала новеллу типичнейшим (наряду с сонетным циклом) жанром литературы французского Возрождения и обеспечила ей небывалую популярность. На заре Ренессанса, особенно после появления книгопечатания, забавные реалистические истории находили читателя и в стенах замка или королевского дворца, и в купеческой конторе, и в монастырской келье, и в крестьянском доме. Это не значит, конечно, что авторы новеллистических циклов не тяготели к той или иной литературной традиции, не ориентировались на разного читателя, не отражали жизни различных социальных слоев.
Все это привело к большому жанровому и тематическому разнообразию французской новеллистики XVI столетия — от новеллы-анекдота, типичного, скажем, для Деперье, до своеобразной сентиментально-психологической повести, к которой тяготела Маргарита Наваррская. В новеллистической продукции эпохи заметный пласт составляют книги, отражающие интересы, вкусы и настроения провинциальных кругов. Авторы этих книг были связаны с выдвинувшей их средой, писали для нее и в основном о ней. Все они разрабатывают старые исконно «домашние» сюжеты и тяготеют к французской повествовательной традиции. Показательно, что из этих рассказчиков-областников лишь у одного Ноэля Дю Файля дошло дело до печатного станка; «Великий образец новых новелл» Никола де Труа или «Веселые проделки и разговоры Пьера Фефё, школяра из Анжера» Шарля Бурдинье были напечатаны лишь в XIX веке, а «Сто новых новелл» Филиппа де Виньеля изданы лишь теперь. Жанр новеллы проникал даже в провинциальное захолустье, но продолжал жить там по-средневековому, то есть в рукописи.
Опыт новеллы как проводника новых гуманистических идеалов и как олицетворения связи с национальными традициями оказал влияние не только на своеобразный жанр сцен-диалогов (например, у Жака Таюро), но и на становление романа (в великой книге Рабле многие главы, особенно где действует Панург, воспринимаются как мастерски построенные новеллы), и даже на биографическую, мемуарную (Брантом) и философскую прозу (Монтень).
Ошибкой было бы не учитывать воздействия на развитие французской новеллы «Декамерона» Боккаччо. Воздействие книги еще усилилось, когда в 1485 году был впервые напечатан перевод (очень вольный) Лорана де Премьефе. Рукописи перевода, нередко прекрасно иллюстрированные, широко распространялись и ранее. В конце 30-х годов XVI века Антуан Ле Масон, секретарь Маргариты Наваррской, завершает свой перевод Боккаччо. Перевод этот, вышедший в 1545 году, выдержал до конца столетия еще шестнадцать изданий, и «Декамерон» стал популярнейшей книгой во Франции. Вслед за Боккаччо переводятся другие итальянские новеллисты— Банделло, Мазуччо, Страпарола, Чинтио.
В середине 30-х годов XVI века составляет свою книгу «Великий образец новых новелл» Никола де Труа, простой седельный мастер и литератор-любитель. Хотя он подхватывает сюжеты «Ста новых новелл» и итальянских рассказчиков, в основном его привлекают дела и дни его современников, и он становится старательным бытописателем и хронистом родного города Труа.
В конце 30-х годов Бонавантюр Деперье, один из видных гуманистов и самых радикальных мыслителей своей эпохи, пишет «Новые забавы и веселые разговоры», в которых он как бы скрывает свою образованность: его рассказы живы, остроумны, непритязательны, шутливо-грубоваты. Здесь мы оказываемся в самой гуще французской жизни первой половины века. Сборник Деперье населяет пестрая толпа его современников; тут и мелкопоместные дворяне, «из тех, что, отправляясь в дорогу, садятся по двое на одну лошадь», и шарлатаны-медики, и уличные торговцы, и степенные юристы, доктора канонического права, ожесточенно ругающиеся с селедочницей с Малого моста; тут и благочестивые монахи, «пьющие вино, как простые миряне», и веселые кюре, «знавшие латынь лишь ровно настолько, насколько этого требовала служба, а может быть, даже меньше». И, конечно, здесь полно молодых и красивых женщин, «таких всех резвых и гладких».
В основу книги Деперье легли по большей части имевшие место в действительности события. Со страниц сборника встает не только веселая, но и правдивая картина французской жизни. Писатель не проходит мимо ее теневых сторон. Замечает он и толпы нищих, и умирающих с голодухи крестьян, и лицемерных, злобных монахов, и тупых педантов. Вся книга Деперье наполнена мошенниками: среди снующих в толпе обыкновенных карманников важно шествуют мрачные фигуры прижимал и богатеев, пускающихся на любые обманы, чтобы набить свою мошну. Писатель не осуждает ни слишком разбитных молодых вдов, ни бездомных школяров, повторяющих «Вийоновы проказы». Он не осуждает прямо и блудливых монахов, и расторопных судей, отправляющих на эшафот невинных. Но горькой иронией звучат слова Деперье о том, что для того, чтобы разбогатеть, надо на несколько лет забыть о совести и чести, или его рассуждение о том, что справедливость всегда торжествует, а порок бывает наказан, коль скоро речь идет о повадившейся в городские курятники лисице. В смехе Деперье не раз проскальзывают горькие нотки. Этим (как и своей стилистикой) «Новые забавы» близки к эпопее Рабле: в обоих произведениях все захлестывает стихия безудержного веселия и смеха; но, как и у Рабле, у Деперье беспечный оптимизм постоянно сочетается с трезвым, скептическим взглядом на жизнь. Недаром Деперье был автором «Кимвала мира», одной из самых мудрых и смелых книг своего времени. В «Новых забавах», однако, писатель остается все-таки человеком той поры Возрождения, когда мечты о безграничных возможностях людей и о грядущем «золотом веке» еще не развеялись.
«Новые забавы и веселые разговоры» писались Деперье в бытность его секретарем Маргариты Наваррской. Несколько позже, в 40-е годы сама Маргарита обратилась к новеллистике (после полумистических стихов и аллегорических поэм, что тоже весьма показательно). Как и в «Декамероне», в ее книге должно было быть сто новелл (написала Маргарита лишь семьдесят две, и издатели назвали сборник «Гептамероном», то есть «Семидневником»), как и у Боккаччо, книга открывается обширным прологом, как и у итальянского писателя, десять кавалеров и дам рассказывают каждый день по новелле, обсуждают эти рассказы, выбирают для очередного дня определенную тематику. Но на этом, пожалуй, сходство с Боккаччо и кончается. Ни одна новелла «Гептамерона» даже отдаленно не напоминает книгу флорентийца. Лишь очень немногие рассказы восходят к старым французским фаблио или куртуазным повестям; подавляющее же большинство представляет собой блистательную литературную обработку современных Маргарите «анекдотов» (в старом значении этого слова). Однако это не делает «Гептамерон» беллетризированной хроникой эпохи. Конечно, в какой-то мере эта книга новелл отвечает на вопрос, как жили люди в первой половине XVI века, но скорее она рассказывает о том, как они чувствовали. Поэтому, хотя «Гептамерону» не чужда событийность и даже занимательность, в книге относительно мало остросюжетных рассказов или новелл-анекдотов, а если такие и случаются, то в них на первом плане не комизм или трагизм ситуации, а раскрытие характеров персонажей.
Поэтому в «Гептамероне» рядом с персонажами комическими, изображенными то с мягким юмором, то с иронией, мы находим положительных героев, обрисованных с большим лирическим вдохновением. Поэтому же веселый смех соседствует в книге с грустными нотками, с печальной мыслью о невозможности личного счастья.
Смеются герои «Гептамерона» (и герои обрамления, и герои самих новелл) над глупостью и жадностью, над напыщенностью и сластолюбием, лицемерием и чревоугодием, то есть над всем антигуманным и противоестественным. Часто носителями этих отрицательных качеств становятся у Маргариты служители церкви. Однако сатира на монахов играет у писательницы вспомогательную, второстепенную роль. Рассказы о проделках священнослужителей позволяют автору противопоставить их низменности благородство и доброту ее положительных героев. Именно в них стремилась Маргарита воплотить свой идеал человеческой личности. И эти положительные герои, умные, обаятельные, любящие, далеко не всегда бывают счастливы. В этом смысле позитивная программа писательницы сложна и непоследовательна. Противоречия книги — не в сочетании беззаботного веселья со скепсисом, резкой антицерковной сатиры с неоплатоническими и религиозными исканиями; об этих противоречиях говорит другое: появление признаков трагического взгляда на жизнь, поиски гармонии в мире и человеке, сомнения в возможности найти эту гармонию. Это делает из книги Маргариты Наваррской произведение, стоящее на пороге новой эпохи — позднего Возрождения, — для которой будут особенно характерны не только такие поиски, но и все более ясное ощущение их тщетности.
Монтень назвал «Гептамерон» «книжкой прелестной по содержанию». Наряду с «Новыми забавами» Деперье, это была вершина французской ренессансной новеллистики. Во второй половине века таких высот французской повествовательной прозе достичь не удалось. Многочисленные сборники бретонского дворянина Ноэля Дю Файля, этого, по словам А. Франса, «самого изобретательного и плодовитого из новеллистов эпохи»[8], представляют собой слегка беллетризированную хронику местных событий с характерами лишь едва намеченными и уж с полным неумением построить занимательную интригу. Изданный в 1555 году анонимный сборник «Рассказы о приключениях» в основном составлен из переводов новелл Мазуччо; в нем всего лишь несколько чисто французских новелл. Подвизавшийся во вторую половину века Франсуа де Бельфоре старательно перелицовывал итальянских, испанских и других писателей, выбирая преимущественно истории трагические и кровавые. Впрочем, эти обработки были очень популярны в свое время, одна из них. дала великому Шекспиру сюжет его «Гамлета», другая послужила основой одной из самых знаменитых поздних трагедий Лопе де Веги — «Кара без мщения».
Во вторую половину XVI века во французской прозе можно найти не только обработки и подражания чужим образцам. Возврат к национальным новеллистическим традициям — в духе «Ста новых новелл» и «Новых забав» Деперье — обнаруживается в книгах Гийома Буше «Утра» и Шольера «Девять утренних бесед» и «Послеполуденные беседы». Жак Ивер в пяти повестях, составивших его «Весну», разрабатывал тип лирической новеллы (часто с трагическим исходом), тем самым продолжая путь Маргариты. Но на исходе столетия эти тенденции столкнулись с мощным литературным влиянием, идущим из-за Пиренеев (где как раз в это время сложилась блистательная национальная новеллистическая школа), и французская новелла пошла в XVII веке по иному пути.
Вступая в область испанской новеллы Возрождения, читатель сразу переносится в малоизведанные края. Если итальянские и французские новеллисты многократно издавались, то из испанских у нас переводились в основном сервантесовские «Назидательные новеллы», несколько вещей Лопе де Веги и Тирсо де Молины да, разумеется, вставные новеллы «Дон Кихота». Причины этого не только в игре случая или в меньшей интенсивности культурных связей. И для самих испанцев новеллу заслоняют другие ренессансные жанры — романс, роман, который в его новых формах, собственно, и сложился в Испании, и воплотивший все богатство культуры Золотого века неимоверно разросшийся театр. На таком фоне новелла, тоже весьма развитая в Испании, правда, особенно в XVII веке, кажется периферийной. Она здесь не имеет специального обозначения и теперь обычно именуется cuento viejo (старинный рассказ) или novela corta (краткая повесть).
Границы жанра размыты и оттого, что в Испании не завершилось более или менее свободное развитие городов, и классическая схема новеллы Боккаччо с ее торжеством героя над феодально-церковными установлениями часто выглядела бы нереальной. Монархия в ее пиренейской форме, отмеченной сохранением феодально-дробной структуры государства, свирепого деспотизма и претензии на духовную диктатуру, — монархия, казалось, в таком виде отошедшая в прошлое, — одержала в 1521 году роковую победу над восстанием городских общин, и Испания стала превращаться в самую реакционную великую державу в Европе. Но и эта мрачная махина с ее гигантским аппаратом угнетения, в котором инквизиция была лишь одним из звеньев, еще полтораста лет не могла смирить возрожденческую энергию народа. В стране установилось своего рода идеологическое двоевластие, при котором главной трибуной прогрессивных сил стала не философия или наука, а литература и искусство, прежде всего — театр. Даже если взять одни только такие бесспорные вещи, как «Кара без мщении» и «Доблести Белисы», написанные Лопе в 30-е годы XVII века, и прибавить к этому «Саламейского алькальда» Кальдерона или такие смелые драмы, как «Черт-проповедник», то окажется, что в Испании призрак Ренессанса не исчезал и в лучшую пору барокко и преследовал Габсбургскую монархию почти до тех пор, пока она не бросилась под копыта коня Людовика XIV.
Понятно, что в литературе таких эстетических крайностей, где, кстати, реализм органически соединил самое грубое земное с самым выспренне идеальным, трудно раскрыть на примере дюжины выбранных новелл все перипетии этого жанра, а можно лишь наметить некоторые вехи его движения.
Чтобы показать дух испанского Возрождения на раннем этапе, до поражения коммунерос в 1521 году, мы начинаем с Лопеса де Вильялобоса (ок. 1473–1549 г.г.), врача, представителя считавшейся у испанцев презираемой и более зловещей профессии, чем просто могильщик. Но пария этот захватил эпоху подъема, когда испанцам открылись вместе с Новым Светом перспективы расцвета Возрождения, а талант и науки были в чести. Вильялобос не только поднялся со «дна» и стал лейб-медиком, но, исполненный разносторонней энергии, суммировал медицинские познания в большой поэме, писал комментарии к книгам античного естествоиспытателя Плиния, первым перевел на кастильский латинскую комедию (уже упоминавшегося «Амфитриона» Плавта), создал трактат о характерах и книги о социальных типах своего времени, был одним из самых озорных острословов королевства. Диалогическая новелла Вильялобоса показывает, что ученый-гуманист мог вступить в спор с силами, воплощавшими прошлое и грозившими будущему Испании. Предметом осмеяния было пророчески избрано логово герцогов Альба. Оба знатные героя новеллы хороши — и пропитавшийся желчью герцог с замашками инквизитора (он задает врачу провокационные вопросы о святой троице), и обрисованный врачом ему в назидание спесивый граф. Предваряющая Кеведо и Гойю гротескная символика, хлесткости которой мог бы позавидовать и Гейне, есть в сцене, где граф посреди опустелого дворца возвышается в непристойной позе посреди роскошного ложа, ярко освещенный зажженными по его собственному дурацки-спесивому приказу факелами… По новелле врач обуздывает знатных противников — в этом Вильялобос был в меньшей степени пророком, чем в выборе типажа для осмеяния.
Уже для новеллы середины XVI века характерно развитие, во многом не зависимое от итальянского образца. «История Абенсерраха и прекрасной Харифы», напечатанная в книге повестей Антонио де Вильегаса, вышедшей в 1565 году, представляет собой тип испанской романсовой «мавританской» новеллы. Одно из удивительных качеств народных романсов — это сочувственно проникновенное изображение мавров, людей чужой расы и чуждой веры, отвоевание родины у которых потребовало семи веков упорной борьбы, дополнительно распалявшейся с обеих сторон религиозным фанатизмом. И, несмотря на это, большая группа романсов (темы которых были позже развиты в том же гуманистическом духе и Сервантесом, и Лопе, и Кальдероном) свидетельствует об умении среди вековечных врагов разглядеть великодушных, благородных, тонко чувствующих и страдающих людей. На известном этапе развития народного ренессансного сознания испанцы увидели, что, несмотря на пороки восточного деспотизма, на бездуховность мусульманства и порабощение женщины, у врагов может встретиться большая свобода совести и чувства, чем та, что была у самих испанцев в условиях гнета воинствующей церкви.
«Мавританские» романсы, новеллы, драмы являлись формой протеста против идеологии господствующего слоя. На них лежал отпечаток сказочной народной утопии. В новелле Вильегаса испанцы и мавры, Родриго де Нарваэс и Абиндерраэс Абенсеррах с его Харифой, состязаются прежде всего в тонкости чувств и в великодушии. Народный патриотизм этой повести сказывается в том, что при большем душевном богатстве Абиндерраэса и Харифы последнее слово в состязании великодуший все же оказывается за Родриго.
Наряду с «мавританской» новеллой в Испании XVI века распространялись и рассказы, восходившие к позднеантичной приключенческой повести и столь же далекие от типа канонической новеллы. Этот жанр, позволявший поставить важную для эпохи Возрождения проблему человека в потоке событий, привлекал к себе Шекспира, приложившего руку к трагикомедии «Перикл, князь Тирский», и Сервантеса, закончившего на пороге своей смерти «Странствия Персилеса и Сихисмунды». Приведенный в нашей книге рассказ об Аполлонии Тирском был заимствован Хуаном де Тимонедой через посредство средневекового сборника «Римские деяния». Он трактует тот же сюжет, что и пьеса Шекспира, в которой по неясным причинам заменены некоторые имена: Перикл соответствует Аполлонию, Марина — Политании. Хуан де Тимонеда, испробовавший свои силы как кожемяка, продавец книг, актер, драматург, собиратель романсов (знаменитая «Роза романсов» — 1573 г.), выступил и как составитель сборника новелл «Повестник» (1567). Включенные туда наряду с историей Аполлония новеллы Боккаччо, Мазуччо, Банделло, переложения Ариосто сильно испанизированы, но трудно сказать, самим ли Тимонедой или уже раньше бытовавшими в Испании версиями.
Новеллистическую обработку приключенческого рассказа продолжал позднеренессансный писатель Антонио де Эслава, перерабатывавший для своего сборника «Зимние ночи» (1609) сюжеты, восходящие через испанскую «Книгу о великих заморских завоеваниях» (изд. в 1505 г.) к истории крестовых походов Гийома Тирского (XII в.). Эславу интересовали предания, в которых коварству знати противопоставлялось бы демократическое начало и где, хотя бы в сказочной форме, торжествовали бы гуманизм и обычная справедливость. Поэтому его прельстила легенда о жизни у простого лесничего королевы Берты Большая Нога и о зачатии будущего Карла Великого на крестьянской повозке или о наказании справедливым болгарским царем-волшебником Дарданом византийского завоевателя — «императора Греческого Никифора». Обращение к этому последнему преданию, с его верой в справедливость и сказочной наивностью, помогает многое понять в душе ренессансного человека. В те же годы и к тому же источнику, что и Эслава, обратился Шекспир в «Буре», великой гуманистической драме, которой издатели в 1623 году открыли первое собрание его сочинений. Связь простой справедливости и гуманизма у Эславы, конечно, не выступает в столь органическом единстве, как у шекспировского Просперо, — но и у Эславы не только мудрый болгарин Дардан, но и простоватая Берта (о легендарно-венгерском происхождении которой новеллист забыл) обосновывают свои решения ссылками на древнегреческих философов.
Читатель видит, сколь многие новеллистические сюжеты послужили основой драм XVI–XVII веков. Драматизация почти всегда сопровождалась принципиальным усилением обобщающего момента и обогащением характеров. Процесс драматического синтеза мог быть очень сложным. Например, маленькая новелла «Сон наяву», вышедшая из-под пера Рохаса Вильяндрандо, современника Лопе, столь же неуемно энергичного, которому пришлось быть воином, пиратом, бродячим актером, драматургом, составляет лишь один, хотя и немаловажный, элемент драмы Кальдерона «Жизнь есть сон» (начало 1630-х годов).
Выше говорилось, что Испанской монархии и церкви не удалось задушить гуманистическую культуру, и им приходилось довольствоваться идеологическим двоевластием. Не только театр, главное страшилище в глазах реакции, но и новелла не была обуздана. В ней царит карнавальное веселье, насмешки и двусмысленное изображение знати и духовенства, вовлечение последнего (на театре его не разрешалось изображать) в фарсы, иронически переиначивающие священные обряды — пострижение в монахи, заупокойную службу, даже идею христианского чуда и загробной жизни…
Все это может встретиться в рассказах Гаспара Лукаса Идальго «Кастильские карнавалы» (предусмотрительно изданы автором в 1605 г. в Барселоне, городе удалой вольницы). Из книги Идальго в нашем сборнике помещена новелла об одной достаточно выразительной, вольной беседе.
Еще больше всего этого в новеллах, входящих в «Толедские виллы», прославленного драматурга, породившего первого в мировой литературе дон Хуана, маэстро Тирсо де Молины, о котором трудно решить, был ли он самым озорным из ученых-теологов или самым теологически эрудированным озорником конца испанского Возрождения. Чтобы оценить смелость «Проделок Каррильо» или «Новеллы о трех осмеянных мужьях», нужно мысленно вдвинуть эти дерзкие повести в кадр того чопорного и скорого на расправу ханжества, которое окружало и угрожало автору-монаху. Тирсо судили, запрещали писать светские вещи, ссылали в дальние монастыри, он навлек на себя гнев Оливареса, фаворита Филиппа IV. Но едва за Тирсо затворялась мрачная келья, из нее на всю Испанию изливались снопы света ренессансной веселости, и в таком количестве, будто часы этого монаха не были расписаны и он только и делал, что сочинял комедии и рассказы.
Меж тем, в глазах современников, Тирсо терялся в лучах самого Чуда природы, Лопе де Беги, писавшего еще впятеро быстрее и уравновешивавшего с сотней своих друзей и продолжателей всю громаду церковных проповедей и назидательных книг. Лопе мыслил поэтико-драматически, и собственно новеллы не составляют и тысячной доли им написанного. Зато многие его комедии и драмы строже, чем предыдущая испанская новелла, соответствуют новеллистической композиции. Примером может служить драма о жестоком наказании супружеской неверности «Кордовские командоры» (1596). Событие подано как реальный факт (каковым оно и было), хронологически точно приурочено (ошибка в хронологии восходит к непосредственному источнику), взят случай, поразивший воображение народа и вошедший в устное предание. История измены, в данном случае ничем не мотивированной со стороны доблестного и влюбленного мужа, показана объективно. От фабулы боккаччевского типа драма отличается тем, что, в соответствии с реальностью испанской жизни, любовникам не удается избежать гибели. Страшное возмездие тоже показано объективно, без любования, а черты доверчивости и доброты мужа находятся в таком же диалектическом соответствии с ужасом мести, как в «Отелло» Шекспира, при том, конечно, что речь идет не о ложном навете (мотив, заимствованный Шекспиром из новеллы Чинтио), а о факте измены.
Одна из четырех новелл, изданных Лопе в 1624 году якобы специально для развлечения своей подруги, — «Мученик чести» — примечательна параллелизмом с сюжетным ходом гуманистического эпизода «Дон Кихота», рассказа о мориске Рикоте (т. II, гл. 54 и 63–65). Лопе сам ссылается на Сервантеса, хвалит стиль его новелл, высказывает надежду сделать и свои — «назидательными». Как и в рассказе о Рикоте, трагическая коллизия обусловлена «указом короля дона Филиппа III о морисках», но Фелисардо, даже не знавший, что среди его предков был мавр (из знакомого нам доблестного рода Абенсеррахов), обижен еще возмутительнее, чем Рикоте, и поражен известием о включении своей семьи в указ об изгнании. Лопе понимает «явную опасность» описывать современные события, но осуждение указов произнесено без иносказаний. Благородный гнев побуждает родных Фелисардо уйти подальше (они эмигрировали в Константинополь) и вырвать из сердца неблагодарное отечество. Опираясь на опыт Сервантеса и будучи сам великим полемистом, Лопе показывает в новелле абсурдность гонений даже с точки зрения цели гонителей. Изгнание христиан с ничтожной примесью мавританской крови в мусульманские страны, подвергая опасности веру изгнанных, противоречило контрреформационным принципам. Никакой подвиг во имя отечества не может разорвать круг абсурда, ибо, обрати Фелисардо всю Порту в христианство, у него в жилах все равно останется какая-то роковая одна двести пятьдесят шестая крови славных Абенсеррахов, которая подводила его под указ. Так же как в рассказе о Рикоте, у Лопе вице-король пытается защитить Фелисардо. Гуманистическая аргументация высказана Лопе в письме вице-короля Неаполя, содержащем доводы против контрреформационной политики. Прежде всего это — антифеодальный тезис Возрождения: «Человеку рождение не прибавляет заслуг и не отнимает их у него, ибо оно не зависит от его воли, но за свои поступки, как хорошие, так и дурные, он полностью отвечает сам». Затем, это — актуальный в XVII веке принцип веротерпимости: «различие вер» не имеет значения для человеческого благородства; это было показано уже на заре Возрождения в притче о трех кольцах (в LXXIII рассказе итальянского «Новеллино»), отразившейся у Боккаччо и ставшей знаменитой благодаря «Натану Мудрому» Лессинга.
Смеясь над реакционерами, Лопе строит рассказ так, будто и Филипп II считал, что «различие вер не затрагивает благородства крови»… Всему этому Лопе шутливо придает черты достоверности и, вспомнив Русь, страну, на событиях истории которой он восемнадцать лет назад построил действие «Великого князя Московского», смелой драмы в защиту свободы совести, подтверждает истинность новеллы ссылкой: «Так значится в Летописях Московии, хранящихся в библиотеке Каирского университета».
Внутреннее развитие западноевропейской ренессансной новеллы завершают «Назидательные новеллы» (1613) Сервантеса, придавшие ей синтетичность, характерную для романа и повести нового времени. В них заложен тип романа, бытового в основе, но включающего приключенческий, сатирический, философский элемент. Тенденция к такому синтезу есть в каждой повести Сервантеса и в книге в целом, где чередуются то преимущественно нравоописательно-бытовые, то преимущественно любовно-героические либо философские вещи. Являясь прологом к будущему развитию романа, синтетичность прозы Сервантеса — характерное для зрелого Ренессанса явление, свойственное также драмам Шекспира и отражающее стремление к универсальному охвату и исправлению бед эпохи. У Сервантеса «Назидательные новеллы» играют примерно ту же роль, что комедии у Шекспира. Наименование «назидательные», «образцовые» — «ejemplares» — многогранно и было подхвачено новеллистами XVII века. Оно направляло внимание на пристойность развязок, как бы заранее отводя донос автора «Лжекихота», Авельянеды, что повести «более сатиричны, чем назидательны». Но наименование должно быть понято и как «дающие образцы» — в этом случае оно настаивало на необходимости, при критическом изображении действительности, утверждения ренессансных моральных ценностей, светлого начала в человеке. Новеллы давали образцы настойчивой борьбы за свободу и счастье, и не только с внешними обстоятельствами, но и внутренней борьбы, самовоспитания. Это последнее связывало книгу с литературой XVII века и с проблематикой романа последующего времени.
При всем разлете приключенческого духа даже в ранней новелле «Великодушный поклонник» отчетливо очерчен ренессансный идеал. При этом, когда отвага и великодушие Рикардо достигают предела возможного и идеал будто утвержден, Сервантес возносит проблематику на еще более высокую ступень. Мало того что герой готов великодушно отступиться от освобожденной им Леонисы и вернуть ее сопернику, он осознает, что распоряжение свободой любимой, даже великодушное, есть узурпация, и провозглашает принципиальную свободу воли женщины: «Леониса принадлежит сама себе…» Только на такой основе, бескомпромиссное утверждение которой было весьма смелым в Испании, может, согласно новелле, строиться подлинное счастье.
В новеллах нравоописательно-бытовых Сервантес иным путем идет к гуманистическим обобщениям. В «Ревнивом эстрамадурце» правдиво обрисована трагедия неравного брака купли не только для жены-подростка, не успевшей до конца осознать свое несчастье, но и для богатого старика мужа, объективно превращающегося в тюремщика жены. Узнав об ее измене (в подцензурном тексте Сервантес был вынужден представить дело так, будто измена не совершилась), старик, после некоторых колебаний решившийся поступить человечно, все равно не выдерживает горя и умирает. Опыт, вынесенный из безрадостного брака, уродует на самой заре и жизнь молодой женщины, уже не способной воспользоваться относительно независимым положением богатой вдовы и уходящей в монастырь. Новелла как бы демонстрирует полную негативность отживших установлений официальной морали, ломающих счастье тех, кого само естество побуждает ей противиться, и не могущей обеспечить интересы тех, кто на нее опирается.
Особенности нравоописательных новелл Сервантеса сфокусированы в «Ринконете и Кортадильо». В изображении промышляющих мошенничеством бродяг-подростков и севильского воровского братства, в которое они вовлекаются, Сервантес точен, гуманен и эпически объективен. С предваряющей полотна Веласкеса и Мурильо проникновенностью (и живописностью) он обнаруживает все то хорошее, что есть в несчастных юнцах, и даже в воровской взаимовыручке, но в то же время диалектически и с беспощадной правдивостью показывает, как логика преступного мира ведет к оплаченным убийствам, сутенерству, к жестокости и гнусности. Новелла возвышается над плутовским романом не только полнотой показа энергии и жизнестойкости людей испанского «фальстафовского фона», сочувствием к персонажам, умением раскрыть человеческое в них, но и последовательным осуждением преступности. Внезапно смещая планы, Сервантес подводит к мысли, что банда Мониподио символизирует испанское государство. Грабя и убивая, бандиты, во всяком случае не менее искренне, чем какой-нибудь Филипп II, убеждены, будто служат «богу и добрым людям». Сервантес в несколько приемов описывает елейное благочестие преступников и их рвение в формально-богоугодных делах. Таким образом, в этой мягкой и человечнейшей новелле возникает неотразимая сатира на контрреформацию, чьим нравственным фундаментом была постулированная Тридентским собором формальная (то есть лицемерная) обрядность, показные «добрые дела». «Назидательная» концовка, — которую габсбургские чиновники не смели принять на свой счет, — доводит сатиру до предельной обобщенности и отчетливости: «Очень подивился Ринконете той уверенности и спокойствию, с которым эти люди рассчитывали попасть в рай за соблюдение внешней набожности, невзирая на все свои бесчисленные грабежи, убийства и преступления против бога».
Синтетическая тенденция новелл Сервантеса с наибольшей полнотой выступает в широко известной у нас и неоднократно издававшейся новелле «Цыганочка». Демократизм новеллы очевиден. Мысль, что дворянину должно пройти испытание в цыганском таборе, чтобы удостоиться руки и сердца Цыганочки, — в соответствии с ее человеческой ценностью, — выступает как нечто совершенно закономерное. Высокое развитие Цыганочки, ее непреклонное чувство собственного достоинства, свойственная ей тяга к «великим делам», отражающие достижения испанского Ренессанса, роднят ее с величайшими плебеями испанской драмы — Лауренсией из «Фуэнте Овехуны» Лопе и Педро Креспо из «Саламейского алькальда» Кальдерона.
Гений Сервантеса преодолевает и дистанцию от ренессансных пасторальных утопий до романтической поэмы XIX века, где воссоздавались как жажда ухода к природе и естественному человеку, так и горький урок, что «от судеб защиты нет». С глубоким реализмом воспроизведена вся разносторонность жизни табора — и воровские обычаи цыган, и то их вольнолюбие, которое сохранило притягательную силу для Пушкина, Мериме, Бизе и Лорки. Пространная речь старого цыгана Андресу (один из замечательнейших монологов Возрождения, напоминающий донкихотовские речи) о «свободной и привольной жизни нашей» прямо предваряет гостеприимные слова пушкинского Старика: «Будь наш — привыкни к нашей доле, Бродящей бедности и воле…» Но, в отличие от Земфиры, для которой проблема свободы встает как практический вопрос свободы женского чувства, Цыганочке нужен ренессансный идеал во всей полноте, включая идеальное равноправие женщины. Патриархальную мудрость цыганских старшин, как та ни замечательна, Цыганочка встречает иронически. С исступленной горячностью юности она провозглашает гуманистическое кредо: «Сии господа могут, пожалуй, вручить тебе мое тело, но не душу, которая свободна, родилась свободной и пребудет свободной, поскольку я этого желаю». Высокая патетичность этого клича в будущее не снижается оттого, что он стоит рядом с высказанной старым цыганом несколькими минутами позже житейски верной пословицей: «Нельзя наловить форелей, не замочив штанов». Трезвость Санчо не снижает идеалов Дон Кихота, но убедительно показывает их труднодостижимость.
Трехсотлетнее развитие европейской ренессансной новеллы подвело к реализму нового времени; собственная история этого реализма начинается с XVIII и даже с XIX века; что же касается судеб новеллы в XVII столетии, то им посвящен особый том «Библиотеки всемирной литературы».
Мессер Бернабо, правитель Милана, сраженный прекрасными доводами одного мельника, подарил ему весьма доходную должность. При жизни этого синьора его боялись больше, чем всякого другого, однако, хотя он и был жесток, все же в его жестокостях была большая доля справедливости. В числе многих историй, которые с ним приключились, был такой случай, когда один богатый аббат проявил нерадивость, не сумев как следует выкормить двух принадлежащих означенному синьору догов[11], которые от этого опаршивели, и синьор приказал ему заплатить за провинность четыре флорина. На это аббат взмолился о пощаде. Означенный синьор, видя, что тот молит его о пощаде, сказал ему:
— Если ты разъяснишь мне четыре вещи, будет тебе полное прощение; а вещи, о которых я хочу, чтобы ты мне сказал, таковы: сколько отсюда до неба? Сколько воды в море? Что делается в аду и что стоит моя особа?
Аббат, услыхав это, стал вздыхать, и ему казалось, что он попал в худшее положение, чем раньше. Однако, чтобы умерить гнев синьора и выиграть время, он попросил, не будет ли угодно синьору дать ему отсрочку для ответа на вещи столь высокого значения. И синьор дал ему отсрочку на один день. А так как ему очень хотелось услышать, чем все это кончится, он взял с него обязательство вернуться.
Задумался аббат и, возвращаясь в монастырь в глубокой тоске, тяжело дышал, как запаренная лошадь; в конце пути встретил он своего мельника, который, видя его огорчение, сказал ему:
— Что с вами, господин мой, что вы так запыхались? И отвечал аббат:
— Есть с чего, ведь синьор, того и гляди, меня прикончит, если я не разъясню ему четыре вещи, которые не по плечу ни Соломону, пи Аристотелю.
Мельник спросил:
— А что это за вещи?
Аббат ему все сказал. Тогда мельник, подумав, говорит аббату:
— Если хотите, я выведу вас из этого затруднения. И говорит ему аббат:
— Дай-то бог.
На что ему мельник:
— Думаю, что и бог даст, и святые дадут. Аббат, уже не находивший себе места, сказал:
— Если ты это сделаешь, бери у меня все, что захочешь, ибо нет такой вещи, в которой я бы тебе отказал, если ты об этом попросишь и если это будет в моих силах.
И сказал мельник:
— Предоставляю это на ваше усмотрение.
— Каким же путем ты будешь действовать? — спросил аббат. Тогда мельник ему ответил:
— Я хочу надеть вашу рясу и ваш капюшон, сбрею себе бороду и завтра утром спозаранку предстану перед синьором, сказавшись аббатом, и все четыре вопроса разрешу так, что надеюсь его ублажить.
Аббату уже не терпелось подменить себя мельником, и так и было сделано.
Обратившись в аббата, мельник рано утром пустился в путь и, дойдя до ворот, за которыми обитал синьор, постучался и сказал, что такой-то аббат хочет ответить синьору на некоторые вопросы, которые тот ему задал. Синьор, желая услышать то, что аббат должен был ему сказать, и удивляясь, что тот так скоро вернулся, призвал его к себе. Когда аббат предстал перед ним в предрассветном сумраке, раскланиваясь и то и дело закрывая рукой лицо, чтобы не быть узнанным, и синьор спросил его, принес ли он ответ на то, о чем он его спрашивал, тот ответил:
— Да, синьор, принес. Вы меня спрашивали, сколько отсюда до неба. В точности все рассмотрев, я установил, что отсюда до верху тридцать шесть миллионов восемьсот пятьдесят четыре тысячи семьдесят две мили с половиной и двадцать два шага.
Сказал ему синьор:
— Ты это установил с большой точностью, а как ты это докажешь?
Тот ответил:
— Прикажите измерить, и если это не так, повесьте меня. Во-вторых, вы меня спросили, сколько в море воды. Это мне было очень трудно установить, так как море — вещь текучая и все время наполняется, но все-таки я установил, что море вмещает двадцать пять тысяч девятьсот восемьдесят два миллиона бочек, семь ведер, двенадцать кружек и два стакана.
И спросил его синьор:
— Откуда ты это знаешь? Тот отвечал:
— Прикинул, как сумел. Если не верите, достаньте бочки и измерьте. Если окажется не так, четвертуйте меня. В-третьих, вы спросили, что делается в аду. В аду режут, четвертуют, сдирают кожу и вешают совершенно так же, как это делаете здесь вы.
— И какие ты этому можешь привести доказательства? Мельник отвечал:
— Я в свое время говорил с человеком, который там побывал, а Данте, флорентиец, от него именно узнал то, что написал об аде. Но человек этот умер. Если не верите, пошлите за ним… В-четвертых, вы спрашивали меня, сколько стоит ваша особа. Я говорю, что она стоит двадцать девять сребреников.
Когда мессер Бернабо это услышал, он в ярости набросился на мельника, говоря:
— Да чтоб ты сдох! Выходит, я такое ничтожество, что не стою и печного горшка?
Тот ответил, причем не без великого трепета:
— Синьор мой, выслушайте мое рассуждение. Вы ведь знаете, что господь наш Иисус Христос был продан за тридцать сребреников, я и рассудил, что вы стоите на один сребреник меньше, чем он.
Услыхав это, синьор легко догадался, что это не аббат, и, пристально в него вглядываясь и понимая, что это человек куда более ученый, чем аббат, сказал ему:
— А ты не аббат!
Пусть каждый сам себе представит страх, обуявший мельника. Бросившись на колени и сложив руки, он стал молить о пощаде, рассказывая синьору, что он был мельником у аббата, как и почему он предстал перед его светлостью переодетым, и с какой целью он надел на себя это облачение, и что он сделал это, скорее чтобы ему угодить, чем от злого умысла.
Мессер Бернабо, выслушав его, сказал:
— Так и быть, раз он уже сделал тебя аббатом, а ты куда лучше его, клянусь богом, я готов это подтвердить и хочу, чтоб ты и впредь был аббатом, а он мельником и чтобы ты получал весь доход с монастыря, а он — с мельницы.
И так в течение всей своей жизни мессер Бернабо следил за тем, чтобы аббат оставался мельником, а мельник — аббатом.
Уж очень это страшное дело и уж очень велика опасность доверяться синьорам, как это делал мельник, и храбриться так, как храбрился он. Ведь с синьорами бывает, как с морем: человек пускается в плаванье с величайшей для себя опасностью, но в великих опасностях получает и великую выгоду. Большая удача, когда море спокойно, — точно так же, когда спокоен синьор. Но доверяться тому и другому — страшное дело: того и гляди, разыграется буря.
Иные в свое время утверждали, что такой же или подобный случай приключился с папой, который предложил одному из провинившихся аббатов разъяснить ему упомянутые четыре вещи и сверх того еще одну, а именно: какова самая большая удача в его жизни. На что аббат, понимая, сколь многое зависит от ответа, вернулся в свой монастырь и, собрав монахов и послушников, — всех, вплоть до повара и садовника, — поведал им, на что ему предстояло ответить папе, и попросил у них совета и помощи. Они же, не зная, что сказать, стояли как дураки. Тогда садовник, видя, что все они онемели, сказал:
— Господин аббат, раз все они ничего не могут сказать, а я хочу помочь вам и словом и делом, то я полагаю, что выведу вас из этого затруднения; но дайте мне вашу одежду с тем, чтобы я пошел под видом аббата и в сопровождении кого-нибудь из этих монахов.
Так и было сделано. Представ перед папой, он сказал, что расстояние до неба равно тридцати звукам голоса. О воде в море он сказал:
— Прикажите заткнуть устья рек, через которые вливается вода, а потом измерьте.
О том, сколько стоит особа папы, он сказал:
— Двадцать восемь сребреников: на два сребреника меньше того, что стоит Христос, — ведь вы его наместник.
О величайшей своей удаче в жизни он сказал:
— Что я из садовника стал аббатом. И таковым папа его утвердил.
И как бы то ни было, случилось ли это с тем и с другим или только с одним, но аббатом сделался тот, кто был либо мельником, либо садовником.[12]
Был некогда во Флоренции гражданин, ученый и весьма уважаемый, по имени Коппо ди Боргезе Доменики. А жил он как раз напротив того места, где стоят сейчас Львы, и производил строительные работы в своих домах. Как-то в субботу под вечер он, читая Тита Ливия, наткнулся на историю о том, как римские женщины вскоре после того, как был издан закон, запрещавший им носить украшения, сбежались на Капитолий, требуя отмены этого закона. Коппо, человек хотя и ученый, но раздражительный и отчасти взбалмошный, пришел в ярость, словно все это происходило у него на глазах. Он книгой и кулаком стучит по столу, всплескивает по временам руками и говорит:
— Горе вам, римляне, неужели вы это потерпите, вы, которые не потерпели над собой власти ни царей, ни императоров?
И разбушевался так, как если бы служанка стала выгонять его из собственного дома. Означенный Коппо все еще бесновался, как вдруг появляются мастера и рабочие, возвращавшиеся с работы. Поклонившись Коппо, они попросили у него денег, хотя и видели, что он чем-то очень разгневан. Но Коппо, как аспид, на них напустившись, говорил:
— Вот вы мне кланяетесь, а, по мне, лучше бы сам дьявол вселился в мой дом! Вот вы просите у меня денег за ремонт моих домов, а, по мне, лучше бы они тут же обрушились, и обрушились на мою голову!
А те переглядывались и с удивлением говорили: «Что с ним?» Потом сказали ему:
— Коппо, ежели вам что не по душе, нам это очень досадно, а ежели в наших силах что-нибудь сделать, чтобы вы перестали огорчаться, мы охотно это сделаем.
Коппо сказал:
— А ну-ка! Идите вы нынче с богом и ко всем чертям! Лучше бы мне никогда не видеть белого света: подумать только, что эти нахалки, эти потаскухи, эти негодницы имели наглость бегать на Капитолий и требовать, чтоб им вернули их украшения. О чем же думают римляне, если даже я, Коппо, вчуже не нахожу себе места? Будь на то моя воля, я бы их всех послал на костер, чтобы те, которые останутся в живых, навсегда это запомнили. Уходите и оставьте меня в покое.
И те, от греха подальше, ушли, говоря друг другу:
— Что за черт? Болтает он что-то, не пойму что, о римлянах, а может быть, о весах.[14]
А другой говорит:
— Что-то он рассказывал о потаскухах, сам не знаю что. Не загуляла ли у него жена?
Один рабочий говорит:
— По-моему, он сказал: слезы капают от боли. Может быть, у него голова болит.
А другой:
— По-моему, он жалуется, что ему опрокинули кадку с солью.
— Как бы там ни было, — решили они наконец, — деньги свои мы все-таки хотим получить, а там как знает.
Итак, они решили в этот день больше не ходить к нему, а вернуться в воскресенье утром. Коппо же остался один на поле брани, и на следующее утро, когда он остыл и вернулись мастера, он дал им то, что им полагалось, говоря, что у него вчера вечером были другие заботы.
Ученый это был человек, хотя ему и взбрела в голову такая нелепая фантазия. Однако, если толком обо всем поразмыслить, она была вызвана не чем иным, как стремлением к справедливости и добродетели.
Всякий, кто живал во Флоренции, знает, что первое воскресенье каждого месяца мужчины и женщины всем народом отправляются в церковь Сан-Галло и что отправляются они туда скорее для развлечения, чем для богомолья. В одно из таких воскресений собрался туда и Джотто вместе со всей своей мастерской, и в то время, когда он ненадолго задержался на Огуречной улице, рассказывая одну из своих историй, проходило мимо несколько свиней святого Антония, одна из которых в неистовом беге бросилась ему под ноги, так что он упал на землю. Поднявшись на ноги своими силами и не без помощи спутников и отряхнувшись, он свиней не выругал, не сказал им ни слова, но, обратившись к спутникам, слегка улыбнулся и промолвил:
— Разве они не правы? Разве я за свой век не заработал при помощи их щетины не одну тысячу лир, ни разу не отблагодарив их ни единой миской помоев?
Услыхав это, спутники его засмеялись.
— Что говорить? Ты, Джотто, мастер на все руки. Ты еще никогда ни одной истории так хорошо не описывал, как описал случай с этими свиньями.
И поднялись к Сан-Галло. Затем, возвращаясь мимо монастырей Сан-Марко и Серви, стали, как обычно, разглядывать находящиеся там росписи, и при виде изображения девы Марии вместе с Иосифом один из них спросил Джотто:
— А ну-ка скажи мне, Джотто, почему всегда изображают Иосифа таким грустным?
И Джотто отвечал:
— Разве у него нет причины, если он видит, что жена его беременна, а он не знает, от кого?
Все переглянулись и стали уверять, что Джотто не только великий мастер живописи, но к тому же и мастер семи свободных искусств. А когда они вернулись домой, они многим рассказали о новых остроумных ответах Джотто, которые всеми понимающими людьми были признаны словами, достойными философа. Велика проницательность человека, одаренного так, как одарен был Джотто.
Многие ходят и глазеют, разинув рты, вместо того чтобы смотреть очами телесными и духовными, и потому не ошибется всякий, живущий на этом свете, кто общается с людьми, знающими больше, чем он. Век живи, век учись.
Возвратившись на четвертый день туда, где обычно протекали их беседы, влюбленные учтиво приветствовали друг друга и, взявшись за руки, уселись. Начала Сатурнина, промолвив так:
— Я хочу рассказать тебе историю, которая станет королевой и примадонной всех историй, рассказанных нами до сих пор. А потому, полагаю, она тебе чрезвычайно понравится.
Жил во Флоренции, в доме Скали, один купец по имени Биндо, много раз побывавший и в Тане[17], и в Александрии, и во всех других краях, в какие только отправляются купцы с товарами. Этот Биндо был весьма богат и имел троих взрослых сыновей. Когда пришло время ему умирать, он призвал к себе двух сыновей — старшего и среднего — и в их присутствии составил завещание, сделав их обоих наследниками всего, чем владел на земле. Младшему же ничего не оставил. Тогда младший сын по имени Джаннетто, прослышав о том, явился к нему и сказал:
— Отец мой, я премного удивлен тем, что вы сделали, — не вспомнили обо мне в завещании.
Отец отвечал:
— Мой Джаннетто, нет в целом мире души, которую я любил бы более, чем тебя. Но я хочу, чтобы после моей смерти ты не оставался здесь, а уехал в Венецию к твоему крестному отцу, мессеру Ансальдо, у которого совсем нет детей, и он в письмах многажды просил прислать ему тебя. Мессер Ансальдо самый богатый купец из всех ныне здравствующих христиан. Вот и хочется мне, чтобы после моей смерти ты отправился к нему с этим письмом; и если сумеешь, то станешь богатым человеком. Сын отвечал:
— Отец мой, я готов исполнить все, что вы прикажете. Отец благословил его и через несколько дней умер. Сыновья в великой скорби воздали его праху подобающие почести. А по прошествии еще нескольких дней оба брата позвали к себе Джаннетто и сказали ему:
— По правде говоря, отец согласно завещанию оставил наследство нам, а о тебе вовсе не упомянул; однако мы братья, так пусть уж нам всем достанется поровну.
Джаннетто отвечал так:
— Братья мои, благодарю вас за вашу доброту, но душа моя просится искать счастья на чужбине, и я не откажусь от своего намерения; вы же пользуйтесь уготованным вам благословенным наследством.
Тогда братья, видя его такую решимость, дали ему коня, денег на дорогу, и Джаннетто, распростившись с ними, отправился в Венецию. Он явился прямо в лавку мессера Ансальдо и вручил ему написанное отцом перед смертью письмо, из которого мессер Ансальдо узнал, что приезжий юноша — сын дражайшего Биндо, и, кончив читать, тут же обнял его со словами:
— Добро пожаловать, сынок, я так давно желал тебя увидеть!
И стал расспрашивать его о Биндо, на что Джаннетто отвечал, что отец умер, и мессер Ансальдо, весь в слезах, прижал его к своей груди, расцеловал и сказал:
— Сколь горестно мне слышать о смерти Биндо, ведь вместе с ним мы немало заработали. Но радость видеть тебя столь велика, что уменьшает мою скорбь.
Он велел проводить его в дом и сказал своим приказчикам, своим друзьям, щитоносцам и всем в доме, чтобы повиновались и привечали Джаннетто более, чем его самого. И первым делом отдал ему ключи от своей казны со словами:
— Сынок, все, что есть, можешь тратить; одевайся и обувайся, как тебе заблагорассудится, хорошенько угости горожан, и пусть они тебя узнают получше. Однако хочу, чтобы ты запомнил: я буду любить тебя тем сильнее, чем более ты станешь стараться для этого.
А потому Джаннетто начал водить дружбу с благородными венецианцами, был галантен в обращении, стал задавать пиры, одаривать слуг, покупать лучших скакунов и участвовать в состязаниях и турнирах наравне с бывалыми и искушенными людьми; был великодушен, обходителен со всеми и прекрасно умел оказать почет и уважение кому и где надобно, никогда не забывая при этом воздавать почести мессеру Ансальдо, словно тот был его родным отцом. И сумел столь мудро повести себя с самыми различными людьми, что полюбился даже членам городской управы, находившим его весьма благоразумным, приятным и безмерно любезным. Оттого и женщины и мужчины, казалось, души в нем не чаяли, да и мессер Ансальдо наглядеться на него не мог, столь приятны ему были учтивость его и манеры. И ни один праздник в Венеции не обходился без того, чтобы упомянутый Джаннетто не был приглашен, так всем он был мил. И вот случилось, что два близких его приятеля задумали отправиться в Александрию со своими товарами на двух кораблях, как они проделывали это каждый год; и обратились к Джаннетто со словами:
— Тебе следовало бы вместе с нами вкусить морской жизни, посмотреть на мир и обязательно повидать Дамаск и дальние страны.
Джаннетто отвечал:
— Я, без сомнения, весьма охотно отправился бы с вами, если бы отец мой, мессер Ансальдо, дал на то свое соизволение.
Те отвечали:
— Мы сделаем так, что он тебе его даст и будет доволен.
И тотчас же они направились к мессеру Ансальдо и сказали ему:
— Мы хотим просить вас, чтобы вы позволили Джаннетто отправиться этой весной вместе с нами в Александрию, а также дали ему какой-нибудь корабль, — пускай повидает свет.
Мессер Ансальдо отвечал:
— Я буду рад, если ему это по душе. Те отвечали:
— Мессер, он и сам был бы рад.
Тогда мессер Ансальдо немедля велел снарядить прекрасный корабль, погрузить на него множество товаров и оснастить флагами и оружием как подобает. Когда же корабль снарядили, мессер Ансальдо наказал капитану и прочим, кто служил на корабле, чтобы те исполняли все, о чем Джаннетто распорядится и что он им прикажет.
— Я его посылаю не деньги зарабатывать, — говорил он, — а для его же собственного удовольствия, пускай повидает свет.
И когда подошло время Джаннетто Отправляться в путь, весь город сбежался посмотреть, потому что с давних пор не выходил из Венеции столь красивый и хорошо оснащенный корабль, как этот. И всякий сожалел об отъезде Джаннетто. Он распрощался с мессером Ансальдо, всеми своими друзьями; и путешественники, выйдя в море и подняв паруса, устремились в сторону Александрии во славу господа бога и уповая на судьбу. Так плыли они на трех кораблях много дней, когда однажды на рассвете Джаннетто увидел морской залив с прекрасным портом. Он спросил у капитана корабля, как назывался порт. Капитан отвечал:
— Мессер, этот город принадлежит одной знатной донне, вдове, которая погубила немало добрых синьоров.
Спросил Джаннетто:
— Каким образом? Тот отвечал:
— Мессер, она красивая и приятная женщина, и у нее такой закон: каждый, кто приезжает, должен провести с ней ночь, и если сумеет ею овладеть, то может взять ее в жены, — она хозяйка порта и всей местности. Ну, а если опростоволосится, то лишается всего, что у него есть с собой.
Джаннетто немного поразмыслил про себя и сказал:
— Делай что хочешь, но доставь меня в этот порт. Капитан отвечал:
— Мессер, подумайте, что вы говорите, ведь там уже столько синьоров перебывало, и все по миру пошли.
На что Джаннетто промолвил:
— Не твоя печаль; делай, как я говорю.
Так и сделали: тут же развернули корабль и устремились в порт; приятели же, плывшие на других кораблях, ничего не заметили.
Утром по всему городу пошли разговоры о том, какой красивый корабль вошел в порт; все сбежались поглядеть; тут же доложили донне, и та послала за Джаннетто, который, незамедлительно явившись к ней, приветствовал ее с большим почтением. Она же взяла его за руку и стала расспрашивать, кто он, откуда и знаком ли с обычаем этого края. Джаннетто отвечал утвердительно и что он ни за чем иным и не стремился сюда. Тогда она сказала:
— В таком случае, тысячу раз добро пожаловать!
И она оказала ему самые большие почести, пригласила баронов, графов, рыцарей великое множество, дабы составили ему достойную компанию. Всем баронам пришлись весьма по вкусу манеры Джаннетто, его приятное обхождение и речи; он полюбился каждому, и при дворе до темноты не смолкало торжество с танцами и пением в честь Джаннетто; и всякий с радостью был готов назвать его своим господином. Когда же наступил вечер, донна, взяв Джаннетто за руку, привела его в свои покои и сказала:
— По-моему, настало время ложиться спать. Джаннетто отвечал:
— Мадонна, я к вашим услугам.
Тут появились две юные прислужницы, одна с вином, другая со сладостями. Донна молвила:
— Вам, наверное, хочется пить, так отведайте вина. Джаннетто попробовал сластей и стал пить вино, в которое было подмешано сонное снадобье, а он-то этого не знал и выпил добрую половину чаши, потому что вино понравилось ему, после чего мигом скинул одежды и улегся; но, едва очутившись в постели, заснул. Донна же легла спать рядом с ним, но он так ничего и не почувствовал и очнулся лишь на следующий день, когда уже пробило три[18]. Потому, лишь только рассвело, донна поднялась и приказала разгружать корабль, каковой оказался полон хороших и дорогих товаров. И вот, как пробило три, служанки донны пришли к постели, где спал Джаннетто, разбудили его и сказали, чтобы он отправлялся с богом; корабля со всем, что там было, он лишился. И стало ему стыдно своего дурного поступка. Донна велела дать ему коня, денег на дорогу, и он, мрачный и скорбный, отправился в Венецию; однако, приехав туда, от стыда не пожелал идти домой, а явился ночью в дом к своему приятелю, который, премного удивившись, сказал:
— Ох! Джаннетто, тебя ли я вижу? И тот отвечал:
— Корабль мой в темноте наскочил на риф, разбился вдребезги, всех разбросало кого куда; сам я ухватился за обломок дерева, который вынес меня на берег; так по суше я и добрался сюда.
Много дней провел он в доме приятеля, пока тот однажды не отправился навестить мессера Ансальдо, коего застал в большой печали. Молвил мессер Ансальдо:
— Я так опасаюсь, что мой сынок погиб или с ним приключилось в море что-либо неладное, просто места себе не нахожу от тревоги.
Тогда юноша сказал:
— Он потерпел кораблекрушение, но сам спасся. Воскликнул мессер Ансальдо:
— Слава богу! Как я рад! Лишь бы сам Джаннетто оставался невредим; а о потерянном я не тревожусь. Где же он?
Юноша отвечал:
— Он в моем доме.
Мессер Ансальдо тотчас же вскочил и бросился туда. А увидев Джаннетто, стал обнимать его, приговаривая:
— Сынок мой, ты не должен стыдиться, ведь корабли нередко терпят крушение в море; потому, сынок, не отчаивайся: главное, ты цел, невредим, и я счастлив.
Так утешая, он повел его домой. Новость эта разлетелась по всей Венеции, и всякий сожалел о злополучном бедствии, постигшем Джаннетто. В скором времени вернулись из Александрии с большими сокровищами его друзья и, едва причалив, первым делом спросили о Джаннетто. Им все подробно рассказали, и они прибежали обнять его со словами:
— Что с тобой стряслось? Куда же ты запропастился? Мы, ничего не зная о тебе, целый день шли обратным курсом, но ни увидеть тебя, ни понять, куда ты мог направиться, нам не удалось. И так нам стало горько, что в течение всего пути мы не ведали радости, полагая, что ты погиб. Джаннетто отвечал так:
— Я находился в заливе, когда поднялся сильный встречный ветер и бросил нас на прибрежные рифы; корабль разбился вдребезги, сам я лишь чудом спасся.
Вот как он объяснил все это, дабы не раскрывать своего позора. И все вместе они устроили большое празднество, вознося хвалу господу за спасение Джаннетто и говоря так:
— Будущей весной с божьей помощью мы выручим все, что ты потерял в этот раз, а покуда есть время, не станем унывать и предадимся веселью.
Но у Джаннетто не выходило из головы, как ему вернуться к той донне. Он в мыслях рисовал себе это и думал: «Мне следует во что бы то ни стало на ней жениться, иначе я погиб», — и был не в силах побороть тоску. Отчего мессер Ансальдо нередко говорил ему.
— Не печалься, у нас с тобой еще столько добра, что прекрасно проживем.
На что Джаннетто отвечал:
— Мой синьор, я никогда не обрету покоя, если вновь не совершу это путешествие.
И мессер Ансальдо, видя его желание, снарядил, когда пришло время, другой корабль с товарами, которые были еще лучше и еще дороже прежних, истратив на это большую часть из того, чем владел на свете. И друзья, также нагрузив чем нужно свои корабли, вышли в море вместе с Джаннетто, подняли паруса и устремились в путь. Много дней плыли они, и Джаннетто неустанно ждал, когда появится порт той самой дамы, который назывался портом донны Бельмонте. И однажды ночью, проходя вблизи залива, Джаннетто увидел этот порт, тотчас узнал его и приказал развернуть паруса, руль и идти прямо туда, так что его товарищи на других кораблях опять ничего не заметили. Донна же, проснувшись утром и взглянув сверху на порт, увидела развевающиеся флаги этого корабля и сразу их узнала; позвав служанку, она спросила ее:
— Тебе знакомы эти флаги? А служанка отвечала:
— Мадонна, да это, кажется, корабль того самого юноши, что был здесь год тому назад и так богато оделил нас своими товарами.
Тогда донна сказала:
— Ты, несомненно, права; и если нет другой важной причины, то он, должно быть, в меня влюблен; однако я еще не видела такого, кто наведался бы сюда более одного раза.
На это служанка ответила:
— А я еще не встречала более обходительного и более привлекательного мужчину.
Донна послала к Джаннетто пажей и щитоносцев, которые с радостью встретили его, и он со всеми был приветлив и весел; так он поднялся в замок и предстал перед донной. И когда та увидела его, то ласково его обняла, а он почтительно обнял ее. Весь день прошел в ликовании и веселье; донна пригласила баронов и дам в великом множестве, и те прибыли ко двору на торжество в честь Джаннетто. Бароны почти все досадовали, что Джаннетто не их господин; они с удовольствием согласились бы на это, зная его приятные манеры и обходительность. Дамы почти все были в него влюблены, видя, как умело он вел танец, как не сходило с его лица оживленное выражение, и все сочли, что он, наверное, сын какого-то богатого сеньора. Когда же подошло время спать, донна, взяв Джаннетто под руку, сказала: — Не пора ли нам отойти ко сну?
Они пришли в комнату, уселись; тут появились две юные прислужницы с вином и сладостями, и они стали пить вино и вкушать эти сладости, после чего отправились спать, но едва Джаннетто оказался в постели, как в ту же минуту уснул. Донна же разделась и улеглась рядом с ним. А он за всю ночь так и не пробудился. Утром донна, проснувшись, немедля послала сказать, чтобы разгружали корабль. Как пробило три, Джаннетто очнулся от. сна, стал искать донну и не нашел. Тут он увидел, что уже день, и вскочил с постели, не зная, куда деться от стыда. Ему дали денег на дорогу, коня и сказали:
— Ступай прочь!
И он с позором поехал восвояси, мрачный и скорбный, и ехал много дней без передышки, пока не добрался до Венеции, где ночью явился в дом к тому же самому приятелю, и тот, увидев его и придя в величайшее изумление, сказал:
— Ох, да что же это? Отвечал Джаннетто:
— Горе мне! Будь проклята судьба, что завела меня однажды в те края!
Приятель же сказал ему:
— Еще бы тебе не проклинать судьбу, когда ты разорил мессера Ансальдо, а ведь он был самым богатым купцом во всем христианском мире; но во сто крат хуже то бесчестье, которым его теперь покрывают.
Много дней хоронился Джаннетто в доме приятеля, не зная, что предпринять и что сказать, и уже совсем было собрался, ничего не говоря мессеру Ансальдо, ехать назад во Флоренцию, однако, подумав, решился показаться ему напоследок, что и сделал. Когда мессер Ансальдо его увидел, то, вскочив с места, кинулся обнимать со словами:
— Добро пожаловать, сынок мой! — И Джаннетто весь в слезах обнял его. А узнав про все, мессер Ансальдо молвил:
— Знаешь, Джаннетто, не следует горевать, таково уж это море: одних одаривает, других обирает; ты вновь со мной, и я счастлив. У нас еще осталось столько, что сможем жить потихоньку.
Новость об этом происшествии разлетелась по всей Венеции; только и разговоров было, что о мессере Ансальдо, и все не на шутку сожалели о его убытках. Самому же мессеру Ансальдо пришлось многое продать, дабы расплатиться с кредиторами, которые предоставили ему товары. Тут вернулись из Александрии с несметным богатством друзья Джаннетто и, приехав в Венецию, сразу же узнали о его возвращении и о том, что его корабль вновь разбился; немало тому подивившись, они молвили:
— Вот так казус; мы такого еще не видывали.
Затем направились к мессеру Ансальдо и, воздав ему почести, сказали:
— Мессер, не отчаивайтесь, в будущем году весь барыш будет ваш; ведь это мы стали причиной ваших убытков, ибо уговорили Джаннетто отправиться с нами в первый раз. А потому не бойтесь ничего; коль скоро у нас есть деньги, располагайте ими, как своими собственными.
Мессер Ансальдо поблагодарил их и ответил, что у него хватит еще на жизнь. Но Джаннетто с утра до вечера не покидали раздумья, он не ведал покоя; тогда мессер Ансальдо спросил его, в чем дело, и тот отвечал:
— Я никогда не успокоюсь, ежели не верну того, что потерял. Тогда мессер Ансальдо молвил:
— Сынок мой, мне не хочется, чтобы ты снова отправлялся куда-то; лучше будем жить потихоньку, довольствуясь тем немногим, что у нас осталось, чем ты вновь станешь рисковать.
Отвечал Джаннетто:
— Я твердо намерен сделать все, что в моих силах, иначе жизнь станет для меня величайшим позором.
Видя его решимость, мессер Ансальдо вознамерился продать все, чем владел на свете, и снарядить еще один корабль; так и сделал, продав последнее, что у него осталось, и снарядил прекрасный корабль с товарами. А поскольку ему недоставало десяти тысяч дукатов, то он отправился к одному иудею в Местре и взял у него взаймы эти деньги на тех условиях и с таким уговором, что если не возвратит их ко дню святого Иоанна в июне будущего года, то иудей может отрезать от любой части его тела, откуда захочет, фунт мяса. Мессер Ансальдо с готовностью согласился, и тогда иудей пожелал составить о том достоверную бумагу при свидетелях, торжественно и с подобающей осмотрительностью, лишь после чего отсчитал ему десять тысяч золотых дукатов, на которые мессер Ансальдо приобрел то необходимое, чего не хватало для оснастки корабля; и если прежние два корабля были великолепны, то третий был куда богаче и лучше тех. Друзья же нагрузили свои корабли с расчетом на то, что весь барыш будет принадлежать Джаннетто. И когда настало время отправляться в путь, перед самым расставанием мессер Ансальдо сказал Джаннетто:
— Сынок мой, видишь сам, в каких долгах я остаюсь; об одной лишь милости прошу: ежели и случится тебе вернуться домой горемыкой, то покажись мне на глаза, я хоть взгляну на тебя перед смертью и буду тем доволен.
На что Джаннетто отвечал:
— Мессер Ансальдо, я все сделаю так, чтобы вас порадовать. Мессер Ансальдо благословил его, и на том они расстались.
Друзья Джаннетто не спускали глаз с его корабля; сам же он был настороже и только ждал случая, чтобы свернуть в порт Бельмонте, с каковой целью подговорил своего кормчего, и тот ночью привел корабль прямо в порт, принадлежащий этой благородной даме. На рассвете следующего дня товарищи, плывшие на двух других кораблях, стали в беспокойстве искать корабль Джаннетто и, не найдя его, сказали:
— Такова уж судьба его злосчастная, — и, теряясь в догадках, порешили продолжать путь.
Тем временем, прослышав, что Джаннетто вернулся, и завидев корабль, прибывший в порт, все обитатели замка сбежались на пристань и стали говорить в большом удивлении:
— Не иначе как он — сын важного человека, раз каждый год привозит нам столько товаров на таких хороших кораблях; видно, сам бог желает, чтобы он стал нашим господином.
И явились к нему с визитом все именитые граждане города, бароны, рыцари; и было доложено донне о возвращении Джаннетто. Она тотчас кинулась к окну, увидела прекрасный корабль и узнала флаги, отчего, осенив себя крестным знамением, сказала:
— Несомненно, что-то произошло: это тот самый человек, который принес нам богатство, — и послала за ним.
Джаннетто пожаловал в замок, и они приветствовали друг друга весьма почтительно и многократно обнялись. Весь день прошел в веселье и радости; в честь Джаннетто устроили великолепный турнир, в котором состязались многие бароны и рыцари; Джаннетто тоже пожелал участвовать и целый день показывал чудеса прекрасного владения оружием и верховой езды. Всем баронам столь понравились его манеры, что каждый из них желал бы видеть Джаннетто своим господином. И вот наступил вечер. Когда приблизился час ложиться спать, донна взяла Джаннетто под руку со словами:
— Не пора ли нам возлечь?
Тут возле двери комнаты им повстречалась служанка донны, которой стало жаль Джаннетто; она приблизилась к нему и тихонько проговорила на ухо:
— Сегодня вечером притворись, что пьешь, а сам вина не пей. Джаннетто все понял и с тем вошел в комнату. Донна сказала:
— Я знаю, вас мучит жажда, поэтому, прежде чем лечь спать, выпейте вина, прошу вас.
Вошли юные прислужницы, словно два ангела, с вином и сладостями, как обычно. Джаннетто молвил:
— Кто сможет удержаться и не выпить при виде столь прекрасных девушек?
Донна при этих словах засмеялась. Тогда Джаннетто взял чашу и сделал вид, что пьет, а сам пролил вино себе на грудь; донна же, поверив, что он выпил, подумала: «Ну что ж, снаряжай мне еще один корабль; этот ты уже прозевал». Джаннетто тем временем улегся в постель, чувствуя себя бодрым и с ясной головой. Ему показалось, что прошла добрая тысяча лет, прежде чем донна улеглась рядом с ним. При этом он повторял про себя:
— Теперь-то уж она моя!
И чтобы донна поскорее пришла к нему, притворился спящим и даже принялся храпеть. Завидев это, донна молвила:
— Прекрасно!
Быстро скинув одежду, она улеглась подле Джаннетто, который не стал мешкать, и, едва та оказалась под одеялом, как он, поворотившись к ней, обнял ее, говоря:
— Вот чего я столь долго желал!
С этими словами он даровал ей священную супружескую благодать и за всю ночь уже не выпустил ее из объятий. Донна осталась премного довольна этим и, проснувшись с зарей, повелела созвать всех баронов, рыцарей, множество прочих граждан и объявила:
— Джаннетто — ваш господин, а потому начинайте праздник.
Тут поднялся шум, крики:
— Да здравствует синьор! Да здравствует синьор! Ударили в колокола, заиграла веселая музыка; послали сказать всем остальным баронам и графам, жившим за стенами замка, чтобы шли поглядеть на своего господина. И повсюду началось бурное ликование. Когда Джаннетто вышел из комнаты, его тотчас произвели в рыцари, посадили на трон, дали в руки жезл и с триумфом и славой провозгласили господином. Ну, а когда наконец все бароны и дамы собрались при дворе, Джаннетто обвенчался с этой достойной дамой; и такое было шумное и веселое празднество, что невозможно ни рассказать, ни вообразить. Все бароны и синьоры города сошлись на это торжество танцевать, петь, играть, веселиться, сражаться в турнирах, — словом, происходило все, как это бывает на больших праздниках. Мессер Джаннетто великодушно одаривал всех шелками и прочими дорогими подарками, которые привез с собой.
А время шло, он возмужал, стал пользоваться уважением за свою разумность и справедливое обращение с людьми любого звания. Так и жил себе припеваючи, в празднествах, и при этом не помышлял о возвращении и даже не вспоминал, негодник, о мессере Ансальдо, оставшемся в закладе за десять тысяч дукатов у того иудея. И вот в один прекрасный день, расположившись со своей донной у окна, Джаннетто увидел на площади людей с пылающими факелами в руках; люди с дарами направлялись к церкви. Мессер Джаннетто спросил:
— Что это значит? Донна отвечала:
— Это ремесленники несут дары в церковь святого Иоанна, потому что сегодня его день.
Тут-то мессер Джаннетто и вспомнил о мессере Ансальдо, да так, что, изменившись в лице, отпрянул от окна и бросился расхаживать по зале взад и вперед, размышляя над сим обстоятельством. Донна спросила, что с ним случилось.
— Ничего особенного, — отвечал мессер Джаннетто. Тогда донна принялась допытываться, говоря:
— Я вижу, вы что-то скрываете от меня.
И столько всего ему наговорила, что мессеру Джаннетто пришлось поведать о том, как мессер Ансальдо остался в закладе за десять тысяч дукатов.
— А нынче срок истекает, — сказал он, — и я так страшусь, что мой отец расстанется с жизнью из-за меня, ведь если он сегодня же не вернет эти деньги, то у него отрежут фунт мяса.
Донна сказала:
— Мессер, немедля садитесь на коня. Возьмите с собой кого угодно, берите сто тысяч дукатов и отправляйтесь в Венецию, но только сухим путем, так будет скорее, нежели морем. Скачите что есть духу, и если ваш отец еще жив, то привозите его сюда.
Потому мессер Джаннетто тотчас велел трубить в рог и, взяв с собою деньги, вскочил на коня и пустился вместе со свитой в двадцать человек прямо в Венецию. Тем временем по истечении срока иудей разыскал мессера Ансальдо и заявил, что желает отрезать у него фунт мяса; однако мессер Ансальдо стал умолять, чтобы тот согласился отсрочить его погибель на несколько дней затем, что, если вдруг вернется его Джаннетто, то он, мессер Ансальдо, сможет хотя бы повидаться с ним. Иудей сказал:
— Так и быть. Я повременю с расплатой. Но пускай он хоть сто раз возвращается — я все равно отрежу фунт вашего мяса, как толкуют о том мои бумаги.
Мессер Ансальдо отвечал, что согласен. Весть о том облетела всю Венецию; все соболезновали мессеру Ансальдо, а многие из купцов вознамерились даже сложиться и заплатить эти деньги иудею, но тот не желал ничего слушать. Напротив, он желал свершить это душегубство, дабы потом говорить, что, дескать, умер самый богатый купец среди христиан.
Когда мессер Джаннетто стремглав ускакал, его донна, не тратя попусту ни минуты, переоделась в платье судьи и вместе с двумя слугами поспешила вслед за супругом. Тем временем мессер Джаннетто, добравшись до Венеции, явился прямо в дом иудея и с ликованием заключил в свои объятия мессера Ансальдо, после чего объявил иудею, что намерен отдать ему деньги — сколько причитается — и сверх того еще столько, сколько тот захочет. Иудей отвечал, что денег ему теперь не надобно, раз он не получил их в срок, и что он как раз теперь намерен отрезать фунт мяса у мессера Ансальдо. Вспыхнули споры и раздоры, и всякий в глубине души осуждал иудея. Но, как ни говори, а Венеция, будучи землей справедливости, не могла не признать и за иудеем полной правоты, а потому никто не осмеливался публично выражать свое несогласие с ним, и не оставалось ничего другого, как бить ему челом. Ради этого у него перебывали многие венецианские купцы, но он раз от разу делался все более непреклонным. Тогда мессер Джаннетто предложил ему двадцать тысяч, но тот отказался, потом дошли до тридцати тысяч, после того до сорока, до пятидесяти и, наконец, добрались до ста тысяч дукатов; тут иудей сказал:
— Вот что: если даже ты захочешь дать мне больше дукатов чем стоит весь этот город, то и тогда я не откажусь от удовольствия свершить то, что написано в моих бумагах.
Покуда спорили, в Венецию прибыла донна, одетая в платье судьи, и расположилась в гостинице, хозяин которой спросил у ее слуги:
— Кто твой господин?
Слуга же, предупрежденный донной о том, что ему надлежит говорить, ежели кто спросит, отвечал так:
— Этот господин — судья; он обучался в Болонье и теперь держит путь домой.
Смекнув, хозяин стал оказывать постояльцу всяческие почести. За обедом судья поинтересовался, что делается в городе. Хозяин отвечал:
— Мессер, уж чересчур много справедливости.
— Как так? — удивился судья.
— А вот как, мессер, я вам расскажу. Приехал к нам из Флоренции юноша по имени Джаннетто; приехал он к своему крестному отцу мессеру Ансальдо и оказался столь приятным и благовоспитанным юношей, что полюбился в нашем городе и женщинам и мужчинам. Ни один из приезжих доселе не был столь приятен, как он. Три раза мессер Ансальдо снаряжал для него самые богатые корабли, и всякий раз тот терпел крушение. На последний корабль не хватило денег; тогда мессер Ансальдо занял у одного иудея десять тысяч дукатов на таком условии, что, ежели не отдаст их ко дню святого Иоанна, в июне будущего года, то иудей может отрезать от любой части его тела фунт мяса. Теперь же этот благословенный юноша вернулся и уже не десять тысяч, а целых сто хочет ему отдать, но криводушный иудей не желает уступить; уже все здешние добрые люди били ему челом — ничто не помогает.
Судья отвечал:
— Сей вопрос не трудно разрешить. На это хозяин сказал:
— Если вы согласитесь взять на себя труд уладить его, но так, чтобы добрый человек не расстался с жизнью, то удостоитесь благодарности и любви юноши, равного в добродетели которому не видывал свет, да и жители города возблагодарят вас.
Тогда судья велел объявить повсюду, что, если кому-то нужно разрешить спорный вопрос, пусть приходит к нему. Новость о приезжем судье из Болоньи, который берется разрешить любой вопрос, дошла до мессера Джаннетто, и он сказал иудею:
— Пойдем к этому судье! Иудей отвечал:
— Пойдем, но пусть приезжает кто угодно, а я вправе сделать то, что написано в моих бумагах.
С тем они и предстали перед судьей и приветствовали его с глубоким почтением. Судья узнал Джаннетто, а вот Джаннетто судью не узнал, потому что донна с помощью разных трав изменила свое лицо. Мессер Джаннетто и иудей по порядку изложили свои доводы перед этим судьей, который затем взял бумаги, прочитал их и сказал иудею:
— Я хочу, чтобы ты забрал себе сто тысяч дукатов и отпустил с миром этого доброго человека; он будет всю жизнь тебя за это благодарить.
Иудей отвечал:
— И не подумаю. Тогда судья сказал ему:
— Смотри сам, это наилучший выход для тебя.
Но упрямый иудей не желал отступать. Тогда решили перейти в отведенное для таких дел помещение. Судья повелел привести мессера Ансальдо и сказал иудею:
— Что ж, отрезай фунт мяса откуда хочешь, и дело с концом.
Иудей тотчас раздел несчастного донага и вынул бритву, каковую еще раньше для этой надобности приготовил. Тут мессер Джаннетто, оборотившись к судье, воскликнул:
— Мессер, я не о том вас просил! Судья молвил ему:
— Успокойся, он еще ничего не отрезал.
Но иудей уже приближался с бритвой к мессеру Ансальдо. И тут судья сказал:
— Ну смотри же: если ты отрежешь больше или меньше фунта, я прикажу отрубить тебе голову. И еще говорю: если появится хоть капля крови, я велю тебя казнить, потому что в бумагах твоих ничего не упоминается о кровопролитии. Там говорится, что ты должен отрезать фунт мяса, и говорится только это, ни больше, ни меньше. Потому, коли ты такой мудрый, поступай как знаешь.
С этими словами он позвал палача, велел ему приготовить колоду и топор и сказал иудею:
— Как увижу каплю крови, так велю отсечь тебе голову. Иудея обуял страх, а мессер Джаннетто сразу повеселел. Наконец после долгих препирательств иудей сказал:
— Мессер судья, вы ученый человек, а я нет. Так отсудите мне сто тысяч дукатов, я согласен.
Судья отвечал:
— Я желаю, чтобы ты отрезал фунт мяса, как о том говорится в твоих бумагах. А денег не дам ни гроша. Коли хотел бы я отдать тебе деньги, так уж держал бы их в руках.
Тогда иудей стал просить девяносто тысяч, потом восемьдесят; судья ни в какую. Тут мессер Джаннетто сказал:
— Дайте ему, что просит, лишь бы отца отпустил. Но судья молвил:
— Я знаю, что делаю. Тогда иудей стал умолять:
— Дайте мне пятьдесят тысяч. Судья ответил:
— Я бы тебе и гроша ломаного не дал. Наконец иудей воскликнул:
— Будь прокляты земля и небо! Отдайте хотя бы мои десять тысяч дукатов.
Судья отвечал:
— Ты что, не понял? Ничего не получишь. Хочешь резать — так режь. Иначе я опротестую и признаю недействительными твои бумаги.
Всякий бывший при том изрядно потешился, и все насмехались над иудеем, приговаривая:
— Вот какое дело; хотел поймать, да сам попался!
Тогда иудей, видя, что выходит не по его, схватил свои бумаги и в злобе разорвал их на клочки. Так мессер Ансальдо получил свободу, и мессер Джаннетто, торжествуя, препроводил его домой, после чего, захватив эти сто тысяч дукатов, отправился поскорее к судье, коего застал в комнате за укладыванием вещей к отъезду. Мессер Джаннетто обратился к нему со словами:
— Мессер, еще никто доселе не оказывал мне столь большой услуги, как вы; возьмите с собой эти деньги, вы заслужили их.
Судья отвечал:
— О мой мессер Джаннетто, я премного вам благодарен, но денег мне не надобно, оставьте их себе, дабы ваша донна не сказала, что вы ими худо распорядились.
Мессер Джаннетто на это ответил:
— Уверяю вас, моя донна столь великодушна, столь любезна и добра, что если я истрачу и вчетверо больше денег, то она не станет возражать; к тому же она сама хотела, чтобы я взял с собой много больше.
Тут судья спросил:
— Хорошо ли вам с нею?
Мессер Джаннетто отвечал:
— В целом свете нет такой души, которую я любил бы более, чем ее. Столь благоразумна она и столь прекрасна, что природа не могла бы сотворить лучше, и если вы не откажете мне в удовольствии поехать вместе со мною, то полюбуетесь, какие она окажет нам почести, и сами увидите, так ли это, как я говорю, а может, и того лучше.
— Нет, — отвечал судья, — не могу я поехать с вами, у меня дела. Но раз вы говорите, что она столь благодетельна, то, когда увидитесь с нею, передайте от меня привет.
— Непременно, — отвечал мессер Джаннетто, — однако я хочу, чтобы вы взяли эти деньги.
Пока он так говорил, судья заметил на его руке перстень и сказал:
— Я не хочу никаких денег; отдайте мне ваш перстень. Мессер Джаннетто отвечал:
— Так и быть, отдам, но скрепя сердце, потому что донна моя, подарившая мне этот перстень, велела носить его всегда, и если он исчезнет, то она подумает, будто я отдал его другой женщине, и очень обидится на меня, решив, что я влюбился в кого-то; а ведь я люблю ее больше самого себя.
Судья сказал:
— Конечно, она вас тоже очень любит и, несомненно, так подумает; ну, а вы скажете, что подарили его мне. Впрочем, вы, наверное, собирались оставить его здесь на память какой-нибудь давней любовнице?
На это мессер Джаннетто молвил:
— Столь велика моя любовь и преданность ей, что нет на свете женщины, на которую я променял бы ее; она совершенна и прекрасна во всем.
С этими словами он снял с руки перстень и отдал его судье, после чего они с большим почтением обняли друг друга. Судья сказал:
— Можно ли вас попросить об одном одолжении?
— Разумеется, — отвечал Джаннетто.
— Тогда не оставайтесь дольше здесь, — сказал судья, — а поспешите-ка к вашей донне.
Мессер Джаннетто молвил:
— Мне кажется, будто я уже тысячу лет не видел ее.
На том и распрощались. Судья сел в барку и отправился с богом, а мессер Джаннетто устроил большое торжество: обеды, ужины и щедро одарил своих друзей конями и деньгами. После чего, распрощавшись со всеми венецианцами, взял с собою мессера Ансальдо и тронулся в путь. Вместе с ним поехали многие из его старых друзей. И почти все мужчины и женщины, провожая его, обливались в умилении слезами, столь полюбился он каждому, еще когда жил в Венеции. Так он уехал и возвратился в Бельмонте. Донна же вернулась туда раньше, сказала, что ездила на купания, и, переодевшись в женское платье, повелела начать большие приготовления: украсить парчой улицы, облачить в доспехи целые отряды рыцарей. И когда мессер Джаннетто вместе с мессером Ансальдо прибыли домой, то все бароны и весь двор вышли им навстречу с возгласами:
— Да здравствует синьор! Да здравствует синьор!
А как въехали в ворота, донна кинулась обнимать мессера Ансальдо и сделала вид, что обижена на мессера Джаннетто, коего любила более самой себя. Собрались бароны, дамы, пажи, и началось великое празднество с турнирами, парадами рыцарей, танцами и песнопениями. Однако мессер Джаннетто, видя, что на лице жены нет привычной ласковой улыбки, удалился в покои и, позвав ее туда, спросил:
— Что с тобой? — и хотел ее обнять. Но донна сказала:
— Ни к чему эти нежности: я прекрасно знаю, что ты в Венеции встречался со своими прежними полюбовницами!
Мессер Джаннетто стал отрицать. Донна сказала: — А где же мой перстень? Промолвил тут мессер Джаннетто:
— То, что я и предполагал, случилось. Я так и знал, что ты обо мне плохо подумаешь. Но клянусь моей верностью богу и тебе, что перстень я подарил тому судье, который выиграл для меня дело.
Донна же сказала:
— А я клянусь моей верностью богу и тебе, что ты подарил кольцо женщине, я знаю; и не совестно тебе божиться!
Воскликнул мессер Джаннетто:
— Да покарает меня десница божья, если я говорю неправду! Я ведь так и говорил судье, когда он попросил у меня перстень.
Донна же отвечала:
— Ты мог бы отправить сюда мессера Ансальдо, а сам оставался бы там да нежился со своими полюбовницами; они, наверное, все рыдали, когда ты уезжал.
Тут уж и мессер Джаннетто разрыдался и в отчаянии произнес:
— Ты утверждаешь то, чего не было.
Донна, увидев его слезы, почувствовала, словно нож острый вонзился ей в сердце, и, бросившись к мужу с объятиями и показав перстень, весело рассмеялась и обо всем ему рассказала, — и что он говорил судье, и как она была этим судьей, и как он отдал судье перстень. Мессер Джаннетто был до крайности поражен, но, увидя, что все так и было, как она говорит, возликовал и, выбежав из комнаты, поведал эту историю своим друзьям и баронам. Оттого любовь между ними обоими лишь возросла и умножилась. А после мессер Джаннетто позвал ту самую служанку, что научила его в тот вечер не пить вина, и отдал ее в жены мессеру Ансальдо. Так в веселье да радости они прожили всю свою долгую жизнь.
В давние времена и особенно в век минувший город Флоренция изобиловал людьми веселыми и остроумными. Случилось, что в год 1409, совсем как то бывало когда-то, в один из воскресных вечеров у Томмазо Пекори[20], человека весьма любезного, умного и большого любителя пошутить, собралось за ужином почетное общество, были тут городские магистраты[21], служащие Синьории, а также мастера искусств смешанных и прикладных, иначе сказать, живописцы, ювелиры, скульпторы, инкрустаторы, резчики по дереву и другие подобные им умельцы. Мастера эти часто собирались у Томмазо, потому что он извлекал из общения с ними превеликое для себя удовольствие. Весело отужинав и усевшись подле очага, ибо стояла зима, собравшиеся принялись беседовать о разных забавных вещах, большей частью рассуждая о предметах, имеющих касательство до их ремесла и профессии. За беседой кто-то спросил:
— А что это с нами нет Манетто[22], инкрустатора и резчика по дереву? (Такое имя носил мастер, прозванный Грассо за его толщину.)
На что последовал ответ, что его-де звали, но уговорить прийти не смогли, а почему — неизвестно.
Названный инкрустатор и резчик по дереву держал лавку на площади Санто-Джованни и в своем ремесле почитался в те времена одним из искуснейших мастеров Флоренции; особенно прославился он отделкой алтарей, тут с ним не мог соперничать ни один резчик. Подобно большинству толстых людей, был он на редкость добродушен и, сказать по правде, несколько простоват. Ему исполнилось лет двадцать восемь, и так как он отличался большим ростом и тучностью, то обычно все его звали Грассо. Но простоватость его бросалась в глаза лишь очень проницательным людям, ибо дураком он отнюдь не был. Поскольку обычно он проводил время в компании, собиравшейся у Томмазо Пекори, то отсутствие его давало повод строить разного рода догадки о причине, заставившей его не прийти. Отыскать ее, однако, не удалось, и тогда присутствующие решили, что он остался дома из-за какой-нибудь своей причуды, ибо некоторая чудаковатость за ним замечалась. А так как почти все из собравшихся были гражданами более богатыми и почтенными, нежели Грассо, то они сочли себя этим несколько оскорбленными и принялись обдумывать, как бы отомстить ему за учиненную им обиду. Один из них предложил:
— А не разыграть ли нам его как-нибудь? Проучим его — впредь будет умнее.
— Недурно было бы, — подхватил другой, — заставить его обманом заплатить за ужин, в котором он не участвовал.
В числе собравшихся находился Филиппо ди сер Брунеллеско[23], человек изумительного ума и таланта, как это ныне всем хорошо известно. Ему было в ту пору тридцать два года. Часто имея дело с Грассо, он знал того как облупленного и нередко над ним подтрунивал. Поэтому, подумав малость, он сказал:
— Ну, он у меня и попляшет. Вместо того чтобы мстить ему за то, что он не пришел нынче вечером, мы сыграем с ним отменную шутку, которая очень всех нас повеселит и доставит нам много радости. Положитесь на меня, и я сделаю так, что он уж попляшет. Я придумал, как нам убедить его в том, будто он превратился совсем в другого человека и что он уже вовсе не резчик по дереву, прозванный Грассо. — И тут Филиппо усмехнулся, потому что у него имелась такая привычка, а также потому, что был он человек очень уверенный в себе.
Несмотря на то что упомянутая компания знала великие таланты Филиппо, ибо они проявлялись во всем, что бы он ни делал и за что бы ни принимался (а тот воистину слеп, кто не зрит света солнца), и хотя каждому из присутствующих была великолепно известна простота Грассо, никто из них не поверил, что возможно осуществить то, о чем он им сказал. Тогда Филиппо с помощью тонких и убедительных доводов, приводить которые он был мастак, Доказал им, что сие очень даже возможно. После чего, договорившись держать это дело в тайне, они весело порешили осуществить свою месть и заставить Грассо поверить в то, что он превратился в некоего человека по имени Маттео, хорошо известного некоторой части собравшихся, а также и самому Грассо. Решение сие было принято под громкий хохот всей компании, а затем почти все разошлись по домам.
Начало этой забавной истории не заставило себя ждать. На следующий же вечер она развернулась таким манером: Филиппо, будучи близким другом Грассо и зная обо всех его делах не хуже, чем он сам, ибо Грассо в простоте душевной ему обо всем рассказывал (не будь этого, Филиппо никогда бы не удалось осуществить своего замысла), отправился к приятелю в тот самый час, когда ремесленники обычно запирают свои лавки, дабы потом работать дома при светильнике. Филиппо знал об этом, ибо он множество раз бывал у Грассо по вечерам. Когда они немного поговорили, в лавку, как то было договорено заранее, запыхавшись прибежал мальчик и спросил:
— Нет ли тут Филиппо ди сер Брунеллеско?
— Вот он я, — ответил Филиппо, поднимаясь к нему навстречу. — Чего тебе надобно?
— Ступайте скорее домой! — сказал мальчик.
— Господи, помилуй! — воскликнул Филиппо. — Что стряслось?
— Мне велено бежать за вами, потому что два часа назад с нашей матушкой случился удар; она при смерти, так что поторопитесь.
Филиппо, сделав вид, что весьма поражен случившимся, и еще раз препоручив себя богу, попросил Грассо извинить его. Тот, как истинный друг, предложил:
— Я пойду с тобой, — может, что понадобится: в таких случаях лишний человек никогда не помешает. Дай только запру лавку.
Но Филиппо, поблагодарив его, отказался:
— Не надо, пока не ходи. Не думаю, чтобы стряслось что-либо серьезное. Если же возникнет такая нужда, я за тобой пришлю. Подожди меня немного в лавке и никуда из нее не отлучайся, что бы там ни случилось. Ну, а если я за тобой не пришлю, ступай по своим делам.
Филиппо ушел, задержав Грассо в лавке. Сделав вид, будто спешит домой, он свернул за угол и направился к дому Грассо, стоявшему неподалеку от церкви Санта-Мария-дель-Фьоре. Открыв входную дверь с помощью ножа, — а он знал, как это делается, — Филиппо вошел внутрь и заперся на засов, так что теперь в дом войти никто бы уже не смог. Вместе с Грассо жила его мать, но как раз в эти дни она уехала в деревню, в Польверозу[24], чтобы постирать белье, засолить мясо и еще по каким-то хозяйственным делам. Грассо ждал ее назад со дня на день и потому не запер дверь как следует. Филиппо все это было доподлинно известно.
Грассо побыл некоторое время в лавке, а потом ушел, заперев ее. Однако, дабы ни в чем не нарушить данное им Филиппо обещание, он еще немного походил по улице подле лавки, приговаривая: «Должно быть, дела у Филиппо не так уж плохи, я ему не понадобился». С этими словами он отправился домой. Поднявшись по двум ступенькам к входной двери дома, он хотел было, как всегда, отворить ее, но после нескольких неудачных попыток понял, что дверь заперта изнутри. Тогда он сильно постучал и крикнул:
— Эй, кто там в доме? Отворите! — Он решил, что вернулась мать и заперлась на засов, то ли из осторожности, то ли потому, что не ждала его в такой час.
Филиппо, поднявшись на лестничную площадку и очень похоже подражая голосу Грассо, спросил:
— Кто там стучит?
Грассо, услышав, что это голос вовсе не его матери, ответил:
— Это я — Грассо.
Тогда Филиппо сделал вид, будто он разговаривает с тем самым Маттео, в которого, согласно его замыслу, Грассо должен был превратиться, и проворчал:
— Знаешь что, Маттео, ступай себе с богом. У меня и без тебя забот хватает. Только что в моей лавке был Филиппо ди сер Брунеллеско. А потом прибежали и сказали, что его матушка при смерти. Поэтому вечер у меня выдался не из легких. — И, прикинувшись, будто он обращается к своей матери, сказал:
— Дайте же мне поужинать. Я ждал вас еще два дня назад, а вы вернулись только нынче ночью. — И он принялся браниться.
Грассо, услышав, как кто-то бранит его мать, и распознав, как ому показалось, не только собственный голос, но и всю свойственную ому манеру выражаться, сказал самому себе: «Что же это такое? Мне кажется, что там за дверью стою я сам. Человек этот уверяет, будто Филиппо находился в его лавке, когда пришли сказать, что его матушка заболела; вдобавок он кричит на донну Джованну, и у него совершенно мой голос. Уж не рехнулся ли я?» Грассо сошел с крыльца и немного отошел от дома, желая покричать в окно, но тут же столкнулся, как то было заранее условлено, с Донателло, ваятелем[25] (его великий талант известен каждому), который принадлежал к названной компании и был приятелем Грассо. Тот, словно бы в сумерках не сразу признав его, сказал:
— Добрый вечер, Маттео. Ты ищешь Грассо? Он только что вошел в дом. — И, не останавливаясь, пошел по своим делам.
Услышав, что Донателло назвал его Маттео, Грассо, который и без того находился в большом изумлении, изумился еще более. Столь ошеломленный и ошарашенный всем этим, что в голове его «да» и «нет» творили спор жестокий[26], он вернулся назад, на площадь Санто-Джованни, говоря себе: «Буду стоять здесь до тех пор, пока не пройдет кто-нибудь, кто меня знает, и не скажет, кто я такой». Потом он добавил: «Увы, я, верно, не лучше Каландрино[27]: превратился в другого человека и сам того не заметил».
Пока он стоял посреди площади вне себя от изумления, его, как было условлено, настиг судебный пристав, сопровождаемый шестью стражниками из Меркатанции[28]. Вел их горожанин, притворившийся кредитором того самого Маттео, которым уже начал считать себя Толстяк. Приблизившись к Грассо, горожанин этот обернулся к приставу и стражникам и сказал:
— Отведите Маттео в тюрьму: он — мой должник. Долго я тебя выслеживал и наконец поймал.
Тут пристав и стражники хватают Грассо и тащат его за собой. Тот, упираясь что есть мочи, вопит, обращаясь к горожанину, приказавшему его схватить:
— Что я тебе сделал? Вели им меня отпустить. Я совсем не тот, за кого ты меня принимаешь. У меня не было с тобой никаких дел, и ты ведешь себя по-свински, учиняя мне такую обиду. Я — Грассо, резчик по дереву, а вовсе не Маттео, и я не знаю, о каком Маттео ты говоришь. — И, будучи человеком рослым и весьма сильным, он принимается колотить стражников. Но те тут же скручивают ему руки назад, а кредитор выходит вперед, пристально смотрит ему в лицо и говорит:
— Что такое? У тебя не было со мной никаких дел? Ну конечно, я не знаю, кто такой Маттео, мой должник, и кто такой Грассо, резчик по дереву! Ты записан в моей долговой книге, и вот уже больше года, как у меня на руках приговор суда. Ну так как, ты но знаком со мной? И этот мошенник уверяет еще, что он не Маттео! Ведите его! На сей раз тебе придется раскошелиться, теперь ты у меня не отвертишься! Там мы увидим, ты это или не ты!
Переругиваясь с Грассо, они потащили его в Меркатанцию. Так как подошел час ужина и совсем стемнело, то по дороге они но встретили никого, кто бы узнал Грассо.
Когда они привели его в Меркатанцию, писец, зная уже обо всем от Томмазо Пекори, с коим он поддерживал добрые отношения, сделал вид, будто он занес имя Маттео в книгу предварительных записей, именуемую «потаскушка», и отправил его в каземат. До заключенных донеслись крики и несколько раз произнесенное имя Маттео; поэтому, как только он среди них появился, они, ни о чем его больше не спрашивая, величали его, приветствуя, Маттео, словно его так и звали. Случилось, что в каземате не оказалось никого, кто бы хорошо знал Грассо, а не только в лицо. Видя, как все заключенные при каждом удобном случае именуют его Маттео, Грассо почти окончательно уверовал, что в него вселился другой человек. И когда его спросили, за что его засадили, то он ответил:
— Я немного задолжал, но завтра же утром я со всем этим разделаюсь.
На что заключенные ему сказали:
— Видишь, мы собрались ужинать, поужинай вместе с нами, а поутру ты все уладишь; однако мы должны предупредить тебя: здесь засиживаешься гораздо дольше, чем поначалу предполагаешь. Дай бог, чтоб с тобой не случилось того же.
Грассо принял их предложение и немного поел. Когда он поужинал вместе с остальными заключенными, один из них уступил ему край своего ветхого ложа, сказав:
— Маттео, устраивайся здесь на нынешнюю ночь, а завтра утром, коли выйдешь отсюда — ладно, а не выйдешь — посылай домой за вещичками.
Грассо поблагодарил и улегся, насколько мог, удобнее.
Человек, разыгравший роль кредитора, сделал в Меркатанции все, что ему казалось нужным, и встретился с Филиппо ди сер Брунеллеско. Тот расспросил его во всех подробностях о том, как был задержан Грассо и как его отвели в тюрьму, а затем отправился домой.
Тем временем Грассо, ворочаясь на жалкой подстилке и размышляя о случившемся, говорил себе: «Как же мне быть, если я превратился в Маттео? А о том, что это так, я заключаю по многим виденным мною признакам, да и все вокруг твердят о том же. И что еще за человек этот Маттео? Пойду я завтра домой, а дома — Грассо, ведь я его там слышал, — они надо мной только посмеются».
Терзаемый такого рода раздумьями, то говоря себе, что он — Маттео, то убеждая себя в том, что он — Грассо, бедняга промучился до утра, почти не смыкая глаз и не зная покоя от одолевавших его кошмаров. Утром, поднявшись вместе со всеми, он встал у дверного окошка, твердо рассчитывая, что мимо пройдет кто-нибудь из его знакомых и разрешит все те сомнения, в которые его погрузила минувшая ночь. Вскоре в Меркатанцию зашел Джованни ди мессер Франческо Ручеллаи[29], который принадлежал к их компании, присутствовал на ужине, где был составлен веселый заговор, и близко знал Грассо. Как раз на днях он заказал Грассо резной верх для доски с изображением божьей матери и за день до этого долго просидел у него в лавке, торопя его с выполнением заказа, так что Грассо обещал ему, что закончит работу дня через четыре. Войдя в Меркатанцию, Джованни заглянул в прихожую, куда выходило окошко каземата, помещавшегося в подвале.
У окошка стоял Грассо. Заметив Джованни, он уставился на него и заулыбался. Джованни, сделав вид, будто он ищет кого-то, посмотрел на Грассо так, словно бы он его никогда не видел, ибо с Маттео он знаком не был и даже в лицо его не знал.
— Над чем смеешься, приятель? — удивился Джованни.
— Ни над чем, — сказал Грассо и, поняв, что Джованни его не узнал, спросил: — Уважаемый, не знаете ли вы некоего человека по имени Грассо? Он еще держит лавку на площади Санто-Джованни и занимается резьбой по дереву.
— Ты это мне? — удивился Джованни. — Ну конечно же, я его знаю. Мы с ним приятели, я только что намеревался заглянуть к нему: он делает для меня кой-какую работенку. Это он тебя сюда упек?
— Нет, что вы, боже упаси! — воскликнул Грассо. Потом добавил: — Извините, я хочу попросить вас об одной услуге, но только никому об этом не рассказывайте. Раз уж вы все равно к нему идете, передайте ему, пожалуйста, следующее: «В Меркатанции сидит твой друг, и он просит тебя зайти к нему на пару слов».
— А как тебя звать? — спросил Джованни, внимательно разглядывая его и с трудом удерживаясь от смеха. — Как мне объяснить, кто меня послал? (Ему хотелось, чтобы Грассо сам назвал себя Маттео, дабы иметь возможность потом как-нибудь досадить ему.)
— Это неважно, — ответил Грассо. — Скажите, как я сказал, и все.
— Ну, все так все. Охотно исполню твою просьбу, — пообещал Джованни и ушел. Потом он разыскал Филиппо и, смеясь, рассказал ему о том, чему стал свидетелем.
Стоя у тюремного окошечка, Грассо говорил себе: «Ох, теперь я окончательно убедился в том, что я больше не Грассо. Джованни Ручеллаи не спускал с меня глаз, и, хоть он каждый день торчит в моей лавке, он все-таки меня не признал, а ведь он не рехнулся и память у него не отшибло. Конечно, я больше не Грассо, я превратился в Маттео. Проклятье, что за напасть! Если это откроется, я буду опозорен, меня сочтут сумасшедшим, за мной станут бегать мальчишки и на меня обрушится множество бед. А кроме того, как мне расплатиться с чужими долгами? Как бы опять не попасть впросак? И ведь не с кем посоветоваться! О таком никому и не расскажешь. Бог знает что меня ждет. Как бы там ни было, дела мои плохи. Посмотрим, не придет ли Грассо. Коли он придет, я, может, и разберусь в этом деле. Уж не превратился ли Маттео в меня?» И, теша себя такого рода мечтами, он долго поджидал Грассо. Но Грассо не появился, и он отошел от окна, уступив свое место другому заключенному, после чего, скрестив на груди руки, он принялся созерцать то пол, то потолок.
Неизвестный флорентийский художник XV в.
Сад любви.
Гравюра резцом.
В те самые дни в вышеозначенной тюрьме сидел за долги судья, имя которого здесь лучше не называть[30], человек весьма почтенный, столь же прославившийся своими литературными трудами, как и глубокими знаниями законов. Не будучи знаком с Грассо и ничего о нем не ведая, судья этот, видя Грассо сильно опечаленным, решил, что тот убивается из-за тяготеющего над ним долга; а так как собственные дела его уладились и они ему больше не докучали (его должны были выпустить с часа на час), то он задумал, как свойственно некоторым людям, утешить Грассо и сказал:
— Полно, Маттео, ты горюешь так, словно тебе предстоит расстаться с жизнью или претерпеть ужасный позор, а ведь, по твоим словам, за тобой числится всего лишь небольшой долг. Не годится так падать духом, попав в беду. Почему бы тебе не обратиться к друзьям или родственникам? Неужели у тебя нет близких? Пусть они заплатят твои долги или попытаются как-нибудь вызволить тебя из тюрьмы. Не печалься!
Видя, что судья утешает его столь дружески и ласково, Грассо не ответил ему, как это, вероятно, сделал бы другой на его месте такими словами: «А почему бы вам не заняться собственными делами?» — а принял более разумное решение, ибо почитал названного судью за человека вполне приличного. Ему пришло на ум поговорить с ним со всем должным почтением, невзирая на то, что оба они сидели в одной и той же тюремной камере, и чистосердечие поведать ему обо всем, что с ним произошло. Отозвав судью в угол, он сказал ему:
— Мессер, хотя вы меня и не знаете, я знаю вас очень хорошо, и мне ведомо, что вы человек весьма достойный. Проявленная вами по отношению ко мне человечность заставляет меня открыться вам, что повергло меня в тоску, ибо я не хочу, чтобы вы думали, будто я, хоть я и бедный ремесленник, придаю слишком большое значение какому-то жалкому долгу. Нет, меня тяготит совсем другое, но такого, верно, ни с кем не случалось.
Судья немало подивился подобным словам и приготовился внимательно слушать.
Грассо, с трудом удерживая слезы, рассказал ему обо всем с начала до конца и настойчиво умолял его о двух вещах: во-первых, пощадить его честь и никому ни о чем не рассказывать, а во-вторых, дать ему совет и средство от постигшей его беды.
— Я знаю, — сказал он, — что вы много читали о делах, творившихся в наше время и в древности, о людях, попадавших в разные передряги. Скажите, не приходилось ли вам сталкиваться с чем-нибудь подобным?
Выслушав Грассо, многоопытный судья сразу же решил, что тот либо, будучи человеком малодушным, повредился в уме от чрезмерных огорчений, причиненных ему нынешними или какими-то другими несчастьями, либо же, как это и было на самом деле, стал жертвой чьей-нибудь шутки. Дабы получше в сем разобраться, он ответил Грассо, что ему не однажды приходилось читать о превращениях одного человека в другого и что случай этот сам по себе не новый и вовсе не необычный; более того, случались вещи и похуже — когда люди превращались в домашних и диких животных, так было, например, с Апулеем[31], который превратился в осла, или с Актеоном[32], превратившимся в оленя.
— Пишут и о многих других подобного рода казусах, — добавил судья, пряча улыбку, — но они как-то не приходят мне на ум.
— Вот это да! — воскликнул Грассо, принимавший на веру каждое его слово. — Никогда бы этому не поверил. Но скажите мне, пожалуйста, — если я, который прежде был Грассо, стал теперь Маттео, то что же случилось с Маттео?
— Ему неизбежно пришлось превратиться в Грассо, — ответил ученый судья. — Тут одно вытекает из другого, и так всегда бывает, насколько я могу судить, основываясь на том, что мне довелось прочесть и увидеть собственными глазами. По-иному и быть не может. Хотелось бы мне сейчас на него взглянуть, забавное, верно, зрелище!
— Смотря для кого! — ответил Грассо.
— Да, это большое несчастье, — согласился судья. — Избави бог от него всякого, ведь оно может обрушиться на любого из нас. У меня когда-то был работник — так с ним произошел точно такой же случай.
Грассо громко вздыхал, не зная, что сказать, а судья продолжал:
— То же самое читаем мы о спутниках Улисса и других странниках, обращенных Цирцеей в животных. Насколько мне известно по слухам, а также из книг, некоторым удавалось принять сноп прежний облик, но, если не ошибаюсь, случалось сие крайне редко и только тогда, когда болезнь не была слишком запущена.
Судье хотелось еще больше задурить Грассо, и тот, послушав его, впал в полную растерянность.
В таком состоянии, с пустым брюхом, пробыл он до полудня, когда в Меркатанцию явились два брата Маттео и спросили у секретаря кассы, не содержится ли у них под арестом их брат по имени Маттео, ибо, если он тут, им хотелось бы вызволить его из тюрьмы. Секретарь ответил, что да, такой человек здесь имеется, и, сделав вид, будто справляется по книге, сказал:
— Он посажен за долг в такую-то сумму по требованию такого-то.
— Сумма великовата, — заметил один из братьев. Затем они сказали:
— Мы хотели бы потолковать с ним, прежде чем отдать распоряжение выплатить его долг.
Братья прошли в тюрьму и сказали заключенному, стоявшему подле зарешеченного окошка:
— Передайте Маттео, что пришли его братья, пусть подойдет на минутку.
Они заглянули в камеру и отлично разглядели судью, который как раз в это время беседовал с Грассо. Получив известие об их приходе, Грассо осведомился у судьи, чем кончилось дело с его работником, и, услышав, что тот так и не вернулся в свой прежний облик, вконец расстроенный, подошел к окошечку и поздоровался с братьями. Старший из них тут же принялся ему выговаривать:
— Ты опять взялся за свое, Маттео. — Говоря это, он смотрел ему прямо в лицо. — Сколько раз мы остерегали тебя от дурных поступков и сколько раз вызволяли тебя как из этой, так и из других тюрем. Но тебе говорить — что о стенку горох: ты ведешь себя только хуже. Как мы до сих пор ухитрялись вызволять тебя, одному богу известно. Ведь ты растратил целое состояние. А было ли когда такое, чтобы ты израсходовал деньги на что-нибудь путное? Нет, ты просто транжиришь их и пускаешь на ветер. Над тобой все смеются. Деньги ведь у нас не краденые — нам они достались очень нелегко. Но, к великому нашему стыду, тебе плевать на это. Кажется, ты даже нарочно издеваешься над своими компаньонами. Ты считаешь, что довольно тебе сказать им: «Вы меня с кем-то перепутали», — и ты уже оправдался. Но ведь это ребячество, а ты уже не мальчик. Уверяем тебя, что, не будь сейчас затронута наша честь и не жалей мы нашу матушку, женщину старую и больную, мы пальцем о палец бы не ударили, чтобы вытащить тебя из тюрьмы. Помни, мы платим за тебя в последний раз. Попадешься снова — посылай за кем знаешь. Тогда уж ты насидишься вдоволь. Ну да ладно, на сегодня с тебя хватит.
И, немного поразмыслив, старший брат Маттео продолжал:
— Дабы не выставлять каждый день перед всем честным народом твои безобразия, мы зайдем за тобой позже, когда отзвонят к вечерне: тогда на улицах будет поменьше людей, которые могли бы узреть наш позор, и нам будет за тебя не так стыдно.
Грассо кротко поблагодарил братьев, ибо теперь он ничуть не сомневался в том, что он — Маттео (ведь они ради него раскошелились и все время смотрели ему прямо в лицо, а было совсем светло), и заверил их в том, что впредь никогда больше не доставит им хлопот и откажется от своих дурных привычек, а коли ему все-таки случится совершить какой-либо проступок, то пусть они тогда не обращают внимания ни на него, ни на мать, ни на все, что он станет говорить в свое оправдание. Окончательно уверившись в том, что он — Маттео, он умолял братьев ради бога забрать его в назначенный час. Те обещали сделать это и удалились. Грассо помолчал немного, а потом сказал:
— Никогда бы раньше не поверил, что возможно такое, но теперь я вижу, что вы были совершенно правы. — Потом он спросил: — Значит, этот ваш работник так никогда и не вернул себе свое прежнее обличье?
— Увы, к сожалению, нет, — ответил судья.
Грассо испустил глубокий вздох, затем промолвил задумчиво:
— Хорошо, они меня вытащат отсюда, а куда я пойду? Куда я вернусь? К себе домой я, видимо, не смогу вернуться. Где теперь мой дом? Ну и положение! Давайте прикинем, — сказал он, обращаясь к судье. — Ведь если у меня дома сидит Грассо, — а что он там, я слышал своими собственными ушами, — что мне сказать ему, чтобы он не счел меня сумасшедшим или вконец одураченным человеком? Вы только представьте: я являюсь к себе домой, а Грассо, который в это время там, спросит: «Ты что — рехнулся?» Или, предположим, его нет дома, он приходит позже, застает меня — и что дальше? Кому тогда следует остаться, а кому уйти? А знаете, — продолжал он, — не будь я сейчас дома, моя мать давно хватилась бы меня и отыскала где угодно, хоть на луне. Но так как тот самый человек торчит у нее перед глазами, она не замечает, что произошло.
Судья еле сдерживался, чтобы не расхохотаться, получая от всего этого превеликое удовольствие.
— Нет, не ходи домой, — сказал он. — Ступай с теми, кто назвался твоими братьями. Погляди, куда они тебя отведут и как они с тобой будут держаться. Что ты теряешь? Во всяком случае, они заплатят твои долги.
— Правильно, — согласился Грассо. А судья продолжал:
— Выйдя из тюрьмы и сделавшись их братом, ты, может быть, заживешь лучше прежнего. Возможно, они, богаче тебя.
Пока они рассуждали таким образом, наступил вечер. Судье показалось, что прошла целая вечность, ибо его так и распирал смех, а засмеяться ему было никак невозможно. Братья Маттео находились там же, в Меркатанции, и, не уставая хохотать, дожидались своего часа. Они видели, как освободили судью, который держал себя при этом с таким достоинством, словно он зашел сюда к стряпчему похлопотать за одного из своих клиентов, и как судья отправился домой. После чего братья предстали перед писцом, сделав вид, будто расплатились с долгами, внеся деньги в кассу. Писец опять приподнялся со своего стула. Держа тюремные ключи в руке, он подошел к каземату и крикнул:
— Эй, кто из вас Маттео? Грассо, выйдя вперед, сказал:
— Это я, мессер. — У него не осталось ни малейшего сомнения в том, что он превратился в Маттео.
Писец оглядел его и промолвил:
— Тут твои братья заплатили твой долг, так что теперь ты свободен. — Он отпер тюремную дверь. — Выходи!
Когда Грассо вышел на улицу, было уже совсем темно. Он счел, что легко отделался, не заплатив ни гроша. А так как он целый день ничего не ел, то ему прежде всего захотелось отправиться домой. Однако, вспомнив, что в прошлый вечер он слышал у себя в доме голос Грассо, он передумал и решил последовать совету судьи. Он пошел с людьми, выдававшими себя за его братьев и жившими подле церкви Санта-Феличита. Пока он тащился за ними, они бранили его, но уже не столь сурово, как в тюрьме, а незлобиво и благодушно; они рассказали ему о горе, которое он доставил матери, и напомнили о всех прежних многочисленных обещаниях исправиться. Затем они спросили, чего это ему вздумалось назваться Грассо: действительно ли ему померещилось, что он Грассо, или же он поступил так, дабы выдать себя за другого и тем самым увильнуть от ареста. Грассо не знал, что ответить, и уже жалел, что пошел с ними. Выдать себя за Маттео ему было не по душе. «А с другой стороны, — твердил он себе, — коли я опять заявлю, что я — Грассо, они, чего доброго, от меня вовсе отступятся и я лишусь и их, и своего дома». Поэтому он обещал братьям, что больше так поступать не будет, но на вопрос о том, Грассо он или нет, промолчал, желая выиграть время.
Тем часом они подошли к дому. Войдя в дом, братья провели его в подвальную комнату и сказали:
— Пока что посиди здесь, ведь сейчас — ужин. — Они сделали вид, будто им не хочется показывать его матери, чтобы не расстраивать ее. В комнате горел очаг и стоял накрытый стол. Один из братьев уселся с Грассо подле очага, а другой отправился в церковь Санта-Феличита, к приходскому священнику, который славился своей добротой. Придя к нему, он сказал:
— Я зашел к вам, как сосед к соседу, а также как к нашему духовнику. Дабы вам все стало ясно и вы могли нам лучше пособить, скажу, что нас три брата и что живем мы совсем неподалеку от вас, как то вам, вероятно, ведомо.
— Да, да, — согласился священник, который знал их vel circa[33].
— Так вот, одного из нас зовут Маттео. Вчера его посадили за долги в Меркатанцию. Поскольку нам не первый раз приходится вызволять его оттуда, случай этот поверг его в столь великое горе, что он, кажется, тронулся в уме. Мы полагаем, что виной всему этот случай, ибо во всем прочем он остался почти тем же самым Маттео, каким был всегда. Помешательство же его состоит в том, что он вбил себе в голову, будто он больше не Маттео, ибо он-де превратился совсем в другого человека. Слышали ли вы хоть что-нибудь подобное! Он уверяет, что он — некий Грассо, резчик по дереву. Грассо этот, впрочем, его приятель, он держит лавку на Санто-Джованни, а живет подле Санта-Мария-дель-Фьоре. Мы всячески пытались вразумить его, но у нас ничего не получилось. Поэтому мы забрали его из тюрьмы, отвели домой и поместили в отдельной комнате, дабы никто не проведал о его безумствах. Ведь вы знаете, стоит кому-нибудь хоть раз обнаружить признаки умопомрачения, как потом, будь он здоровее здоровых, ему все равно никогда уж не избежать насмешек. А кроме того, если паша матушка узнает обо всем прежде, чем он придет в себя, она может расхвораться. Разве тут угадаешь? Женщины вообще существа малодушные, а она к тому же стара и слаба. Вот почему, поразмыслив, мы решили просить вас ради Христа прийти к нам домой (всем известно, что вы человек знающий и порядочный, и мы понимаем, что совесть не позволит вам разгласить наш позор; посему мы и положили не обращаться ни к кому другому). Постарайтесь, пожалуйста, выбить из его головы эту дурь, и мы вам вечно будем признательны, да и перед богом у вас появится заслуга, не говоря уж о том, что вы послужите спасению души одной из ваших заблудших овечек. Ведь если вы не вправите ему мозги, он умрет безумным, в смертном грехе и, вероятно, будет осужден на вечные муки.
Священник ответствовал, что все сие верно, что в том состоит его долг и что он не только согласен помочь им, но не пожалеет ради этого своих сил. И то была чистейшая правда, ибо был он по натуре своей человеком не только обязательным, но и услужливым. Затем, поколебавшись немного, священник молвил:
— Возможно, дело сие таково, что труды мои не окажутся напрасными. Сведите меня с ним. — Но тут же добавил: — Если это не опасно.
— Пресвятая Мария! — воскликнул брат Маттео. — О, я вас понял. Вы хотите спросить, не буйный ли он.
— Ты же знаешь, — сказал священник, — в таком состоянии человек может не посмотреть не то что на священника, а и на отца родного. Ведь ему все представляется совсем в ином свете, чем есть на самом деле.
— Святой отец, я вас понял. Вы совершенно правы, задавая мне подобный вопрос. Но, как я вам уже говорил, брат наш скорее тронутый, чем одержимый. Со стороны вы даже не заметите, что он свихнулся. Будь он буйным, мы ни на что бы больше не надеялись и не старались попусту, ибо никто или почти никто из буйных никогда не исцелялся. О нашем же брате можно сказать, что он скорее немного сбился с пути, чем пропал безвозвратно. Поэтому нам очень хотелось бы, чтобы наша матушка ни о чем не узнала. И поскольку мы не потеряли надежду на его исцеление, мы к вам и обратились со своей бедой.
— Коли так, — ответствовал священник, — мне надобно на него взглянуть и сделать все от меня зависящее. Помочь человеку в подобном состоянии — долг каждого. Я понимаю, что здоровье вашей матери, как вы сказали, подвергается сильной опасности, и постараюсь, если возможно, избавить ее от огорчений.
После чего брат Маттео отвел священника к себе домой и проводил его в комнату, где находился Грассо.
Грассо сидел, погруженный в свои мысли. Увидев рясу, он встал.
— Добрый вечер, Маттео, — сказал свящепник.
— Добрый вечер и всего вам доброго, — ответил Грассо.
— Вот и ладно. — Священнику показалось, что тот совершенно здоров; он взял Грассо за руку и продолжал: — Маттео, я пришел немного побыть с тобой.
Подвинув к себе скамейку, он уселся у очага подле Грассо. Обнаружив, что тот не порывается настаивать на том, что он — Грассо, священник усмотрел в сем добрый признак и жестами показал приведшим его, что пока все идет хорошо. Он кивнул братьям, прося их покинуть комнату, и повел такие речи:
— Тебе, должно быть, известно, Маттео, что я — священник твоего прихода и твой духовник. Наш долг по возможности поддерживать и дух и плоть наших прихожан. Так вот, я прослышал кой о чем, что меня весьма огорчило; говорят, на днях тебя посадили в тюрьму за долги. Мне хочется, чтобы ты уразумел: в такого рода вещах нет ничего необычного, не ты первый, не ты и последний, и не надо воспринимать это как нечто из ряда вон выходящее. В нашей жизни каждый день приносит такого рода неприятности, иногда меньшие, а порой и гораздо большие. К ним следует всегда быть готовым и проявлять терпение. Говорю тебе сие потому, что, как я слышал, твоя беда повергла тебя в такое уныние, что ты повредился в рассудке. Мужественные люди так не поступают. Там, где это необходимо, они прикрывают себя щитом терпения и провидения, и сие — мудро. А ты дуришь. Мне, между прочим, говорили, что ты заявляешь, будто ты уже не Маттео и что тебе во что бы то ни стало желательно называться другим человеком, по имени Грассо, который занимается резьбою по дереву. Такое упрямство делает тебя в глазах людей посмешищем и приносит тебе мало чести. Право же, ты заслуживаешь суровых порицаний за то, что принимаешь столь близко к сердцу такие пустячные неприятности и выходишь по этой причине из себя. И все из-за каких-то несчастных шести флоринов! Ну мыслимое ли это дело? К тому же долг твой только что заплатили. Дорогой мой Маттео, — продолжал священник, пожимая ему руки, — мне не хотелось бы, чтобы ты и дальше вел себя подобным образом; потому я прошу тебя ради моей любви к тебе (а также ради твоей чести и доброго имени твоих близких, которые показались мне людьми почтенными) — обещай, что ты выкинешь из головы все эти глупые фантазии и станешь заниматься своими делами, как то делают люди порядочные и мало-мальски здравомыслящие. Положись во всем на бога. Ибо кто возлагает на него надежду, надеется не напрасно. Так ты сохранишь честь и сделаешь благо себе, твоим братьям, всем вашим доброхотам, а также и мне. Полно! Или в самом деле такой уж великий мастер сей Грассо, что тебе угодно быть скорее им, нежели самим собой? Или он такой уж богач? Какая тебе от сего выгода? Ведь если даже предположить, что он человек очень достойный и достаточно богатый (хотя, как меня уверяли, ты по способностям своим стоишь чуть ниже его), то, назвавшись им, ты все равно не приобретешь ни его талантов, ни его богатства, буде таковое у него действительно имеется. Послушайся меня, потому как я даю тебе добрый совет. Увы! Если, среди всего прочего, ты накличешь на себя такого рода дурную славу, ты рискуешь, что к тебе станут вечно цепляться мальчишки и весь остаток жизни тебя будут презирать и чураться. Ничего ты на этом не выгадаешь. Обещаю заступиться за тебя перед братьями и уговорить их любить тебя и всегда помогать как доброму брату. Ну же, Маттео, не будь растяпой, стань мужчиной и позабудь обо всей этой ерунде. Что тебе до Грассо? Послушайся меня, я даю тебе добрый совет.
Говоря это, священник ласково глядел Грассо в лицо. Тот же, слыша, с какой любовью он его убеждает и какие хорошие слова находит, вовсе перестал сомневаться в том, что он — Маттео, и тут же ответил, что готов, по возможности, исполнить все, о чем ему говорит священник, и обещает впредь прилагать всяческие усилия, дабы не пытаться более внушать другим людям, как он делал до сих пор, будто он — Грассо, если только он опять не обернется в Грассо; однако он просит священника об одной милости: ему хотелось бы немного потолковать с этим самым Грассо; он считает, что, коли он поговорит с ним, ему будет легче избавиться от своего наваждения; если же он с ним не встретится и не потолкует, то он очень сомневается, удастся ли ему сдержать данное слово.
В ответ священник усмехнулся и сказал:
— Дорогой мой Маттео, все это противоречит твоим же интересам, и я вижу, что ты все еще не образумился. Что значит: «если только я опять не обернусь в Грассо»? Не понимаю, для чего тебе беседовать с Грассо? Какие у тебя с ним дела? Ведь чем больше ты станешь говорить об этом и чем больше людей проведает о твоем несчастье, тем будет хуже.
Он столько всякого наговорил Грассо, что убедил того в том, что ему лучше помалкивать; тем не менее Грассо согласился с ним скрепя сердце.
Выйдя из комнаты, священник рассказал братьям, как он уговаривал Грассо, что тот ему отвечал и как под конец, хоть и с большим трудом, согласился его послушаться. К сему священник добавил, что, конечно, он не слишком красноречив и не знает, так ли он говорил, как требовалось, но сделал он все, что мог. Один из братьев сунул ему в руку порядочную мзду, дабы у него не возникло никаких подозрений, поблагодарил за труды и попросил молить бога о ниспослании им здоровья. Священник зажал деньги в кулак и ушел, направившись в церковь.
Пока священник беседовал с Грассо, пришел Филиппо ди сер Брунеллеско. Сидя в соседней комнате и помирая со смеху, он выслушал рассказ одного из братьев о том, как Грассо вышел из тюрьмы, о чем он рассуждал по дороге и потом, когда очутился в их доме; Филиппо было также доложено о судье, которого братья видели в тюрьме беседующим с Грассо, а затем выходящим на волю. Филиппо все сказанное намотал себе на ус и хорошенько запомнил, увязав с тем, что ему говорил мнимый кредитор, коего он подыскал. Передавая братьям флакон с какой-то жидкостью, он сказал:
— Когда будете ужинать, влейте ему это в вино или куда вам будет угодно, но только так, чтобы он ничего не заметил. Тут — опий. От него он заснет так крепко, что вы сможете колотить его палкой, а он все равно ничего не почувствует и проспит долго.
Договорившись обо всем с братьями, Филиппо ушел.
Братья, войдя в комнату, сели вместе с Грассо ужинать, ибо час был поздний. За ужином они подлили ему снадобья, принесенного Филиппо, не содержащего ни терпкости, ни горечи, так что заметить его было невозможно. Поужинав, они немного посидели у очага, беседуя с Грассо о его дурных привычках и умоляя его постараться от них избавиться, особенно же они просили его ради них и ради матушки перестать дурить, утверждая, будто он превратился в другого человека. Пусть-де он не удивляется их настойчивым просьбам, ибо подобное его поведение — большая оплошность, наносящая им вред не меньший, чем ему самому. Сегодня, к примеру, произошел такой случай. Отправившись за деньгами и проходя по Новому рынку, один из братьев услышал у себя за спиной: «Погляди-ка вон на того, он настолько выжил из ума, что позабыл, кто он такой, и решил, что превратился в другого человека». На что собеседник возразил ему: «Да нет же, это не он, это его брат».
Пока они так беседовали, зелье с опием начало действовать, и у Грассо стали слипаться глаза.
— Послушай, Маттео, — сказали братья, — тебя, кажется, совсем сморил сон. Верно, ты мало спал прошлую ночь?
— Клянусь, — ответил Грассо, — никогда в жизни мне так не хотелось спать.
Тогда братья сказали:
— Отправляйся-ка в постель.
Грассо с трудом разделся, повалился на кровать и заснул, да так крепко, что, как и обещал Филппо, его невозможно было бы разбудить и палочными ударами. При этом храпел он, словно кабан.
В условленный час Филиппо ди сер Брунеллеско вернулся за Грассо с шестью приятелями, ибо тот был человеком высоким и полным. Все они принадлежали к той же компании, что ужинала у Пекори. Удальцы и шутники, они выразили живейшую готовность принять участие в замечательнейшей проделке, в подробности которой, весело хохоча, их посвятил Филиппо. Все они вошли в комнату и, услышав, что Грассо зычно храпит, засунули его вместе с одеждой в корзину и отнесли к нему в дом. Мать его все еще не вернулась из деревни, и они о том знали, ибо зорко наблюдали за домом. Принеся Грассо домой, они уложили его в постель, а одежду его кинули туда, куда он ее обычно складывал. Однако положили они его к изголовью кровати не головой, как он всегда ложился, а ногами. Затем они взяли ключ от лавки Грассо, который висел тут же на гвозде, и отправились в его мастерскую. Войдя в нее, они переложили с места на место все его инструменты: раскидали сверла, стамески, рубанки, молотки, покорежили зубья у пил, словом, так разделали мастерскую, что казалось, будто в ней побывала свора чертей. Перевернув мастерскую вверх дном, они заперли ее и, отнеся ключ в дом Грассо, повесили его на место. После чего заперли входную дверь и разошлись по домам спать.
Одурманенный зельем Грассо проспал всю ночь беспробудным сном. Но на следующий день, когда уже давно светило солнце и в церкви Санта-Мария-дель-Фьоре возвестили обедню, он проснулся, услышал звон колокола и открыл глаза. Окинув взглядом комнату, он сообразил, что находится у себя дома, и пришел от сего в великий восторг, решив, что опять превратился в Грассо и получил назад все свое имущество. Вчера он думал, что совсем пропал, и теперь чуть не плакал от радости. Однако его удивляло и тревожило, что лежит он ногами к изголовью постели, ибо ложиться таким образом привычки у него не было. Вспомнив, что с ним произошло и где он лег спать вчера вечером, сопоставив все это с тем, где он теперь оказался, Грассо смутился и никак не мог сообразить, приснилось ли ему все случившееся намедни или же он сейчас спит и грезит. Он склонялся то к одному, то к другому решению. Озирая комнату, он говорил себе: «В этой комнате я жил, будучи Грассо, но как я сюда попал?» Он ощупывал свои руки, трогал грудь и убеждался, что он — Грассо. Но затем спрашивал себя: «А коли так, то почему же меня заарестовали как Маттео? Ведь я же твердо помню, что сидел в тюрьме, что все меня там принимали только за Маттео и что вызволили меня оттуда его два брата, что с ними я направился в приход Санта-Феличита и священник наговорил мне всякой всячины, потом я там поужинал и завалился в постель, потому что мне страшно хотелось спать». И им опять овладевали мучительные сомнения, теперь ли он спит или спал тогда. Настроение у него снова испортилось, однако в глубине души у него теплилась сладкая надежда, ибо он не забыл, о чем говорил ему в тюрьме судья, полагавший, что уж ежели он снова превратится в кого-либо, то скорее всего в Грассо, чем в кого-то другого. Хорошенько припомнив все свои вчерашние приключения с той самой минуты, когда его схватили, и до того времени, когда он отправился спать, он приободрился, решив, что опять обернулся в Грассо и все идет должным порядком. Но вслед за этим настроение у него еще раз переменилось. «Никак не разберешь, — бормотал он, — тогда ли я спал или сплю теперь». После чего, повздыхав сокрушенно, молвил: «Да поможет мне бог!»
Он встал, как всегда, с постели, оделся, снял в гвоздя ключ от лавки и пошел в мастерскую. Отперев лавку, он обнаружил, что все в пей перевернуто вверх тормашками. При виде такого разгрома его снова стали осаждать мысли, от которых он не мог отделаться дома. Им овладели новые сомнения, и от его прежней уверенности не осталось и следа.
И вот в то самое время, когда он припоминал свои злоключения, все еще не в силах разобраться, где сон, а где явь, но все-таки постепенно возвращаясь к приятному сознанию, что он Грассо и все его вещи принадлежат ему, — в это самое мгновение в лавку вошли оба брата Маттео. Они заметили, что их приход поверг его в полнейшее смятение, но сделали вид, будто они с ним незнакомы.
— День добрый, хозяин, — сказал один из братьев.
Грассо, который их тут же признал, не отзываясь на приветствие, выпалил:
— Кого вы здесь ищете? Тогда один ответил:
— Есть у нас брат по имени Маттео. Намедни его арестовали за долги, и с горя он малость свихнулся. Он — наш позор, но что поделаешь? Между прочим, он уверяет, будто он вовсе не Маттео, а хозяин этой лавки, которого, кажется, зовут Грассо. Мы корили брата и так и эдак, убеждали его по-всякому, но никакими средствами не смогли выбить из него эту дурость. Вчера вечером мы привели к нему нашего священника из церкви Санта-Феличита (это наш приходский священник, и человек он весьма достойный). Врат обещал ему выбросить из головы подобные бредни, чудеснейшим образом поужинал с нами и на наших глазах ушел спать, но затем, когда его никто не слышал, спустился вниз, обнаружил, что входная дверь не заперта, и ушел из дома, причем случилось это, видимо, несколько часов назад. Куда отправился он, мы не знаем. Потому-то мы и пришли сюда. Нам хотелось бы узнать, нет ли его тут и не можешь ли ты сказать нам чего-нибудь о нем.
Когда Грассо уразумел, что те самые люди, которые накануне заплатили собственные деньги, дабы вытащить его из тюрьмы, а затем накормили его и уложили спать у себя дома, не признают в нем своего брата, он счел сие вернейшим доказательством того, что он опять обернулся в Грассо. От радости у него задралась рубашка на заднице, и, дабы поиздеваться над ними, он сказал:
— А что, ваш брат младенец? Так ведь у меня не приют для подкидышей.
Однако радоваться ему пришлось недолго. Посматривая на братьев, Грассо схватил своей ручищей (а она у него была огромная) рубанок, а те, увидав, что он совсем не в том настроении, в каком они ожидали его застать, испугались, как бы он на них не набросился, и решили не связываться с ним и убраться скорей подобру-поздорову.
У Грассо ничего такого и в мыслях не было. Тем не менее, поскольку братья быстро удалились, он не мог представить, как бы обернулось дело далее, и потому решил ненадолго выйти из лавки и прогуляться до Санта-Мария-дель-Фьоре. Ему хотелось на покое поразмыслить над своим положением и по тому, как станут обращаться к нему встречные прохожие, окончательно определить, кто же он наконец — Грассо или Маттео. Судя по тому, что он переночевал у себя дома и оба брата не признавали его больше за Маттео, дело это казалось ему почти что решенным. Но полной ясности в голове у него не было, и он опять начал сомневаться: не приснилось ли ему давешнее происшествие, а может, и теперь ему все это снится. В совершенной растерянности он то брался за плащ, собираясь его надеть, то, забывал об этом, отходил в сторону, а потом возвращался, припомнив первоначальное намеренье. Тем не менее он кое-как оделся. Он отворил дверь и пошел к собору, но, терзаемый сомнениями, сделав шаг вперед, тут же делал два шага назад. Однако в конце концов он все же поплелся по улице, разговаривая сам с собой. «Странный случай; что бы там ни говорил судья, а я не представляю, как все это еще обернется. Коли уж все ошибаются, принимая меня за другого человека, то что-то тут не чисто». Он пытался избавиться от подобных мыслей и старался думать лишь о том, как хорошо, что он опять стал Грассо, но отделаться от мрачных мыслей ему никак не удавалось. Его не покидали сомнения: а не обернулся ли он снова в того самого Маттео или же в какого-нибудь другого человека? И вот, когда его совсем одолели такого рода думы, ему вдруг ужасно захотелось узнать, что теперь делает Маттео. Не обращая внимания на встречных, он метался из стороны в сторону, и видевшие его в то время рассказывали потом, что походил он на раненого льва.
День был будничный, на улице было пустынно, и он подумал, что здесь сможет спокойно поразмыслить. Дойдя до собора, он столкнулся с Филиппо и Донателло, которые, по обыкновению, гуляли вместе и беседовали. На сей раз они очутились там нарочно, ибо они подкарауливали Грассо и видели, как он направился в эту сторону. Филиппо знал, что Грассо ничего не ведает о сыгранной над ним шутке и что у него на их счет не могло возникнуть никаких подозрений. Они считали, что все, что они устроили, сделано чисто, без сучка без задоринки. Прикинувшись обрадованным, дабы еще лучше скрыть от Грассо обман, Филиппо сказал ему:
— С моей матерью все обошлось. С нею приключился припадок, но, когда я явился домой, он почти прошел, потому я за тобой и не послал. Такие припадки у нее повторялись многажды, — со старыми людьми такое бывает. А что ты поделывал вчера вечером? Слыхал, что произошло с Маттео Маннини?
Так как Филиппо немного волновался, то, говоря это, он обращался скорее к Донателло, чем к Грассо.
— А что с ним случилось? — спросил Донато.
— Разве ты не знаешь? — ответил ему Филиппо и продолжал, обращаясь уже к Грассо: — Вчера вечером, часов около двух или трех, видимо, в то самое время, когда я был у тебя, его арестовали неподалеку от этой площади. С задержавшим его приставом был тот самый заимодавец, что велел его арестовать. (Не знаю, кто он, да это к делу не относится.) А Маттео вдруг и говорит приставу и стражникам: «Что вам от меня надо? Вы ошибаетесь, никому я ничего не должен, и имя мое Грассо, я — резчик по дереву. Разве я вам нужен?»
Грассо подумал, что Филиппо говорит правду, но не заподозрил, что это его проделки. Между тем Филиппо продолжал свой рассказ:
— Тот заимодавец, что велел арестовать Маттео, подошел к нему, ибо пристав его предупредил: «Смотри, за то, что мы его берем, в ответе один ты; коли это не он, тебе придется внести штраф и заплатить нам за труды, ибо мы но имеем права чинить беспокойство людям, за которыми не числится никакой вины». Так вот, тот, что велел арестовать Маттео, а был он взыскатель долгов из какого-то лабаза, подходит к нему, пристально на него глядит и говорит: «Он подделал рожу, мошенник»; потом еще раз внимательно оглядывает его и заявляет: «Но это все-таки он — Маттео, ведите его, на сей раз ему придется раскошелиться». Пока стражники тащили Маттео, он всю дорогу твердил им, что он якобы Грассо, резчик по дереву, и в доказательство показывал ключ: «Смотрите, — говорил он, — я только что запер свою лавку». (Все это так и было, а о том, как все происходило, Филиппо сообщил нанятый им человек из Меркатанции.)
— Я слышал, — продолжал Филиппо, — что такое же представление разыгралось и в Меркатанции. Неужто ты ничего об этом не слыхал? Смешнее истории не придумаешь.
Донателло сперва сделал вид, будто ему ничего не известно, а потом говорит:
— Да, да, припоминаю, о чем-то подобном только что шла речь в мастерской, но я был занят, задумался о своем и все пропустил мимо ушей. Теперь я припоминаю, что до меня долетели слова: «Маттео», «Толстяк», «задержали», но у меня и в мыслях не было, что речь идет о Грассо, и я не спросил, в чем дело. Поэтому расскажи мне, Филиппо, что произошло. Тебе ведь все известно? Действительно забавно: его хватают, а он отрекается от того, что он Маттео. Ну, а что было дальше?
— Возможно ли, — сказал Филиппо, обращаясь к Грассо, — чтобы ты обо всем этом ничего не знал? А что ты вчера делал? Неужели никто не заходил к тебе в лавку? Я слышал, что тебя разыскивали по всей Флоренции. Я сам вчера вечером несколько раз порывался заглянуть к тебе в мастерскую, дабы разузнать обо всем подробнее, но как-то не сумел выбраться.
Грассо поглядывал то на Филиппо, то на Донателло. Ему хотелось ответить то одному, то другому, но он решил держать язык за зубами, не понимая, говорят ли они серьезно или потешаются над ним. Потом он сказал, тяжко вздохнув:
— И все же, Филиппо, это для меня совершеннейшая новость. Филиппо едва сдержал усмешку и спросил, ловя его на слово:
— Значит, ты говоришь, что ничего не слышал и не знаешь, как было дело?
После этого Филиппо и Донателло попросили Грассо присесть вместе с ними, дабы ему удобнее было выслушать всю эту историю. Грассо уже жалел, что так им ответил, и не знал, что ему делать. Он совсем растерялся. То ему казалось, что они разговаривают с ним вполне искренне, то — совсем наоборот.
В эту самую минуту к ним подошел Маттео. Он свалился на них совершенно неожиданно, ибо за ним по распоряжению Филиппо тоже наблюдали. Но помогла Фортуна, и он явился как нельзя кстати. Маттео всех их приветствовал. Грассо взглянул на него, смутился и уже собирался было сказать: «А ко мне в лавку только что заходили твои братья, которые разыскивают тебя», — но вовремя удержался.
— Откуда ты, Маттео? — поинтересовался Филиппе— Мы как раз собирались разобраться во всей этой истории; только что мы говорили о тебе, и ты легок на помине.
— Тебя, говорят, заарестовали намедни? — спросил у Маттео Донато. — Не отпирайся, вот Филиппо уверяет…
— А что, кроме меня, арестовывать уже некого? — проворчал Маттео. Потом сказал, обращаясь к Филиппо, пристально на него смотревшему: — Я иду из дома.
— А, — протянул Филиппо. — Ходят слухи, будто тебя задержали вчера вечером.
— Ну хорошо, меня задержали, я расплатился, меня отпустили, а теперь — вот он я. Какого черта! Разве, кроме как обо мне, говорить уже не о чем? Не успел я показаться дома, как меня замучила расспросами мать, все утро не отставала; и братья почему-то надулись; с тех пор как я вернулся из деревни, они смотрят на меня так, будто я им здорово насолил, все выспрашивают: «Когда ты сегодня ушел? Почему дверь оставил открытой?» По-моему, и мать и они просто рехнулись. Я не понимаю, о чем они толкуют. Твердят о каком-то аресте, уверяют, будто выкупили меня из тюрьмы. Совсем ошалели.
— Где ты пропадал? — спросил Филиппе — Я тебя что-то давненько не видел.
— Я расскажу тебе всю правду, Филиппо, — ответил Маттео. — Я в самом деле задолжал лабазу шесть полновесных флоринов, и давно мне уже следовало бы их вернуть. Но меня тоже водят за нос. Я ссудил одному человеку из Эмполи восемь флоринов, и, как он обещал совсем недавно, он должен был вернуть их со дня на день. Этими флоринами я намеревался расплатиться с лабазом, и у меня бы еще остались деньги. В субботу я обещал своему заимодавцу, что верну ему долг во вторник, и не преминул бы сделать это, если бы тот человек отдал мне те восемь флоринов. Поскольку же у моего заимодавца имелось на руках решение суда о взыскании с меня денег (по правде сказать, я давно не возвращаю ему долг, потому что с деньгами у меня в последнее время туговато), поэтому, чтобы он не подложил мне какую-нибудь свинью, я решил отправиться в наше именье под Чертозой[34] и пробыть там дня два. Вот потому-то ты меня и не видел. Я вернулся оттуда час назад. Там со мной случилось такое, что вы и представить себе не в состоянии.
Я отправился в деревню во вторник, после обеда. Делать мне там было нечего; не был я в имении уже сто лет, и вещей наших там никаких не осталось, кроме кровати. Вино после сбора винограда мы вывезли и остальные продукты тоже. Поэтому я потолкался на улице и, чтобы не заставлять нашего работника возиться с ужином, пару раз выпил в Галуццо[35]; затем, вернувшись ночью домой, попросил работника посветить мне и пошел спать. А теперь послушайте, что за чудеса я вам расскажу. Еще раз скажу: мне кажется, что все с ума посходили, а больше всех, наверно, я сам. Так вот, одеваюсь я нынче утром у себя в деревне, открываю окно. Право слово, не знаю, теперь ли я сплю, или мне приснилось все то, о чем я сейчас вам расскажу. Выходит, будто нынешний день для меня уж и не нынешний. Смешно! Ну да ладно. Тот работник, что посветил мне, спрашивает: «Где вы вчера были?» — «Ты что, говорю, не видел меня?» — «Нет, говорит, а когда же было видеть?»
— «Вот беспамятный! — говорю я ему. — Ты разве не зажигал мне фонарь?» — «Зажигал, отвечает, да только позавчера, а вчера не видал вас целый день; я решил, что вы зачем-то ушли во Флоренцию, и еще удивился, что вы меня не предупредили». «Так, выходит, я проспал весь вчерашний день», — думаю я и спрашиваю у работника: «Какой нынче день?» — «Четверг», — отвечает. Получается, Филиппо, что я продрых без просыпа целый день и две ночи.
Филиппо и Донателло сделали вид, будто крайне удивлены и слушают его с величайшим интересом.
— Должно быть, ты перед этим переложил, — сказал Филиппе.
— Что ж, на аппетит я не жалуюсь, — согласился Маттео.
— Да, за стол с тобой вместе лучше не садиться, — заметил Донателло.
Грассо поразился, что Маттео проспал именно то время, за которое с ним приключилась вся эта история, и он сказал себе:
«Теперь у меня не осталось никакой надежды, я, конечно, схожу с ума. Еще три дня назад я такому бы ни за что не поверил, и вот пожалуйста…»
А Маттео меж тем продолжал:
— Приснились мне самые необыкновенные вещи, какие только можно себе представить.
— Пустой горшок есть, — перебил его Филиппо, — давай заваривай кашу.
— Только что, — продолжал Маттео, — попался мне на улице человек из того самого лабаза, которому я должен шесть флоринов, и принялся оправдываться, уверяя, что это не он велел меня арестовать. «Мне очень жаль, говорит, что вам пришлось так потратиться». Я смекаю, что долг мой вроде бы как заплачен, и, слушая его, начинаю понимать те самые речи моей матери и братьев, которые прежде казались мне безумными. Они, как я вам уже говорил, заплатили мои долги, однако, каким образом им сие удалось совершить, до сих порубей, не пойму. Я попытался допросить человека из лабаза. Получается, что большую часть того времени, которое, как мне казалось, я проспал в деревне, я каким-то чудом провел в тюрьме. Пораскинь-ка умом, Филиппо, и разреши эту загадку, самому мне она не под силу. Я давно ищу тебя, чтобы рассказать тебе об этом и посмеяться вместе с тобой.
Затем Маттео оборачивается к Грассо и говорит:
— Большую часть того времени, пока я спал, я провел в твоем доме и в твоей мастерской. Ты будешь смеяться. За мной числился долг в несколько флоринов. Между тем мне показалось, будто я уснул и стал другим человеком. О, это так же верно, как то, что я сейчас вижу вас. Впрочем, кто знает, тогда ли я грезил или теперь?
— Я что-то толком тебя не пойму, — сказал Донато. — Повтори-ка, я задумался о другом и отвлекся. Вы меня все с ума сведете! Ты же только что говорил, что был в деревне?
— Я знаю, что знаю, — обиделся Маттео.
— Он говорит, что все это ему приснилось, — объяснил Филиппо.
— Филиппо-то меня понял, — сказал Маттео.
Грассо словно в рот воды набрал; он стоял как зачарованный и жадно слушал, желая понять, где же он был в это самое время. Филиппо блаженствовал, как поросенок, которому почесывают спину. Все они сбились в кучу, ибо то один из них, то другой не мог удержаться от смеха, не смеялся только Грассо, который совсем обалдел. Филиппо взял его под руку и сказал остальным:
— Не толкайтесь. Пройдемте лучше на хоры. Это самая забавная история, какую я когда-либо слышал, и мне хотелось бы в ней как следует разобраться. Расскажи-ка мне, Маттео, все сначала. А потом я, в свой черед, передам тебе, о чем нынче толкует весь город. Сдается мне, что речь идет об одном и том же.
Они уселись на хорах так, что им хорошо было видно друг друга. Некоторое время они молчали, ибо Филиппо предполагал, что начнет говорить Маттео, а Маттео ждал, что скажет Филиппо. Первым заговорил Филиппо, обращаясь скорее к Маттео, который ему хорошо подыгрывал, нежели к Грассо, опасаясь, как бы тот не испортил ему всю обедню.
— Послушай, о чем говорят во Флоренции. Я только что рассказывал им об этом, а теперь расскажу тебе, коли уж ты хочешь, чтобы начинал я. Так вот, поговаривают, будто в среду вечером тебя арестовали.
— Меня арестовали? — удивился Маттео.
— Тебя, — ответил Филиппо. — За тот самый долг, о котором ты говорил. — А затем добавил, обращаясь к Донато: — Видишь, все-таки что-то было.
— Это случилось в тот самый вечер, — сказал Донато, глядя на Маттео, — когда я застал тебя ломящимся в дом к Грассо.
— Когда это было? — спросил Маттео. — Никогда я к нему не ломился.
— Как не ломился? Разве не с тобой я разговаривал перед его домом?
Маттео сделал вид, будто он крайне удивлен, а Филиппо продолжал ему рассказывать:
— Уверяют, будто ты всю дорогу кричал арестовавшему тебя приставу и заимодавцу: «Вы меня спутали с другим, вам нужен вовсе не я, никому я ничего не должен!» — и, отбиваясь от них, заявлял, что ты не кто иной, как Грассо. Между тем, по твоим словам, выходит, что в это самое время ты лежал в постели у себя в имении. Как же это может быть?
— Брось болтать, — сказал Маттео. — Ты надо мной потешаешься. Как я уже вам сказал, я убрался в имение, и нарочно для того, чтобы меня не арестовали. Сказать по правде, я этого сильно опасался. А что до того, о чем сейчас говорил Донато, то могу поклясться на алтаре, что ни в тот, ни в какой другой день я не ломился в дом к Грассо. Послушайте, как было дело, и увидите, что все обстояло совсем наоборот. Я поручил моему знакомому нотариусу, который служит в Палаццо[36], раздобыть для меня охранную грамоту[37] и прислать мне ее в деревню; я рассчитывал получить ее еще вчера. Но вчера поутру нотариус прислал мне с писцом записку, сообщая, что Коллегия не собиралась, что часть магистратов разъехалась по своим имениям и что ради одного того, чтобы составить охранную грамоту, эти господа не пожелают возвращаться в город. Кроме того, он написал, что если я хочу получить таковую грамоту, то я должен еще несколько дней переждать в деревне. Но я вернулся и все время был начеку. Однако, раз долг мой уплачен, мне можно теперь не беспокоиться. Поверьте, Филиппо и Донато, все это чистейшая правда. А вот над тем, что мне в то время приснилось, действительно стоило бы посмеяться. Кроме шуток, Филиппо, никогда мне не снилось ничего более похожего на явь. Мне пригрезилось, что я нахожусь в его доме (он кивнул в сторону Грассо) и что его матушка — это моя мать. Я запросто беседовал с ней как с родной, ел и обсуждал с ней свои дела, а она давала мне всяческие советы; так и слышу до сих пор ее голос. Потом я лег спать в его доме, а проснувшись, пошел в лавку. Мне снилось, что мне хочется поработать так, как это много раз делал на моих глазах Грассо, когда я заходил к нему в мастерскую. Но мне показалось, что инструмент лежал не на месте, и я навел в мастерской порядок.
Грассо, который все еще сжимал в руках рубанок, смотрел на него безумным взглядом. А Маттео продолжал:
— Я попробовал поработать, но, какой бы инструмент я ни брал, ничего у меня не получалось. Тогда я решил кинуть инструменты как попало, подумав, что уберу их потом. Взял другой инструмент, однако и с ним работа у меня тоже не ладилась. Мне казалось, что кто-то меня о чем-то спрашивает, а я отвечаю, словно бы я — это он, ибо я на самом деле считал себя им. Потом я пообедал и опять вернулся в мастерскую, а вечером запер ее и ушел к нему домой спать. Дом же мне представлялся совершенно таким, каким я видел его, бывая в гостях у Грассо.
Грассо все время хранил молчание. Он не считал возможным высказывать какие-либо догадки в свою пользу в присутствии Филиппо, ибо знал, что тот видит под землей на три аршина. Но сей сон окончательно свернул ему мозги набекрень, и он увидел, что бесповоротно запутался. Он сообразил, что по времени его злоключения как раз совпали с тем самым сном, который, по словам Маттео, продолжался у него день и две ночи. Филиппо и Донато дивились этому сну сверх всякой меры. Потом Филиппо сказал:
— По всему получается, Маттео, что тебя не арестовывали. Ты также говоришь, что долг твой уплачен, а ты тем временем находился в имении. Ну, знаешь, это такое запутанное дело, в котором не разобрался бы и сам Аристотель[38].
Грассо, обдумав слова Маттео, по которым выходило, что тот превратился в него, и припомнив все, о чем ему говорил судья в Меркатанции, сказал, кривя рот и горестно покачивая головой:
— Странные это вещи, Филиппо, но, как я слышал, такое порой случается. Маттео рассказал все как было, вы высказались, и я мог бы поведать вам такое, что вы почли бы меня за сумасшедшего. Но лучше уж мне помолчать. Давай, Филиппо, не будем больше обсуждать этот случай.
Теперь Грассо считал, что все, сказанное ему названным судьей, чистейшая правда, ибо слова того подтвердились множеством доказательств. Несомненно, на какое-то время он превратился в Маттео, а Маттео превратился в него, но только Маттео оказался в более выгодном положении; проспав крепким сном, он избежал всех забот, хлопот и неприятностей. Однако теперь он считал, что опять превратился в Грассо, ибо видел перед собой Маттео, который перестал быть Грассо, и слушал его рассказы. Матушка его все еще не вернулась из Польверозы, и ему не терпелось увидать ее, чтобы расспросить, побывала ли она за это время во Флоренции, кто находился вместе с нею в тот вечер, когда он стучался в собственную дверь, и кто отпер его лавку. Поэтому он поспешил уйти. Приятелям не удалось его удержать. Впрочем, они и не прилагали к тому чрезмерных усилий, опасаясь его обидеть. К тому же им хотелось вдоволь посмеяться. Дольше сдерживаться они не могли. Все же Филиппо сказал:
— Надо бы нам сегодня вместе поужинать.
Но Грассо ничего ему не ответил и удалился.
Нечего и спрашивать, смеялись ли после его ухода Филиппо, Донато и Маттео. Тому, кто их в это время увидел бы и кто послушал, они показались бы еще более обезумевшими, нежели сам Грассо, особенно Донато и Маттео, которых так и распирало от хохота. Филиппо же похихикивал, поглядывая то на одного, то на другого.
Грассо запер лавку и помчался в Польверозу. Застав там мать, он удостоверился, что она никак не могла оказаться во Флоренции, а она разъяснила ему, что ее задержало в деревне. На обратном пути во Флоренцию, несколько поостыв, Грассо еще раз хорошенько обдумал происшедший с ним случай и пришел к заключению, что с ним сыграли злую шутку, но только не мог понять, каким образом, — ведь матери все это время не было во Флоренции и в доме не оставалось ни души. Разгадать сего он не сумел, и ему тошно было от мысли, что впредь ему вечно придется огрызаться в ответ на насмешки, ибо он, конечно, станет принимать на свой счет каждое ехидное слово. Особенно мучило его, что в деле этом замешан Филиппо, а он знал, что от гнутой Филиппо ему никогда не отделаться!
Это послужило причиной того, почему Грассо надумал уехать в Венгрию. Вспомнив, что его туда звали, он решил отыскать человека, который его приглашал, а был это один его давнишний приятель, с которым они вместе учились искусству инкрустации у мастера Пеллигрино, жившего на улице Терм. Названный приятель Грассо за несколько лет до этого уехал в Венгрию и очень хорошо устроил там свои дела благодаря помощи Филиппо Сколари[39], прозванного Спано, нашего согражданина, бывшего в то время главным капитаном в армии Сигизмунда. Сигизмунд[40], король Венгерский, приходился сыном Карлу, королю Богемии. Был он королем мудрым и добрым, и потом, при папе Григории XII, его избрали императором, а корону кесарей получил он из рук папы Евгения IV. Этот самый Спано пристраивал всех флорентийцев, оказавшихся в Венгрии, даже тех, кто не обладал талантом ни в свободных искусствах, ни в ремесле, ибо был он широкой души человеком и чрезвычайно любил свою родину, чем и она, премногим ему обязанная, должна была ему платить.
В это самое время вышеназванный приятель Грассо прибыл во Флоренцию, дабы вывезти какого-нибудь мастера, искусного в том ремесле, в котором он сам подвизался, ибо получил множество заказов. Несколько раз беседовал он с Грассо, уговаривал его поехать с ним в Венгрию и доказывал ему, что там они смогут быстро разбогатеть. Теперь Грассо встретил его как будто случайно и, подойдя к нему, сказал:
— Ты меня неоднократно звал с собой в Венгрию, а я все отнекивался. Ныне же по причине одного приключившегося со мной происшествия, а также из-за неладов с матерью я порешил ехать с тобой, коли ты еще не передумал. И если ты держишься прежних мыслей, мне желательно отбыть завтра же поутру, поскольку ежели я задержусь, то для моего отъезда могут возникнуть препоны.
Тот ответил, что он очень рад, но что завтра он ехать не сможет, так как не закончил здесь своих дел; однако пусть Грассо выезжает, когда ему будет угодно, и ждет его в Болонье, куда он прибудет через несколько дней. На этом и порешили. После того как они оговорили все условия, Грассо вернулся к себе в лавку, собрал инструменты и кое-что из платья, а также взял все наличные деньги. После чего он сходил в Борго-Санто-Лоренцо[41] и нанял одра до Болоньи. На следующее утро, взгромоздившись на вышеупомянутую клячу, он уехал в Болонью, не сказав никому, даже своим родственникам, ни слова, словно опасался, как бы за ним не кинулись в погоню. Дома же он оставил матери письмо, в котором говорил, что просит ее принять в дар все имущество, находящееся в его лавке, и что он уезжает в Венгрию с намерением прожить там несколько лет. Пока Грассо ходил по Флоренции (он старался как можно меньше показываться на глаза людям, но вовсе избежать этого не мог) и пока он проезжал на лошади по улицам города, ему несколько раз довелось слышать свою историю, сдобренную шутками и смехом. Так он узнал стороной, что над ним посмеялись его друзья. Вся эта история вышла наружу сперва благодаря тому человеку, который велел арестовать Грассо, а затем благодаря судье. Филиппо так ловко подкатился к судье, допытываясь, о чем Грассо говорил в тюрьме, что тот со смехом поведал ему обо всем. По всей Флоренции только и разговору было, что шутку с Грассо учинил Филиппо ди сер Брунеллеско. Грассо сие пришлось совсем не по душе, ибо он знал, что за человек Филиппо, и слишком хорошо представлял, каким издевкам с его стороны он подвергнется. Мысли об этом еще больше укрепили его в первоначальном намерении. Таким образом, Грассо покинул Флоренцию и, встретившись затем со своим приятелем в Болонье, отбыл в Венгрию.
Общество сотрапезников продолжало собираться своим чередом. Первый раз после отъезда Грассо они встретились опять у того же Томмазо Пекори. И как бы для того, чтобы отпраздновать эту шутку и всем вместе посмеяться по этому поводу, они пожелали пригласить того самого судью, что сидел в Меркатанции, который, будучи о них наслышан, охотно принял приглашение, потому как с некоторыми из них он дружил, а также потому, что ему хотелось, чтобы они рассказали ему об этой истории во всех подробностях, и самому доложить им о том, что он видел, а всем им это очень хотелось знать. Они пожелали также позвать того человека, что был с приставом, и обоих братьев, которые вели игру в тюрьме, у себя дома и у очага. Хотелось им заполучить и писца из кассы, но тот не сумел прийти. Судья с великим удовольствием выслушал, как было дело, и рассказал им, о чем спрашивал его Грассо и как он, отвечая ему, плел про Апулея, про Актеона, про Цирцею и про своего работника, дабы объяснения его выглядели правдоподобнее.
— Приди мне тогда еще что на ум, — закончил судья, — я бы наговорил ему и не такое.
Все очень веселились и, перебивая один другого, рассказывали, что каждому больше всего запомнилось. Видя, как удалась шутка и сколь благоприятствовала им судьба, пославшая священника, судью и всех остальных, судья изрек, что не помнит, чтобы за всю свою жизнь ему довелось когда-либо присутствовать на пиру, где подавалось бы столько превосходнейших блюд[42], что большая часть этих блюд столь хороша, что их, редко, а то и вовсе никогда не увидишь на столе у королей и императоров, не говоря уже о людях простых и обыкновенных, каковыми все они являются. И за столом не нашлось никого, кто бы не признал, что, верно, и он тоже попался бы на удочку, если бы с ним сыграли подобную шутку, — столь великую ловкость и искусство обнаружил в ней Филиппо.
По прибытии в Венгрию Грассо и его приятель взялись за работу. Им сопутствовала удача, и за несколько лет они разбогатели, благодаря покровительству вышеназванного Спано, который поручал Грассо строительные работы. Грассо именовался теперь мастером Манетто из Флоренции и числился на очень хорошем счету у Спано, который, отправляясь в походы, брал его в свою ставку, платил ему хорошее жалованье и при удобном случае осыпал его богатыми и роскошными подарками, ибо Спано был так великодушен и щедр, словно происходил из королевского рода. Он проявлял щедрость по отношению ко всем людям, в особенности же к флорентийцам, и это, кроме всего прочего, стало той причиной, которая притягивала их в Венгрию. Когда Грассо не находился при войске, он имел возможность заниматься своим ремеслом вместе с приятелем, а чаще всего занимался этим сам по себе. Через несколько лет он стал наведываться во Флоренцию и всякий раз проводил в ней по нескольку месяцев. В первый же свой приезд, когда Филиппо спросил у него о причинах, побудивших его столь стремительно и не простившись с друзьями покинуть Флоренцию, Грассо со смехом рассказал ему всю историю по порядку, со всеми теми прелестными подробностями, которые касались его тогдашнего душевного состояния и о которых никто помимо него знать не мог, — о том, как ему временами казалось, что он — Грассо, а то будто — он другой, и как он не мог понять, пригрезилось ему происшедшее с ним или же он все еще грезит, воскрешая в памяти прошлое. Филиппо никогда не смеялся так от души, как в этот раз. А Грассо, посмотрев ему прямо в лицо, молвил:
— Вам лучше моего ведомо, как вы потешались надо мной в Санта-Мария-дель-Фьоре.
— Не обижайся, — ответил Филиппо, — наша шутка прославит тебя больше, чем все, что ты сделал для Спано и Сигизмунда; теперь о тебе будут говорить сто лет.
Грассо и Филиппо посмеялись на это. Когда у Грассо выдавалось свободное время, он проводил его чаще с Филиппо, нежели с кем-либо другим, и всякий раз находил, что добавить к своему рассказу, а Филиппо в шутку говаривал:
— Я всегда знал, что сделаю тебя богачом. Многие бы мечтали оказаться на твоем месте и чтобы над ними так же подшутили. Ты ведь теперь разбогател и сделался приближенным императора всего света, Спано, а также многих других славных князей и баронов.
В этот приезд Грассо в Флоренцию и во время других его наездов на родину Филиппо неоднократно выпадали случаи выведать у него все малейшие подробности, используя для этого рассказы судьи и человека из лабаза. Ведь самое смешное во всей этой истории было, как уже говорилось, то, что происходило в душе Грассо. Таким образом появилась возможность подробно записать и пустить по свету сию новеллу, ибо Филиппо часто повторял ее, а от тех, кто внимал ему, и было воспринято вышенаписанное. Но каждый, кто слышал Филиппо, утверждал, что не удалось сохранить значительную часть веселых подробностей этой истории, как ее рассказывал Филиппо и как все происходило на самом деле. Новелла эта была составлена уже после смерти Филиппо, по рассказам тех, кто слышал ее от него множество раз, а именно, по рассказам Антонио ди Маттео делле Порте, Микелоццо, Андреино да Сан-Джеминьяно, который был его учеником, Скеджи, Фео Белькари, Лукки делла Роббиа, Антонио ди Мильоре Гуидотти[43] и многих других. Правда, в свое время кое-что об этом было записано, но мало, отрывочно и путано. И, может, вовсе не плохо, что история сия не затерялась совсем. Да помилует нас бог. Аминь.
Славному королю
дону Фернандо Арагонскому
Приступая к повествованию моему, благочестивейший король, скажу, что в ту пору, когда блаженной и славной памяти король и повелитель дон Фернандо Арагонский[45], достойнейший дед твой, на благо и преуспеяние подданных своих, мирно правил королевством Кастильским, — в Саламанке, одном из древних и славнейших городов этого королевства, жил некий минорит-конвентуал[46], которого звали магистром[47] Диего да Ревало. Не менее сведущий в доктрине святого Фомы, чем в учении Скотта[48], удостоился он в числе прочих быть избранным преподавать за немалое вознаграждение в превосходных школах столь знаменитого университета этого города. И он с таким поразительным успехом вел свое преподавание, что слава об его учености распространилась по всему королевству.
Говорил он иногда и небольшие проповеди, скорее практически полезные и необходимые, чем благочестивые. Был он юн, очень красив и изящен и подвержен пламени любовных увлечений; и вот однажды во время проповеди случилось ему увидать молодую женщину поразительной красоты. Имя ее было Катерина, и была она женой одного из виднейших дворян этого города, которого звали мессер Родерико д'Анджайа. Как только магистр увидел даму, которая понравилась ему с первого взгляда, владыка Амур, запечатлев в душе его образ красавицы, глубоко поразил тронутое уже любовным недугом сердце. Сойдя с кафедры, магистр прошел в свою келью и там, отбросив в сторону все свои теологические рассуждения и софистические доказательства, всецело отдался мыслям о понравившейся ему женщине.
Он знал, какое высокое положение занимала эта дама и чьей она была женой, и, видя безумие своего предприятия, много раз убеждал себя не впутываться в такое опасное дело; и все же, несмотря на все это, он говорил себе порой: «Там, где любовь захочет явить свои силы, она отнюдь не ищет равенства по происхождению; держись она подобных требований, высокие князья не стремились бы ежечасно совершать набеги на наши берега. А посему Амур должен уравнять наши права, предоставив и нам любить высоких дам, раз он разрешает великим мира сего опускать свои взоры до мест низких. Ран, наносимых Амуром, никто не получает, заранее подготовившись к ним; он всегда застигает нас врасплох; однако если безоружным нашел меня этот владыка, против ударов которого бесполезно в таких случаях защищаться, то, не имея этой возможности, я с полным основанием признаю себя побежденным, и, как его подданный, пускай будет что будет, но я вступаю в страшную битву; и если суждено мне принять в ней смерть, которая избавит меня, во всяком случае, от страданий, то, но крайней мере, дух мой пойдет навстречу ей с отважно подъятым челом, гордясь тем, что так высоко занес свои когти».
Сказав это и не возвращаясь более к первым своим отрицательным доводам, он взял лист бумаги и, не переставая глубоко и часто вздыхать и проливать горячие слезы, написал любимой даме с большим уменьем изящное письмо, в котором восхвалял се прелести, скорее небесные, чем земные. Затем он говорил о том, до чего пленен ею и что не остается ему иного выхода, как только надеяться на ее милость или ждать смерти. Признавая себя недостойным добиваться свидания со столь знатной дамой, он все же почтительнейше просил ее назначить ему время и указать способ, каким он мог бы побеседовать с нею тайно, или, по крайней мере, пусть примет она его служение, так как он избрал ее единственной властительницей своей жизни.
Закончив послание рядом подобных же изящных слов, магистр запечатал его и, многократно облобызав, передал одному из своих послушников, которому объяснил, куда следовало отнести письмо. Послушник этот, уже понаторевший в такого рода услугах, спрятал письмо в потайном месте, находившемся в левом рукаве, под мышкой, и пошел туда, куда ему было указано. Придя в дом, он нашел благородную даму, окруженную своими многочисленными прислужницами, и, почтительно поклонившись ей, промолвил:
— Мой господин препоручает себя вашей милости и просит, чтобы вы дали ему отсеянной муки для святых даров, как о том написано подробно в этом письме.
Дама отличалась большой проницательностью, и когда она увидела письмо, то была близка к уверенности, что догадывается об истинном его содержании. Взяв и прочтя его, она, хоть и была честнейшей женщиной, все же не смутилась при мысли, что этот монах так ее любит, считая ее прекраснейшей на свете; читая письмо, в котором так прославлялась ее красота, она ликовала, подобно той, что некогда, свершив первородный грех, первая подпала действию страсти, переданной ею по наследству остальной части женского рода, в силу чего женщины все свое достоинство, честь и славу полагают в том всецело, чтобы быть любимыми, желанными и превозносимыми за свою красоту, и потому каждая из них предпочитает сойти за порочную красавицу, чем прослыть добродетельной дурнушкой. Однако эта дама, недаром питавшая сильное и вполне оправданное отвращение ко всем монахам, решила не только ничем не потворствовать магистру, но и не проявлять особой учтивости в своем ответе. Вместе с тем она решила на этот раз ни о чем не рассказывать мужу. Остановившись на таком решении, она обернулась к монашку и без малейшего признака смущения сказала ему:
— Передай твоему магистру, что хозяин моей муки всю ее хочет оставить для своего пользования, а потому пускай твой господин раздобывает муку в другом месте; на письмо же другого ответа не нужно. А если бы он все же захотел ответа, то пусть сообщит мне о том, и когда вернется домой мой синьор, то я попрошу, чтобы твоему господину ответили так, как подобает отвечать на подобные предложения.
Несмотря на суровую отповедь, полученную магистром от дамы, пыл его ничуть не унялся; напротив, его любовь, вместе с вожделением, разгорелась еще более сильным пламенем; и, не желая отступать ни на шаг от начатого предприятия, он, пользуясь тем, что дом синьоры находился очень близко от монастыря, с такой назойливостью стал за ней волочиться, что она не могла ни подойти к окну, ни войти в церковь или в какое-либо иное место, чтобы докучливый магистр не оказался где-нибудь поблизости от нее. А потому на поведение монаха обратили внимание не только в околотке, где жила дама, но стало о том известно почти во всем городе. Вследствие этого сама дама убедилась, что этого дела нельзя долее скрывать от мужа, так как, кроме грозившей ей отсюда опасности, она боялась и того уже, что, узнав обо всем от кого-либо из посторонних, он перестанет считать ее порядочной женщиной. И, укрепившись в этой мысли, однажды ночью, когда она находилась вместе с мужем, она точнейшим образом рассказала ему все происшедшее. Рыцарь, ревниво оберегавший свою честь и отличавшийся неукротимостью нрава, воспылал таким буйным гневом, что малого недоставало, чтобы он пошел и предал огню и мечу монастырь и всю братию. Однако, немного укротив свои чувства и произнеся целую речь, в которой он похвалил достойное поведение своей жены, он затем приказал ей, чтобы, пообещав магистру исполнить его желание, она пригласила его прийти к ней ближайшей ночью, избрав к тому наиболее подходящие, по ее мнению, средства; ибо, желая удовлетворить требованиям своей чести, рыцарь вместе с тем хотел предохранить от всякого поругания доброе имя своей дорогой, любимой супруги. Что касается остального, то пусть она предоставит позаботиться ему одному.
Хотя даму смущала мысль о той развязке, которую она предвидела, однако, желая быть покорной воле мужа, она сказала, что исполнит приказание, и так как монашек, прибегая к новым уловкам, постоянно возобновлял свои попытки разбить твердый камень, то она сказала ему:
— Передай от меня привет твоему господину и скажи ему, что великая любовь, питаемая им ко мне, и горячие слезы, которые, по его словам, он беспрестанно из-за меня проливает, нашли наконец доступ в мое сердце, так что я в большей мере стала принадлежать ему, чем себе самой. И так как сулящая нам радости судьба пожелала, чтобы мессер Родерико отправился в деревню, где он и заночует, то пусть магистр, как только пробьет три часа[49], приходит ко мне тайком, и я дам ему свидание, которого он добивается. Только попроси его, чтобы он в этом деле не доверялся никому, даже самому близкому другу и приятелю.
Монашек ушел до крайности обрадованный, и когда он передал магистру благоприятное известие, тот почувствовал себя самым счастливым человеком. Но как ни был краток назначенный срок, ему казалось, что придется прождать тысячелетия; когда же время пришло, он старательно надушился, чтобы не разило от него монахом, и, полагая, что для победы в предстоящем беге ему придется нестись во весь опор, поужинал на этот раз самыми тонкими и изысканными кушаньями. Захватив свою обычную утварь, он направился к двери дамы и, найдя ее открытой, вошел в дом впотьмах, как слепой, был проведен служанкой в залу, где, вопреки ожиданию, вместо радостно идущей ему навстречу дамы нашел рыцаря с одним из его верных слуг; те схватили его голыми руками и придушили, не произведя ни малейшего шума.
Когда рыцарь убедился в смерти магистра Диего, он стал было раскаиваться в том, что запятнал свои могучие руки убийством минорита. Но, видя, что раскаянием делу не поможешь, он решил, опасаясь за честь свою и боясь королевского гнева, убрать мертвеца из дома. Итак, ему пришло на ум отнести труп в монастырь. Он взвалил его на спину слуги, и они направились в монастырский сад и, без труда проникнув отсюда в монастырь, отнесли мертвеца туда, куда братья ходили по своим нуждам; и так как случилось, что только одно из седалищ было пригодно, все же другие были разрушены (ведь, как постоянно приходится видеть, монастырские помещения походят скорее на разбойничьи притоны, чем на обители слуг божиих), они посадили его туда, как если бы он был занят отправлением своих нужд, и, оставив мертвеца, вернулись домой.
В то время как синьор магистр оставался там, будто с целью освободиться от излишнего, случилось, что другой монах, молодой и здоровенный, почувствовал в полночь крайнюю необходимость пойти в упомянутое место для отправления своих естественных надобностей. Он зажег светильник и пошел туда, где восседал мертвый магистр Диего; узнав его и думая, что он жив, монах, не сказав ни слова, отошел назад, потому что из-за монашеского недоброжелательства и зависти они находились в смертельной и яростной вражде. Итак, он решил подождать в сторонке, пока магистр свершит то, что он сам собирался сделать. Обождав же, согласно своим расчетам, достаточно долго и видя, что магистр не шевелится, монах, испытывавший неотложную нужду, повторял себе неоднократно:
— Как бог свят, этот негодяй застрял здесь и не хочет пустить меня на свое место ради того лишь, чтобы гнусной этой проделкой выказать мне свою вражду; но это ему не удастся, так как я потерплю, пока могу, а потом, если увижу, что он упорствует, не пойду, хотя и мог бы это сделать, в другое место, а вытащу его отсюда, даже против его воли.
Магистр, однако, ставший уже на мертвый якорь, упорно не двигался с места, и монах, которому терпеть дольше было невмочь, вскричал в бешенстве:
— Не допусти этого, господи! Не бывать тому, чтобы он причинял мне такой позор, а я бы не мог постоять за себя!
Схватив огромный булыжник и подойдя поближе, он с такой силой запустил камнем магистру в грудь, что опрокинул его навзничь, причем тот, однако, не пошевельнул ни одним членом. Монах заметил, с какой силой пришелся его удар, и потому, видя, что магистр не поднимается, стал опасаться, не убил ли он его камнем; выждав немного и то веря, то не веря своему предположению, он, наконец, подошел к мертвецу и, осмотрев его при свете светильника и убедившись в том, что магистр действительно мертв, он и впрямь счел себя убийцей, решив, что все так и произошло, как ему показалось. Он впал в смертельную тоску, так как опасался, что будет, вследствие вражды своей к магистру, заподозрен в нанесении ему смертельного удара, и, предвидя, что придется ему расстаться с жизнью, несколько раз собирался уже повеситься. Но, хорошенько обдумав дело, он решил вынести труп из монастыря и бросить на улицу, чтобы избавиться в будущем от всяких подозрений и обвинений, которые, по указанной причине, могли бы быть на него возведены. И когда он уже намеревался осуществить задуманное, ему пришло на ум постыдное и всем известное ухаживание магистра за донной Катериной, которую тот непрестанно преследовал; и он сказал себе:
— Куда мне отнести его, как не к дому мессера Родерико? Это очень легко, так как дом его по соседству, и таким образом я меньше всего навлеку на себя подозрение, так как наверно подумают, что магистр был убит по приказанию рыцаря в то время, как пробирался к его жене.
Сказав это и твердо держась своего решения, монах с превеликим трудом взвалил себе на плечи покойника и отнес его к той самой двери, откуда за несколько часов перед тем магистр был вынесен мертвым. Оставив его здесь, он вернулся, никем не замеченный, в монастырь. И хотя монаху казалось, что средство, к которому он прибег, обеспечивало ему безопасность, тем не менее он решил под каким-либо вымышленным предлогом на время отлучиться из монастыря; и, остановившись на этой мысли, он тотчас же пошел к настоятелю и сказал ему:
— Отче, позавчера, за отсутствием вьючных животных, я оставил большую часть нашего сбора неподалеку от Медины в доме одного нашего почитателя, а потому я бы хотел отправиться за этим добром, захватив с собой нашу монастырскую кобылу. С божьей помощью я возвращусь оттуда завтра или послезавтра.
Настоятель не только дал ему разрешение, но и весьма похвалил его за усердие. Получив этот ответ, Оправив свои делишки и взнуздав кобылу, монах стал дожидаться зари, чтобы пуститься в путь.
Мессер Родерико, почти или совсем даже не спавший ночью, — так как он сомневался в исходе дела, — с приближением дня остановился на мысли послать своего слугу, чтобы тот, обойдя кругом монастырь, послушал и разузнал, не нашли ли монахи мертвого магистра и что они говорят по этому поводу. Слуга, выходя из дому, чтобы исполнить приказание, нашел магистра Диего сидящим перед входной дверью, словно на диспуте; зрелище это внушило слуге немалый страх, какой обычно вызывает вид мертвецов; возвратись в дом, он тотчас же позвал своего синьора и, едва владея языком, рассказал ему, что тело магистра принесено к ним обратно. Рыцарь премного удивился такому случаю, повергшему его в еще большее смущение; однако, ободрив себя мыслью о том, Что дело его, как он думал, правое, он решил со спокойной душой ждать исхода и, обернувшись к мертвецу, сказал:
— Итак, тебе суждено быть язвой моего дома, от которой я не могу избавиться, — все равно, жив ты или мертв! Но назло тому, кто притащил тебя сюда, ты вернешься обратно не иначе, как верхом на таком животном, каким ты сам был при жизни.
И, сказав это, он приказал слуге привести жеребца из конюшни одного из соседей; этого жеребца хозяин держал для городских кобыл и ослиц, — и он пребывал там наподобие ослицы Иерусалимской. Слуга пошел весьма поспешно и привел жеребца с седлом и уздой и всей прочей сбруей, находившейся в полной исправности; и, как уже решил рыцарь, они посадили мертвеца на лошадь, подперев его и привязав как следует, и, снабдив его копьем, прикрепленным к щитку панциря, они вложили ему в руки поводья, так что можно было подумать, что они снаряжали его на бой. Устроив все таким образом, они отвезли магистра к паперти монастырской церкви и, привязав его там, возвратились домой.
Когда монаху показалось, что ему уже пора отправиться в задуманное путешествие, он открыл ворота и затем, сев на кобылу, выехал на улицу. Здесь перед ним оказался магистр, снаряженный так, как уже было о том рассказано: казалось, он угрожал монаху копьем и готовился поразить его насмерть. При виде такого зрелища монаху пришла в голову дикая и страшная мысль, именно — что дух магистра, как верят тому некоторые глупцы, возвратился в его тело и в наказание за грехи должен преследовать своего убийцу. А потому монах был охвачен таким ужасом, что едва не свалился замертво. И в то время, как он стоял так, словно громом пораженный, от страха не зная, в какую сторону повернуть, до жеребца донесся запах кобылы, и он извлек свою стальную булаву и, заржав, хотел к ней приблизиться. Такое поведение жеребца еще более испугало монаха; однако он пришел в себя и хотел направить кобылу своим путем, но она повернула корму в сторону жеребца и начала лягаться. Монах отнюдь не был лучшим наездником на свете и чуть было не свалился. Не дожидаясь второй подобной встряски, он крепко сжал лошади бока, вонзил в них шпоры, вцепился обеими руками в седло и, бросив поводья, пустил животное по воле судьбы. Кобыла, почувствовав, что шпоры сильно врезаются в ее бока, оказалась вынуждена бежать наугад по первой попавшейся дороге. Жеребец же, видя, что добыча его ускользает, в ярости порвал слабые узы и буйно понесся за нею вслед. Бедный монашек, чувствуя позади себя врага, обернулся и увидел его плотно сидящим в седле, с копьем наперевес, словно он был отменным бойцом. Эта новая опасность прогнала страх перед первой, и монах стал кричать: — На помощь, на помощь!
Так как уже рассвело, то на его крики и шум, производимый мчавшимися без узды скакунами, все стали выглядывать в окна и в двери; и каждому казалось, что он лопнет от смеха при виде столь нового и необычайного зрелища, каким было это преследование вскачь одного минорита другим, причем оба они в равной мере походили на покойников. Кобыла, предоставленная самой себе, неслась по улицам то туда, то сюда, в ту сторону, куда ей заблагорассудится; жеребец же скакал за ней, не переставая яростно ее преследовать, так что не приходится даже спрашивать, не грозила ли монаху опасность быть раненным копьем. Огромная толпа испускала вслед им крики, свист и вой, и повсюду слышно было, как кричали: «Стой, хватай!» Одни бросали в них камни, другие били жеребца палками, и каждый изощрялся, стараясь разъединить их, но не столько из сострадания к несущимся вскачь, сколько из желания узнать, кто они такие, так как вследствие быстрого бега лошадей нельзя было разглядеть всадников.
Наконец злосчастные наездники случайно свернули к одним из городских ворот. Там их обступили и схватили обоих, и мертвого и живого; и велико было общее удивление, когда их узнали. И, как сидели они на лошадях, так и были отведены в монастырь, где их встретили с неописуемой скорбью настоятель и вся братия. Мертвого похоронили, а для живого приготовили веревку. После того как монаха связали, он, не желая подвергаться пытке, чистосердечно сознался в том, что убил магистра. Правда, он не мог догадаться, кто посадил мертвеца на лошадь. Благодаря этому признанию его освободили от пыток, однако подвергли жестокому заключению; затем было сделано распоряжение о том, чтобы епископ города лишил его монашеского сана и передал светским властям, дабы те судили его как убийцу, согласно обычным законам.
Неизвестный флорентийский художник XV в.
Женщина, вырвавшая сердце у связанного юноши.
Гравюра резцом.
Случайно в те дни прибыл в Саламанку король Фернандо, и когда ему рассказали о происшедшем, то, несмотря на всю свою сдержанность и на то, что очень скорбел по поводу смерти столь известного магистра, он все же не в силах был устоять против забавности этого происшествия и стал вместе со всеми баронами так сильно над ним смеяться, что едва мог удержаться на ногах. Когда же наступил срок исполнения несправедливого приговора над монахом, мессер Родерико, который был доблестным рыцарем и любимцем короля, рассудил, что его молчание будет единственной причиной столь великой несправедливости. Побуждаемый любовью к правде, он решил скорее умереть, чем скрыть истину в столь важном деле. И, придя к королю, он в присутствии баронов и множества народа сказал ему:
— Синьор мой, с одной стороны, суровый и несправедливый приговор, вынесенный неповинному францисканцу, с другой стороны, желание не скрывать истину заставляют меня вмешаться в это дело. И потому, если ваше величество соизволит простить настоящего убийцу магистра Диего, я сейчас призову его сюда и заставлю рассказать по правде, со всеми доказательствами и во всех подробностях, как это на самом деле произошло.
Король, будучи милостивым государем и желая узнать истину, не поскупился на просимое прощение. Получив его, мессер Родерико в присутствии короля и всех окружающих рассказал точнейшим образом с самого начала и до рокового и последнего часа жизни магистра все подробности, относящиеся к ухаживанию монаха за его женой, а также обо всех письмах, посланиях и прочих проделках минорита. Король уже ранее выслушал показания монаха, и, так как они, по его мнению, сходились с показаниями мессера Родерико, зная к тому же его за честного и превосходного рыцаря, он отказался от дальнейших допросов и дал полную веру его словам; но, раздумывая о подробностях этого запутанного и странного случая, он и удивлялся и скорбел, а иногда и искренне смеялся. Однако, чтобы воспрепятствовать исполнению несправедливого приговора над невинным, король призвал настоятеля, а вместе с ним также и бедного монаха и рассказал им в присутствии баронов, прочих дворян и всех присутствующих о том, как на самом деле все произошло; на основании этих данных он приказал тотчас же освободить монаха, приговоренного к жестокой смертной казни. И когда приказ был исполнен, то монах, доброе имя которого было теперь восстановлено, вернулся восвояси, и в самом веселом настроении. Мессер же Родерико, получив прощение, удостоился сверх того и самых высоких похвал за свое поведение в этом деле. И, таким образом, весть о случившемся, возбуждая немалую радость, была разнесена быстрою молвою по всему Кастильскому королевству, а затем рассказ об этом достиг и наших краев и был передан в кратких словах тебе, могущественнейший король и господин наш; и я задумал, чтобы изъявить покорность твоим повелениям, сделать этот рассказ достойным вечной памяти.
Светлейшей инфанте донне
Элеоноре Арагонской
Молва, вернейшая носительница древних деяний, поведала мне, что около того времени, когда во Франции появилась Девственница[50], в Нанси, первом и благороднейшем из городов герцогства Лотарингского, жили два весьма родовитых и храбрых рыцаря, которые оба были с древнейших времен баронами и владели несколькими замками и селениями в окрестностях этого города; одного из них звали синьор де Конди, а другого — мессер Жан де Бруше. И подобно тому, как судьба наделила синьора де Конди единственной дочкой, прозывавшейся Мартиной и отличавшейся в своем нежном возрасте редкостной добродетелью, похвальным нравом и большей красотой лица и тела, чем все остальные девушки в той местности, так и у мессера Жана из многих сыновей, которых он имел, остался в живых только один, по имени Лоизи, почти одного возраста с Мартиной, весьма красивый, мужественный и преисполненный всяческих достоинств. И хотя родство между упомянутыми баронами было не слишком близкое, однако дружба, завязанная их отдаленными предками, привела к такой семейной близости, что они не только постоянно посещали друг друга, но, казалось, сообща владели вассалами и прочим добром, так что едва можно было заметить у них какое-либо разделение.
И вот, когда Лоизи уже возмужал, случилось, что, вследствие постоянных встреч его и слишком частого общения с Мартиной, молодые люди, остававшиеся без всякого присмотра, сами того не подозревая, влюбились друг в друга, и пламя любви настолько жгло их со всех сторон, что они не находили покоя, когда не были вместе, а встречаясь, беседовали и развлекались, как их побуждала к тому любовь и цветущий возраст. И в таких любовных играх они счастливо провели несколько лет своей, юности, не перейдя, однако, ни к какому запретному действию. И хотя оба они чрезвычайно желали отведать последних и самых приятных плодов любви, однако Лоизи, который был весьма сдержан и опасался порицаний девушки и ее родни, решил про себя никогда не иметь с ней иного телесного общения, кроме того, которое будет ему представлено законным браком; и это свое добродетельное и твердое решение он несколько раз открывал Мартине, которая, весьма одобряя его, постоянно понуждала его обратиться через какого-либо верного посредника к их родителям с предложением породниться. Лоизи, который только об этом и мечтал, сделал такое предложение синьору де Конди надлежащим способом, через своего отца. Но синьор де Конди, отклонив это родство по многим разумным основаниям, вежливо и сдержанно предложил мессеру Жану, чтобы впредь, в целях сохранения их общей чести, встречи их детей стали более редкими и чтобы Лоизи без крайней необходимости не появлялся в его доме. Таким образом, влюбленным было не только отказано в браке, но даже запрещено видеться.
Какие страстные слезы, какие горькие жалобы, какие тайные, но пламенные вздохи последовали, когда такое решение было им сообщено, — об этом было бы долго, да и излишне рассказывать. Но больше всего угнетало бедного Лоизи сознание, что его чрезмерная добродетель была причиной его беды, и теперь он сам не знал, какие цепи еще удерживают его душу в несчастном теле. Однако он решил через посредство одного верного посланца письменно снестись со своей Мартиной, умоляя ее сообщить ему, не найдет ли она какого-либо пути к их спасению; и, написав это письмо, он осторожно отослал его. Девушка, решившая про себя проявить величие души в таком невыносимом горе, увидев посланца, взяла у него письмо и, обливаясь слезами, прочла его; измученная своим горем и невозможностью ответить письменно, она сказала посреднику:
— О ты, единственный свидетель нашей тайной и жестокой страсти, поклонись от меня тому, кто тебя прислал, и передай ему, что либо он будет моим супругом и единственным владыкой моей жизни, либо же я с помощью ножа или яда добровольно изгоню свою душу из измученного тела. И хотя он сам, движимый своей крайней добродетелью и заботясь о чести моего отца больше, чем того требовала наша любовь и молодость, повинен в том, что наши величайшие наслаждения сменились невозможностью видеться и беседовать, однако, если смелость позволит ему прийти с несколькими своими людьми к нашему замку под мое окно с веревочной лестницей и всякими другими приспособлениями, при помощи которых я могла бы спуститься к нему, я немедленно выйду, и мы отправимся в замок какого-либо из наших общих родственников и там обвенчаемся. И если, узнав об этом, мой отец не станет возражать, тем лучше; если же нет, дело будет сделано, и ему придется быть благоразумным, обратившись от сознания своего бессилия к благой щедрости. Передай Лоизи, что если он решится на это, то пусть без промедления приходит за мной в эту же ночь указанным способом.
Верный слуга хорошо понял данное ему поручение и, сговорившись с девушкой относительно определенного условного знака, которым они должны были обменяться во избежание ошибки, удалился; а прибыв к своему господину, он в точности передал ему все. Лоизи не пришлось долго убеждать исполнить сказанное. Собрав немедленно десятка два отважных и сильных молодцов из числа своих слуг и верных вассалов и приготовив все, что требовалось для этого дела, он с наступлением ночи пустился в не слишком долгий путь и незаметно, без всякого шума, очутился вскоре со своими спутниками под окном своей дамы. Он подал условный знак, который она, нетерпеливо ждавшая его, услышала и признала. Тотчас же она сбросила ему вниз крепкую веревку, к которой он привязал лестницу, и она, подтянув ее к себе, хорошенько укрепила ее железные крючья на краю окна; вслед за тем она, нимало не колеблясь, как если бы уже раньше не раз прибегала к таким приемам, спустилась по лестнице и была принята в объятия своим Лоизи, который покрыл ее бесчисленными поцелуями, вывел на дорогу и усадил на приведенного для этой цели упряжного иноходца. Они поскакали вслед за вожатым, который должен был проводить их в назначенное место, а слуги, одни спереди, а другие сзади, с великим удовольствием последовали за ними по избранному ими пути.
Но неблагосклонная к ним судьба, видно, решила иначе и повлекла их к жестокой, ужасной и никогда еще, кажется, не слыханной гибели. Не успели они проехать и одной мили, как хлынул такой сильный ливень, сопровождаемый таким яростным ветром, густым градом, ужасающим громом и молнией, что, казалось, все небо хотело низринуться на них. Стало так темно и буря так неистовствовала, что все их спутники, шедшие пешком и одетые по большей части в одни лишь куртки, вместе с провожатым сбились с пути и разбежались в разные стороны, ища пристанища от грозы; а двое любовников, держась за руки, едва могли разглядеть друг друга. Потрясенные и испуганные таким внезапным проявлением божьей кары, ниспосланной им за их преступление, они не знали, где они и какой им путь избрать; не слыша никакого ответа своих спутников, которых они долго и громко кликали, они положились на волю божью и, отпустив поводья, предоставили лошадям самим продолжать путь, отдав свою жизнь в распоряжение Фортуны. Так, устремляясь к последней жестокой муке, они проехали наугад несколько миль, подобно лодке, лишенной кормчего, как вдруг увидели вдали маленький огонек и, ободренные некоторой надеждой, направили к нему своих лошадей, ибо погода ничуть не улучшилась. Долго они ехали до места, где виднелся огонек, и, прибыв туда, постучали в дверь. Когда им ответили и отворили дверь, они увидели, что попали в приют для прокаженных; некоторые из этих отверженных, выйдя им навстречу, не очень-то любезно спросили их, что привело их сюда в такое неурочное время. Молодые люди так окоченели и до того были измучены, что едва могли говорить, вследствие чего Лоизи как можно короче ответил прокаженным, что причиной тому послужила дурная погода и их злая судьба, а затем во имя бога попросил у них разрешения немного обогреться у огня и накормить своих измученных лошадей.
Хотя прокаженные, не имея надежды на выздоровление, могут быть уподоблены осужденным на вечные муки и потому им чужды всякая человечность и милосердие[51], — они все же прониклись некоторым сочувствием к молодым людям, помогли им слезть и, поставив их лошадей вместе со своими ослами, отвели их в кухню, где пылал большой огонь, и сами уселись вместе с ними. И хотя сама природа внушала молодым людям отвращение к этим зараженным и поврежденным существам, однако, не видя другого выхода, они постарались с этим примириться.
Огонь вернул Лоизи и Мартине утраченную красоту, и всем, смотревшим на них, казалось, что они похитили облик у Дианы и Нарцисса[52]. Это и было причиной того, что у одного из упомянутых прокаженных, гнусного злодея, бывшего солдатом в последнюю войну и более других гнилого и изуродованного, явилось безудержное желание овладеть красивой девушкой. Охваченный дикой похотью, он решил насладиться этой достойной добычей, предварительно умертвив ее юного любовника. И, не отступая от принятого решения, он поделился своим замыслом с одним из своих товарищей, столь же злым и бесчеловечным. Они отправились вместе в конюшню, и здесь один из них, отвязав лошадей и произведя большой шум, позвал:
— Господин, приди унять своих лошадей, чтобы они не обижали наших ослов.
Другой же, став за дверью с большим топором в руке, готовился совершить ужасное убийство.
О злая Фортуна, непостоянная и завистливая ко всякому продолжительному счастью, выпадающему на долю твоих подданных! Какими обманчивыми надеждами завела ты двух невинных голубков в сети жестокой смерти! И если тебе не угодно было, чтобы несчастные любовники плыли по твоим спокойным и тихим морям, то разве не было у тебя бесчисленного множества других способов разлучить их в жизни и в смерти? Неужели ты уготовила им этот, самый ужасный путь? Конечно, я не могу сказать о твоих подлых делах ничего, кроме того, что жалок человек, полагающий на тебя свою веру и надежду!
Услыша, что его зовут, Лоизи, хотя ему и не хотелось уходить от огня, направился все же легким шагом в конюшню, чтобы унять своих лошадей, оставив Мартину в обществе других прокаженных, мужчин и женщин. Но не успел он войти в конюшню, как свирепый злодей нанес ему по голове такой удар топором, что Лоизи упал мертвым на землю, не успев даже вскрикнуть. И хотя злодей знал, что юноша уже мертв, однако он все же нанес ему еще несколько безжалостных ударов по голове. Затем, оставив его там, убийцы отправились к несчастной девушке, и так как они были у прокаженных вроде главарей, то они приказали всем разойтись по местам, что и было тотчас исполнено. Несчастная Мартина осталась одна и начала спрашивать о своем Лоизи, но не получила никакого ответа. Затем убийца выступил вперед и сказал ей своим хриплым и грубым голосом:
— Будь терпеливой, дочка, так как мы только что убили твоего молодца, и потому тебе нечего больше на него надеяться; я же намерен до конца жизни наслаждаться твоим прелестным телом.
О сердечные и жалостливые дамы, соблаговолившие прочитать или прослушать о рассказанном в моей горестной новелле ужаснейшем, неслыханном происшествии, — вы, которые когда-либо сильно любили своего мужа или пылали страстью к другому любовнику! И вы, влюбленные юноши, уже достигшие цветущего возраста, у которых любовь когда-либо сжигала сердце своим пламенем! Я прошу вас, тех и других, если есть в вас хоть сколько-нибудь человечности, помогите мне своими самыми горькими слезами оплакать то острое, невыносимое горе, которое испытала в это мгновение, более всех других женщин, несчастная девушка и которое никак не может и не умеет описать мое перо. Ибо когда я хочу рассказать что-либо об этом, передо мной встают ужасные образы прокаженных, стоявших около несчастной девушки; я вижу их воспаленные глаза, вылезшие брови, провалившиеся носы, их опухшие разноцветные щеки, вывороченные и гноящиеся губы, их вытянутые, гадкие, скрюченные руки, весь их облик, более похожий на дьявольский, чем человеческий; и все это действует на меня так сильно, что не дает дальше писать моей дрожащей руке. Вы же, слушающие меня с состраданием, рассудите сами, о чем она думала и каким ужасом (не говоря уже, о горе) она была объята, увидя себя между двух свирепейших псов, которые были так распалены, что каждому из них страстно хотелось первому быть ее осквернителем. Она испускала отчаянные крики, билась головой о стену, в кровь расцарапала нежное свое лицо и несколько раз лишалась чувств и снова приходила в себя. Убедившись, что она ниоткуда не может ждать помощи или защиты, она без малейшего страха решила последовать за Лоизи и сопутствовать ему в смерти, как сопутствовала ему в жизни. И, обратившись к этим хищным зверям, она сказала:
— О безжалостные и бесчеловечные души, заклинаю вас именем божьим, после того как вы лишили меня единственного сокровища моей жизни и прежде чем вы учините что бы то ни было с моим телом, окажите мне единственную милость и позвольте хоть разок взглянуть на мертвое тело моего несчастного мужа, отвести над ним душу и омыть его окровавленное лицо моими горькими слезами.
Прокаженные, которые менее всего догадывались о том, что она задумала совершить, а также желали ей угодить, любезно удовлетворили ее просьбу и отвели ее к месту, где лежал мертвым несчастный Лоизи. Увидя его, она пришла в неистовое бешенство и с криком, потрясшим небо, без всякого удержу бросилась на него ничком. И когда она, казалось, несколько насытилась своими слезами и поцелуями, она посмотрела сбоку на своего возлюбленного и увидала у него на поясе оставленный убийцами кинжал; и хотя у нее был при себе наготове небольшой нож для выполнения своего ужасного замысла, она подумала, что этот путь короче и скорее приведет к осуществлению ее намерения. Она осторожно извлекла кинжал и, спрятав его между собою и мертвым телом, сказала:
— Прежде чем приготовленная сталь пронзит мое сердце, я призываю тебя, доблестная душа моего владыки, только что насильственно удаленная из этого измученного тела, и прошу тебя не томиться, поджидая мою душу, которая добровольно соединится с тобою. Вечная любовь, вспыхнувшая у нас обоих одинаковым пламенем, тесно свяжет нас там; и если нашим бренным телам не было дано в назначенный срок насладиться друг другом в этой жизни, явив образ подлинной любви, — я хочу, чтобы они были постоянно связаны воедино, наслаждались друг другом и вечно пребывали в том месте, которое им назначит судьба. Ты же, благородное и горячо любимое тело, прими в дар и в родство мое тело, которое с такой охотой спешит последовать за тобою всюду, куда ты отправишься. Не для наслаждения, но в качестве жертвы предназначено было оно тебе. Погребальным же ладаном, которым принято сопровождать похороны, послужит нам наша кровь, смешанная и гниющая в этом ужасном месте, а также слезы наших жестоких родителей.
Сказав это, — хотя ей и хотелось еще дольше плакать и жаловаться и у нее осталось еще много других горестных слов, — она решила немедленно завершить свой последний намеченный путь. Она ловко укрепила рукоятку кинжала на груди мертвого тела, направила его острый клинок прямо против своего сердца и, без колебания и страха надавив на него так, что холодная сталь пронзила ее насквозь, воскликнула:
— О жестокие псы, берите же добычу, которой вы так сильно добивались!
И, крепко обняв своего мертвого возлюбленного, она ушла из этой горестной жизни. Прокаженные же едва успели услышать эти последние слова, как увидели, что сталь больше, чем на пядь, выступила из ее спины. Они чуть не умерли от печали и, опасаясь за свою жизнь, тотчас же вырыли в конюшне большую яму и похоронили в ней оба тела в том самом положении, как они лежали. Такова была горестная и жесточайшая кончина обоих любовников, историю которых рассказало мое жалостное перо.
За этим последовала длительная и смертельная распря между их отцами, и много произошло кровавых схваток между их слугами. Но правосудию божию не было угодно допустить, чтобы столь великое злодеяние осталось неотомщенным; и убийцы понесли кару. Когда со временем между прокаженными случилась ссора, один из них открыл, как произошло это дело. Услышав об этом, упомянутые бароны, согласившись между собою, послали людей в этот приют и, раскопав яму, нашли трупы благородных и несчастных любовников, хотя они были попорчены разложением; кинжал еще свидетельствовал об их жестокой и злой смерти. Их забрали из этого гнусного места, положили в деревянный гроб и увезли, а затем заперли все двери приюта и подожгли его снаружи и изнутри, так что все прокаженные, сколько их там было, в течение нескольких часов превратились в пепел вместе со всем своим имуществом, домами и церковью. Тела же покойных были перевезены в город Нанси при всеобщей печали, плаче и трауре не только родных, друзей и горожан, но и иностранцев. Они были погребены в одной гробнице, с благолепной и торжественной службой. А на гробнице начертали в память о двух несчастных любовниках следующие слова:
«Завистливая судьба и злая доля привели к жестокой смерти двух покоящихся здесь любовников, Лоизи и Мартину, погибших в горестной страсти. Плачь и рыдай, ты, читающий это».
Мадонне Ипполите, дочери
Миланского герцога и супруге
герцога Калабрии[54]
Досточтимая мадонна Ипполита, недавно прочитал я множество прекрасных историй из «Новеллино», книги ученика нашего мессера Джованни Боккаччо, Мазуччо, который являет собою гордость города Салерно, и поскольку я слышал, что вы их тоже читали и милостиво одобрили, по этой причине, я, уподобляясь тем мореходам, которые обыкновенно отправляют свои корабли туда, где их товары найдут спрос, осмеливаюсь писать вашей светлости. Я принадлежу к тем людям, кои не очень-то доверяются Фортуне и утлым челнам, и поначалу хочу предложить вам товар некрупный. Посему я намерен рассказать небольшую новеллу, услышанную мною несколько лет назад, подлинную историю одного жителя Сиены, который по простоте душевной, а отнюдь не по злобе совершил ряд глупых поступков. И пусть не заподозрят меня в ненависти или неуважении к жителям этого прекрасного города, который мне давно полюбился; пусть не подумают, будто я вынужден писать так в отместку за то, что один сиенец сочинил несколько новелл, где изобразил, как его сограждане натянули нос нам, флорентийцам; лично я, сколько бы меня ни обманывали, всегда по-братски прощаю всех, особливо когда вспоминаю, как прощал Спаситель наш тех, кто его распинал. Я отнюдь не завидую чужим лаврам, но если бы мне удалось, хоть в малой степени угодить этой новеллой и другими опусами, — поскольку мы, флорентинцы, тоже иногда упражняемся в изящной словесности, — такой строгой ценительнице, как ваша светлость, это было бы поистине великой и желанной наградой за все наши труды.
Должен признаться, что я уже давно являюсь преданным и покорным слугою нашей светлости. Да иначе и быть не могло. Стоит лишь вспомнить о вашей вечной и нерушимой верности моей родине и о любви к дому Козимо де' Медичи[55], который всегда был отцом родным для своих счастливейших чад. А разве может человек щедрой души и благородного сердца, пребывавший некогда в полной безвестности, забыть ласку и почести, которые воздал ему отец ваш, Франческо Сфорца? Как можно не помнить необыкновенных достоинств вашей замечательной матушки, женщины, равной которой мы не увидим до нового пришествия? Вы, блистающая в лучах их солнца и повторяющая во всем своих великих родителей, примите благосклонно нашу новеллу, дабы мог я не делать такой длинной преамбулы к столь короткому рассказу, и, перечитывая ее иногда, вспоминайте шутки Луиджи Пульчи и его самого, вашего преданнейшего слугу и покорнейшего слугу вашего блистательного супруга, герцога Калабрии, во всем достойного своего царственного родича[56]; я же препоручаю себя вашей милости, которая да пребудет счастлива как в этой жизни, так и на небесах.
Надобно вам знать, что в те времена, когда папа Пий[57] находился в Корсиньяно, в Сиене произошло забавное и памятное событие. Досточтимый и великий папа, не менее знаменитый, чем Троянец[58], вернулся в родное гнездо, которое славно его именем, чтобы вновь посетить его и пожить в нем. Такая весть не могла долго оставаться тайной, вскоре она распространилась по всему благочестивому городу. Но более всех в Сиене обрадовался и подивился этому одни человек, который жив и поныне, купец, весьма почитаемый в своей среде. Он когда-то, еще с детства, много лет дружил и был близок с Энеа Пикколомини. Поэтому, услыхав о приезде папы в Корсиньяно, он захотел навестить того и возобновить прежнюю дружбу. Но сперва он долго ломал себе голову, пытаясь решить, какой подарок послать папе. Многажды раз думал он послать красивую черепаху, которая у него была, но служанка ему отсоветовала; тогда он пожелал за любую цену купить ежа либо что-нибудь в этом роде. На его счастье, как раз в это время в Сиену прибыл мессер Горо, чему наш сиенец несказанно обрадовался, расценивая это как счастливый знак и считая, что сам бог посылает ему приближенного папы, дабы посоветовать ему в выборе подарка и сообщить кое-что о старом друге, с которым он давно не виделся.
Сиенец тотчас же отправился к мессеру Горо и сразу же после первых приветствий выпалил: «Правду ли говорят, будто мессер Энеа стал святейшим папой? А ведь мы с ним выпили когда-то не одну бочку вина! Я хочу навестить его и напомнить, как я когда-то в Фонтегайа надавал ему тумаков, уложив его на обе лопатки, — он был тогда самым большим слюнтяем на свете». Наговорив еще множество разных глупостей, сиенец пригласил мессера Горо к себе отужинать. Тот согласился.
Вернувшись домой, сиенец созвал на совет друзей; они богато убрали его дом, потом стали обсуждать блюда ужина и надумали подать павлинов в перьях, которых, как они слыхали, подают в Риме и во Флоренции во время каждого пиршества; но толком они не знали, как их готовят, — скорее всего варят в воде. Обсудив все это, они на том и порешили. Но, не найдя нигде павлинов, они отправились на поле, где продавалась разная птица, и купили двух диких уток, которые показались им похожими на павлинов из-за яркого оперения; это, как они полагали, поможет им ввести в заблуждение мессера Горо. Они отрезали уткам лапы и клювы, принесли домой и, не ощипав перья, положили в котел вариться; потом принялись готовить другие блюда, опять на свой манер.
Вечером пожаловал мессер Горо в сопровождении нескольких друзей, все они были радушно встречены хозяином, который повел их, как это принято, показывать свой богато убранный дом. И тут произошел небольшой казус — правда, к счастью, потом все уладилось. Сиенец повесил герб папы над входом в кухню, герб мессера Горо внутри купальни, и, желая показать их мессеру Горо, он высоко поднял фонарь, который держал в руке, и нечаянно выплеснул масло на красную мантию гостя; тот рассердился, считая, что он это сделал умышленно. Хозяин быстро повел его в чистую залу, помог снять мантию и, сбегав в спальню, принес свою длинную зимнюю шубу, подбитую темным бобровым мехом, и надел ее на гостя, а тот, хотя стояла летняя жара, ходил в ней как миленький, видя старания хозяина.
Тем временем гостя пригласили помыть руки и усадили во главе стола, рядом разместили его друзей, и все сперва отведали прекрасные марципановые торты. Потом мессеру Горо подали блюдо с павлинами, и слуга стал нарезать их, но так как не умел этого делать, то долго возился, ощипывая пух и перья, которые стали разлетаться по всей зале, засыпали стол, лезли в глаза, рот, уши, нос мессеру Горо и всем остальным, которые, соблюдая этикет, делали вид, что ничего не происходит, и, продолжая брать со стола то одно то другое, наглотались таким образом перьев. В этот вечер они были похожи на ястребов и стервятников.
Когда же убрали со стола это проклятое блюдо, то появилось жаркое, в котором оказалось слишком много тмина, но все бы кончилось благополучно, если бы не последняя дурацкая шутка, которую, по глупости, решил устроить мессеру Горо и его друзьям хозяин дома. Сиенец и его приятели, чтобы оказать великое почтение гостям, велели приготовить желе, сделанное особым способом: они приказали выложить внутри блюда, как это принято делать во Флоренции и других городах, гербы папы и мессера Горо с их девизами; для этого они смешали охру, цинковые белила, киноварь, медный купорос и прочие, столь же пригодные для еды, вещи и поставили это прекрасное блюдо перед мессером Горо, а мессер Горо и его спутники с удовольствием съели желе, пытаясь заглушить горький вкус тмина и других странных блюд, считая, что тут, вероятно, так принято, как в некоторых городах принято употреблять в пищу шафран, миндаль, сандал, соусы из трав и другие подобные приправы. И ночью каждый из них чуть не протянул ноги, особенно страдал мессер Горо, которого всего вывернуло наизнанку, так что он извергнул из себя столько пуха и перьев, что их хватило бы на целую подушку.
После этого чертова блюда, после этой отравы подали десерт, и ужин продолжался. Хозяин дома присел рядом с мессером Горо, обнял его за плечи и весь вечер не отпускал от себя. По этой причине, да еще из-за длинной шубы, мессер Горо весь обливался потом, а кроме всего прочего, сиенец ему все уши прожужжал, надоедая рассказами о папе.
Когда настала полночь, мессер Горо и его друзья откланялись и еле живые отправились домой, где провели ужасную ночь, многажды раз раскаиваясь в том, что побывали в гостях. А что касается самого устроителя ужина, то он остался премного доволен всем, не считая маленькой неприятности с фонарем, из-за которой мессер Горо ушел в его шубе; особливо же, как считал сиенец, ему удалось блюдо из вареных уток с перьями.
Вдохновленный этим, а также словами мессера Горо, сиенец на другое утро покинул город и отправился улаживать свои дела, поскольку надеялся отбыть на несколько дней в Корсиньяно, чтобы погостить там у папы в свое удовольствие.
По моему мнению, когда хитроумная Фортуна хочет одурачить кого-либо, то она изыскивает для этого любые способы; так случилось и с нашим сиенцем: когда он возвращался в тот же день в Сиену, то повстречал на дороге крестьянина, который нес продавать в город дятла; и так как перья были у него почти зеленые, головка красная, а клюв, которым он ловко хватал муравьев, длинный, — паши поэты сделали эту птицу своей любимой, придумав сказку о том, как некогда жил в Италии король Пико[59], который обратился потом в дятла, — то сиенец принял его за попугая и подумал, что это будет прекрасный подарок для папы. Сиенец спросил у крестьянина: «Куда ты несешь попугая?» Крестьянин, который оказался хитрее его, видя такую глупость и зная, что попугаи высоко ценятся, ответил, что несет его в подарок другу.
Крестьянин долго заставил упрашивать себя, но потом уступил дятла за три лиры и, довольный своей сделкой, вернулся домой. А наш чудак прибыл в Сиену весьма радостный, думая, что здорово надул крестьянина. Он заказал клетку с гербом Пикколо-мини и поместил в нее так называемого попугая, потом выставил клетку на видном месте, в лавке художника, чтобы все могли полюбоваться ею. И действительно, вся Сиена имела возможность видеть клетку с попугаем. Люди этого большого и достойного города не переставали сему дивиться; и не нашлось ни одного человека, который смог бы точно сказать, дятел ли это или попугай.
Настал наконец день, когда клетка с попугаем была отправлена в Корсиньяно и вручена папе. Это произошло как нельзя кстати, потому что именно в это время вернулся туда мессер Горо и рассказал его святейшеству папе и всей курии о злосчастном ужине, а увидав клетку с дятлом, которого сиенец прислал как попугая, понял все и успокоился на свой счет.
Папа и вся курия долго смеялись над простотой сиенца, хотя весь город считал, что в клетке сидел попугай. И все сиенцы только и делали, что спорили и заключали пари по этому поводу. Такая свистопляска продолжалась более месяца: в Корсиньяно смеялись, а в Сиене спорили, ежедневно навещая того, кто подарил эту птицу. А он спустя некоторое время отправился с визитом к святому папе, где ему был оказан радушный прием и где он провел в свое удовольствие несколько дней. Лишь только он увидел папу, то, словно безумный, бросился к нему с объятиями, стал вспоминать все щелчки и тумаки, которые тот от него получил, наговорил кучу глупостей, над которыми все снова много смеялись, а потом, получив высочайшее благословение, отбыл в Сиену, весьма довольный папой, всей курией и особливо своей птицей. Он был так уверен, что это попугай, будто сам своими руками поймал его на берегах Нила, где, как говорят, их водится великое множество.
Сиена, как то, должно быть, многим ведомо, испокон веку изобиловала растяпами и никогда не испытывала недостатка в болванах и обалдуях. В чем причина сего, не знаю. То ли на тамошнем воздухе произрастают они вольготнее, то ли древо их изначала поднялось из дурного семени, а какова яблоня, таковы и яблочки. Как говорится, кто от кого, тот и в того, добрый сын на отца смахивает, и сыновья там, не желая, видимо, позорить своих родителей, прямо из кожи вон лезут, только чтобы не сочли их за байстрюков.
Так вот, немного лет тому назад проживал в Сиене горожанин по имени Джакопо Беланти, мужчина лет сорока, довольно богатый, но круглый дурачина. Среди прочего счастья или, если угодно, несчастья, выпавшего на его долю, досталась ему очень пригожая жена. Красота в Сиене столь же присуща женщинам, сколь сиенским мужчинам свойственна глуповатость и спесь. Жене названного Джакопо исполнилось около двадцати пяти лет, и, как у каждой хорошенькой женщины, у нее имелся молодой кавалер приятной наружности. Звали эту благородную даму Кассандра, а ее молодому человеку имя было Франческо, и родом он происходил из Флоренции. В Сиене Франческо несколько лет посещал университет[61] и сразу же влюбился в Кассандру, естественным последствием чего было то, что она полюбила его не менее сильно, чем он ее, ибо должно вам заметить, что Франческо сей был очень недурен собой, а Кассандра находилась как раз в той поре, когда женщина умеет уже отличать хорошее от дурного и знает все, что надобно знать женщине. Поистине, это та пора, в которую женщину любить лучше всего, ибо, когда женщина моложе, ее нередко удерживают стыд и страх, а когда она переваливает за указанный возраст, то либо становится много благоразумнее, чем то требуется для подобного рода дел, либо же утрачивает часть природной пылкости и оказывается несколько холоднее, чем хотелось бы ее любовнику.
Поскольку Франческо давно уже шел по следу за дичью, но все никак не мог загнать ее в сети, он не знал покою ни днем, ни ночью и был способен помышлять лишь о том, как бы ему удовлетворить долго терзавшие его желания. Особенно мучило его то, что он видел, что для этого ему недостает лишь средства и повода, ибо добыча не склонна была от него убегать. Кассандра к нему весьма благоволила, хотя ее любовь несколько сдерживали страх потерять доброе имя, а также ревность Джакопо, каковой вел себя с ней точно так же, как обычно ведет себя большая часть мужей, у которых красивые жены. Однако, чем больше расцветали прелести Кассандры, тем меньшее удовольствие доставляла ей эта ревность; ведь она превосходно понимала, что ее отдали замуж за человека довольно старого, не слишком красивого и отнюдь не могучего в любовных сражениях. Кроме того, она знала, что он лопух. Все это могло бы разжечь огонь даже там, где не оказалось бы углей. Не говоря уж о том, что, когда имеешь возможность выбирать между плохим и хорошим, вполне естественно, предпочтешь хорошее. Поступи она по-другому, ее сочли бы безумной либо дурочкой. Сказать по правде, я считаю, что участь женщин гораздо хуже, нежели участь мужчин, ибо у последних есть перед женщинами одно великое преимущество: мужчина, как бы убог и жалок он ни был, имеет возможность либо взять жену по своему вкусу, либо не жениться; женщине же, — а ведь она себе не принадлежит, — приходится, не раздумывая, довольствоваться тем муженьком, коего ей подыщут, чтобы не остаться в старых девах, а потом еще и радоваться тому, что тысячу раз на дню он будет есть ее поедом. Поэтому не удивительно, что каждодневно мы узнаем о чьих-то грешках, и, право же, к ним надобно относиться с меньшей строгостью, чем это ныне делается. Исходя из вышесказанного их следовало бы прощать заглазно.
Вернемся, однако, к нашей истории. Кассандра и Франческо вполне могли бы быть довольны жизнью. К их величайшему несчастью, они страдали только из-за того, что с них не спускал глаз какой-то жалкий оболтус, ибо лишь благодаря усердию, а вовсе не по причине большого ума Джакопо удавалось мешать им насладиться друг другом.
Так вот, Франческо пораскинул умом и, положившись на простоватость Джакопо, составил план, о котором я сейчас вам поведаю. Прежде всего он измыслил доказательства того, что вроде бы совсем отказался от любви к Кассандре, причем так, что Джакопо ему почти что поверил. Он сделал вид, будто получил от своих родственников из Флоренции письмо, в котором обсуждалось его намеренье жениться. Весть об этом, распространившаяся сперва среди друзей и приятелей Франческо, дошла вскоре до некоторых жителей Сиены, ибо там его многие знали и любили. Услышал о том и Джакопо, и сие его чрезмерно порадовало, ибо он решил, что теперь ему можно быть совершенно спокойным за свою жену. Он подумал, что Франческо покинет Сиену или, во всяком случае, выбросит из головы все, о чем он до сих пор помышлял, как то обычно бывает с женатыми молодыми людьми. Джакопо откинул все свои подозрения, а Франческо принялся разглагольствовать, что он-де ни за что не уедет, ибо, проучившись так долго и затратив столько трудов на усвоение науки, не желает бросать университет в тот самый момент, когда он уже без пяти минут доктор; он заявил, что решил перевезти жену в Сиену и жить с нею там, — так, мол, будет удобнее доделать то, что ему надлежит довести до конца. В подтверждение своих слов он снял дом (не очень близко от дома Джакопо, но на улице, по которой Джакопо часто проходил), дабы поселиться в нем вместе с женой, ибо тот дом, где он жил прежде, был бы для них мал.
Прошло некоторое время, и Франческо сказал, что едет во Флоренцию, чтобы справить там свадьбу и забрать жену. Так он и сделал. Приехав во Флоренцию, он зашел к одной блуднице, — это была не простая уличная девка, а сортом повыше. Блудницу эту звали Меина, и проживала она в квартале Борго Стелла. У нее было красивое лицо и довольно приятная осанка. Франческо столковался с ней, отвалив ей порядочную сумму за то, что она поедет с ним на некоторое время. Та с радостью согласилась, и Франческо привез ее с большой свитой в Сиену, выдав там ее за свою супругу. И он так в этом всех уверил, что многие благородные сиенские дамы с почетом принимали сию блудницу и часто приглашали ее в гости.
Названная блудница, будучи лукава и двулична, превосходно умела скрывать под пышными, господскими одеждами свои бесчисленные пороки и держала себя весьма пристойно, изображая святую невинность. Франческо научил ее, как надо себя вести, и она стала появляться у окна, выходившего, как было сказано, на улицу, по которой часто хаживал наш Джакопо, ибо так ему было удобнее поспевать по своим делам. Он нередко замечал ее на балконе и однажды, к своему несчастью, посмотрел в ее сторону. Та приветливо улыбнулась и бросила ему ласковый взгляд, от которого у Джакопо ум за разум зашел. Забыв, что всякому овощу свое время, он сказал себе: «Вот так здорово! Франческо долго вздыхал по моей жене и не добился от нее ничего, даже улыбки, хоть он молод и хорош собой, а мне, старику, его жена сразу же делает глазки. Видно, Франческо суждена участь собаки Майнардо — та только лаяла на всех, а покусали-то ее самоё».
Подстегиваемый своим дурацким самомнением не менее, чем любовью, Джакопо стал еще чаще прохаживаться по этой улице и с каждым днем обнаруживал почву все более и более разрыхленной. Теперь, оказавшись в компании молодежи, он нередко принимался хвастать:
— Выходит-то, дело разумеют одни старики. Вы вот вечно строите куры и всегда остаетесь с носом, а мне, как вы знаете, человеку немолодому, в один миг выпало такое счастье, за которое каждый из вас отдал бы все на свете. У меня ведь как? Раз, два — и готово.
Но, несмотря на всю эту болтовню, Джакопо никак не мог найти способа признаться в любви. Дошло до того, что Бартоломея (такое имя приняла блудница, чтобы не быть узнанной), видя, что он не предпринимает никаких шагов, вынуждена была послать ему со служанкой письмо, в котором говорилось, что она-де по нем сохнет и чтобы он, бога ради, помог ей, ибо она боится, не околдовал ли ее кто-нибудь. Джакопо пришел от сего в телячий восторг и отправил ответ, который был ничуть не умнее его самого. Прошло немного времени, и Бартоломея, которая до этого делала вид, что ей приходится преодолевать величайшие трудности, назначила Джакопо свидание на вечер, сказав, что Франческо уехал в имение к одному из своих сиенских приятелей. Джакопо показалось, что время до вечера тянется целую вечность, и как только настал назначенный час и ему был подан условный знак, тут же оказался в доме. Бартоломея проделала все то, что обычно делают сгорающие от великой любви дамы; она провела Джакопо в комнату и затолкала его под кровать, сказав, что ему надо пробыть там до тех пор, пока она не отошлет спать служанку, ибо ей хочется, чтобы никто ни о чем не узнал. Джакопо подчинился и пролежал под кроватью часа два с половиной. Потом вернулась Бартоломея и прикинулась, будто очень огорчена из-за неудобств, которые ему пришлось претерпеть. Когда же они остались вдвоем, она, уверяя, будто делает сие под влиянием страсти, принялась царапать ему лицо и кусать его так, что на теле его оставались следы ее зубов. Джакопо, полагая, что подобным образом поступают истинно влюбленные, не только безропотно сносил все это, но даже чувствовал себя на седьмом небе. Когда же дело дошло до главного, о чем столько мечтают любовники и чего они так долго добиваются, он, хоть и был стар, поднатужившись и с великим трудом повел себя так, как следовало. Сделав вид, будто она поражена тем, что он в его возрасте обнаруживает такую прыть, Бартоломея заставила беднягу расшибиться в лепешку и совершить то, что, казалось, было ему совсем не под силу. В довершение же всего, вернувшись домой чуть живой, разбитый, обессиленный, но довольный, словно ему довелось побывать в раю, Джакопо бросился в любовную схватку с женой. Дабы оправдаться, ему пришлось за одну эту ночь совершить такую работу, которую в другое время ему было бы не то что трудно, а невозможно проделать в течение целого года.
Бартоломея, подученная Франческо, не желая упускать добычу из рук, продолжала строить Джакопо глазки, и, хоть он бывал у нее часто, возвращался домой он лишь сильно исцарапанным и покусанным. Эта любовь продолжалась несколько месяцев и больше на словах, нежели на деле, ибо, побуждаемый к тому тщеславием, Джакопо не мог не похвастаться своим счастьем как перед старыми так и перед молодыми друзьями, не подозревая, что он собственными руками расставляет сети, в которых ему самому суждено запутаться. Тем временем наступил великий пост, и Бартоломея попросила Джакопо дать ей роздых, по крайней мере, на святую неделю, когда надобно думать о спасении души, хотя, как сказала она, ей будет очень тяжело не видеться с ним столь долгий срок. Такие ее слова побудили Джакопо сходить к исповеди и покаяться в содеянных грехах. Его духовником был некий монах из ордена святого Франциска, коего звали брат Антонио. Зная, что тот исповедует Джакопо, Франческо заранее договорился с ним о том, что ему надлежит делать. Названный Антонио, хоть и был духовным лицом, однако почитал, что долг милосердия повелевает ему помогать страждущим, и, желая подтвердить справедливость молвы о том, что нет такого предательства и таких козней, в которых не участвовал бы францисканец, с радостью обещал Франческо исполнить все, о чем тот его просил.
Когда Джакопо припал к ногам брата Антонио, дабы исповедаться, тот стал задавать ему обычные вопросы. Речь дошла до греха сладострастия, и Джакопо в простоте душевной принялся рассказывать обо всем, что у него было с женой Франческо. Тут монах его прервал и сказал:
— Ох, Джакопо! Как это ты мог поддаться дьявольскому соблазну, ввергнувшему тебя во грех, коему нет прощения? Отпустить его тебе не властны ни я, ни папа, ни сам святой Петр, покинь он ради тебя врата рая.
На что Джакопо возразил:
— О, а я слышал, что не существует столь великого греха, которого нельзя было бы не отпустить.
— Верно, — возразил брат Антонио. — Но для этого надо совершить то, на что ты, по моему разумению, не способен.
— Нет ничего такого, чего бы я не сделал ради спасения души, — заявил Джакопо. — Ради такого дела я продам и себя, и свою жену.
— Ну коли так, — молвил брат Антонио, — я тебе скажу… Да нет, я уверен, что ты не исполнишь того, что мне обещаешь.
— Вы меня просто удивляете! — возмутился Джакопо. — Свою душу я почитаю превыше всего мирского.
— Коль так, будь по-твоему. Ты, верно, слышал, что за неумышленную обиду, нанесенную доброму имени или имуществу другого человека, нельзя получить прощения, не вернув сему человеку его доброго имени и его имущества? Вот тут-то собака и зарыта. Ты отнял честь у юной дамы и у ее супруга, и грех твой останется непрощенным, пока ты ему эту самую честь не вернешь. А сделать сие можно только одним способом: пусть ее муж, если таковой у нее имеется, а коли его у нее нет, то пусть ее ближайший родственник столько же раз побывает у твоей жены, если таковая у тебя имеется, а если ее у тебя нет, то у твоей ближайшей родственницы, сколько раз ты бывал у его жены. И в Писании мы читаем[62], что когда Давид совершил грех прелюбодеяния, то отослал жену свою тому человеку, у которого он отнял супругу, и был прощен. Теперь ты видишь, что тебе надобно сделать?
Слушая, что ему втолковывает священник, Джакопо решил, что впутался в скверную историю, и подумал: «Собакой-то Майнардо окажусь, видимо, я сам». Тем не менее он сказал, обращаясь к монаху:
— Духовный отец, каким бы трудным ни представлялось мне это дело, но душу должно любить превыше всего, и не пристало мне стыдиться того, что совершил этот самый Давид, — ведь он был царь, а я всего-навсего сиенец. Как бы там ни было, а я прежде всего желаю спасти свою душу.
Монах, выслушав сии покаянные речи, обнял Джакопо, поцеловал его в лоб и, выждав немного, произнес:
— Сын мой, вижу, что на тебя снизошла благодать господня. Ты встал на путь истинный. Будь же за это тысячу раз благословен. Вижу, что дело пойдет у нас на лад, и возблагодарим Спасителя нашего. Должен, однако, заметить, что грех твой велик и без особого покаяния отпустить его тебе невозможно. Поэтому я решил, что во отпущение этого и прочих твоих грехов тебе следует отправиться в Рим. Так ты приобщишься к вечной жизни и в радости закончишь свои дни. Ступай, сын мой благословенный, и приведи во исполнение то, что ты мне обещал.
Сказав это, монах благословил Джакопо.
Джакопо, встав с колен, вернулся домой, погруженный в глубокие раздумия. После жестокой внутренней борьбы, в которой в конце концов победила совесть, он решил сходить к Франческо, дабы возвратить ему честь. Правда, тут возникла еще одна трудность: Джакопо не знал, как ему рассказать обо всем Франческо, не подвергнув себя великой опасности. Однако он решил, что нашел способ уберечься от нее. Побуждаемый угрызениями совести и полагая, что на святой неделе он может совершить сие более безбоязненно, чем когда-либо, он однажды вошел к Франческо со следующими словами:
— Франческо, я всегда любил тебя, как собственного сына, и по возрасту гожусь тебе в отцы. Грех толкнул меня на то, в чем я глубоко раскаиваюсь. Прошу тебя, коли бог мне простит, прости меня и ты. Однако до того, как я тебе во всем признаюсь, поклянись, что не учинишь мне обиды, но ради страстей господа нашего забудешь о том оскорблении, которое я тебе нанес.
На это Франческо ответил:
— Я всегда почитал вас, как отца. Даже если бы вы зарезали моего батюшку, я все равно обещаю вам, что, во-первых, ради бога и святой недели, а во-вторых, ради моего уважения к вам, прощу вам любую обиду.
Тут Джакопо бросился ему в ноги:
— Я буду умолять тебя на коленях.
Франческо с трудом поднял его и стал слушать то, что было известно ему гораздо лучше, чем Джакопо.
Когда Джакопо, плача, ему во всем признался, Франческо, сделав вид, будто он крайне рассержен, сказал:
— Вы проявили большую предусмотрительность, связав меня клятвой. Не будь этого, вы не ушли бы отсюда, прежде чем я не сделал бы чего-нибудь такого, что пришлось бы весьма не по вкусу и вам, и моей распутнице жене и в чем бы я потом горько раскаивался. Но я люблю свою душу больше, нежели вы любите меня. Словом, я вас ныне прощаю. А теперь убирайтесь!
Джакопо, не считая, что он сделал все, что требовалось, сказал:
— Выслушай меня еще немного. Надо, чтобы ты помог мне получить за мой грех прощение у бога. — И он рассказал Франческо, что тому придется переспать с его женой.
— Ну, этого я вам не обещал! — возмутился Франческо. — Я не желаю стать, подобно вам, предателем и негодяем. Достаточно, что я простил вам такую великую обиду. И не уговаривайте меня — я не желаю вас слушать. Еще раз повторяю: убирайтесь-ка отсюда подобру-поздорову.
Джакопо, опасаясь, как бы не вышло чего худого, поспешил покинуть дом Франческо и опять отправился к монаху. Когда он рассказал ему, как было дело и что Франческо не желает ни о чем слышать и ни в какую не соглашается переспать с его женой, монах сказал:
— О, ты совсем ничего не добился. Ведь тебе надо вернуть ему честь. А иначе, что бы ты ни делал, все впустую.
Джакопо, не зная, как ему снова идти к Франческо, предложил монаху:
— А может, вам лучше послать за ним? Я посижу у вас, и в моем присутствии вы растолкуете ему, что это — не грех. Кто знает, может быть, он вас послушается больше, нежели меня.
— Это неплохой выход, — согласился монах. — Но я с ним не знаком. Я дам тебе моего служку, и ты ему его издали покажешь. Так никто не узнает, зачем я его вызываю.
На этом и порешили. Джакопо взял служку, показал ему Франческо, и тот передал Франческо письмо монаха.
Франческо, ни слова не говоря, явился в церковь, нашел монаха в комнате, расположенной перед его кельей, и, сделав вид, будто ругается, весело посмеялся с монахом над их проделкой. Потом, кликнув Джакопо, монах сказал, обращаясь к Франческо:
— Тебе все-таки надо утешить беднягу Джакопо, не из любви к нему, ибо он ее не заслуживает, а из любви к мессеру Иисусу, каковой и к тебе будет милостив и не вменит тебе в грех то, что ты совершишь во имя его. А мы с Джакопо будем почитать себя твоими должниками.
Тут Джакопо упал на колени и стал умолять Франческо как о милости, чтобы тот переспал с его женой.
Франческо, прикинувшись до слез растроганным, сказал:
— Ладно, согласен. Я уступаю и готов ради бога учинить вам такую обиду и милость. Во имя него я сделаю то, что вы от меня требуете, хоть это и кажется противным моей совести.
Джакопо такой его ответ очень обрадовал, но теперь его стало заботить другое, — как уговорить жену. Однако, рассудив, что с женой он как-нибудь управится, Джакопо пошел домой. Ему показалось, что он отыскал весьма хитрый способ, как сделаться рогоносцем, и, придя к себе домой, принялся горько плакать с тем, чтобы вынудить жену спросить его о причине слез. План его удался. Жена принялась его настойчиво расспрашивать, из-за чего он так плачет, и Джакопо ответил:
— Я плачу, потому что у меня есть причина для слез. А причина эта вот какая: я осужден на вечные муки, и душе моей нет спасения.
Жена Джакопо, превосходно зная, в чем дело, принялась плакать еще сильнее, чем он, говоря:
— Ой, ой! Как же так? Что ты натворил? Неужели этого никак нельзя исправить?
— Можно, — сказал муж. — Только очень трудно.
— Так почему же ты ничего не скажешь? — удивилась Кассандра. — Если что-то можно сделать, мы это сделаем.
— Ладно, — ответил Джакопо, — я тебе скажу: от тебя зависит, буду ли я спасен или отправлюсь в ад.
Он рассказал жене, как обстоит дело. Когда речь дошла до роли, которую ей придется сыграть, Кассандра насупилась и заартачилась. Коротко говоря, Джакопо пришлось на коленях упрашивать ее оказать ему такую милость. Когда же она согласилась, он тут же отправился к Франческо, дабы как можно скорее очиститься от греха.
— Нынче вечером самое время, — сказал Джакопо, входя т; Франческо. — Приходи ко мне ужинать, а потом начинай ради бога помогать мне избавляться от сего великого греха.
Франческо очень обрадовался, но скорчил такое лицо, словно бы получил препоганейшее известие и считает, что, отправляясь к Джакопо ужинать, он оказывает тому величайшее благодеяние. Это, впрочем, не помешало Франческо с огромным нетерпением ждать вечера. Как только стемнело, он отправился к Джакопо. Плотно поужинав, он оставил Джакопо в столовой и удалился со своею желанной Кассандрой в опочивальню, где они возлегли на кровать. Все вы, конечно, представляете, что дела у них пошли совсем не так, как шли они у Джакопо с Бартоломеей. Затем потребовалось искупать и другие грехи, и им пришлось много раз возвращаться к этим занятиям, а так как Джакопо по приказу монаха отправился в Рим за отпущением грехов, то редкая ночь проходила без того, чтобы Франческо и Кассандра не встретились.
Вот какое завершение получила их великая любовь, и дай бог нам так же завершить нашу.
К этому можно добавить, что ревнивый Джакопо, дабы искупить, как он считал, великий грех, на коленях ради бога молил Франческо совершить то, чего тот желал более всего на свете. А причиной всего этого был брат Антонио, который поступил так, как обычно поступают многие духовные лица; ибо, подобно тому как священники нередко приносят бесчисленные блага, точно так же они порою оказываются виновниками многих величайших зол из-за слишком большой веры, которую напрасно питают люди к священнослужителям.
В древних летописях флорентийских имеется рассказ некоего благочестивого мужа, жизнь коего прославлялась современниками его, о том, что в молитвенном восхищении узрел он, как неисчислимые души несчастных смертных, умерших в немилости божией, шествуя в ад, все, или же большая часть их, плакались, что подверглись злополучной сей участи лишь по причине женитьбы своей. Сему Минос и Радамант[65] вместе с другими адскими судьями дивились немало, и, не придавая веры сим клеветам их на женский род, жалобы на который росли изо дня в день, вошли с соответствующим докладом к Плутону; он же положил, по зрелому рассмотрению сего дела вкупе со всеми князьями адскими, принять то решение, что признано будет наилучшим, дабы либо разоблачить сей обман, либо признать всю его истину. Итак, созвав их на совет, сказал им Плутон такое слово:
— Хотя, любезнейшие мои, по небесному предначертанию, непреложному вовеки волей судеб, владею я царством сим и в силу сего не обязан полагаться ни на какое суждение, ни небесное, ни земное, тем не менее, поскольку благоразумнее власть имущим подчиняться законам и уважать чужое суждение, положил я держать совет с вами касательно некоего дела, как могущего навлечь позор на государство наше, коим должен я править. Ибо, поскольку все души людские, прибывающие в царство наше, говорят, что причиной тому жена, и поскольку сие представляется нам возможным, опасаемся, что, давая веру таким рассказам, можем мы быть оклеветаны в чрезмерной жестокости, не давая же — в недостатке суровости и в малой любви к справедливости. И поскольку в одних грехах виновны люди по легкомыслию, в других — по неправоте своей, и желая избежать обвинений в том, что может зависеть от того и от другого, и не находя к тому способа, созвали мы вас сюда, дабы советом своим помогли вы и послужили тому, чтобы царство сие как в прошлом существовало без позора, так и в будущем сохранялось бы таковым же.
Каждому из князей дело сие показалось важнейшим и труднейшим, но, решив единодушно, что истину открыть необходимо, разошлись они в суждениях относительно способа. Ибо одним казалось, что следует послать кого-то из них на землю, дабы в образе человеческом лично узнал он всю правду; многим же другим казалось, что можно обойтись без таких хлопот, принудив разные души разными муками открыть истину. Но так как большинство согласилось в том, что послать надлежит, то и склонились к такому мнению. И, не находя никого, пожелавшего бы добровольно взяться за сие дело, рассудили определить избранника жребием. Выпал он Бельфагору, ныне архидьяволу, в былое же время, до низвержения с небес, архангелу; хотя и неохотно брал на себя он сию повинность, однако, принужденный властью Плутона, согласился последовать решению совета и подчинился условиям, кои торжественно были тут установлены и состояли в том, чтобы немедленно было вручено отряженному с сим поручением сто тысяч дукатов, с коими должен был он явиться на землю, в образе человеческом вступить в брак и прожить с женой десять лет, а засим, притворившись умершим, вернуться обратно и по личному опыту доложить верховному начальству, каковы тяготы и неудобства супружеской жизни. Объявлено было ему еще, что в течение указанного времени он будет подвержен всем тем нуждам, всем тем бедам, коим подвержены люди, — вплоть до нищеты, темницы, болезни и всяких иных несчастий, коим подпадают люди, — ежели только обманом или хитростью не освободится от них.
Итак, получив наказ и деньги, Бельфагор прибыл в мир сей и, в сопровождении конной свиты, с великой пышностью въехал во Флоренцию, каковой город предпочтительно пред всеми другими избрал для своего пребывания как наиболее подходящий, по его мнению, для помещения в рост денег. Приняв имя Родериго из Кастильи, он снял внаймы дом в предместье Всех Святых. Дабы предупредить излишние расспросы о своем происхождении и положении, он объявил, что, еще в юные годы выехав из Испании и направившись в Сирию, нажил все свое состояние в Алеппо, откуда поехал в Италию, намереваясь найти себе жену в странах более светских и более соответствующих требованиям гражданского общежития и собственному его душевному расположению. Был Родериго человек весьма красивый и на вид лет тридцати; с первых же дней он блеснул всем своим богатством и выказал столь образцовую светскость и твердость, что многие знатные граждане, имевшие много дочерей и мало денег, искали случай породниться с ним; изо всех остановил свой выбор Родериго на отменно красивой девушке, по имени Онеста, дочери Америго Донати, имевшего еще трех других дочерей. И хотя принадлежал он к весьма знатному роду и пользовался общим уважением во Флоренции, тем не менее, из-за многочисленной семьи своей был он крайне беден.
Свадебный пир задал Родериго на славу, не забыв ничего из того, что требуется на таковых празднествах, будучи, по условиям, установленным для него при отбытии из ада, подвержен всем страстям человеческим. Он сразу вошел во вкус почестей и пышностей света и стал дорожить людскими хвалами, что ввело его в немалые расходы. Кроме того, не прожил он и нескольких дней со своей монной Онестой, как влюбился в нее превыше всякой меры и жить не мог, чуть только видел ее печальной и чем-либо недовольной. Вместе со знатностью и красотой своей принесла монна Онеста в дом к Родериго нрав столь строптивый, что самому Люциферу было бы далеко до нее; и Родериго, испытавший нрав их обоих, рассудил, что жена обладает тут превосходством. Но стала она куда еще строптивее, лишь только обнаружила всю любовь к себе мужа; решив, что может захватить полную власть над ним, она стала повелевать им без зазрения совести и не задумывалась грызть его грубыми и оскорбительными словами, когда в чем-либо был отказ ей от него, что причиняло Родериго несказанную тоску. И все же тесть, шурья, вся родня, брачный долг, а сверх всего великая любовь к жене заставляли его сносить все терпеливо. Я уж не говорю об огромных расходах, которые делал он, дабы угодить ей, одевая ее в новые платья, и угодить ее прихоти поспевать за модой, которую город наш имеет обыкновение менять то и дело, не говорю, что был он вынужден, желая жить с ней в мире, помочь тестю выдать замуж других его дочерей, что стоило ему огромных денег. Засим, ради ее удовлетворения, ему пришлось снарядить одного шурина в торговую поездку на Восток с тонкими тканями, а другого на Запад с плотными сукнами, да еще помочь третьему открыть золоточеканную мастерскую, на каковые предприятия истратил он большую часть своего состояния. Помимо того, во время карнавала и в день святого Иоанна, когда весь город, по древнему обычаю, предается празднествам и многие знатные и богатые горожане задают пиры на славу, монна Онеста, дабы не отстать от других дам, желала, чтобы ее Родериго превосходил всех роскошью своего гостеприимства. Все это, по указанным выше причинам, нес он покорно, и даже тягчайшее бремя не показалось бы ему тяжелым, лишь бы только принесло оно мир его дому и мог он спокойно дожидаться срока своего разорения. Но случилось обратное, ибо вместе с неносильными расходами нестерпимый характер жены причинял ему бесконечные беспокойства, и не находилось ни раба, ни слуги в его доме такого, чтобы не то что долгое время, а и несколько дней мог бы вытерпеть. Отсюда проистекали для Родериго тягчайшие затруднения, ибо он не мог найти себе верного и преданного раба, и, равно как и прочие слуги, даже те дьяволы, что сопутствовали ему в качестве его челяди, предпочли лучше вернуться в огонь преисподней, нежели жить в этом мире под ее владычеством.
В таких тревогах и беспокойствах своей жизни, растратив уже беспорядочными расходами и ту движимость, что у него сохранилась, Родериго стал жить надеждой на выручку, что ожидал с Запада и с Востока. Пользуясь все еще хорошим кредитом, дабы не уронить своего достоинства, он занял деньги под проценты, но, имея уже за спиной большие долги, требовавшие уплаты, он скоро попал на отметку тем, кто занимался подобными же денежными операциями. Когда дела его уже совсем висели на волоске, с Запада и с Востока пришли внезапно известия, что один из братьев монны Онесты проиграл все имущество Родериго, а другой, возвращаясь на корабле, нагруженном его товарами, и ничего не застраховав, утонул вместе с ним. Не успели эти новости стать известными, как кредиторы Родериго, собравшись на совещание, рассудили, что он разорен, и так как обнаружиться это еще не могло, поскольку срок уплаты им еще не наступил, положили, что следует учинить за ним бдительное наблюдение, дабы, от слов к делу, не бежал он тайком. Родериго же, со своей стороны, не видя, чем помочь беде, и памятуя о своих обязательствах перед законами преисподней, решил бежать во что бы то ни стало. Однажды утром, сев верхом на лошадь, выехал он через ворота Прато, неподалеку от коих жил; не успела разнестись весть о его отъезде, как шум поднялся среди его кредиторов, которые не только потребовали скороходов у власти, но и сами всей толпой бросились его преследовать. Родериго не отъехал и на милю от города, как услышал за собой шум погони, и потому, рассудив, что ему несдобровать, решил, чтобы скрыть свое бегство, съехать с дороги и пуститься наудачу по полям. Но из-за множества канав, пересекавших всю местность, он не мог продолжать свой путь верхом и, оставив коня на дороге, побежал пешком с поля на поле, по виноградникам и камышам, коими изобилует эта местность, пока не достиг выше Перетолы[66] хижины Джованни Маттео дель Брикка, арендатора земли Джованни дель Бене; по счастью, он застал дома Джованни Маттео, который задавал корм волам, и, назвав себя, обещал ему, что ежели он спасет его из рук врагов, преследующих его, чтобы уморить в темнице, то он обогатит его, в чем при прощании даст ему верное ручательство; в противном же случае согласен, чтобы он сам выдал его в руки врагов. Хотя и крестьянин, был Джованни Маттео человек храбрый и, рассудив, что не прогадает, согласившись его спасти, дал ему в том обещание; спрятавши его в навозной куче перед своей хижиной, он прикрыл его камышом и соломой, заготовленными им на топливо. Не успел Родериго укрыться, как явились его преследователи и угрозами могли лишь добиться от Джованни Маттео, что видеть его он видал, только и всего.
Лишь только шум утих, Джованни Маттео, вытащив Родериго из убежища, где тот находился, потребовал от него исполнения данного слова. На что Родериго ответил:
— Брат мой, ты оказал мне великую услугу, и я желаю тебя всячески отблагодарить; а чтобы ты убедился в том, что я могу это сделать, скажу тебе, кто я такой.
И тут он рассказал ему все о себе самом, и об обязательствах, принятых им на себя при выходе из ада, и о своей женитьбе; а засим сообщил ему способ, каким намеревался его обогатить и состоявший в следующем: как только Джованни Маттео услышит о какой-либо бесноватой, пусть знает, что вселился в нее не кто иной, как он сам своею собственной персоной, и не выйдет из нее, пока тот не явится изгнать его, что даст ему случай потребовать любой платы от ее родителей. Порешив на том, они распростились, и Родериго пустился своей дорогой.
Прошло не много дней, как по всей Флоренции разнесся слух, что дочь мессера Амброджо Амедеи, выданная замуж за Буонайуто Тебальдуччи, одержима бесом. Родители применили все средства, какие в подобных случаях применяются: возлагали ей на голову главу святого Зиновия и плащ святого Иоанна Гуальбертийского, но все это вызвало лишь издевательства со стороны Родериго. И дабы каждому стало ясно, что болезнь девушки имела причиной злого духа и не была плодом фантастического воображения, он говорил по-латыни, рассуждал о философских предметах и разоблачал прегрешения многих: среди прочих разоблачил он грех одного монаха, который в течение более четырех лет держал в своей келье женщину, переодетую монашком; все это вызывало всеобщее изумление. Был поэтому в большом горе мессер Амброджо и, тщетно испытав все средства, потерял уже всякую надежду на ее излечение, когда Джованни Маттео явился к нему и пообещал исцелить его дочь, ежели он даст ему пятьсот флоринов на покупку имения в Перетоле. Мессер Амброджо принял условия; тогда Джованни Маттео, приказав прежде всего отслужить обедню, после разных обрядов, чтобы пустить пыль в глаза, наклонился к уху девицы и сказал:
— Родериго, вот я явился к тебе, чтобы ты сдержал свое обещание.
На что Родериго ответствовал:
— Превосходно, но сего недостаточно, чтобы обогатить тебя; посему, удалившись отсюда, я войду в дочь Карла, короля Неаполитанского[67], и не выйду из нее без твоего вмешательства. Потребуй себе тогда какого хочешь вознаграждения и больше уж не беспокой меня.
С этими словами он вышел из нее, на радость и удивление всей Флоренции.
Не прошло после того много времени, как по всей Италии разнесся слух о таком же происшествии с дочерью короля Карла; не получив никакой действительной помощи от монахов и прослышав о Джованни Маттео, король послал за ним во Флоренцию, и тот, прибывши в Неаполь, после нескольких мнимых обрядов исцелил ее. Но Родериго, прежде чем удалиться, сказал:
— Видишь, Джованни Маттео, я сдержал свое обещание обогатить тебя, и посему, расплатившись с тобой, я больше ничего тебе не должен. Итак, постарайся отныне не попадаться мне на пути, потому что ежели я тебя до сих пор благодетельствовал, то впредь тебе от меня не поздоровится.
Возвратившись во Флоренцию богатым-пребогатым, потому что получил от короля более пятидесяти тысяч дукатов, Джованни Маттео думал тихо и мирно наслаждаться своим богатством, не помышляя о том, чтобы Родериго чем-либо собирался повредить ему. Но мысли его были внезапно смущены пронесшимся слухом, что одна из дочерей Людовика VII[68], короля Французского, одержима бесом. Эта новость взволновала всю душу Джованни Маттео, сразу подумавшего о могуществе сего короля и о словах, сказанных ему Родериго. И действительно, не находя средства излечения дочери и прослышав о силе, какою обладал Джованни Маттео, король сперва просто послал своего скорохода за ним; но когда тот сослался на некоторое нездоровье, король был вынужден обратиться к Синьории, и та заставила Джованни Маттео повиноваться. Безутешный, отправился он в Париж и первым делом доложил королю, что все это так: ему случилось в прошлом излечить нескольких бесноватых, но это не значит, что он умеет или может исцелить всякую; ибо встречаются бесы столь упорные, что не боятся ни угроз, ни заклинаний, ни религиозных обрядов; но со всем тем он готов исполнить свой долг, если же его постигнет неудача, просит уж не взыскать и простить его. На что король, вознегодовав, ответствовал, что ежели он не исцелит его дочери, то будет повешен. Великая скорбь охватила Джованни Маттео; однако, собравшись с духом, велел он привести бесноватую и, наклонившись к ее уху, смиренно обратился к Родериго, напомнив об оказанном ему благодеянии и указав, какую проявит он неблагодарность, ежели не поможет ему в такой крайности. На что Родериго ответствовал:
— О вероломный негодяй! Как осмеливаешься ты предстать предо мною? Вздумал ты похваляться, что ли, что разбогател с моей помощью? Вот покажу я тебе и каждому, как умею и я дарить в отнимать дареное по своей прихоти. Не уйти тебе отсюда, миновав виселицу.
Тут Джованни Маттео, не видя для себя выхода, решил попытать счастья другим путем и, велев увести одержимую, обратился к королю с такими словами:
— Государь, как доложил я тебе, бывают духи столь злобные, что с ними добром ничего не поделаешь, и сей один из таких, посему хочу я сделать последний опыт, и, ежели удастся он, ваше величество и я будем довольны, а не удастся, так предаю себя в твои руки и прошу лишь о сострадании к моей невинности. Прикажи посему на площади Богоматери Парижской построить большой помост, такой, чтобы разместить на нем всех твоих баронов и все городское духовенство, прикажи украсить помост шелками и парчой и соорудить посредине его алтарь; в ближайшее воскресенье утром ты явишься туда с духовенством, вкупе со всеми твоими князьями и баронами, со всей королевской пышностью, в блестящих и роскошных одеяниях и, по совершении торжественной обедни, прикажешь привести бесноватую. Кроме сего, пусть с одной стороны площади соберутся не менее двадцати музыкантов с трубами, рогами, волынками, тарелками, кимвалами и всякими другими шумовыми инструментами и, как только я подниму шапку, громко заиграют на них и двинутся по направлению помоста. Все сие вместе с некоторыми другими тайными средствами, думаю, заставит удалиться сего духа.
Король тотчас же распорядился обо всем, и, когда наступило воскресное утро и помост наполнился важными особами, а площадь народом и была отслужена обедня, одержимая была приведена двумя епископами в сопровождении многих придворных. Увидев такое количество собравшегося народа и такие приготовления, Родериго чуть не обомлел и сказал про себя: «Что еще выдумал этот негодяй? Думает он, что ли, запугать меня всей этой пышностью? Не знает он разве, что я довольно навидался и небесной славы, и адских ужасов? Достанется же ему от меня!» И когда Джованни Маттео приблизился и попросил его выйти вон, он сказал ему:
— Ого! Хороша твоя выдумка! Чего ты думаешь добиться всеми твоими приготовлениями? Думаешь ты, что ли, избежать этим моей власти и королевского гнева? Мужик проклятый, не миновать тебе виселицы.
И когда он продолжал поносить его упреками и бранью, Джованни Маттео решил не терять больше времени и подал знак шапкой; тотчас же все, отряженные на производство шума, заиграли на своих инструментах и, громыхая так, что небеса содрогнулись, двинулись к помосту. На такой шум Родериго навострил уши и, не понимая, что происходит, и весьма изумляясь, совсем растерявшись, спросил у Джованни Маттео, что сие означает. На что Джованни Маттео в полном смущении отвечал:
— Беда! Милый ты мой Родериго, ведь то жена твоя Онеста идет за тобой.
Нельзя и представить себе, какой переполох в голове Родериго вызвало одно упоминание имени его жены; так он переполошился, что, и не задаваясь мыслью о том, возможно ли и допустимо, чтобы то была она, не думая о возражениях, в ужасе обратился в бегство, покинув девицу, и предпочел скорее вернуться в ад и отдать там отчет в своих действиях, нежели снова наложить на себя супружеское ярмо со всеми сопряженными с ним хлопотами, досадами и опасностями. Итак, Бельфагор, возвратившись в ад, поведал о всем том зле, что приносит с собой жена в дом мужа, а Джованни Маттео, который знал про то лучше самого дьявола, веселый вернулся домой.
Одоард, король Британии, о чем упоминается в старинных бургундских летописях, женился на писаной красавице, какую только возможно было по тем временам отыскать на всем белом свете. Мудра она и благоразумна была до чрезвычайности, и всякое слово или дело у нее сопровождались, как ни у какой другой, самыми изящными и любезными манерами; всякое же деяние ее по достоинству пребывало в нескончаемой славе. Потому, разумеется, и жил король в радости от этого более, нежели от прочих владений, сокровищ и богатств; когда же сам возле нее находился, то все свои короны, пурпурные мантии и прочие королевские регалии вовсе забывал и в грош не ставил; и жил бы он так припеваючи, если бы в одном не отказала ему Фортуна: в наследнике, который взял бы в свои руки отцовское королевство и сел бы на трон, доставшийся ему от долгой и немалой чреды предшественников; но прошло немного времени после женитьбы, как подарила ему жена дочку; чертами личика своего и всем прочим девочка обещала не уступить беспредельной красоте матери. Так король вместе с прекрасной женою в наивысшем счастии и постоянном согласии несколько лет обретался (известно, вся жизнь человеческая такого свойства, что, будучи от природы изменчива и зыбка, долго длиться в одном обличье не может), когда вдруг королева тяжко занемогла, чем немало был встревожен Одоард; и оттого, что ни лекарь, ни разные снадобья не помогали исцелить и даже распознать ее недуг, ей с каждым днем становилось все хуже и хуже; наконец, чувствуя, что смерть близка и дух вот-вот покинет тело, она повелела призвать к себе Одоарда и молвила ему так:
— Монсиньор, коли господь пожелал, чтобы я пребывала с вашим величеством столь недолгий век, и коли неугодно ему более видеть меня на этом свете, то надобно, чтобы и ваша душа с тем смирилась. Однако я в безутешности великой ушла бы в мир иной, ежели не удостоилась бы от вас милости, о которой намерена просить.
Король с нежностью принялся ее утешать, не оросив лицо слезами, но сдерживая их, и сказал, что она может просить, чего пожелает, ибо он немедля исполнит все, что в его силах, сколь бы ни было это затруднительно. На что королева отвечала:
— Я иначе не соглашусь высказать мою просьбу, если вы не поклянетесь исполнить ее неукоснительно.
Тогда поклялся Одоард своей короной. И королева молвила:
— Милость, какой прошу ваше величество удостоить меня, такова, что после моей кончины вы не должны жениться совсем, если только не встретите женщину, которая красотой своей сравняется со мною или же превзойдет меня.
Король и в этом ее заверил, давая клятвенные обещания и умоляя не тревожиться. И вскорости, объятая вечным сном, к великой скорби короля и всех его приближенных, она перешла в мир иной, и в глубине пленительных глаз, где обитала лишь прелесть вкупе с любовью, нашла себе пристанище вековечная черная ночь. Были устроены с превеликой пышностью похороны, и много лет плакал горькими слезами Одоард. Наконец время, могуществу которого подвластно все на свете, немного умерило тяжкие страдания короля, да и дочка его, подобная стройному деревцу, что по весне устремляется к небу и, вырастая день ото дня, все нежнее расцветает, немало в этом была ему подмогой. Придворные же, видя это и полагая, что не пристало столь могучему и богатому королевству оставаться без законного преемника, много раз о том с королем беседовали и весьма настойчиво упрашивали его взять другую жену, напоминая, что иначе он останется без наследника, а они — без господина. Король же на такую просьбу неизменно отвечал отказом. Наконец в один прекрасный день, дабы не мучили его их речи, молвил так:
Неизвестный флорентийский художник XV в.
Прогуливающаяся пара и музыкант.
Гравюра резцом.
— О достойные мужи и друзья мои, всеми способами пытаетесь вы пробудить во мне охоту жениться вновь и не ведаете того, что еще до кончины супруги нашей мы поклялись ей короною своею, что не преклоним колени пред брачным алтарем, если только не встретится нам на пути женщина, которая красотой сравняется с нею или превзойдет ее. Потому говорю вам, что когда найдете вы мне такую, которая усопшей королеве нашей не уступит в красоте, то женюсь на ней; но когда вам не удастся такую сыскать, то не докучайте мне впредь, ибо мы верность свою изменою не запятнаем, более того, я скорее останусь без жены и наследника, нежели нарушу свое королевское слово.
Поняли все, что весьма трудное и почти невозможное условие поставил перед ними Одоард и что было это всего-навсего любезным отказом от того, на что он заранее порешил не соглашаться; однако пообещали найти такую, что ему понравится, и сказали: пусть сам рассудит, достойна ли она будет, став ему женою, заменить славной памяти королеву. И многие из них отправились в путь, но сколь ни бродили по свету, сколько самых дальних краев ни исколесили, так и не смогли угодить своему королю и, воротившись домой, более не уговаривали его. Но дочка Одоарда, двенадцати лет от роду, писаная красавица, столь большие надежды подавала, что в целом королевстве только о ней и говорили; и как о нежной розе, которая едва распустила бутон, тем самым показав лишь малую толику своих прелестей, и дивным благоуханием наполнила весь сад, так о ней, грациозной и смешливой, и о возвышенных и приятных ее манерах шла по свету благороднейшая молва, и все знавшие ее утверждали, что она, несомненно, своею красотою превосходит мать. Этим был счастлив отец, нигде более не искал он отдохновения для своей долгой печали, нигде так легко мысли его не находили успокоения, как подле нее; и с такой достоверностью узнавал он в дочери мать, что зачастую говорил себе: «Так она глядела, так речь молвила, так смеялась!» А пока в глубине души на прелести ее заглядывался, то сам того не заметил, как против естества и законов крови позволил нечестивой любви к ней угнездиться в своем сердце. И, всецело отдавшись во власть этой чудовищной мысли, задумал он склонить юную деву к безропотному согласию разделить с ним его ложе; любовным и приятным обхождением весьма ретиво старался он возбудить подобную своей страсть в юной груди дочери. Она же, пи о чем не догадываясь, оставалась на редкость невинна и не могла даже помыслить о том, что нашелся на свете столь мерзкий отец, который, дойдя до такого злодейства, открыто выказывает свои животные намерения. И вот однажды, подстегиваемый своим достойным порицания вожделением, он обратился к ней со словами:
— Прекраснейшая дева, все законы и порядки, под властью которых мы в различных краях по-разному обитаем, есть не что иное, как простые людские суждения, поскольку одни всемерно восхваляют и возносят то, что другие всячески порицают. Так, пиратов и грабителей у нас не минует суровая кара, тогда как в других странах с давних пор жалуют и всячески награждают тех, кто этим промыслом занимается. Некоторые из них, корсарствуя и обирая всех подряд, богатели и пользовались почетом, словно великие князья; многие же, благодаря подобным занятиям, сравнялись в славе с королями, и в том древнейшие греки более других преуспели, о чем открыто в их летописях сообщается. То же самое можно сказать и о других вещах, но это долгая песня; чего же еще? Взять хотя бы стыдливость, которая сегодня в таком почете и, я бы сказал, по-глупому восхваляется: не была ли она в древности изощреннейшими римскими цензорами предана хуле, осуждена, опозорена и изгнана вон? Там не считалось бесстыдством обмениваться друг с другом женами, а потом, когда захочется, забирать их обратно! Стало быть, исходя из вышесказанного, а также из многого другого, о чем я пока не говорю, мы можем утверждать, что ни одно каноническое правило, ни одно установление, наконец, ни один закон, не являются чем-то столь прочным и незыблемым, чего нельзя было бы соответствующими доводами расшатать, ослабить и ниспровергнуть. Все, что мы себе воображаем, есть всего-навсего сон и мираж, и поистине глуп тот, кто в этом пространном и великом суетном мире, подчиняясь людскому мнению, позволяет замкнуть себя в столь тесные рамки, не осмеливаясь даже преступить их. Никогда не следует давать волю черни, а потому понадобилось с помощью законов скрутить людей по рукам и ногам, да так, чтобы отбить охоту добраться туда, куда безрассудство могло бы их повлечь; кто же усомнится в том, что человеку деликатному и воспитанному, к тому же благородством ума выше прочих стоящему, более пристало презреть некоторые утвержденные законом положения, нежели простолюдину и невеже? А ежели это дозволено всякому благородному человеку, то стоит ли говорить о том, что вершить подобное королю тем более дозволено? Ведь величие его безгранично и свободно от всяческих препон, которые имеют силу настолько, насколько того желает он сам! Ибо устанавливают законы князья и императоры; они же законам неподвластны. А раз так, — и мы не в состоянии это отрицать, — то и я должен, о прекрасная, более жизни пашей любимая дева, по достоинству присвоить себе это право и никаких упреков в том не нести. Прошу же вашего согласия на то, чтобы назваться счастливым избранником любви вашей, и соблаговолите стать моей супругой, поскольку лишь вы одна незабвенной королеве в красоте подобны. И если ничто другое вас к тому не побуждает, то вспомните о нашем многолетнем одиночестве, а также подумайте о будущем нашего королевства, ибо в противном случае оно неизбежно окажется в чужих руках, что, несомненно, явится огромной оплошностью и самым большим преступлением всех законов и обычаев мирских, которые, как мы уже говорили, созданы властью и немудреными людскими суждениями. Так и этот закон — есть всего лишь общепринятая точка зрения, подобная всякой другой, и подчиняться ему вы обязаны, насколько вам это нравится, и не более. Вы немедля станете владычицей и хозяйкой всех богатств; в Священном писании и в прочих древних книгах в достатке найдется примеров, с помощью каковых вы сможете заботиться обо мне самом и о моем здоровье, которое я вам вверяю и прошу так его блюсти, дабы исчезли все мои горести: вы же в царственном эмпирее во славе пребудете.
Зарделось белоснежное личико невинной девы при этих гадких, отвратительных словах Одоарда, и светлые слезинки, будто чистейший хрусталь, оросили его; так влага небесная упадает на прекрасные цветы, что раскрываются навстречу дню и, живым пурпуром увенчанные, ввергают в сомнение прохожего: не они ли одалживают утренней заре этот пурпур и та, прихорашиваясь, покрывает им свои ланиты; а может, сами его тайком похищают у нее. И, зардевшись, вознамерилась про себя юная дева дать отпор низкой похотливости отца. Призвав на помощь святого духа, который, поверьте мне, в уста наши слова влагает, она так отвечала:
— Любезный отец, хотя столь омерзительное предложение, коим вы слух мой донельзя осквернили, должно лишить вас такого звания, все же я всегда, невзирая ни на что, буду отцом вас величать, ибо, чем благороднее и душевнее будет звучать это слово, тем скорее вы сможете одуматься от вашего непотребного скотского вожделения и остережетесь лишиться святейшего, естеством данного имени; потому говорю вам это, о дражайший и возлюбленный отец мой, что в сердцах людей некоторые законы столь крепко самой природой запечатлены, что, когда бы ни вздумалось людям человеческий образ утратить и от законов тех отступиться, они волей-неволей должны уважать их и соблюдать непреложно; нельзя им прекословить никаким образом: ни за давностью времени, ни с помощью магистратов[71], ибо более великим, чем вы или кто другой из живущих либо когда-нибудь живших на земле, Владыкой они даны, поверьте. Здесь нет ни для кого исключения, и любое заступничество бессильно тут. Столь же прочны, нерушимы и вековечны и евангельские истины, досточтимая непреложность коих никогда не убудет и не обернется прахом. Помимо них, есть еще такие, что зовутся у вас плодами воображения; будучи якобы измышлением людей, они могут иметь или не иметь силу по желанию того, кто их отрицает или утверждает. Ваша просьба, как очевидно, не вяжется с этими тремя установлениями, и когда бы снизошла я до нее, то самая порочная женщина не оказалась бы столь достойна геенны огненной, как я. Но, предположим, я позволю вовлечь себя в подобное бесчестие, и это третье установление допустит для меня королевскую исключительность, тогда кто сможет меня укрыть от возмездия первых двух, оправдать и уберечь от кары, которая за такое неслыханное преступление немедля на меня обрушится? Кто сможет изгнать из памяти моей то, как я, в осквернение естества, непристойно отца своего любила? Как потому из дочери превратилась в скверную, непотребную. женщину, посчитав и мать родную за распутную наложницу, и не постыдившись богомерзкими, непозволительными объятиями осквернить ложе, которое она дотоле с вами свято разделяла? Как, может статься, бесстыдно разродившись, принесла я вам в едином чреве и сына и внука? О, грязные речи столь низко падшего властелина! О, гнусная, недостойная отца просьба! Если бы нашлись слова, дабы проклясть тебя и покрыть позором, уже устал бы от них язык мой; господь да отведет эту погибель подальше от чистой крови нашей и рассеет ее средь лютых басурман или прочих кровожадных народов и средь недругов твоих, ежели таковых ты имеешь, и да вдохнет в тебя здравый рассудок! Славным, благородным королем ты был доселе, так пусть же воротится благородство это в душу твою и не покинет ее более. Я не намерена по-иному отвечать на все примеры и доводы, что употребил ты в подтверждение просьбы своей, по причине их незначительности, а также из уважения к тому, что к моей чести отношение имеет. Скажу только, что когда бы ни пожелал ты к сей грязной, злодейской мысли обратиться, руки свои неминуемо кровью моей замараешь, ибо я скорее умру, нежели столь предосудительным образом позволю себе над людьми и богами надругаться.
Тут смолкла благонравная девица, и несколько слезинок, скатившихся из глаз ее, блистая, увлажнили бархатные щеки, украсив их более, чем могли бы это сделать самые чистые и гладкие жемчужины; и столько твердости было в ее словах, что отец, уже собравшийся силою взять желаемое, все пылкое вожделение свое сразу утихомирил и, премного поразившись величием души дочери, на несколько дней оставил ее в покое. Но вскоре неуемное желание, замутившее его рассудок, одержало верх, и он вновь попытался на нее покуситься; видя такое и опасаясь, как бы от лести он не перешел к насилию, порешила девица спастись от отца бегством и тем уберечь свою честь. И вот однажды, когда он в который раз любви ее низко домогался, она молвила ему:
— Отец мой, коли запало вам в душу, чтобы я и дочерью и женою вам стала, то, так и быть, я согласна, но на одном условии: пусть произойдет это через папское дозволение, дабы не было нам обоим укоризны в таком скверном, злодейском примере.
Принял за истинную правду слова дочери своей Одоард и нежданной радости столь исполнился, что пообещал ей добиться в считанные дни папского благословения и, не противореча божественным канонам, сочетаться законным браком. Не теряя времени, он снарядил своих послов в Рим, к папе, с наказом добыть дозволение или же возвратиться вскоре с поддельными письмами и грамотами и показывать эти грамоты всем, говоря, будто от папы их получили. Тем временем прелестная дева написала послание Иоанну, герцогу Ланкастерскому, брату матери своей, усопшей королевы, слезно умоляя повидаться с ней, поскольку о спасении их обоих надобно поговорить, и прося приехать к ней тайно, чтобы никто не увидел; указав место, где будет ждать его, она зачастила туда якобы забавы ради, поразвлечься, провести день-другой. Герцог же, как только представился случай, тщательно изменил свою внешность и, окружив себя доверенными людьми, прискакал к ней; она открыла ему тайну о посягательстве короля и поведала про то, какое тяжкое оскорбление ей уготовано. После того сказала дяде, что лучшего средства не находит, как бежать вместе с ним и укрыться под чужим именем у него в доме до тех пор, пока господь не вразумит короля или что другое с ним не сотворит. Герцог похвалил предложение племянницы, и порешили они будущей ночью осуществить замысел, согласно которому девица должна потихоньку взять, сколько сможет, из сокровищ Одоарда и, под покровом темноты удалившись с герцогом, показать врагу чести своей, что она не менее о сохранении невинности заботится, чем он — о поругании ее. Много было огорчений и много шума; по всему королевству с усердием искали благочестивейшую девицу, но не нашли ни следа ее, ни признака. Великое уныние охватило презренного отца, который в веселье ожидал свадьбы, — уже и послы возвратились и, не сумев добиться от папы желаемого, привезли поддельные письма и грамоты, как приказал сам король; невыносимыми терзаниями исполнилась душа Одоарда. И пока он так в гневе и печали мучился, кто-то донес ему, что за день до исчезновения дочери на окрестных дорогах видели лошадей герцога Ланкастерского; сразу же догадался король, что она нашла себе прибежище у дяди и скрывается там. Не колеблясь, направил он герцогу грозное послание, в котором выражал удивление, почему тот не отослал ему дочь обратно, а, наоборот, приютил ее; и сообщал, что сколь ему ни отрадно приписывать эту жалость и снисходительность кровному родству, однако, если дядя вознамерится оставить племянницу при себе, он сочтет это за неслыханное, смертельное оскорбление и в отмщение сумеет доказать, что герцог — коварный преследователь его дочери, отчего не миновать тому великой беды. Герцог, прочтя эти слова Одоарда, премного удивился и сначала не принял их всерьез; но хотя власть его и могущество на том же острове немало значили, все же было чего опасаться; так поразмыслив, он показал письмо племяннице, которая, увидя, что написал ее отец, и наполовину догадавшись о том, что творилось в душе и мыслях герцога, отбросила всяческие женские страхи и молвила так:
— Неуемный пламень, что непрестанно бушует в бесстыдном сердце моего отца, не унять иначе, чем скрывшись вдали отсюда; и если это не поможет и не принесет желанной пользы, то я скорее умру, уйду вон из этой постылой жизни, нежели подумаю воротиться в похотливые объятья, от которых однажды меня уберегли и сохранили ваше доброе участие и моя осмотрительность. С меня хватит. Теперь же, коли мы не воздадим хвалу богу за такое благодеяние, поскольку никто больше нам не помог, это будет весьма несправедливо, и ежели господь не станет впредь к нам благоволить, то придется пенять на себя. Дабы такого не случилось, он сам спасительное средство предлагает нам: дайте мне сопровождающих, каких хотите, и вместе с ними, переодетая и никому не известная, я доберусь до Вьенны во Французском королевстве и укроюсь там в монастыре, у милосердных женщин, чья святость каждому известна в тех краях. Никто не будет знать, кто я, откуда, и клянусь вам верой и правдой, никакой слух обо мне сюда не долетит; так мы в одно время и господу угодим, и покой ваш сохранить сумеем; а после вы пошлете письмо королю, сделаете вид, что весьма удивлены тем, как он о вас подумал, пообещаете ему немедля отослать меня домой, как только найдете, и все в таком духе, что вам заблагорассудится.
Герцога убедили слова племянницы и растрогали слезы, которые появились в добавление к словам, и, решившись последовать во всем ее совету, он написал послание Одоарду, в котором сделал вид, что ничего не знает, и, как умел, успокоил короля; благородную же девицу с немалой печалью пришлось ему от себя отпустить, дав ей провожатых, чтобы тайно доставили ее во Вьенну. Добравшись до места, она укрылась в женском монастыре, и через короткое время пример, какой она подавала своим благочестием и добрыми деяниями, стал виден всем. И не только себе равных, но и прочих добродетельных женщин (коих было там немало) она чудесным образом превзошла; они вскоре в такой восторг от нее пришли, что иной радости и не знали, как лишь о ней говорить и восхвалять ее без меры. К тому же, сколь ни старалась она сойти за простолюдинку, все же на челе ее царственное величие запечатлелось; и всякому, кто с восхищением, на нее взирал, она внушала чувство целомудренной любви к себе и смиренного почтения. Монашки не переставали удивляться тому и, не зная, откуда взялась такая услада для души, полагали, что не иначе, как с неба сошла сия дева, и не могли на нее наглядеться и любили ее одна пуще другой. Но не подумайте, что черные монашеские одеяния скрыли хотя бы малую толику ее небесной красоты, напротив: на добрую сотню дублонов подняли эту красоту в цене. И как-то раз увидел ее брат аббатисы, юноша благородной крови, к тому же большой друг дофина; он приблизился к решетчатой ограде в ту минуту, когда, после богослужения, дева в свою келью вместе с прочими возвращалась, и влюбился в юную послушницу без памяти; однако, видя, что ни письма, ни посланцы, ни всяческие обещания не приносят пользы, был вынужден, наконец, прибегнуть к своей последней надежде, то есть с помощью аббатисы, приходившейся ему сестрой, попытаться твердость ее поколебать. Аббатиса, прослышав, что жизни брата грозит опасность, решилась, хотя и в муках оттого, что совершает непозволительное, словами тронуть душу непреклонной девицы и, улучив момент, молвила ей:
— Господь меня упаси, благонравная дева, но мне кажется, тяжкий это грех, что вы живете здесь, запертая в каменных стенах, и от такого прелестного создания, как вы, никакого продолжения рода не будет; ведь вы не просто кому-то приглянулись, но есть человек, который желал бы назвать вас своею женой и госпожою; он знатного происхождения, благороден, как мало кто другой, и чрезвычайно хорош собою.
На что девица, вся зардевшись, быстро отвечала:
— Мадонна, если вы говорите так, желая искусить меня, то не терзайте слишком тяжкими испытаниями души послушниц, что под началом у вас; но если говорите правду, то чем я вас прогневала, коли в тягость стала?
Аббатиса молвила:
— А ежели я вам скажу, непреклонная девица, что тот, о ком идет речь, будучи отважен и благонравен и желая с добродетелями своими вашу любовь соединить, погибнет, не добившись ее, вы и тут откажетесь? Девица отвечала:
— Не смертью других, но через мою же смерть намерена я отстоять свою решимость и праведные помыслы.
Тут аббатиса, поняв, что творится в душе послушницы, премного восхвалила ее в сердце своем и сообщила о такой непреклонности брату, который, вовсе потеряв надежду, в тоске великой за несколько дней совсем высох и расстался с жизнью. Долго оплакивал дофин смерть возлюбленного друга, но, когда узнал о причине, захотел посмотреть, верно ли та девица столь хороша, как говорили, и, приблизившись к ограде в то время, как, после мессы и молитв пред главным алтарем, все монашки, по обыкновению, в свои кельи возвращались, он увидел прелестную послушницу; она, свет достоинств своих излучая, будто живое ясное солнышко посреди малых звезд, в кругу прочих женщин предстала взору и так поразила дофина божественным обликом своим, что от любви к ней, как стало угодно господу властителю, — который установил во веки веков, чтобы добродетель вкупе с дивной, редчайшей красотой, будто на огромной сцене, пред целым миром являлась и опоздавшие, не успев ее увидеть, убивались бы от отчаяния, — он чуть не отправился на тот свет, подобно несчастному юноше, и вознамерился попытать свое счастье. Прибегнув ко всем способам, коими обычно пользуются влюбленные, он вскорости стал замечать, что его старания тщетны; однако, с каждым днем все более уступая своему чувству, наконец собрался с духом и объявил ей, что возьмет ее в жены, коли она согласна, и станет ей мужем. Девица, узнав про то, хотя и положила в душе своей навсегда остаться в услужении Христу, тем не менее поразмыслила о власти и могуществе дофина и, опасаясь, как бы в случае отказа тому не пришло в голову сотворить над ней насилие, отвечала, что согласна, но пусть знает он, что берет бедную послушницу, изгнанную вон из родительского дома. Дофин, влекомый (как надлежит верить) божьей волей, невзирая на свое величие и на ее бедность, в присутствии епископа Вьенны, как она того пожелала, человека святой жизни, за великую ученость почитаемого, и прочих весьма уважаемых людей обвенчался с прекрасной девой; видя ее красоту и царственные манеры, многие, не ведая, кем она была на самом деле, уверовали в ее благороднейшее происхождение, отчего возросла любовь дофина к молодой супруге, в которой он души не чаял. Красота же девицы день от дня расцветала, и, казалось, ни о ком другом в целой Франции не толковали, лишь о ней. После, когда все свершилось, дофин рассказал королю, своему отцу, и королеве обо всем по порядку и, уже обвенчавшись, спросил у них на то соизволения. Король весьма обрадовался, тем более что обратного пути уже не было, но королева, омраченная таким бракосочетанием, много слов сказала и много дел сделала в осуждение неосмотрительности сына, который столь безрассудно дозволил молодости увлечь себя, и решила, что этого ей не стерпеть. Не имея других средств, задумала она через погибель юной женщины утолить свою в неправедном сердце выношенную злобу. Тем временем король глубоким старцем окончил свой жизненный путь, и дофину надлежало согласно церемониальным обычаям отправиться в Париж, дабы вступить во владение королевством. Оставив дражайшую супругу под охраной нескольких дворян, коим весьма доверял, он отправился туда и был с большим торжеством возведен на французский престол; и долго не кончался большой праздник. Это всеобщее ликование лишь разожгло в душе матери молодого короля умысел извести его юную супругу, но исполнить задуманное ей не удалось, поскольку тому препятствовали телохранители молодой женщины, назначенные самим королем. Тогда, не сумев с помощью яда добиться желаемого и не зная, как по-другому насытить свою ненависть, какую несправедливо питала к невестке, она тайно повелела своим доверенным людям, для такого злодейства примеченным, послать письма ее сыну якобы от имени тех, кого оставил он стеречь жену, где было бы написано, что оберегаемая ими женщина прелюбодействовала с каким-то простолюдином и что этим проявила свое презренное происхождение, ничтожность родителей, и далее в подобном духе. Гнусные и коварные приспешники королевы с усердием написали все это королю, который всего чего угодно ожидал, но не такого. И нет нужды спрашивать, сокрушался ли он по этому поводу. С одной стороны, им владела бескрайняя любовь к безвинной молодой супруге, с другой же стороны, не покидало его справедливое негодование о таком безумном поступке. Наконец он написал в ответ, чтобы до его возвращения жену оберегали, как и прежде, поскольку он сам желал дознаться о столь тяжком преступлении и, если все окажется правдой, наказать се со всей подобающей суровостью. Но мать короля, что денно и нощно не смыкала глаз, этот ответ перехватила и взамен написала другой, где будто бы король распоряжался по получении письма несчастную его супругу без промедления убить, а коли не выполнят приказ, он, вернувшись, посчитает это величайшим оскорблением короны. Прочли эти лютые письма достойные мужи и более, чем можно вообразить, пришли в смятение. Не разумея, откуда такому взяться, они стали ревностно перебирать в памяти все ее непорочные и святейшие деяния, коим были свидетелями, и в один голос утверждали, что столь прекрасной, столь похвальных правил и целомудрия женщины нигде более не сыскать; и не нашлось среди них смельчака, кто отважился бы исполнить столь жестокий приказ. Правда, они не показывали ей королевское письмо, но и любезное обхождение, каким обыкновенно окружали ее, прекратили; заметив это, прозорливая дева неоднократно терялась в догадках, но, видя, что подобное отношение к ней продолжалось, она призвала их к себе и смиренно молвила: — Я по некоторым признакам догадалась, что вы немилостивы ко мне; может статься, сама не ведая, я в чем-то не угодила вам или даже разгневала короля, моего господина? Так сжальтесь над моими юными годами и укажите путь, по какому мне идти; я же буду стараться не обижать вас более.
Тут достойные мужи со слезами на глазах показали ей письма короля и умоляли отыскать способ, дабы не запятнать им руки свои невинной и праведной кровью и в то же время не навлечь на себя королевский гнев. Кроткая невинная дева, с юных лет привыкшая сносить изменчивые превратности Фортуны, решилась, не дрогнув сердцем, встретить и этот уготованный ей удар и без слез, без всяческих женских страхов молвила:
— Друзья мои, при мысли о том, что вы останетесь свидетелями безгрешности моей и непорочности, радость разливается по душе, и никакое испытание не страшно, ибо владею средством, хранящим меня от не меньших невзгод; и, если дозволите, оно станет оберегать меня, даже когда, изменив свой облик, я уйду так далеко отсюда, что ни одного известия обо мне вы не услышите и сможете всем сказать, что свершили расправу; я же, клянусь жизнью, которую вы мне подарили, никогда этого не забуду, удалюсь отсюда, и вы сможете жить спокойно, сохранив себя от гнева божьего и равно от гнева господина вашего и моего. Когда же вам угодно будет по-иному со мною обойтись, то я не воспротивлюсь окончить дни мои, как того пожелал мой господин, повиноваться которому до самой смерти для меня есть счастье великое.
При этих словах не сдержали слез достойные мужи и, без труда уговорившись поступить, как она задумала, порешили, что один из них препроводит ее до Марселя, где она взойдет на корабль; следующей же ночью злосчастная дева пустилась в дальний путь, чем привела в бешенство свою жестокую свекровь, но, как вскоре сами узнаете, ненадолго. Сколь полна Фортуна, о прелестные дамы, превратностей, коих следует опасаться! Когда мы, задобрив ее лестью, полагаем, что можем мирно почивать, тут-то она и обрушивает на нас непредвиденные удары и отнюдь не успокоение нам сулит. И вам легко понять, каково было молодой женщине, потому что именно в то время, когда она менее всего думала о коварстве, в надежде стать могучей и богатейшей королевой и пребывать в величии подле мужа своего, Фортуна бросила ее почти на самое дно нищеты. Пришлось ей, словно скверной, дурной женщине, прикрыться жалкими лохмотьями и, никому не известной, влачиться по свету с младенцем в утробе и почти на сносях, хотя все это было далеко не самым горьким в ее злоключениях! Но господь, справедливый к деяниям смертных, уготовал ей куда более почетный удел и не потерпел, чтобы коварство свекрови оставалось безнаказанным. Потому король, закончив торжественный ритуал коронации, немедля прибыл во Вьенну, горя желанием убедиться, что недобрые известия о любимой им более самого себя супруге окажутся ложными и злонамеренно сочиненными (как и было на самом деле). Когда же не нашел ее и узнал, что по его собственному приказу она умерщвлена, такая ярость его обуяла, какой доселе никто не испытывал; а проведав, что тому причиною мать родная, — хотя и пытались некоторые бароны с мольбами отговорить ее от злодейства, — в страхе укрывшаяся теперь в своем замке, пошел на нее войной, захватил город и без пощады предал его огню и мечу, не оставив камня на камне. Однако супругу он этим не вернул и долго жил в непреходящей скорби и неслыханных муках, горько оплакивая свои страшные несчастья и гибель невинной девы, которая к тому времени сумела добраться из Марселя до Рима, испытав на пути множество опасностей и невзгод, и найти пристанище в монастыре святых женщин, где немного погодя подошло время ей разрешиться от бремени; там с их помощью она и родила на свет великолепного сына, как две капли воды похожего на отца, и счастлива была безмерно, ибо появился в ее плачевной юдоли верный и нежный спутник. Обратив на него все свои помыслы, она стала прилежно вскармливать мальчика; и, хотя в непрестанных сомнениях и нужде нищей скиталицей обреталась, все же с переменой судьбы не утеряла королевского величия и не позабыла благороднейших манер, о которых чудесная молва из монастырских стен разошлась по всему Риму настолько, что долетела до супруги императора Генриха, только что родившей на свет прелестного мальчика; та распорядилась, чтобы целомудренная скиталица против воли покинула монастырь и перебралась в императорский дом, дабы ходить и за этим младенцем. Так воспитывались вместе оба мальчика, манерами и достоинствами столь похожие друг на друга, что, казалось, вышли из одного чрева; оттого бесконечно возросла любовь Генриха и императрицы к благороднейшей кормилице, и стали они ее не кормилицей, но желанной сестрою величать и любить с нежностью. Тут подошел конец всем угрызениям французского короля: господь подсказал ему, что должен он предстать перед папой, дабы получить отпущение грехов за содеянное над матерью. Он же, словно новоявленный Орест[72], чувствуя на душе тяжесть и муки нескончаемые от столь страшного злодеяния, отправился в сопровождении достойных и почтенных мужей в Рим, где был достойно принят и получил от святого отца всепрощение и полное отпущение грехов, какие помнил и не помнил. Но прежде, чем пуститься ему в обратный путь, Генрих устроил для него, как требовало величие обоих, торжественный обед, за которым по воле императора королю прислуживали два маленьких пажа. Он же не мог оторвать от них взгляд, с каждой минутой все более восторгаясь их благовоспитанностью и подмечая про себя манеры мальчика, который, как ему сказывали, был сыном кормилицы, что заодно вырастила и императорского сына. Чем с большим вниманием он приглядывался к нему, тем более тот ему нравился. И хотя король понимал, что негоже разлучать детей, все же, движимый каким-то неведомым чувством, стал просить императора отдать ему мальчика, обещая сделать его великим человеком и держать при себе в почете и славе. Император отвечал, что ему приятно это слышать, но он не отважится на такое без согласия матери, с которой, однако, попробует побеседовать и уговорить ее. И вот после званого обеда он велел кликнуть кормилицу в свои покои и стал держать такую речь:
— Королю Франции столь по душе пришлись манеры и похвальная благовоспитанность вашего сына, что задумал он просить у вас его; не откажите ему, мадонна, ибо великий король, несомненно, даст полное благополучие сыну вашему, в чем клятвенно вас заверяет.
Приходилось ли досточтимой молодой женщине когда-либо испытывать подобную пронзительную боль в сердце? Не сумев сдержать слез, она ответила:
— Мой господин, я не могу отказать королю Франции в том, о чем просит он, как нельзя законным владельцам отказать в их собственности: мальчика этого нет нужды уступать ему, потому как мальчик — сын короля, рожденный мною, а я — раба его недостойная.
На что удивленный император сказал:
— Мы так и думали, что не от мужа вы младенца понесли; значит, королю Франции вы были подругой?
— Нет, — отвечала молодая женщина, — не подруга, но законная жена его.
И, молвив это, залилась слезами и обо всем, что с ней произошло с того самого дня, когда очутилась она во Вьенне, вплоть до последнего часа, ему рассказала. Рыдания подступили к горлу императора; он и раньше кое-что слышал об этом, а потому вполне поверил ей, пустился укорять женщину, зачем не открылась до сей поры, и просил позволения возвратить ее вместе с сыном супругу. На том они с императрицей и порешили. Был устроен еще один обед в честь короля, и вновь за столом, как и в прошлый раз, ему прислуживали два пажа. Обед тянулся долго, и показалось императору, что настало время утешить гостя великой новостью, какую тот менее всего ожидал. Окончив трапезу, все перешли в покои, где находилась молодая женщина, одетая в те самые лохмотья, в которых бежала из Франции и которые тщательно сберегла. Тут Генрих обратился к королю со словами:
— Монсиньор, пришло время исполнить мое обещание, и даже более того: вы просили сына, а мы и мать вам даруем.
Правда, один человек, рассказавший мне эту историю, утверждал, что император, не блиставший ученостью, будто бы сказал так: даруем вам корову заодно с теленком, и что якобы при этих словах король Франции необыкновенно разгневался; впрочем, это не весьма достоверно.
Император продолжал:
— Ребенок этот — сын ваш урожденный, а женщина — супруга ваша, вы-то думали, что она погибла.
Король, глядя то на одного, то на другую, вдруг узнал жену и едва не умер от счастья; с нежностью заключив ее в объятия, он долго не мог от изумления выговорить пи слова. Юная женщина от избытка радости лишилась чувств, так что императору, со стороны взиравшему на это, пришлось с помощью холодной воды возвращать в тело покинувшую его было душу, после чего супруги вновь с радостью бросились в объятия друг друга, и каждому не терпелось поведать обо всех своих злоключениях. Король повелел облечь жену в благороднейшие одежды и осыпать великолепными драгоценностями; когда это сделали, она такой красавицей пред всеми явилась, что по достоинству ее великой дамой стали величать. Весть об этом событии скоро облетела весь город, и поэты (тогда не было еще ни Виды, ни Санги с Фламинием[73]) воспели его в нескончаемой славе. Через несколько дней король, будучи безмерно счастлив столь великой находкою, вместе с королевой и сыном отбыли во Францию, и Фортуна еще в пути уготовала им нежданную радость: не успели они достаточно удалиться от порта, как повстречали герцога Ланкастерского; на небольшом быстром корабле он те же волны стремительно рассекал, однако по приказу короля немедленно остановился и сообщил, что король Британии переселился в мир иной, поэтому королевство досталось теперь его дочери; он, герцог, надеялся отыскать ее в одном монастыре среди богомольных женщин, для чего и пустился по белу свету — разузнать, что с нею сталось, и намерен искать до тех пор, пока не услышит о пей какое-либо известие. При этих словах герцога глубочайший вздох вырвался из груди королевы, и, встав, она воскликнула:
— Ах, сил моих нет! Я двенадцать лет нищей скиталась по земле, ожидая всего, но только не этого! Теперь же, не таясь, говорю, что я будто и не жила на свете по вине презренного отца! О герцог, я и есть горемычная дочь Одоарда, короля Британского, твоя племянница; а это — король Франции, ваш родственник и мой муж, от которого, соединившись законным браком, произвела я на свет этого мальчика.
Какова же была радость герцога оттого, что столь нежданно нашел он племянницу, к тому же в облике счастливой матери очаровательного сына и супруги высочайшей персоны. И какова была радость короля, когда вдруг услышал он о благороднейшем происхождении супруги своей; и невозможно словами в полной мере передать, как радовалась королева, вновь видя перед собою герцога, своего верного друга по самому первому несчастью, которого она уже давно мысленно похоронила. Наконец, достойно и на славу отпраздновав встречу, они продолжали путь, донельзя обласканные Фортуной, без единого разлада добрались до дома, где вступили во владение всей Британией, и жили в мире и согласии до глубокой старости. Королю супруга принесла другого сына, которого он, почив вечным сном, оставил наследником Британии; первый же сделался королем Франции, и при нем англичане всякий раз на рождество прислуживали за столом супруге французского короля. Обычай этот несколько лет соблюдался; однако впоследствии другим, взявшим в руки бразды власти королевской, показалось, что он слишком оскорбляет их величие, и отменили его, из-за чего величайшая ненависть родилась между двумя народами и длится до сих пор. Так Фортуна, взявшись за дело куда более ретиво, нежели Аргус с Линкеем[74], сумела в самые, казалось, безысходные минуты безмерно осчастливить наших героев. А посему станем молить господа бога, дабы и нас не обошел он своею милостию.
Ее милости, великолепной
синьоре, мадам Батине Лакрара
Спинола
Тщетны и пусты речи тех, великолепная синьора, кто утверждает, будто силы природы главенствуют над силами любви. Если бы я захотел привести все множество известных мне доводов и фактов, опровергающих эти речи, то наскучил бы вашей милости, а сам бы чрезвычайно утомился; вместо всего этого мне хотелось бы показать вам пример близкий и знакомый: себя самого.
У меня, — которого природа, эта щедрая расточительница талантов, лишила многих своих даров, — она отняла самый ценный дар, дар памяти, а память, когда нужно что-то забыть, спешит это сделать побыстрее, а когда надо запомнить, то не торопится. Однако как-то мне довелось услышать из ваших уст одну новеллу, или, вернее сказать, историю, не только прекрасную, но и глубоко поучительную, и она врезалась в мою душу с такой силой, что запечатлелась в памяти навсегда. И что было причиной сего, как не любовь, которая даровала мне вдруг, хотя я недостоин вашей милости, не только память, но еще множество других способностей, и будет еще долго одарять меня впредь.
Но, отложив разговор об этом до другого раза, я имею намерение написать ту самую новеллу, повторив слово в слово все сказанное вашей милостью, поскольку я не скуп и не завистлив и хочу поделиться с другими своим богатством; покорнейше прошу прощения, ежели, рассказывая о людях и событиях, мое перо позволит себе некую вольность, которую не позволили себе ваши уста, — стараясь ни в коей мере не смутить вашей извечной скромности. Но моя новелла будет отличаться от рассказа вашей милости тем же самым, чем отличается портрет от живого человека: на портрете можно различить черты лица, тело, руки, ноги, а в живом человеке, кроме всего вышесказанного, есть еще душа, мимика, жесты и та естественность, которую более всего ценили древние. Поэтому, приступая к своему делу художника, без лишних слов начинаю рассказ.
В Лангедоке, который еще не был под эгидой Золотых лилий[76], жил граф Тулузский по имени Ренато, которого все очень любили за его добрый нрав, а особенно за его прекрасных сыновей, воспитанных лучше, чем сам французский дофин; кроме двух сыновей, была у него еще младшая дочь, которую все, кто знал, считали самой красивой, умной и милой девушкой, когда-либо встречавшейся им.
Однако небу было неугодно дать полного счастья графу: его жена, сестра тогдашнего графа Прованса, с которой он жил душа в душу, умерла, еще не достигнув тридцати пяти лет от роду, повергнув его и всю страну в глубокую скорбь. Когда она была при смерти, то призвала к себе графа, своего супруга, и, испросив у него прощения за все обиды, которых она никогда не причиняла, поручила ему, заливаясь горючими слезами, своих детей, особливо дочь по имени Бьянка, добавив, что он должен сделать ей, своей супруге, последний в жизни подарок: поклясться бессмертием своей души, дать ей нерушимое слово, что никогда не выдаст дочь замуж за человека, будь он хоть сам король Франции, которого та сперва не увидит, не узнает и не полюбит, присовокупив при этом, что для молодой девушки не может быть ничего лучшего, как получить право самой выбрать себе по душе супруга, с которым она должна провести всю жизнь и с которым ее могут разлучить либо позор, либо смерть.
Граф, услыхав скромную просьбу любимой супруги и понимая, что говорит с ней в последний раз и в последний раз должен оказать ей милость, клятвенно заверил ее, горько плача, что как она желает, так оно и будет; не отходя ни на шаг от жены и утешая ее (а утешать часто бывает труднее, чем выслушивать утешения), он, не выпуская ее из рук своих, увидел, как душа ее отлетела. Она была торжественно, как и подобает графине, погребена в главном соборе Тулузы, где и теперь можно увидеть ее гробницу.
А тем временем в Каталонии, которая не была еще владением короля Арагона и Кастилии[77], жил граф Барселонский по имени дон Феррандо, который из-за соседства земель и из-за соперничества в славе долгое время пребывал в состоянии войны с графом Тулузским; и между ними, то в пользу одной, то в пользу другой стороны, — первого поддерживал король Испании, а второго — король Франции, — происходили бесконечные, кровопролитные битвы.
Мы часто видим, как войны между нынешними князьями, начинаясь из-за пустого тщеславия и глупой амбиции, приводят в конце концов к обоюдному истощению и разорению; так и эти двое, по прошествии времени понеся взаимный урон, поняли, что их вражда приводит только к тому, что за их счет обогащаются соседние государства, а недруги радуются их неудачам. И они порешили прийти к такому соглашению, которое без позора и ущерба для обеих сторон принесло бы им мир. И чтобы закрепить новую дружбу, они приняли следующее решение: дабы все старые распри, которые затихли с наступлением мира, были навеки забыты, им следует породниться, — кстати, у Тулузского графа была дочь, а у графа Барселонского из троих детей остался один сын. Переговоры были недолгими, быстро сошлись насчет приданого: за невестой давали Салсу и Перпиньян либо деньги и золото, которые ссужал граф Прованса, разбогатевший благодаря мудрому правлению своего министра Ромео, в залог за земли, граничащие с Арлем и Тарасконом.
Когда покончили с этим, то осталось выяснить только одно: граф Тулузский, памятуя о своем обещании, данном жене, сказал, что все будет в порядке, если молодой граф понравится его дочери, которую он поклялся выдать замуж только за того, кто станет ей мил. Никто не придавал этим словам особого значения, ибо никто не сомневался в благоприятном исходе дела, поскольку, помимо высокого положения и знатного происхождения, юноша обладал прекрасной наружностью, был до чрезвычайности добродетелен и сверх меры наделен редкостными и блестящими качествами, коими не мог похвастать никакой другой, — я не говорю о принцах крови, которых раз-два и обчелся, — знатный дворянин во всей Европе того времени; даже не верилось, что он родился в Барселоне, — но это так, и до сих пор о нем рассказывают чудеса, потому как ни прежде, ни во время оно никто не мог с ним сравниться, и мало надежды на то, что в будущем можно встретить ему подобного.
Тем часом юношу, оставившего в ожидании предстоящей свадьбы отца и свою страну, с большим почетом и огромной свитой проводили в Тулузу, где он был встречен с не меньшим почетом и любовью, как подобает встречать дорогого гостя и любимого сына; не были забыты ни французская куртуазность, ни испанская церемонность, которыми в то время, благодаря близкому соседству, умели пользоваться как одна, так и другая сторона.
Когда гостю были оказаны первые почести, его повели во дворец, где представили невесте, одетой с королевской пышностью. Девушка, обладавшая удивительной красотой, редкостной грацией и прекрасными манерами, приняла его так любезно и так учтиво, что восхищение, любовь и нежность охватили молодого графа, который прежде, зная о ней понаслышке, стремился завладеть ею, то теперь при виде ее воспылал такой страстью, что не хотел более медлить со свадьбой ни минуты.
Дочь, которую отец заранее обо всем предупредил, с не меньшим интересом разглядывала юношу, но делала это стыдливо и исподтишка, как то велела ей женская скромность, и он своим обхождением, приличествующим влюбленному и знатному юноше, был приятен ее взору.
Обменявшись первыми приветствиями, все расселись за столы, ломившиеся от разных яств и вин, какие только можно было найти в это время года в той стране. После обильного обеда принесли в великолепных вазах плоды гранатов, которые принято было подавать, по местному обычаю, в конце трапезы, чтобы омыть рот от всех запахов пищи.
Молодой граф тоже взял плод граната, — из-за этого и произошло все несчастье, — и вдруг одно зернышко граната нечаянно выскользнуло из его руки; юноша желая, как утверждал он сам и многие свидетели, показать ловкость и проворство, быстро подхватил зернышко на лету почти у самого пола и отправил его в рот.
Невеста же, — злой рок ли тут вмешался, или сам поступок показался девушке недостойным человека столь высокого положения, — в душе была сильно обеспокоена и про себя подумала: «Я часто слышала от людей, которые не станут лгать, что каталонцы самые жадные и скаредные люди на Западе; и хотя я увидела в нем то, что мало присуще испанцам, это ничего не значит, — ведь с помощью хитрости можно достигнуть чего угодно, особенно когда один человек хочет обмануть другого, а это давно в обычае у всех каталонцев. И глуп тот, кто не сумеет, прикрываясь некоторое время блестящими манерами и прекрасными словами, довести свои замыслы до конца, а затем вернуться в свое истинное состояние; но скупость, мать всех пороков, — это я усвоила от одного своего учителя, — имеет ту особенность, что ее не может скрыть даже самый искусный притворщик. Щедрый человек меньше жалеет свое добро, которое у него забирают, чем скупой, который устроен так, что ему жалко не только своих денег, но даже денег своих врагов. И ежели он таков (а таким я его, несомненно, считаю: коли он при этом обилии пожалел зернышко с чужого стола, то как же он будет трястись над своим собственным золотом), что станет со мною? Может ли быть большее несчастье для девушки благородной и щедрой души, чем выйти замуж за богатого и алчного человека? Ей самой это принесет только горе и страдание, а для других послужит забавой и поводом для насмешек. Пусть боги избавят меня от этого, и лучше я буду до конца дней своих, до самой старости жить так, как я жила до сих пор, чем пребывать с ним в постоянной скорби и раскаянии, расплачиваясь за свой слабый ум; и пусть мой старый отец говорит что угодно, но я прекрасно знаю одно: безумен тот, кто, уступая просьбам других, вредит самому себе». Так обо всем подумав про себя, она на том и порешила.
Когда пир закончился, граф Тулузский, с любезного разрешения каталонца, взял дочь за руку и отвел в ее покои; тут он с отеческой заботливостью спросил о ее воле, и она чистосердечно призналась, что скорее останется на всю жизнь одна, чем станет жить с человеком чуждых ей взглядов. Услыхав подобные слова, отец, который был хорошего мнения о молодом человеке, сильно огорчился, размышляя про себя, что дело, которое было задумано ради мира и во благо всей страны, может обернуться взаимным истреблением и нескончаемой войною между соседями. Спросив у дочери о причине отказа и узнав ее, он начал громко смеяться, поскольку она показалась ему пустячной, и стал пытаться переубедить дочь, но все усилия его были тщетны, так как она твердо стояла на своем, говоря, что ежели он нарушит слово, данное ее матери, и выдаст ее замуж насильно, то она наложит на себя руки, расстанется с жизнью и тем самым избежит несчастной участи. Старый граф, памятуя о своем обещании покойной жене и тронутый жалостью к дочери, произнес, чуть не плача, следующие слова: «Если он тебе не по душе, то делать нечего; раз ты этого не хочешь, неволить тебя я не стану». Вернувшись из покоев дочери и рассуждая о том, куда может завести женщину воображение, как упрямы они, действуя себе во вред, он, извлекая из души все, какие только мог, благовидные предлоги и любезные слова, в конце концов дал понять графу Барселонскому, что дочь его ни под каким видом не желает выйти за него замуж. Слова эти словно острые стрелы пронзили душу каталонца, и они тем более ранили его, что он уже не сомневался в своем успехе и цель казалась ему близкой. Скрыв в душе обиду и боль, он ответил с горькой усмешкой, что он не первый, такое бывало и с людьми более достойными, чем он, когда им приходилось терпеть крах всех своих надежд; и уж если так случилось, то ему надобно с миром возвращаться в Барселону, но в награду за свое долгое путешествие он просил сказать, чем же он не понравился дочери графа, дабы впредь по возможности исправиться. Старый граф, одновременно и стыдясь и отнекиваясь, вынужден был в конце концов сказать все как есть. Каталонец, со смехом выслушав рассказ, ответил: «Теперь, если мне придется свататься в другой раз, я буду это делать в то время года, когда гранаты еще не созреют, поскольку из-за них я утратил жену, как Церера утратила свою дочь»[78]. А потом добавил, что он уважает волю супруги и дочери графа и не хочет навязывать им свои желания, но все, что произошло, не должно омрачать их истинную дружбу и нарушать недавно установившийся мир; потом он постарался перевести разговор на другую тему; так прошел первый день, который принес ему мало радости.
На другой день, скрывая в душе свою обиду, он весьма любезно распрощался с девушкой и со всеми остальными и поспешил в Каталонию, поскольку путь был не ближний. Доехав до границы государства, он отпустил свою большую свиту, сказав, что хочет посетить святые места, которые находятся неподалеку, — и все решили, что речь идет о нашей чудотворной Донне Монферрато, — и, поскольку подобные странствия надлежит совершать скромно и без свиты, он хочет взять с собою двух верных друзей и смиренно исполнить свой обет перед богом с величайшим рвением.
Когда вся свита отбыла и юноша остался лишь со старыми сокровенными друзьями, он поведал им о своих замыслах; они отпустили коней, и все трое пешком отправились обратно в Тулузу, переодевшись в другое платье. Граф превратился в торговца драгоценностями, — такие в те времена бродили по Парижу с ящиком за плечами, да и по сей день их можно встретить как во Франции, так и в Италии; они беспрепятственно заходят в любые дома и предлагают свой товар знатным дамам и богатым господам.
Накупив драгоценностей, дорогих золотых украшений и разных безделушек, молодой граф сложил всё в ящик, добавив несколько своих очень красивых драгоценных камней (а их он привез великое множество в подарок своей будущей супруге), однако особенно ценные камни припрятал подальше, чтобы не прослыть слишком богатым, сбрил бородку, которую носили в те времени все каталонцы, и заявился один в Тулузу в твердой уверенности, что это самый верный способ, который оставляет ему судьба, — изредка видеть и разговаривать со своей дамой.
Так с утра до ночи ходил он по городу, продавая, если посчастливится, то одному, то другому свой товар, но чаще всего бродил он возле дворца, где тогда жил граф Лангедока, в надежде переговорить хоть разок с той, которую, сперва из любви, а потом от обиды, не забывал ни на минуту.
Ждать пришлось не слишком долго. Как-то вечером, после особенно жаркого дня, он увидел на балконе прекрасную, очаровательную дочь графа, одетую в белое платье, в обществе нескольких придворных дам. С глубоким трепетом в душе он, низко кланяясь, приветствовал их и спросил, не желает ли кто-либо из дам купить что-нибудь из его товаров прекрасного качества по сходной цене.
Графиня и придворные дамы нимало не рассердились на его слова, поскольку обычаи этой страны позволяли подобное обращение, кликнули его к себе, окружили и стали разглядывать товары; каждая из них и все вместе брали то одну вещь, то другую, спрашивали наперебой цену и советовались с ним, а он, будучи человеком мало сведущим в этом деле, не знал, что и отвечать; единственное, что ему удавалось, это, глядя все время на графиню, отвечать только на ее вопросы. Распродав задешево множество вещей, особенно приглянувшихся дамам, он удалился, поскольку наступил час вечерней мессы.
Так продолжалось довольно долго. Почти каждый день он оказывался все в том же обществе дам, и вскоре они так к нему привыкли, что беседа с ним забавляла их, а это, естественно, вызывало зависть его собратьев по ремеслу, услугами которых дамы перестали пользоваться, заявив им следующее: «Мы хотим сохранить верность нашему Наваррцу». (Граф сказал, что он родом из Наварры, поскольку не мог назваться французом, так как не владел в совершенстве языком и не желал признаваться, что он испанец.)
Спустя несколько дней граф, улучив удобную минуту, когда никто не мог его услышать, сказал одной камеристке графини, — той, которую, как ему показалось, более других любила графиня и которая к нему относилась благосклоннее остальных, поскольку он несколько раз уступал ей свой товар дешевле его истинной цепы, — что неподалеку отсюда у него припрятан такой прекрасный драгоценный камень, какого никто никогда на всем белом свете не видывал, но он боится носить его с собой, опасаясь грабителей; камень этот очень ему дорог, поэтому он его никогда не продаст, даже если бы ему предложили за него все блага мира. Тут он замолчал и, более не говоря ни слова, вскоре удалился.
Камеристке не терпелось сообщить поскорее своей госпоже все, что она услышала от Наваррца. Когда настало время сна и камеристка помогала своей госпоже раздеваться, она рассказала ей об удивительном и прекрасном камне, обладающем волшебной силой, добавив при этом, — между ними было принято говорить все начистоту, — что, будь она на месте графини, она нашла бы способ во что бы то ни стало завладеть камнем, и, хотя Наваррец твердо решил его не продавать, она бы не остановилась ни перед чем, не убоявшись даже самой смерти. Этими словами она так подзадорила молодую графиню и вселила в нее такое великое желание заполучить этот камень, что та всю ночь только о нем и думала и в своих снах только его и видела; а утром, чуть свет, она послала камеристку разыскать Наваррца и просить его от ее имени и умолять, чтобы он согласился продать ей камень, а если это будет невозможно, то пусть она приложит все усилия, чтобы он хотя бы показал ей драгоценность, поскольку она надеялась, что желание иметь камень, о котором она знала понаслышке, возможно, пройдет, когда она его увидит.
Камеристка пошла к Наваррцу и изложила ему желание своей госпожи; он чрезвычайно обрадовался этому и принялся снова на чем свет стоит расхваливать свой алмаз, и если он и накануне вовсю расписывал его достоинства, то теперь стал возносить их до небес, снова без конца клянясь и утверждая, что он скорее расстанется с жизнью, чем со своей драгоценностью; но, зная доброту и благородство графини, он будет рад показать ей камень, с условием, что, кроме них двоих, там, куда он его принесет, никого не будет. Камеристка, видя, что большего ей не добиться, согласилась на это и, условившись с ним о времени встречи, вернулась к графине и все ей рассказала.
Когда пришел назначенный час, прибыл Наваррец и принес долгожданный драгоценный камень. Это был отшлифованный алмаз такого огромного размера и такой необычайной и красивой формы, какого она никогда ранее не видывала. Он попал в руки старого Барселонского графа от каталонских корсаров, которые занимались морским разбоем между Гибралтарским проливом и островом Мадейра и которые захватили его у норманнов, тоже корсарствующих в этих морях; и так как они оказались слабее каталонцев, то те захватили всю их добычу, а их самих взяли в плен; говорят, что потом этот алмаз находился долгое время у Неаполитанского короля, а теперь им владеет Турецкий шах, и, хотя у него великое множество драгоценных камней, этот алмаз ему особенно дорог.
Когда Наваррец пришел, он, прежде чем показать алмаз, стал громкими словами в духе испанского красноречия неумеренно восхвалять его, уверяя, что более всего он ценит в этом алмазе не так его красоту, как великую волшебную силу; после этого, выказав свое расположение графине и утверждая, что другим он только смог бы показать алмаз, но никогда не сообщил бы о его чудесных свойствах, он протянул ей камень. Графиня взяла алмаз, и чем больше она его разглядывала, тем прекраснее он ей казался, — а камень и в самом деле был великолепен, и ею овладело столь сильное желание заполучить алмаз, что она, казалось, не могла больше жить без него; однако она старалась скрыть это и делала вид, что только любуется им. Потом она попросила Наваррца, который был весьма доволен результатом дела, сообщить ей о волшебных свойствах камня, на что тот долго не соглашался, а потом, будто сделав над собою величайшее усилие, ответил так: «Синьора, часто случается, что человек, когда ему надобно принять какое-либо серьезное решение, находится в сомнении, и вот тогда он заглядывает внутрь этого камня и, если принятое решение принесет ему успех, видит, что камень становится таким ясным и прозрачным, будто в нем спрятан солнечный луч, а если решение не сулит ничего доброго, то он становится темным, как безлунная ночь. Есть люди, кои утверждают, что это — философский камень, который долго и тщетно искали многие, а другие считают, что камень — творение алхимиков, а не природы; были и такие, кои говорили, что алмаз принадлежал Александру Великому, который без него не отправлялся ни в один поход; а потом он якобы перешел к Юлию Цезарю; благодаря этому камню и тот и другой считались непобедимыми, как вы, вероятно, неоднократно слышали». Сказав это, Наваррец взял свой алмаз и откланялся.
Неизвестный флорентийский художник XV в.
Женский портрет.
Гравюра резцом.
Оставшись одна с камеристкой, графиня начала без конца повторять: «Если бы я владела таким прекрасным и редкостным предметом и могла бы ежечасно любоваться им, то вряд ли сыскался бы на свете человек счастливее меня. И коли в другой раз случится мне выбирать жениха, как было с графом Барселонским, то как бы пригодился мне совет моего алмаза!» И, говоря это, она заклинала свою верную камеристку во имя любви к ней пойти снова к Наваррцу и попытаться сделать все, чтобы он уступил ей свою драгоценность за любую, какую он сам назначит, цену. Камеристка, давно утратив всякую надежду, отправилась все-таки к нему, но все уговоры были тщетны: и в первый и во второй раз он отказался не только продать камень, но даже снова показать его кому-либо. На третий раз, считая, что настало время исполнить то, что он задумал с самого начала, Наваррец сказал: «Мадонна, поскольку ваша настойчивость и красота и грация вашей госпожи тронули мою душу и вынуждают расстаться с такой дорогой для меня вещью, то пойдите к графине и передайте следующее: я ей, конечно, отдам алмаз, ежели она согласится в награду за это провести со мною одну ночь так, как если бы я был ее мужем; а коли она не согласна, то ни деньги, ни любое другое вознаграждение мне не нужны, и пусть в таком разе она избавит себя от этой прихоти, а меня от лишнего беспокойства».
Камеристка передала госпоже весь разговор, добавив, что ежели та не намерена исполнить его волю, то нечего ходить к нему и понапрасну тратить слова, ибо она убеждена, что ничто уже больше не поможет.
Гордая графиня страшно прогневалась на Наваррца, грозилась наказать его за то, что он осмелился посягнуть на ее честь и пытался замарать ее чистое и высокое имя; а своей камеристке графиня с возмущением бросила упрек, что та не сумела убедить человека, равного ей по положению, как негоже ему обращаться к графине с подобными предложениями.
Камеристка с легкой улыбкой ответила: «Мадам, когда вы в первый раз послали меня к Наваррцу, я думала, что моей миссией будет передавать как вам, так и ему только то, что каждая из сторон говорит мне; я никогда не осмелилась подумать, что часть этих слов я должна утаить. Теперь, коли вы недовольны тем, что я передала вам, то в том есть ваша вина, ибо вы мне не подсказали, что после подобных слов я должна была отчитать его, а вам ничего не говорить. Когда вы поручили это дело мне, я согласилась, хотя могла уступить его кому угодно, поскольку я не умею не только карать, но и порицать людей за их справедливые требования. Сам господь бог позволяет нам, как добрым, так и злым в равной степени, в молитвах, обращенных к нему, просить его исполнить и праведные желания и неправедные: он исполняет, когда сочтет нужным, первые, но не вторые; таким образом, я не знала, что вы хотите быть выше его. И чем вас так оскорбил Наваррец? Разве неведомо вам, что просить еще не значит отнимать или получать? Вы еще слишком юны и не умеете как следует отличить добро от зла; но если бы ваша голова была бела, как моя, вы судили бы иначе. Порой приходится говорить слова, подобные вашим, но надобно знать, где и кому; не здесь, не мне и не тем, кому вы доверяете, а чужим людям, — они хоть и не поверят вам, зато сочтут вас женщиной мудрой, которая хорошо знает свое дело, то есть умеет искусно притворяться; но мне, которая всей душой предана вам и для которой вы — единственное благо на свете, не говорите так, поскольку я знаю, что высшая честь и самая большая радость для женщины — когда ее просят об этом, лишите ее этого, и она будет словно день без света, словно море без волн. Но, принимая во внимание ваш юный возраст, я покорно сношу ваш гнев и хочу сказать о другом: вы поступите мудро, ежели удовольствуете Наваррца и получите взамен чудесный драгоценный камень; таким образом, по моему разумению, вы совершите выгодную сделку. Разве сумеете вы дешевле отделаться, если станете платить ему этой монетой? Ведь чем больше ее тратишь, тем больше ее остается. Грехом это считают только ханжи да старухи, которым ничего иного уже не суждено, а у молодых впереди еще целая жизнь: можно успеть покаяться господу богу в своих ошибках. А у тех ничего нет: ни благоприятного случая, ни желания, да их никто об этом и не просит. Честь теряют только тогда, когда об этом становится известно всем, мы же сделаем все втайне, и тем самым честь будет сохранена. Я высказываю вам свое мнение, как мать, а вы уж поступайте так, как сочтете нужным; по хочу предупредить вас: чем мудрее я становлюсь, тем больше старею, и мне очень жаль, что у вас нет моего опыта и моего разума, а у меня нет вашей молодости, красоты и высокого положения, — из трех этих качеств два первых утрачивают к сорока годам, а последнее становится только тяжким бременем. Этот торговец драгоценностями, хотя и небольшой человек, но лицом, умом, манерами и всем прочим похож более на знатного синьора, чем на торговца. Если же теперь вы упустите этот случай, вы будете действовать в угоду своему капризу, а не так, как надобно поступать». Такими и другими подобными словами искушала старая камеристка молодую девушку, приводя в пример тысячу доводов и без конца повторяя одно и то же, поэтому графиня, утомившись от долгих и трудных споров, сомнений и дум, наконец сказала: «Ладно, ступай к нему и делай как знаешь; но только устрой так, чтобы мы встретились на одну ночь, да как можно позднее, дабы меня это не слишком обременило, а на тебя не навлекло нареканий. Ведь когда ты вот так пристанешь, то надо либо исполнить это, либо от тебя покоя не будет».
Камеристка ничего не ответила, а тотчас же отправилась к Наваррцу, велела ему этой ночью ближе к рассвету быть у задней калитки сада, захватив с собою драгоценный камень, и объяснила, как действовать дальше; как она сказала, так он и поступил.
Ночью, когда Наваррец передал графине свой алмаз, он сказал, что у него есть еще несколько камней не меньшей ценности, чем этот, и он с удовольствием уступит их ей за ту же самую цену. Камеристка, узнав все это от госпожи, стала ее уговаривать завладеть камнями, доказывая, что, снявши голову, по волосам не плачут. И графиня так прекрасно справилась с этим делом, что, кроме алмаза, заработала изумительной красоты рубин и огромный изумруд; Наваррец же сказал, что первый из них спасает от любого яда, а второй исцеляет чуму, которая временами вспыхивает в Лангедоке, несмотря на то что покровителем края является святой Рокко из Монпелье[79].
Но как всегда бывает: чего меньше всего ожидаешь, то и случается. Так и графиня спустя несколько недель, к великому своему горю, почувствовала, что затяжелела, о чем тотчас же сообщила камеристке, которая терпеливо стала ее успокаивать, говоря, что все надобно держать в полной тайне, что из любого положения можно найти выход, что не она первая, не она последняя, с кем такое приключилось, однако все женщины прекрасно выдают себя за девственниц, когда выходят замуж, и что если бы от этого выпадали волосы, то большая часть слабого пола носила бы чепцы. На это графиня, в которой проснулась ее благородная душа и заговорило величие, соответствующее высокому ее положению, ответила: «Пусть так поступают те, кому это угодно, а меня избавь, боже, от того, что я, не сумев избежать одной ошибки, усугубила ее другой. Никогда не стану я лживыми и пустыми клятвами выдавать себя не за то, что я есть на самом деле. Хочу, чтобы кара пала на мою грешную голову, а плоды я отдам тому, кто посеял семя. Я слишком долго следовала твоим советам, теперь с этим покончено, и если ты любишь меня и не хочешь обидеть, то ступай и приведи сюда Наваррца; а если уж я была так ничтожна, что отдалась ему, то впредь постараюсь возвыситься душою и не пойду на обман, чтобы принадлежать другому. И я тверда в своем намерении следовать по тому пути, который уготовала мне судьба, твои опрометчивые советы и моя собственная неосторожность».
Камеристка, зная решительный характер своей госпожи и понимая всю бесплодность уговоров, привела к пей Наваррца, который часто встречался с графиней и давно заметил в ней перемену, — она побледнела и похудела, — но не придавал этому значении; теперь же, увидав ее, сразу разгадал, отбросив все сомнения, причину ее недуга. Графиня, хотя и была убита горем, не проронила ни единой слезинки и спокойно, как подобает смелой и мудрой женщине, а не молодой девушке, сказала ему так: «Друг мой, поскольку твоя счастливая судьба, а моя горькая планида, твое благоразумие, а мое недомыслие привели нас к тому, что я, рожденная в высоком звании, должна, чтобы не обманывать бога и людей, стать женой бродячего торговца, а ты, такой как есть, стать мужем дочери графа, то я прошу тебя не отринуть меня, а взять в жены и распоряжаться мной, как тебе заблагорассудится. Я понесла от тебя и не хочу оставаться здесь, дабы не причинять другим много беспокойства и огорчений, а на себя не навлечь стыд и позор; я даже готова уйти с тобой и жить в бедности; я скорее соглашусь обречь на страдания свое жалкое тело, которое этого заслуживает, чем нежить и лелеять его в покое, а самой ежечасно страдать душой и мучить других. Посему побыстрее устрой все свои дела, чтобы завтра, прежде чем наступит ночь, мы смогли отсюда уехать; имея с собою твои драгоценности и еще множество моих да кое-какие деньги, мы не умрем с голоду и отправимся туда, куда сочтем нужным, чтобы я до конца смогла понять, зачем я родилась на белый свет».
Граф Барселонский, которого мы не станем более называть Наваррцем, хоть и был несказанно рад этому, так как ничего другого и не желал, однако про себя подумал: а если бы он действительно был тем, за кого она его принимает, куда бы завела тогда ее судьба, которая правит нами, и как подчас легко провести женщину, особливо молодую, какой бы хитрой она ни казалась; после всех этих размышлений ему стало так жалко графиню, что он, сильный мужчина, едва не расплакался, чего она, слабая женщина, себе не позволила сделать, и он, взяв себя в руки, постарался как можно лучше скрыть свое волнение и сказал: «Синьора, я, как вам известно, всего-навсего жалкий и бедный торговец, и уж не взыщите, но я всю жизнь думал прожить холостяком, поэтому прошу вас избавить меня от этой обузы, а себя от беспокойства». Он хотел было продолжать дальше, но жалость к ней, желание обладать ею и страх, что она передумает, лишили его дара речи. А она ему в ответ молвила: «Друг мой, хочу тебе сказать только одно: опомнись, ведь самому счастливому человеку на свете за всю его жизнь судьба не пошлет подобного случая, который посылает сейчас тебе твоя счастливая звезда, а моя горькая планида, смотри, как бы она не разгневалась на твое безрассудство: ведь ты не хочешь взять в жены ту, которая так недавно отказала самому графу Барселонскому». От последних слов в душе графа вновь вспыхнула прежняя обида, а в разгоряченной голове роились мысли о предстоящей мести; поэтому он перестал артачиться и дал согласие взять ее в жены, раз она того желает и будет исполнять любую его волю и если она действительно готова вести жизнь жены бродячего торговца, а не дочери графа, готова вдвоем с мужем уйти пешком, как того требуют его положение и древние обычаи, а также во избежание риска, которому подвергается человек, похищающий дочь графа из ее собственного дома.
И, не узнанные никем, условившись не говорить ничего ни единой душе на свете, кроме камеристки, которая вся в слезах проводила их, они, облачившись в одежду пилигримов, отправляющихся на моление в Сан-Якопо, что в Галисии[80], этой же ночью отбыли.
Шум по этому поводу, как надо было полагать, поднялся большой как в Тулузе, так и во всей стране; но мало кто мог себе представить истинное положение вещей, многие думали, что графиня, решив посвятить себя богу, укрылась в какой-либо женской обители. Поскольку в те дни, когда графиня почувствовала себя в тягости, она с еще большим усердием, чем обычно, обратилась к молитве и начала избегать общества своих подруг, постольку все легко поверили, что она ушла в монастырь, а камеристка, которая одна знала, в чем дело, так хорошо разыграла роль обиженной и разочарованной, что у всех пропали последние сомнения.
По этой причине и еще потому, что беглецы вскорости покинули Лангедок, их так и не нашли, хотя и искали.
Долго пришлось бы рассказывать о трудных и бесконечных испытаниях, которым подвергал в пути влюбленный и довольный граф свою бедную и несчастную жену; она до сего времени почти никогда не ходила пешком, а если и отправлялась на прогулку, то всегда в хорошую погоду и в сопровождении самых знатных придворных кавалеров, теперь же она была вынуждена беременная идти под палящим июльским солнцем по острым камням и терпеть все те невзгоды, с которыми сталкивается в пути любой бедный человек.
Граф, когда был занят торговлей, хотя и давал ей немного передохнуть, обращался с нею грубо, поэтому небольшой покой для тела оборачивался большим беспокойством для души. Но в тот день, когда они покинули Тулузу, она решила терпеливо сносить все превратности судьбы. Продолжая далее свой путь, они останавливались на постоялых дворах, где молодая женщина надеялась ночью обрести краткий отдых после тяжких дневных трудов, но граф выбирал самые захудалые гостиницы, которыми так славится Испания, потому что хотел таким образом лишний раз унизить бедняжку, и это вместо отдохновения приносило ей новые страдания.
Наконец после нескольких дней пути они прибыли в Барселону, где граф встретился со своими друзьями, которые выехали из Тулузы в одни день с ним, и приказал поселить его вместе с женой в одной из беднейших и скуднейших гостиниц города, хозяйкой которой была, правда, добрая и святая женщина, каких мало, поскольку хозяйки подобных заведений не брезгают не только ремеслом повитух, но и занимаются сводничеством.
Проведя с женою в гостинице первую ночь и весь следующий день, граф вечером сказал ей, что у него есть дела в городе и поэтому он будет видеться с нею только ночью, так как днем будет занят, а она останется здесь помогать старой хозяйке, за что та будет ее кормить, поскольку он, имея на то свои причины, не намерен расстаться ни с одной драгоценностью, а также тратить деньги, и поскольку он вкладывает все сбережения в дело, то она должна помогать ему в этом, ежели хочет жить с ним в мире и согласии.
Сокрушаясь в душе от этих речей, несчастная графиня вспомнила, как щедр был ее отец, а теперь приходится ей зарабатывать на жизнь своими руками, но с улыбкой ответила мужу, что сделает так, как он велел.
Граф, покинув ее, отправился в платье странника во дворец, где его давно ждали, как человека, которого вновь обрели, уже потеряв всякую надежду увидеть. Здесь его радостно встретили отец и мать, поскольку его паломничество затянулось дольше, чем он сам рассчитывал. Пробыв весь день со своими друзьями и придворными и отпраздновав свое возвращение, граф ночью танком, переодевшись в прежнее платье, отправился к графине и провел с нею ночь. Он постоянно заставлял ее выполнять грязную работу, напоминал, что она должна на кухне и в доме помогать во всем доброй хозяйке. Однако ему мало было тех унижений, которым он ее подвергал, поэтому он решил устроить ей еще более тяжкие и позорные испытания и как-то ночью сказал жене: «Завтра я хочу угостить вином моего друга, скорняка, мы встретимся в лавке одного портного. Мне нужно будет принести хлеб, он в этих краях очень дорогой, а я не намерен тратиться. Завтра утром, когда хозяйка пойдет печь хлеб, ты станешь ей помогать; возвращаясь из пекарни, сделай вид, будто что-то уронила, а сама тем временем припрячь для меня в карман нижней юбки четыре хлебца, за которыми я приду перед обедом».
Благородной графине эти слова показались подлыми сверх всякой меры, и если бы она не была столь много наслышана о скупости испанцев и наваррцев, то сочла бы их за шутку, но, видя, что все сказано всерьез, начала смиренно просить мужа не заставлять ее делать это. На что он в страшном гневе ответил: «Ты, видно, еще не забыла, что ты дочь графа Тулузского, а ведь в тот день, когда мы покинули твой дом, я тебе сказал, чтобы ты не думала о своем прошлом и считала себя женой бедного Наваррца, и ты мне обещала. Поэтому повторяю, что ежели ты хочешь жить со мной в мире и согласии, то изволь делать так, как я тебе велю, иначе я оставлю тебя здесь, а сам уйду в другие края искать свое счастье».
Графиня была вынуждена пообещать ему исполнить его волю, и утром как он наказал, так она и сделала. А граф, по обыкновению, отправился развлекаться в Барселону, там он сказал одному из своих друзей, который был с ним в Тулузе и с которым он состоял в родстве, как тому надобно поступать; друг, проезжая мимо жалкой гостиницы, где проживала жена графа, под каким-то предлогом остановился возле нее и, памятуя о том, что ему было велено графом, обратился к хозяйке, которая, на его счастье, сидела в та время вместе с графиней возле дверей и шила, со следующими словами: «Мадонна, кто эта молодая женщина?» Хозяйка ответила ему, кто была эта женщина и когда она сюда прибыла. «О, — сказал знатный синьор, — вы, как я вижу, не первый день живете на свете, а все-таки ничему не научились; эта женщина — самая хитрая и коварная из всех, кого я встречал в своей жизни; и если вы не будете ее остерегаться, то она вас обдерет как липку».
Старая хозяйка начала отрицать это и принялась всячески расхваливать молодую женщину, на что знатный синьор ответил: «Я хочу, чтобы вы, прежде чем я уеду отсюда, убедились в правоте моих слов: поднимите подол ее юбки, загляните в один из карманов, вы там кое-что увидите и поймете, что я недаром семь лет учился в Толедо колдовским наукам». И, подозвав синьора поближе, чтобы он сам убедился в своей ошибке, добрая женщина, скорее уступая ему, чем сомневаясь в честности девушки, засунула руку в карман ее юбки и обнаружила там четыре хлебца, чем была несказанно удивлена и учтиво извинилась перед кавалером, который, посмеявшись над всем, вскоре отбыл.
Нет слов, чтобы передать, сколь опечалена была бедная графиня и какой стыд она испытала; она едва держалась на ногах от огорчения, оказавшись уличенной в столь низменном поступке в присутствии такого знатного синьора. И когда старая женщина по-матерински стала ей выговаривать за ее проступок, она со слезами на глазах попросила у той прощения и обещала никогда более не впадать в подобный грех, не говоря, впрочем, о том, кто заставил ее так поступить.
В ту же ночь граф сказал ей, что хлеб ему не понадобился, и притворился рассерженным на нее за то, что она опозорила его перед людьми, обвинив во всем только ее, поскольку она так неохотно и неосторожно взялась за это дело.
В то время графиня Каталонская, мать молодого графа, пожелала заказать какому-нибудь искусному мастеру покров ручной работы, который она дала обет подарить святой церкви в Барселоне и на котором надобно было, кроме всего прочего, расшить жемчугом фигуры святых и животных, как это принято делать в подобных случаях. Молодой граф, узнав об этом, тотчас же подумал, что ему снова представляется случай посрамить свою жену; поэтому он сказал матери, что знаком с одной бедной женщиной, француженкой, которая очень горазда в такого рода работе, и что завтра пришлет ее к ней, поскольку знает, где та проживает. Ночью он рассказал все жене, приказав ей, коли она желает ему добра, утаить как можно большее количество жемчужин. Несчастная графиня вся в слезах долго отказывалась исполнить это, потому как недавно пережила страшный позор, когда ее уличили в краже хлеба, и еще потому, что не желала идти в дом человека, которого она девять месяцев назад так оскорбила своим отказом и где ее легко могли узнать; однако после бесконечных и грубых угроз мужа она наконец согласилась пойти во дворец, и, чтобы все прошло гладко, они договорились, что она положит жемчужины в рот и будет держать под языком, а так как она не сможет взять много, хотя они прекрасны и очень дорогие, то прибыль будет от них невеликой.
Утром мать графа усадила молодую женщину за работу, ее манеры и поведение так понравились старой графине и всем, кто там присутствовал, что никто не усомнился в том, что видят перед собой женщину благородного происхождения. Кроме того, в том, что надлежит уметь делать знатной даме, она выказывала большие способности, как никто иной. Молодая женщина мало обращала внимания на слова окружающих, хотя каждая похвала ранила ее душу словно острый нож, — поскольку была озабочена совсем другим; она спрятала под язык три самых красивых жемчужины, когда вдруг явился тот самый знатный синьор, который уличил ее в краже хлеба, и, выполняя наказ молодого графа, принялся выражать старой графине удивление по поводу того, что в их доме присутствует женщина подобного рода, потом, рассказав, как она стащила хлеб, стал говорить, что она украла у старой графини. Все это несчастная женщина перенесла с еще большим стыдом и огорчением, поскольку она украла жемчуг у столь знатной дамы. По старая графиня простила молодую женщину, отнеся все за счет ее бедности, и щедро вознаградила за работу.
Наконец молодой граф решил, что сполна отплатил жене за обиду, нанесенную ему, и в достаточной мере наказал ее за поспешное суждение о нем; он понимал, что, продолжая теперь поступать с ней таким образом, совершает более серьезный проступок, нежели совершил тогда, когда поймал падающее гранатовое зерно; и, зная, что приближается время родов, он полностью отказался от своей прежней затеи и к собственному, да и к ее удовольствию в корне переменился. Он рассказал все своим родителям, добавив, что обман, а не жадность привели ее в его постель, и посчитав, что позор, муки и страдания, на которые он ее обрек, с лихвой окупают ее ошибку; а в заключение сказал, что завтра он намерен, с их согласия, ввести ее в дом как дочь графа Тулузского и как свою супругу. Родители графа были несказанно рады этому, тогда как прежде они весьма опечалились, получив известие о расстроившейся свадьбе. Они приказали устроить на следующий день пышный и богатый пир, не объясняя причину сего.
Молодой граф накануне празднества сказал жене: «Завтра во дворце графа Барселонского состоится свадьба: сын графа берет в жены старшую дочь короля Арагона, одну из самых прелестных и красивых женщин, каких когда-либо видывали в здешних краях; молодой граф должен вечно благодарить бога, что ты ему отказала, поскольку своим браком он много выгадал и в смысле родства, и в смысле красоты невесты». Графиня Бьянка не смогла после таких слов сдержаться и тяжко вздохнула, вспомнив, кем она была когда-то и кем стала ныне; а граф тем временем продолжал: «Завтра большой праздник, никто работать не будет, поэтому я подумал, что тебе надобно отправиться с нашей доброй хозяйкой во дворец, чтобы не скучать здесь в одиночестве, и попытаться что-нибудь украсть. И если даже тебя поймают с поличным, ничего страшного, ты — женщина, тебя постыдят немного, а стыд, как известно, быстро проходит, людям бедным приходится со всем мириться».
И если все, что делала прежде графиня, казалось ей трудным, то теперь этот наказ мужа она сочла наитруднейшим; и если ранее она просила и заклинала его освободить ее от этих дел, то теперь стала слезно молить оставить ее в покое, говоря, что скорее умрет, чем совершит кражу. Но граф, который во что бы то ни стало хотел испытать ее в последний раз, страшными угрозами и грубой бранью вынудил ее согласиться; хозяйке же он под великим секретом раскрыл свой замысел, сказав, где и в какое время она вместе с его женой должна завтра утром объявиться; и, устроив все, он вернулся во дворец.
На другой день многие барселонские знатные дамы и кавалеры прибыли в назначенный час на свадебное пиршество, но, прежде чем сесть за праздничные столы, они начали развлекаться приятной беседой и веселыми танцами.
Старая хозяйка гостиницы, исполняя наказ графа, почти насильно привела графиню во дворец за час до начала пиршества; та, как только вошла в залу, попыталась затеряться в толпе самых бедных гостей. Граф в праздничном одеянии с улыбкой на устах направился прямо к ней и громко, чтобы слышали все, сказал: «Добро пожаловать в мой дом, дорогая графиня, моя милая супруга! Пришло время, когда ваш Наваррец должен стать графом Барселонским, а вы, бедная скиталица, должны стать дочерью графа Тулузского и моей женой, графиней Барселонской». Слова эти повергли графиню в великое смятение, она была чрезвычайно удивлена и смущена; не веря, что граф обращается именно к ней, она стала оглядываться по сторонам, но потом, посмотрев пристально в лицо графа, узнала его и поняла, что он разговаривает с ней, сама же она не могла произнести ни слова. А граф продолжал: «Госпожа моя, я был вами несправедливо отвергнут и потому ожесточился против вас, вероятно, вы считаете, что слишком, и потому затаили обиду на меня, но если вы любите меня, как я вас, то, думаю, в вашем сердце я найду не только прощение, но и сострадание. И ради величия и благородства вашей души, которые открылись мне в низменном вашем положении более, чем в высоком, прошу вас предать забвению, — как и я забыл обиду, причиненную вами, — мою месть; и здесь, в Барселоне, в присутствии моих родителей и всех наших гостей соблаговолите одарить меня тем, в чем мне было отказано в Тулузе и что я обманным путем похитил у вас». Графиня, оправившись от смущения, с величавым видом, который более пристал знатной даме, чем бедно одетой женщине, спокойно заговорила и молвила так: «Господин мой, вы поистине стали дороги мне, особенно сегодня, когда я узнала, что судьба моя оказалась сильнее моего разума и что вы на самом деле не тот, за кого я вас принимала. Простить мне ваше жестокое со мной обращение легче, чем вам, поскольку отмщение всегда более справедливо, чем обида. А одарить вас тем, что вы уже взяли в другом месте, вернее, подтвердить свое согласие я с радостью готова, потому как в Тулузе не было той торжественной обстановки и столь высоких свидетелей, каких я встречаю ныне в Барселоне. Что касается меня, то я предоставляю решать вопрос: буду ли я вашей или нет, вам, супруг мой, а также монсиньору графу, вашему отцу, и мадам графине, вашей матушке, у которых я прошу прощения за обиду, нанесенную вам, и обещаю почитать их и любить нежной дочерней любовью». Бьянка продолжала бы говорить далее, если бы слезы старого графа и графини, его жены, а также радостные и сочувственные возгласы присутствующих не остановили ее. После этого ее увели из залы, сняли с нее лохмотья и обрядили в королевские одежды. И тут началось веселое свадебное пиршество, о чем сообщили графу Тулузскому, который с необычайной радостью встретил весть об этом событии.
Спустя малый срок молодая графиня разрешилась от бремени прекрасным мальчиком. А после этого она, окруженная безграничной любовью и почитанием подданных, счастливо прожила долгие годы со своим супругом и подарила ему множество детей как мужеского, так и женского пола.
Эта история рассказана в летописях обоих графств по-разному, одна с тулузской стыдливостью, другая с каталонской учтивостью; я же предоставляю судить о ней самому читателю.
Прекрасной и милостивой
госпоже Лучине Саворньяна
Давно уже в беседе с вами[82] обещал я записать для вас одну не раз слышанную мною трогательную веронскую новеллу, и вот теперь пришло время изложить ее кратко, на немногих страницах, дабы обещанное мною не осталось пустым звуком. Да и к тому же мне, человеку несчастному, делами несчастных влюбленных, о коих повествует сия новелла, заниматься вполне пристало; и вполне пристало отослать ее к вашей добродетели, дабы вы, хотя и будучи известны среди прекрасных женщин, вам подобных, как мудрейшая, могли, прочитав ее, еще яснее понять, сколь рискованны и опасны любовные стези, сколь жалостна и гибельна доля несчастных влюбленных, ведомых Амуром. Охотно шлю я эти страницы вашей красе, пребывая в надежде, что, как я уже твердо про себя решил, станут они последним моим трудом в подобном роде и что отныне перестанет наконец строчить неумелое мое перо, дабы впредь не быть больше притчей во языцех. Вы же, пристань всех доблестей, красот и добродетелей, станьте таковой и для утлого челна моего воображения, который, хотя и обремененный невежеством, но подгоняемый Амуром, избороздил немало мелких поэтических вод, прежде чем ему, завершившему свои блуждания, настала пора убрать снасти, отдав паруса, весла и руль другим, кто с большим умением и под более счастливой звездой в том же море плавает, а самому спокойно причалить к вашему брегу. Примите же мою новеллу, госпожа, в сих одеждах, ей приличествующих, и прочтите ее благосклонно за прекрасную, по моему разумению, и столь жалостную фабулу, а также из снисхождения к кровному родству и той нежной дружбе, что связывают с вашей персоной того, кто пишет сии строки и с неизменным почтением вам себя препоручает.
Как вам, должно быть, ведомо, в начале моей юности, пока небо против меня еще не обратило всей силы своего гнева, предавался я ратному делу, следуя в том многим великим и доблестным мужам, и не один год подряд бывал на прекрасной вашей родине — Фриули, которую мне приводилось от случая к случаю посещать, разъезжая то по частному делу, то по службе. И при этом имел я обыкновение брать с собою в конные походы моего лучника, мужчину лет пятидесяти, сведущего в ратном деле и весьма приятного в обхождении. И, как почти все, кто происходит из Вероны (а родился он именно там), был этот человек по имени Перегрино очень говорлив. Не только храбрый и ловкий солдат, по и учтивый муж, пускался он чаще, чем то полагалось в его годы, в любовные предприятия, отчего, к доблести своей двойную доблесть добавляя, умел он складно и приятно рассказывать самые прекрасные истории из всех, какие мне когда-либо приходилось слышать, особливо те, в коих речь шла о любви.
Однажды выехал я из Градиски, где тогда квартировал, с этим лучником и двумя другими моими людьми и, помню, гонимый Амуром, направился в Удине пустынной дорогой, разбитой и выжженной в то время войной. Погруженный в свои мысли, далеко отъехав от других, оказался я рядом с названным Перегрино, который, как бы мысли мои угадывая, сказал:
— Уж не собираетесь ли вы вечно томиться тоской из-за того, что жестокая красавица, обманывая вас, мало вас любит? Хоть я и на себе самом познал, что давать советы легче, чем им следовать, все же я вам скажу: «Господин мой, тому особенно, кто, как вы, к воинскому делу причастен, не годится проводить много времени в темнице Амура, — столь плачевны итоги, к коим он нас почти всегда приводит, и столь опасны его пути. В доказательство чего я могу, если вам угодно, рассказать историю, приключившуюся в моем городе, дабы дорога не казалась нам такой унылой. И вы услышите рассказ о том, как двух благородных любовников постигла жалостная, жестокая смерть».
И как только я подал знак, что охотно готов его слушать, он начал так:
— Во времена, когда Бартоломео делла Скала[83], государь учтивый и гуманный, по своей воле ослаблял и натягивал бразды правления моей прекрасной родиной, проживали там, как слыхал о том еще мой отец, два благороднейших семейства, кои принадлежали к противным партиям и друг с другом жестоко враждовали, — одно именуемое Каппеллетти, а другое — Монтекки[84]. От одного из них, как считают, и происходят те, что живут ныне в Удине, то есть мессер Никколо и мессер Джованни, именуемые Монтиколи из Вероны, откуда они когда-то переселились, захватив с собою лишь немногое из того, чем они владели в старину, прежде всего свою доброту и учтивость. И хотя я, читая кое-какие старинные хроники, встретился с этими двумя семействами, якобы стоявшими сообща за одну и ту же партию, я тем не менее передам вам эту историю так, как я ее слышал, ничего в ней не меняя.
Итак, как я сказал, проживали в Вероне при упомянутом государе вышеназванные благороднейшие семейства, богатые доблестными мужами и сокровищами, ниспосланными им в равной мере небом, природой и Фортуной. Между ними, как это часто бывает среди богатых семейств, царила по какой-то неизвестной причине жесточайшая вражда, из-за чего и с одной и с другой стороны погибло немало людей; но постепенно, как нередко случается в таких делах, то ли утомившись, то ли опасаясь гнева государя, которому их вражда была ненавистна, начали они, не идя открыто на мировую, воздерживаться от взаимных распрей и вести себя спокойнее, так что многие их люди даже стали друг с другом разговаривать. Когда наступило такое замирение, однажды, по случаю карнавала, в доме мессера Антонио Каппеллетти, считавшегося первым в своем семействе, давались большие празднества и днем и ночью, куда сходился почти весь город.
Однажды вечером, по обычаю влюбленных, которые не только в мечте, но и во плоти за своими возлюбленными неотступно следуют, куда бы те ни направились, пришел на это празднество вслед за своей дамой один юноша из рода Монтекки. Был этот юноша прекрасен собой, высок ростом, учтив и приятен. В маске, как и все другие, наряженный нимфой, привлекал он взоры всех как своей красотой, превосходившей красоту любой из пришедших туда женщин, так и своим неожиданным появлением в этом доме, и притом в ночное время. Но наибольшее впечатление произвел он на единственную дочь названного мессера Антонио, девушку необычайной красоты, выделявшуюся среди всех прочих упоительным своим обликом. Когда она увидела юношу, красота его с такой силой поразила ей душу, что от первой встречи их взглядов стала она как будто сама не своя. Он стоял один среди праздничного веселья, в стороне от всех, скромно и редко участвуя в танцах или беседах, и, завлеченный сюда Амуром, все время держался настороже, что очень огорчало девушку, ибо, как она слышала, был он по природе своей весел и сердечен.
После полуночи, когда празднество шло к концу, начался так называемый танец факела и шляпы, который и теперь еще исполняется в заключение праздников, когда кавалеры и дамы и дамы и кавалеры по своей прихоти друг друга поочередно выбирают.
В этом танце кто-то увлек за собою нашего юношу и случайно подвел к влюбленной девушке. Справа от нее стоял благородный юноша, именуемый Меркуччо Гуерцио, чьи руки от природы всегда, и в июльскую жару, и в январскую стужу, оставались холодными, как лед. Как только Ромео Монтекки (ибо так звался наш юноша) приблизился к девушке слева и, как принято в танце, прекрасную ее руку в свою руку взял, тотчас же она сказала ему, желая, быть может, услышать в ответ его голос: «Благословен ваш приход ко мне, мессер Ромео». На что юноша, ее изумление заметив и сам изумленный ее словами, сказал: «Как это благословен мой приход?» А она ответила: «Да, благословен ваш приход сюда ко мне, ибо вы хоть левую руку мою согрели, пока Меркуччо мою правую застудил». Тогда он, несколько осмелев, добавил: «Если я моей рукой вашу руку согрел, то вы прекрасными своими глазами мое сердце зажгли». Девушка слегка улыбнулась, опасаясь, как бы ее с ним не увидели и не услышали, но все же сказала ему: «Клянусь вам, Ромео, честным словом, что здесь нет женщины, которая казалась бы мне столь же прекрасной, каким кажетесь вы». На что юноша, весь загоревшись, ответил: «Каков бы я ни был, я стану вашей красоты, если она на то не прогневается, верным слугою».
Покинув вскоре праздник, Ромео вернулся домой и задумался о жестокости своей первой дамы, по которой он долго томился, так мало получая взамен. И он решил посвятить всего себя новой даме, если он придется ей по сердцу, невзирая на то, что принадлежала она к семейству его недругов. Со своей стороны, девушка, будучи не в силах ни о чем другом думать, кроме как о Ромео, повздыхав вволю, решила, что была бы истинно счастлива, если бы могла выйти за него замуж. Но по причине неприязни между их домами она мало надеялась, что столь счастливая развязка возможна, и опасалась всяческих препятствий. Поэтому, постоянно раздваиваясь в мыслях, она не раз говорила себе самой: «О, глупая я! Как позволила я мечте завлечь себя в этот лабиринт? Как мне одной выйти оттуда, ведь Ромео Монтекки меня не любит! Из нелюбви ко мне он ничего другого искать не станет, кроме как моего позора. Но если вдруг он захотел бы на мне жениться, отец мой никогда не согласился бы отдать меня ему». А когда приходила ей другая мысль, она говорила себе: «Как знать, ради того, чтобы скорее помирить оба наши дома, давно уставшие враждовать между собою, мне, быть может, предстоит соединиться с Ромео, как я того желаю». И, в этой мысли утвердившись, стала она взирать на него с большей благосклонностью.
Оба влюбленных, охваченные единым пламенем, с именем и запечатленным образом любимого в душе, взяли обыкновение засматриваться друг на друга, то встречаясь в церкви, то замечая один другого в окне. И ему и ей лучше всего бывало тогда, когда они друг на друга смотрели. Он столь сильно был восхищен ее прекрасным обликом, что ночи напролет, с величайшей опасностью для жизни, проводил в одиночестве перед домом любимой девушки — то забирался к самому окну ее комнаты, где, ни ею, ни кем другим не замеченный, внимал с балкона прекрасному ее голосу, то ложился прямо на мостовую. Однажды ночью, когда луна по воле Амура сияла ярче обычного, Ромео поднимался к балкону девушки, как вдруг она, то ли случайно, то ли потому, что слышала, как он уже не раз прежде пробирался сюда, распахнула окно и, высунувшись наружу, его увидела. Он же, подумав, что это не она, а кто-то другой открыл балкон, попытался укрыться в тени стены; но она узнала его, окликнула по имени и сказала: «Что вы делаете здесь в столь поздний час?» Он тоже узнал ее и ответил: «То, что угодно Амуру». — «Но если бы вас застали, — сказала девушка, — ведь вы могли бы легко лишиться жизни». — «Мадонна, — ответил Ромео, — конечно, я могу легко умереть здесь и наверняка умру как-нибудь ночью, если вы мне не поможете. А поскольку в любом другом месте я столь же близок к смерти, как и здесь, я стараюсь умереть там, где я буду по возможности ближе к вам. Жить же с вами я горячо желал бы всегда, будь на то воля неба и ваша собственная». На эти слова девушка ответила: «Если вы и я честь по чести не соединимся, то не моя будет в том вина, а скорее ваша или той вражды, что живет между нашими домами». Тогда юноша сказал: «Поверьте мне, нельзя желать чего-либо больше, чем желаю я вас; если бы вам так хотелось быть моею, как мне хочется быть с вами, я бы ни мгновенья не раздумывал и никто не посмел бы вас у меня отнять». Тут они условились вновь побеседовать в следующую ночь, когда будет больше времени, и с этим расстались.
С тех пор юноша много раз приходил поговорить с нею, и однажды вечером, когда шел снег, он, найдя ее на обычном месте, сказал: «О, зачем вы заставляете меня так страдать? Разве вам не жаль того, кто каждую ночь в непогоду ждет вас здесь, на улице?» На что девушка сказала: «Конечно, мне вас жаль. Но что мне остается делать, кроме как просить вас уйти?» А юноша в ответ: «Вы можете позволить мне войти в вашу комнату, где нам было бы удобнее беседовать вдвоем». Тогда прекрасная девушка, рассердившись, сказала: «Ромео, я уже люблю вас, кажется, настолько, насколько это вообще дозволено, и даже, быть может, разрешаю вам больше, чем моему честному нраву пристало, ибо Амур покорил меня вашей доблестью. Но если вы думаете настойчивыми ухаживаниями или другим каким образом вкусить мою любовь иначе, чем издалека ее вкушает влюбленный, то с этой мыслью расстаньтесь, все равно она не сбудется никогда. И чтобы избавить вас от опасности, угрожающей вашей жизни из-за того что вы еженощно приходите сюда, я скажу вам, что, если вам угодно взять меня в жены, я готова отдаться вам целиком и безбоязненно последовать за вами повсюду, куда бы вы пи отправились». — «Только этого я и жажду, — сказал юноша, — и пусть свершится это сейчас». — «Пусть свершится, — ответила девушка, — но пусть сначала это будет подтверждено в присутствии брата Лоренцо из Caн-Франческо, моего исповедника, если вы хотите, чтобы я отдалась вам целиком и с радостью». — «О, — воскликнул Ромео, — значит, брат Лоренцо да Реджо знает все тайны вашего сердца?» — «Да, — сказала она, — и ради моего спокойствия подтвердим наш сговор в его присутствии». И тогда, уговорившись как следует обо всем, они расстались.
Был этот монах из францисканского ордена миноритов большим философом и знатоком разных естественных и магических наук, и был он с Ромео в такой тесной дружбе, что ей подобной, пожалуй, сыскать тогда было трудно. Поскольку хотел он одновременно и добрую славу среди своей паствы сохранить, и кое-каким своим любимым делам предаваться, пришлось ему поневоле кому-то из благородных людей города довериться. И он выбрал среди них Ромео — юношу, слывшего смелым и сдержанным, — открыв ему до конца свое сердце, хотя и таил многое из осторожности от всех других. Разыскав его, Ромео прямо заявил, что хотел бы любимую девушку назвать своею женою и что они вместо пришли к мысли, что он один станет тайным свидетелем их венчания, а потом — и посредником, дабы побудить отца девушки на их союз согласиться. Монах охотно обещал ему помочь, ибо трудно ему было отказать в чем-либо Ромео; да и к тому же, думал он, все это могло бы обратиться во благо, и притом не без его участия, и он вошел бы в большую честь у государя и всех, кто желал мира между этими двумя семействами.
Однажды, в великий пост, девушка, сделав вид, что хочет исповедаться, отправилась в монастырь Сан-Франческо, где зашла в одну из исповедален и спросила брата Лоренцо. Узнав о том, что она пришла, монах вместе с Ромео вошел из монастыря в ту же исповедальню и, заперев вход, убрал железную решетку с окошка, которое отделяло их от девушки, и сказал ей: «Я всегда рад вас видеть, но ныне более, чем когда-либо вы мне дороги, раз вы хотите стать женою мессера Ромео». На что она ответила: «Ничего другого я сильнее не желаю, чем по праву ему принадлежать. И потому я стою с открытым сердцем здесь перед вами, дабы вы вместе с богом стали свидетелями того, на что я иду, побуждаемая к тому Амуром». И тогда, в присутствии монаха, который сказал, что все это принимает за исповедь, прекрасная девушка тут же торжественно обвенчалась с Ромео. И, сговорившись о том, что следующую ночь они проведут вместе, и один раз поцеловавшись, они расстались, а монах, установив на место решетку, стал исповедовать других пришедших.
Когда двое влюбленных, как вы слышали, стали таким образом тайно мужем и женою, они много ночей подряд своей любовью счастливо наслаждались, ожидая, что со временем найдется способ успокоить отца молодой, который, как они твердо знали, пошел бы против их желаний. И тогда случилось, что волей Судьбы — противницы всякой мирской услады, сеятельницы семян злосчастья — вдруг воскресла почти замершая вражда двух родов, и все пошло в разлад, и ни Монтекки, ни Каппеллетти не захотели ни в чем друг другу уступить, так что однажды те и другие учинили схватку на главной улице. Среди сражавшихся был и Ромео, который, памятуя о своей подруге, старался не тронуть никого из ее родичей. Однако, когда многие из сражавшихся на его стороне уже были ранены и почти все изгнаны с улицы, Ромео, охваченный гневом, устремился навстречу Тебальду Каппеллетти, который казался ему наиболее яростным из противников, и одним ударом сразил его. Тот пал на землю мертвым, а другие, приведенные в замешательство этой смертью, обратились в поспешное бегство. Все видели, как Ромео поразил Тебальда, поэтому скрыть убийство было невозможно. И, подав жалобу государю, все из рода Каппеллетти показали на Ромео, и он по приговору правосудия навечно был изгнан из Вероны.
С каким сердцем встретила это известие его несчастная подруга, всякий, кто любит, может, поставив себя на ее место, легко себе представить. Она так сильно плакала, что никто утешить ее не мог, и тем горше было ее страдание, что свою беду она никому раскрыть не решалась. Со своей стороны, юноша страдал из-за того, что должен был покинуть родину, оставив подругу одну, и ни за что не хотел уезжать, не попрощавшись с нею. Так как он не мог войти в ее дом, он обратился к монаху. Последний через одного из слуг ее отца, большого друга Ромео, дал ей знать, чтобы она пришла, и она явилась. Уйдя вдвоем в исповедальню, они долго вместе плакали о своей несчастной доле. Наконец она ему сказала: «Что я буду делать без вас? Сердце не позволит мне больше жить. Уж лучше я пойду с вами хоть на край света. Я обрежу волосы и стану вашим слугой, — ведь никто лучше и вернее, чем я, вам служить не сможет». — «Богу не угодно, душа моя родная, чтобы вы, если уж на то пошло, сопровождали меня в ином качестве, чем как моя супруга, — сказал ей Ромео. — Но я уверен, что долго так не продлится и что наступит между нашими домами мир, когда я смогу от государя получить прощение. Поэтому я считаю, что вам придется недолго оставаться без моей плоти, а в мыслях я все время буду пребывать с вами. Если же дело обернется не так, как я предполагаю, то мы потом обсудим, как нам быть». И, на этом порешив, они тысячу раз обняли друг друга и расстались в слезах, причем молодая горячо просила его оставаться по возможности ближе к ней и не уезжать, как он собирался, в Рим или Флоренцию. Через несколько дней после этого Ромео, скрывавшийся до тех пор в монастыре у брата Лоренцо, отправился в путь и прибыл со смертельной тоской в душе в Мантую. Но прежде, чем уезжать, он тайно строго-настрого наказал одному из слуг своей подруги, чтобы тот незамедлительно сообщал монаху все, что узнает о ней, и в точности выполнял все ее приказания, если хочет получить остававшуюся часть обещанной ему мзды.
Прошло много дней после отъезда Ромео, а его подруга все время ходила заплаканная, что портило ее красоту. Мать, горячо любившая дочь, обращалась к ней не раз с нежными словами, спрашивая, в чем причина ее слез: «О дочь моя, которую я люблю, как самое жизнь, — говорила она, — какое горе мучит тебя в последнее время? Почему ты ни минуты не проводишь без слез? Если ты чего-то желаешь, поведай о том мне одной, я тебя, как только возможно, утешу». Но в ответ она слышала от дочери лишь невразумительные объяснения ее печали. Поэтому мать подумала, что причиной слез может быть желание иметь мужа, которое она из стыда или страха скрывала. Однажды, считая, что она заботится о спасении дочери, а на самом деле готовя ей гибель, сказала она мужу: «Мессер Антонио, уже давно я вижу, как наша дочка беспрерывно плачет, отчего она, как вы можете заметить, на самое себя стала не похожа. И хотя я много расспрашивала о причине ее печали, я не смогла ничего от нее узнать. Да и я сама не могу понять, откуда эти слезы, если не от желания выйти замуж, чего она, как девушка благонравная, высказать не осмеливается. Поэтому, прежде чем она вконец изведется, я думаю, лучше было бы выдать ее замуж. Ведь в этом году на святую Ефимию ей исполнится восемнадцать, а девушки, когда переступают этот порог, уже не сохраняют, а скорее утрачивают свою красоту. Да и вообще, это не тот товар, который можно долго хранить дома, хотя о нашей дочке мне известно, что она во всем вела себя только наичестнейшим образом. Знаю я, что приданое для нее вы давно приготовили, теперь найдем ей подходящего мужа».
Мессер Антонио согласился, что хорошо было бы отдать дочку замуж, и очень хвалил ее прав за то, что печалилась она только в душе, не обращаясь с просьбами ни к нему, ни к матери. И вскоре он начал договариваться о свадьбе с одним из графов Лодроне.
Когда переговоры подходили к концу, мать, рассчитывая доставить дочери большое удовольствие, сказала: «Радуйся теперь, доченька, через несколько дней ты достойно выйдешь замуж за благороднейшего человека, и тогда исчезнет причина твоих слез, о которой, хотя ты и не пожелала мне признаться, я с божьей помощью догадалась. И вот мы вместе с твоим отцом позаботились о тебе, так что ты останешься довольна». Услышав такие слова, дочь по-прежнему не смогла сдержать слез. На что мать ей сказала: «Уж не думаешь ли ты, что я тебя обманываю? Не пройдет и недели, как ты станешь женой молодого отпрыска из дома Лодроне». Тогда дочь разрыдалась еще пуще, а мать, лаская се, сказала: «Неужто, доченька моя, ты не довольна?» На что та ответила: «Нет, матушка, я нисколько не довольна». Тогда мать добавила: «Чего бы ты хотела? Скажи мне, ведь я на все для тебя готова». А дочь ответила: «Я хотела бы умереть, ничего другого мне не надо».
По этим словам мадонна Джованна (так звали мать), женщина мудрая, поняла, что дочь ее сжигал какой-то любовный огонь, и, сказав ей несколько слов, оставила ее. Вечером, когда пришел муж, она рассказала ему, что дочь ей в слезах заявила. Он остался этим очень недоволен и подумал, что, прежде чем договариваться окончательно о свадьбе, стоило бы, во избежание какого-нибудь посрамления, получше узнать, что думает сама дочь обо всем этом. И однажды, призвав ее к себе, сказал: «Джульетта (таково было имя дочери), я собираюсь выдать тебя замуж за благородного человека, довольна ли ты этим?» Дочь, выслушав отца, помолчала, а потом ответила: «Отец мой, нет, никогда не буду я этим довольна». — «Как же так, уж не собралась ли ты пойти в монахини?» — спросил он. А она: «Мессер, я сама не знаю», — и с этими словами слезы хлынули из ее глаз. На это отец сказал: «Теперь я знаю, что ты просто не хочешь. Будь спокойна, я решил, что ты выйдешь замуж за одного из графов Лодроне, и так оно и будет». Но дочь, проливая горькие слезы, ответила: «Этого никогда не будет». Тогда мессер Антонио, очень рассерженный, пригрозил ее побить, если она осмелится еще раз противиться его воле и не признается, в чем причина ее слез. Однако он не добился от дочери ничего, кроме рыданий, и в большом гневе ушел прочь вместе с мадонной Джованной, так и не поняв, что было на душе у их дочери.
Джульетта рассказала обо всем, что ей сказала мать, слуге своего отца по имени Пьетро, который знал о ее любви и в его присутствии поклялась, что скорее добровольно выпьет яд, нежели пойдет замуж (даже если бы это и было вообще возможно) за кого-либо другого, кроме Ромео. Пьетро, выполняя полученный им наказ, подробно обо всем сообщил через монаха для Ромео, который написал Джульетте, что ни под каким видом не согласен на ее замужество, но и на то, чтобы она раскрыла тайну их любви, и обещал через неделю или десять дней наверняка найти способ увезти ее из отцовского дома.
Итак, ни мессер Антонио, ни монна Джованна не смогли ни лестью, ни угрозами добиться от дочери признания в том, по какой причине не хотела она идти замуж; не смогли они и другими путями разузнать, в кого же она влюблена. А монна Джованна даже ей говорила: «Знаешь что, дочка моя дорогая, перестань плакать, какого захочешь мужа, такого тебе и дадим, пусть даже из рода Монтекки, хоть я и уверена, что за такого ты и сама пойти не захочешь». Поскольку Джульетта на все это отвечала лишь вздохами и слезами, то они, питая все более серьезные подозрения, решили как можно скорее сыграть ее свадьбу с графом Лодроне, о чем уже было договорено.
Когда Джульетта услышала об этом, она испытала невыносимое страдание и, не зная, на что решиться, тысячу раз на дню призывала смерть.
И вот надумала она поделиться своим горем с братом Лоренцо, как с человеком, на которого, после Ромео, она более всего могла положиться и о котором слыхала от своего возлюбленного, что он умеет творить великие дела. Поэтому однажды сказала она монне Джованне: «Матушка, не удивляйтесь тому, что я не открыла вам, в чем причина моих слез; ведь я сама этого не ведаю, но только постоянно испытываю какую-то тоску, которая делает постылым для меня все на свете и даже самое мою жизнь. Я не только не могу вам или батюшке объяснить, что со мною творится, но и сама того не понимаю. Уж не происходит ли это из-за какого-то моего прежнего греха, о котором я позабыла. Поелику недавнее покаяние принесло мне большое облегчение, я хотела бы, с вашего позволения, покаяться еще раз, дабы на эту троицу, которая близится, вкусить утоление моих страданий через причастие святого тела господа нашего». Мадонна Джованна обрадовалась этому и дня два спустя отвезла дочь в монастырь Сан-Франческо, где привела к брату Лоренцо, сперва попросив его выведать на исповеди причину девичьих слез.
Как только Джульетта увидела, что мать отошла в сторону, она тут же печальным голосом поведала о всех своих горестях монаху и во имя любви и дружбы, которые, как она знала, связывали его с Ромео, умоляла оказать ей помощь в ее великой беде. На это монах сказал: «Что могу я, дочь моя, сделать, когда между твоим родом и родом твоего мужа царит такая вражда?» Опечаленная Джульетта ему ответила: «Отец мой, я знаю, что вам ведомы многие необычайные вещи и что вы можете помочь мне тысячью способами. Но если другого добра вы мне сделать не хотите, то помогите мне хотя бы в одном: слышала я, что мою свадьбу готовят в отцовском имении, расположенном в двух милях от города по дороге на Мантую, куда хотят меня отправить, чтобы было мне неповадно отказывать новому мужу. А как только я буду там, прибудет туда и тот, кто должен взять меня в жены. Дайте мне столько яда, чтобы он мог мгновенно избавить меня от моих мучений, а Ромео от позора; если же нет, я, к вящему моему сраму и его горю, сама заколюсь кинжалом».
Брат Лоренцо, уразумев, в каком она состоянии духа, и подумав, скольким он обязан Ромео и что тот, несомненно, станет ему врагом, если он в этом деле не поможет, так сказал ей: «Понимаешь, Джульетта, я исповедую половину людей этого города и пользуюсь у них доброй славой; ни одно завещание, ни одна мировая не совершается без моего участия. Поэтому я не хочу, даже за все золото мира, оказаться замешанным в каком-нибудь скандале и не хочу, чтобы знали, что я причастен к такому делу. И тем не менее, поскольку я люблю вас обоих, и тебя и Ромео, я постараюсь сделать то, что я не делал никогда ни для кого другого, но, по правде сказать, при одном условии: если ты мне обещаешь никогда имени моего не упоминать». На это молодая женщина ответила: «Отец, спокойно дайте мне этот яд, никто другой, кроме меня, никогда об этом ничего не узнает». А он ей в ответ: «Яда я тебе, дочь моя, не дам, было бы слишком большим грехом, если бы ты умерла в расцвете молодости и красоты. Но если у тебя хватит смелости сделать то, что я тебе скажу, я наверняка уверен, что соединю тебя с твоим Ромео. Ты знаешь, что фамильный склеп твоих Каппеллетти расположен на нашем кладбище, близ этого храма. Я дам тебе такой порошок, который ты должна выпить, и ты будешь целых двое суток или около того спать столь крепким сном, что никто, даже самый великий лекарь, не усомнится в том, что ты мертва. Ты будешь наверняка погребена в этом фамильном склепе, а когда настанет срок, я приду, вызволю тебя и сокрою в моей келье до тех пор, пока не настанет время отправиться в Мантую на капитул, который соберется там вскорости. Тогда я и доставлю тебя, переодетой в монашеское платье, к твоему супругу. Но скажи мне, не убоишься ли ты покойника — твоего двоюродного брата Тебальда, что с недавних пор лежит в этом склепе?» На это Джульетта с воодушевлением ответила: «Отец мой, я не побоюсь пройти и через ад, если таким путем я смогу достичь Ромео». — «Ну, что ж, — сказал он, — раз ты готова, я буду рад тебе помочь, но прежде чем ты это свершишь, тебе следует, как мне кажется, собственной рукой написать обо всем Ромео, дабы он не поверил слухам, что ты умерла, и не натворил от отчаяния безумных вещей; ведь я знаю, сколь сильно он тебя любит. Отсюда часто наши монахи ходят в Мантую, где он, как тебе известно, пребывает. Позаботься доставить мне письмо, а я уж пошлю его с верной оказией». Сказав так, добрый монах (без участия которого ни одно важное дело, как видно, к доброму концу не приходит), оставив Джульетту в исповедальне, пошел в свою келью и тотчас же вернулся со склянкой, наполненной порошком, сказав: «Возьми этот порошок, и, когда понадобится, не страшась ничего, выпей его с холодной водой часа в три или в четыре ночи; а к шести часам он начнет оказывать действие, и тогда наш план наверняка удастся. Не забудь только прислать мне письмо, которое ты должна написать Ромео, это очень важно».
Джульетта, взяв порошок, с легкой душой вернулась к матери и сказала ей: «Действительно, госпожа моя, брат Лоренцо — лучший исповедник на свете. Он так меня утешил, что я о моей прежней печали и думать забыла». Мадонна Джованна, довольная, что дочь ее больше не тоскует, ответила: «В час добрый, доченька, позаботься, чтобы и его всегда утешали наши милости, ведь монахи такие бедные». И, продолжая беседовать об этом, отправились они домой.
Сразу после исповеди Джульетта так повеселела, что мессер Антонио и мадонна Джованна оставили всякие подозрения на тот счет, что она влюблена, и решили, что она плакала просто по какому-то странному случаю. И они охотно оставили бы ее в покое, перестав повторять, что отдадут ее замуж, если бы сами не зашли так далеко в этом деле, что назад вернуться без ущерба для себя уже не могли. Поэтому, когда граф Лодроне пожелал, чтобы кто-нибудь из его родных повидал его невесту и поскольку мадонна Джованна отличалась слабым здоровьем, было решено, что дочь в сопровождении двух своих теток сама отбудет в названное имение своего отца недалеко от города. Она не сопротивлялась и отправилась в путь, по, прибыв туда, решила, что отец послал ее столь неожиданно, чтобы сразу отдать в руки второму мужу.
И так как она захватила с собою данный ей монахом порошок, она в первую же ночь в четыре часа позвала свою служанку, которая с пей вместе выросла и которую она почти сестрой считала, и попросила дать ей чашу холодной воды, сказав, что после ужина у нее пробудилась жажда, и, всыпав туда чудодейственный порошок, все содержимое выпила. Затем при служанке и при одной из теток, которая в тот момент тоже проснулась, сказала: «Если хватит у меня сил, отец мой наверняка не отдаст меня замуж против моей воли». Обе женщины, которые были сделаны из грубого теста, хотя и видели, как она выпила порошок, добавив его в воду якобы для свежести, и слышали ее слова, ничего не поняли и не заподозрили, а легли опять и заснули. В темноте Джульетта встала со своего ложа будто по нужде, надела сама все свои одежды, потом опять легла и, словно готовясь умереть, приняла приличествующую позу: сложила крест-накрест руки на прекрасной груди и стала ждать, когда питье проявит свою силу; и оно немногим более, чем через два часа, оказало действие, и она стала как мертвая.
Когда наступило утро и солнце уже было высоко, Джульетту нашли на постели в том виде, как выше описано; ее хотели разбудить, но не смогли, ибо она почти совсем похолодела. Тогда одна из ее теток и служанка вспомнили о воде и порошке, что она ночью выпила, и о словах, сказанных ею, и, увидев к тому же, что она нарядилась и приняла такую позу на постели, они без сомнений решили, что порошок этот — яд и что она умерла. Женщины принялись громко плакать и стенать, и громче других рыдала служанка, часто называя Джульетту по имени и причитая: «О госпожа моя, вот что значило: «Отец мой против моей воли меня замуж не отдаст!» Вы обманным путем получили от меня холодную воду, и я, несчастная, вашу жестокую смерть приготовила. О, горемычная я! На кого же я теперь сетую? На смерть или на самое себя? Увы, почему вы, умирая, не взяли с собою служанку, которую так любили при жизни? Как я жила при вас, так бы я и умерла вместе с вами! О госпожа, собственными руками подала я вам воду для того, чтобы вы нас покинули! Я одна и себя, и вас, и отца вашего, и мать одним махом убила!» Говоря так и упав на ложе Джульетты, обнимала она свою будто бы мертвую госпожу.
Мессер Антонио, будучи неподалеку и услышав крики, в страхе устремился в покои дочери. Увидев ее распростертой на ложе и узнав, что она ночью выпила и что сказала, он тоже решил, что она умерла, по для верности послал срочно в Верону за врачом, которого считали весьма ученым и многоопытным. Последний, прибыв на место, осмотрев и ощупав спящую, заявил, что уже целых шесть часов, как она от испитого яда с этой жизнью рассталась. Услышав такие слова, убитый печалью отец горько заплакал. Скорбная весть, переходя из уст в уста, вскоре достигла слуха несчастной матери, которая, побелев, упала как мертвая. Очнувшись, она с воплями, словно безумная, начала бить себя в грудь, призывая любимую дочь и оглашая небо жалобами: «Знаю, что ты умерла, дочь моя, единственная утеха моей старости! — восклицала она. — Как же ты могла так жестоко меня покинуть, не дав несчастной матери услышать твое последнее слово, закрыть твои прекрасные очи и обмыть твое драгоценное тело! Могла ли я ожидать от тебя такого? О милые женщины, собравшиеся здесь, помогите мне умереть! И если вам доступна жалость, пусть ваши руки, если такая услуга вам под силу, прикончат меня раньше, чем прикончит меня горе. А ты, отец наш небесный, порази меня здесь острой своей стрелою, дабы смерть пришла ко мне поскорее, как мне этого хочется, отними меня, ненавистную, у меня самой». Так, пока другие ее утешали, подняв и уложив на постель, она продолжала рыдать и сетовать.
В скором времени Джульетту забрали оттуда, где она находилась, и привезли в Верону, и там она после пышных и торжественных похорон, оплаканная всеми родичами и друзьями, была погребена, словно она и впрямь умерла, в названном склепе на кладбище Сан-Франческо.
Брат Лоренцо, отлучившийся тогда ненадолго из города по делам монастыря, дал письмо Джульетты, которое надо было отослать Ромео, одному монаху, отправлявшемуся в Мантую. Прибыв в этот город, тот два или три раза заходил к Ромео, но, к великому своему огорчению, не заставал его дома. Не желая отдавать письмо никому другому, кроме самого Ромео, монах оставил его у себя. А тем временем Пьетро, уверенный, что госпожа его умерла и придя в отчаяние от того, что не застал брата Лоренцо в Вероне, решил сам доставить Ромео горестное известие о смерти его подруги. Поэтому, добравшись к вечеру из города в имение своих господ, он отправился оттуда ночью в Мантую и так быстро шел, что к утру туда поспел. Разыскав Ромео, который так и не получил от монаха письма своей подруги, Пьетро со слезами рассказал ему, что видел Джульетту мертвой и присутствовал при ее погребении, и передал ему все, что до этого она делала и говорила. Когда Ромео услышал все это, он побледнел как смерть и, выхватив шпагу, пытался пронзить себе грудь и покончить свою жизнь. Но его удержали, и он сказал: «Жизнь моя теперь продлиться не может, с тех пор как самая жизнь умерла. О моя Джульетта, я единственная причина твоей смерти, потому что я не увез тебя от твоего отца, как обещал. Чтобы не покинуть меня, ты пожелала умереть! Неужели теперь я останусь жить лишь из страха смерти? Никогда этого не будет!» И он снял с себя и отдал Пьетро свою одежду коричневого сукна, сказав: «Ступай теперь, Пьетро». Когда тот ушел, Ромео заперся у себя один, и любые несчастья на свете казались ему менее горестными, чем жизнь. Он долго думал о том, как ему теперь быть, и наконец, переодевшись в крестьянское рубище и спрятав в рукав склянку со змеиным ядом, что он на всякий случай давно хранил у себя в одном из ящиков, побрел в сторону Вероны, готовый либо лишиться жизни от руки правосудия, если будет обнаружен, либо, замкнувшись со своей подругой в склепе, который был ему хорошо известен, возле нее умереть.
Из двух горестных исходов ему был уготован, очевидно, второй, ибо вечером следующего дня после похорон его подруги, он, никем не узнанный, уже был в Вероне и, дождавшись ночи и убедившись, что все вокруг затихло, пробрался к монастырю миноритов, где находился склеп. Это был тот храм вблизи крепостных строений, где монахи тогда пребывали, но позднее, неизвестно почему, они их покинули, хотя там бывал сам святой Франческо, и поселились близ Сан-Дзено, на месте, что именуется ныне Сан-Бернардино. У стен храма с внешней стороны тогда стояли каменные склепы, как это можно часто увидеть в других местах близ церквей. Один из них был древней усыпальницей всего рода Каппеллетти, и там лежала прекрасная Джульетта. Приблизившись к склепу (а было тогда, наверное, часа четыре утра), Ромео, юноша очень сильный, с трудом поднял плиту и кольями, что он с собой захватил, подпер ее таким образом, чтобы она сама собою не захлопнулась, спустился внутрь и тогда закрыл за собою вход. Несчастный юноша принес с собою фонарь с заслонкой, чтобы поглядеть в последний раз на свою подругу. Едва оказавшись в склепе, он открыл и поднял фонарь и увидел, что его милая Джульетта лежит среди костей и истлевших одежд мертвецов. И тогда, проливая обильные слезы, начал так: «Очи, вы были моим очам, пока небо мне благоволило, яркими светочами! Уста, мною тысячу раз нежно целованные! Прекрасная грудь, с радостью дававшая отдохновение моему сердцу! Зачем обрел я вас слепыми, немыми и хладными? Зачем видеть, говорить и жить мне без вас? О горестная моя супруга, куда приведена ты Амуром! Неужто ему угодно, чтобы в этом узилище угасли и упокоились мы оба — несчастные влюбленные? Увы, не то сулила мне надежда, не то сулила мне страсть, какую зажгла во мне твоя любовь! О злосчастная моя жизнь, неужто ты мне еще нужна!». И, восклицая так, он целовал ей глаза, уста и грудь, все сильнее обливаясь слезами. «О стены, что вздымаетесь над моей головой, — продолжал он, — отчего вы не обрушитесь и не оборвете мою жизнь? Раз каждый свободно может взять свою смерть, то подло хотеть ее, но не брать». И тут он отыскал и вынул склянку с ядовитой жидкостью, которая спрятана была в рукаве, и сказал: «Я не знаю, какая судьба привела меня умирать среди останков моих врагов, мною убитых, и в их усыпальнице. Но если, о моя душа, сладко умирать подле любимой, то умрем теперь!» И, поднеся к губам горькую жидкость, всю ее принял в свою утробу. Затем, заключив любимую в объятия и крепко ее сжимая, говорил так: «О прекрасное тело, предел всех моих желаний! Если, после расставания с душой, ты еще сохраняешь в себе хоть каплю чувства, если душа твоя, расставшись с твоим телом, видит мою горькую смерть, молю вас быть милостивыми ко мне: я не мог жить открыто рядом с тобою в радости, теперь я тайно умираю подле тебя в горести и страдании». Так, продолжая крепко сжимать ее в объятиях, он ожидал смерти.
Но вот наступил срок, когда теплые токи тела должны были преодолеть леденящую и гнетущую силу порошка, и Джульетта должна была проснуться. Тогда, стиснутая и сжатая объятиями Ромео, она очнулась в его руках и, недовольная, глубоко вздохнув, сказала: «Ах, где я? Кто меня обнимает? Несчастная я, кто меня целует?» Думая, что это брат Лоренцо, она воскликнула: «Уж так ли вы, отец мой, храните верность Ромео? Так ли вы меня с ним соединили!» Ромео, увидев, что его подруга ожила, сильно удивился и, возможно, вспомнив Пигмалиона, сказал: «Вы не узнаете меня, милая моя подруга? Разве вы не видите, что это я, ваш супруг, который, чтобы умереть рядом с вами, тайно, без спутников, пришел из Мантуи?» Джульетта, видя, что она находится в погребальном склепе, в объятиях человека, который называет себя Ромео, едва не лишилась рассудка, но, притронувшись к нему и много раз взглянув ему в лицо, расцеловала его тысячу раз и сказала: «Как глупо было приходить и с таким риском проникать сюда! Разве вам мало было узнать из моих писем, что я с помощью брата Лоренцо должна была, пройдя через мнимую смерть, вскоре соединиться с вами?» Тогда несчастный юноша, поняв свою великую ошибку, начал так: «О, горестная моя судьба! О, несчастный Ромео! О, самый злосчастный среди всех любовников! Ваших писем об этом я не получил». И он рассказал ей, как Пьетро выдал ему ее мнимую смерть за истинную и как он, считая, что она умерла и чтобы не покидать ее, принял здесь, рядом с нею, яд, чья страшная сила, как он уже чувствовал, начинала посылать смерть во все его члены. Бедная женщина, услышав такие слова, была убита горем, и ей ничего не оставалось, как только бить себя в безвинную грудь и рвать на себе волосы. Ромео уже упал навзничь, и она его все время целовала, обильно орошая слезами. И, став бледнее праха, вся дрожа, она сказала: «Неужели при мне и по моей вине, господин мой, суждено вам умереть? И неужели небо допустит, чтобы я еще жила после вас, хотя бы недолго? Горе мне! Если б могла я отдать вам свою жизнь, а сама — умереть!» А юноша скорбным голосом ответил: «Если вы, надежда души моей, когда-либо дорожили моей любовью и верностью, молю вас, не отчаивайтесь после моей смерти, хотя бы для того только, чтобы думать о том, кто, пылая к вашей красе любовью, здесь перед вашим прекрасным взором умирает». А подруга ему в ответ: «Если вы умираете из-за моей мнимой смерти, что же мне делать из-за вашей истинной! Я жалею лишь о том, что мне не суждено умереть раньше вас, я ненавижу себя за то, что еще жива, но я твердо верю, что пройдет немного времени, и я, — ныне причина вашей гибели, — стану вашей спутницей в смерти». И, произнеся с великим усилием эти слова, она лишилась чувств, а потом, придя в себя, стала прекрасными устами жадно пить последнее дыхание возлюбленного, который быстрыми шагами приближался к своему концу.
Брат Лоренцо, памятуя о том, когда и при каких обстоятельствах Джульетта выпила порошок и была погребена как умершая и что наступит время, когда этот порошок перестанет оказывать свое действие, направился к склепу с одним из верных своих товарищей примерно за час до рассвета. Прибыв туда и услышав, что она плачет и стонет, он заглянул сквозь трещину в плите, заметил внутри свет и, изумленный, подумал, что, когда туда принесли Джульетту, там забыли фонарь, а что сейчас, очнувшись, она сетует и плачет либо от страха перед мертвецом, либо боясь остаться там запертой навсегда. С помощью товарища он поспешно открыл гробницу и увидел, что Джульетта, растрепанная и бледная, сидит на погребальном ложе, прижимая к груди уже почти безжизненное тело возлюбленного. Тогда монах воскликнул: «Неужели ты боялась, дочь моя, что я оставлю тебя здесь умирать?» На что она, услышав подобные слова монаха и заливаясь слезами, сказала: «Нет, теперь я боюсь другого — как бы вы не извлекли меня отсюда живой. Ради бога, закройте гробницу и уходите, оставьте меня умирать! Или дайте мне кинжал, чтобы, пронзив себе грудь, я избавилась от мучений. Отец мой, отец мой! Так-то вы отправили мое письмо, так-то защитили паше супружество, так-то соединили меня с Ромео! Видите, он у меня на руках бездыханный». И она, показав на Ромео, рассказала, как все произошло. Услышав об этом, брат Лоренцо чуть от горя не обезумел и, глядя на юношу, расстававшегося с этой жизнью, чтобы перейти в другую, взмолился: «О Ромео, какой бедою отнят ты у меня! Поговори со мною, посмотри на меня! О Ромео, видишь свою дорогую Джульетту — она просит, чтобы ты посмотрел на нее! Почему ты не отвечаешь той, что держит тебя на коленях!» При звуке любимого имени Ромео приоткрыл глаза, в которых уже стояла близкая смерть, и, взглянув на подругу, вновь смежил веки, и вскоре, когда смерть разлилась по всем его членам, тяжко вздохнув, скончался.
Когда злосчастный любовник умер так, как мною рассказало, и когда после стольких пролитых слез стало светать, монах спросил: «Что же ты будешь делать, Джульетта?» Она печально ответила: «Я умру здесь». — «Дочь моя, не говори так, — возразил он, — выйди отсюда, и, хотя я сейчас не знаю, что делать и что сказать, ты всегда сможешь заточить себя в святой монастырь и там, если надобно, постоянно молить бога за себя и за умершего твоего супруга». Джульетта на это ответила: «Отец мой, ничего иного не прошу я от вас, кроме одной милости, которую вы должны оказать мне из любви к его дорогой памяти (и она указала на Ромео), — ничего никому не сообщать о нашей смерти, дабы наши тела могли остаться навсегда вместе в этой гробнице; а если случайно об этом станет известно, то прошу вас ради той же любви и ради нас обоих умолить несчастных родителей наших благосклонно позволить нам лежать в одной могиле, не разлучая тех, кого любовь сожгла одним огнем и вместе привела к смерти». И, склонившись над распростертым телом Ромео, она положила его голову на подушку, принесенную вместе с нею в склеп, плотнее закрыла ему глаза и оросила слезами его хладное лицо, воскликнув: «Как мне быть теперь без тебя, господин мой? Что я могу теперь сделать для тебя, как не последовать за тобою дорогой смерти? Нет, ничего другого мне не осталось! Только смерть была способна разлучить меня с тобой, теперь и она сделать этого не сможет!» И, сказав так, с великой болью в душе, с мыслью об утрате милого возлюбленного, она решила больше не жить, глубоко вздохнула и на время затаила в себе дыхание, а затем исторгла его с громким криком и упала замертво на бездыханное тело Ромео.
Когда брат Лоренцо увидел, что Джульетта умерла, он, исполненый великой жалости, долго оставался безутешен и с сердцем, пронзенным скорбью, горько плакал вместе с товарищем над мертвыми любовниками. Неожиданно стража Подесты, преследуя какого-то вора, нагрянула к склепу и, услышав плач в гробнице, откуда проникал свет фонаря, всем скопом бросилась туда. Окружив монахов, стражники закричали: «Что это вы здесь делаете, отцы святые, в такой ранний час? Уж не собрались ли вы осквернить эту могилу?» Брат Лоренцо, узрев стражу, предпочел бы скорее умереть, чем оказаться ею застигнутым. Но им он сказал: «Ни один из вас не сможет ко мне приблизиться, я не из тех, кого вы смеете тронуть[85]. И если нам что надо, спрашивайте издалека». Тогда начальник стражи сказал: «Мы хотим знать, зачем вы открыли гробницу Каппеллетти, куда лишь позавчера положили их молодую наследницу. И если бы я не знал вас, брат Лоренцо, как человека добрых нравов, я бы сказал, что вы пришли ограбить покойников». Монахи на это заявили, погасив фонарь: «Что мы тут делали, ты не узнаешь, знать это тебе не положено». А начальник ответил: «Ладно, но я доложу государю». Тогда брат Лоренцо, осмелев от отчаяния, произнес: «Доложи, если желаешь», — и, закрыв гробницу, вошел со своим товарищем в храм.
Уже почти рассвело, когда монахи отделались от стражников. Но сразу же нашелся человек, который поведал обо всем, что произошло с двумя монахами, одному из Каппеллетти. А эти последние, зная к тому же о дружбе брата Лоренцо с Ромео, устремились к государю, прося его силой, если не удастся иначе, выведать у монаха, что он искал в гробнице. Тогда государь, расставив стражу так, чтобы монах не сбежал, послал за ним и потребовал его к себе. И когда его привели, государь спросил: «Что вы искали нынче утром в усыпальнице Каппеллетти? Скажите, нам непременно требуется это знать». На что монах ответил: «Государь мой, я охотно скажу об этом вашей милости. Я был исповедником дочери мессера Антонио Каппеллетти, которая недавно столь странным образом скончалась, и, поскольку я очень любил ее как духовную дочь, а на похоронах ее присутствовать не смог, я пошел туда прочитать над нею молитвы, те, что, если их повторить девять раз, могут избавить душу от мук чистилища. Об этом многим людям неизвестно, а другие этого не понимают, поэтому глупцы толкуют, будто я пошел туда грабить покойников. Не знаю, такой ли уж я злодей, чтобы идти на подобные дела. Мне вполне хватает этой бедной рясы и веревки, я ни гроша не дал бы за все сокровища живых; на что же мне одежда покойников! Зло творит тот, кто чернит меня таким образом».
Государь был уже готов ему поверить, если бы кое-кто из монахов, питавших недобрые чувства к брату Лоренцо, узнав, что его застигли в усыпальнице, не поспешили туда проникнуть и, открыв ее, не обнаружили внутри тело мертвого любовника. Они сразу же бросились с громкими криками к государю, который еще беседовал с монахом, и сообщили ему, что в гробнице Каппеллетти, там, где прошлой ночью застали монаха, лежит мертвый Ромео Монтекки. Это показалось настолько невероятным, что все пришли в величайшее изумление. И тогда брат Лоренцо, увидя, что он более не в состоянии скрывать то, что он хотел было утаить, пал на колени перед государем, воскликнув: «Простите, государь мой, что, отвечая на ваш вопрос, я солгал вашей милости. Я сделал так не по злобе и не из корысти, а дабы сохранить верность слову, данному мною двум несчастным погибшим влюбленным». И он вынужден был в присутствии множества собравшихся рассказать всю историю событий.
Бартоломео делла Скала, выслушав ее, от великой жалости едва не заплакал и, пожелав сам увидеть умерших, отправился к усыпальнице в сопровождении огромной свиты. Он приказал вынести любовников, расстелить два ковра и положить на них оба тела в церкви Сан-Франческо. В церковь эту пришли родители умерших и горько плакали над телами своих детей. Сломленные двойной скорбью, они, хотя и были врагами, обняли друг друга, и таким образом из-за жалостной и скорбной кончины двух любовников прекратилась долгая вражда между их домами, которую до этого не могли пресечь ни мольбы друзей, ни угрозы государя, пи жестокие утраты, ни само время. Для могилы любовников заказали прекрасный памятник, на котором высекли слова о причине их гибели, и там их обоих похоронили после церемонии, совершенной с величайшей торжественностью в. присутствии оплакавших их родителей, всех жителей города и государя.
Таков жалостный конец любви Ромео и Джульетты, как описано мною и как мне поведал Перегрино из Вероны.
Не слишком много лет тому назад жил во Флоренции искуснейший лекарь, звали которого Минго. Будучи человеком пожилым и страдающим подагрой, он не выходил из дома и развлечения ради выписывал иногда своим согражданам разного рода рецепты. Случилось, что у кума его по имени Сальвестро Бисдомини занемогла жена. Тот обращался к великому множеству врачей, и ни один из них не сумел не то что исцелить его жену, но даже распознать, что за хворь на нее напала. Тогда он пошел к своему куму лекарю Минго и подробно рассказал ему о болезни жены; к сказанному же добавил, что все пользовавшие жену доктора нашли ее совсем плохою. На что опечаленный лекарь ответствовал куму, что весьма ему соболезнует и что тому надобно проявить терпение, ибо скорбь по умершей жене подобна ушибу локтя: больно очень, по боль эта быстро проходит; посему пусть-де он не впадает в уныние, поелику горевать ему придется недолго. Но Сальвестро, любя жену сверх всякой меры и дорожа ею, умолял маэстро Минго прописать ей какое-нибудь лекарство. Тогда врач сказал:
— Будь у меня возможность осмотреть ее, какое-либо средство мы как-нибудь изыскали бы. Ну да ладно, доставь мне завтра утром ее мочу, и коли я увижу, что смогу ей помочь, то от долга своего не уклонюсь.
После этого он попросил Сальвестро еще раз рассказать о болезни во всех подробностях и, хорошенько его расспросив, сказал куму, что, поскольку теперь январь на исходе, моча его жены должна быть десятичасовой давности и чтобы он принес ее на следующее же утро. Сальвестро рассыпался в благодарностях и довольный вернулся домой.
Тем же вечером, отужинав, он сказал жене, какого рода анализ ему надобно поутру отнести куму, и дал ей понять, что моча должна быть десятичасовой давности. Женщина, которой очень хотелось поправиться, весьма тому обрадовалась. Потому Сальвестро наказал молодой служанке, девушке лет двадцати двух или около того, не зевать и не упустить положенного срока. На сей предмет он вручил ей часы со звоном и велел, как только они зазвонят и жена его первый раз помочится, бережно слить мочу в горшок. Затем он ушел в другую комнату спать, оставив служанку бодрствовать подле жены, с тем, чтобы, если той что-нибудь понадобится, девушка, как то не раз случалось, незамедлительно оказала ей требуемую услугу.
Наступило установленное время, часы должным образом отзвонили, служанка, — а звали ее Сандра, — которая всю ночь не смыкала глаз, дала хозяйке знать, что пора помочиться: затем она аккуратно слила мочу в горшок, поставила горшок впритык к ларю и завалилась спать на свое ветхое ложе. Когда забрезжило утро, Сандра проворно вскочила и, дабы отдать хозяину мочу сразу, как тот ее потребует, поспешила туда, где ею был оставлен горшок, но увидела, что, неизвестно уж как, кошка ли его опрокинула или мыши, а только вся моча из горшка пролилась. Это ее сильно расстроило и напугало. Не зная, чем оправдаться, боясь Сальвестро, который был человеком вспыльчивым и довольно-таки крутым, она задумала, дабы отвести от себя хулу, а возможно, и побои, подменить хозяйкину мочу своею и, постаравшись хорошенько, нацедила полгоршка. Спустя какое-то время Сальвестро спросил у нее мочу жены, и она, как задумала, отдала ему горшок со своею мочой, а не с мочой больной хозяйки. Тот, ни о чем не подозревая, прикрыл горшок плащом и полетел к своему куму-доктору, который, взглянув на мочу, изумился и удивленно сказал Сальвестро:
— Не нахожу, чтобы она была чем-нибудь больна. На что Сальвестро возразил:
— Быть того не может; бедняжка не в силах приподняться с постели.
Врач, не обнаруживая в моче признаков болезни, заявил куму, попутно разглагольствуя о медицине и ссылаясь на авторитет Авиценны[87], что ему необходимо к завтрашнему утру получить еще раз мочу на анализ. После чего Сальвестро отправился по своим делам, оставив лекаря в немалом недоумении.
Наступил вечер. Сальвестро вернулся домой, поужинал, отдал служанке те же самые распоряжения, что и накануне, и ушел спать. В назначенное время часы зазвонили, хозяйка попросилась помочиться, после чего Сандра, припрятав горшок, удалилась спать. Проснувшись рано утром, она поразмышляла о случившемся, и на нее напал страх, как бы врач, если хозяин на сей раз принесет ему мочу своей больной жены, не вывел ее на чистую воду. Она сильно раскаивалась в содеянном, но боялась, что разгневанный Сальвестро заставит ее признаться в том, что она натворила, а затем выгонит из дому или задаст ей сильную взбучку. Поэтому она сочла за лучшее вылить содержимое горшка и написать в него еще раз. Проворно вскочив с постели, она так и поступила.
Была названная Сандра родом из Казентино[88] и, как вам известно, годов двадцати двух; невысокая, но плотная, ядреная и чернявая; кожа у нее была свежая и гладкая, а лицо — румяное, пышущее здоровьем; глаза большущие, блестящие, чуть-чуть навыкате, казалось, будто они так и мечут искры и вот-вот выскочат из орбит.
Словом, гречиха сия созрела для обмолота. Такая кобылка, доложу я вам, вытащит из любой грязи.
В положенный час Сальвестро спросил горшок, получил его от служанки и отнес к врачу. На сей раз тот поразился еще больше прежнего и принялся внимательно разглядывать мочу со всех сторон; однако, не обнаружив в ней ничего, кроме признаков великой пылкости, спросил у Сальвестро с улыбкой:
— Скажи-ка мне, кум, по совести, сколько времени вы с женой не занимались супружескими делами?
— Нашли время смеяться, — ответил Сальвестро, полагая, что лекарь намерен над ним подшутить. Но так как врач снова спросил его о том же самом, сказал, что месяца два, а то и больше.
— Недурно, — произнес врач и, немного поразмыслив, выразил желание в третий раз взглянуть на мочу. — Поздравляю тебя, кум, — сказал он Сальвестро. — Думается, я установил, в чем болезнь моей кумы; поэтому надеюсь скоро и без большого труда поставить ее на ноги. Приходи ко мне завтра утром опять с мочой, и я растолкую тебе, что надобно делать.
Сальвестро ушел домой повеселевший, неся жене добрую весть. Радостно, с нетерпением ждал он следующего дня, чтобы узнать, каким образом сможет вернуть здоровье своей дражайшей супруге.
В тот вечер, поужинав, как обычно, он посидел немного подле жены, ободряя и утешая ее, а затем, сделав служанке те же самые распоряжения, отправился по заведенному обычаю почивать в соседнюю комнату. Сандра, не чая, как избежать скандала, решила, что семь бед один ответ и что коль уж она два раза совершила один и тот же проступок, то совершит его и в третий. Поэтому поутру она опять дала Сальвестро свою мочу вместо хозяйкиной. А тот, поспешая как мог, отнес ее к доктору. Врач посмотрел мочу и, увидав, что она опять чистая и незамутненная, обернулся к Сальвестро и сказал ему, улыбаясь:
— Подойди-ка сюда, куманек. Тебе надобно, коли ты в самом деле желаешь, чтобы жена твоя стала здорова, переспать с ней, ибо я не нахожу у нее никакой другой болезни, кроме чрезмерной пылкости. Нет иного средства или способа вылечить ее, как порезвиться с ней по-супружески. И сделать сие я советую тебе незамедлительно. Поднатужься и обслужи жену покрепче. Но учти, если ей и это не поможет, то она обречена на смерть.
Сальвестро, твердо веря каждому слову врача, обещал сделать все как надобно и, благословляя доктора, принялся с величайшим нетерпением ждать ночи, в которую ему предстояло излечить жену и вернуть ей утраченные силы.
Наконец наступил вечер. Сальвестро, приказавший приготовить роскошный ужин, пожелал потрапезовать подле супруги. К ее постели приставили небольшой столик, и он вместе с другом, человеком приятным и остроумным, весело поужинал, ни на минуту не переставая шутить и балагурить. Когда же ужин подошел к концу, Сальвестро попрощался со своим другом и сказал служанке, чтобы та шла спать в свою комнату; после чего, оставшись один, начал в присутствии жены раздеваться, сопровождая свои действия смехом и прибаутками. Жена, столь же изумленная, сколь и напуганная, ждала, чем все это кончится, не понимая, чего ему надобно. Он же, оказавшись в чем мать родила, возлег с ней рядом и принялся ее ласкать, тискать, обнимать и целовать. Ошеломленная женщина восклицала:
— Ой, ой! Сальвестро, что это значит? Да вы с ума сошли? Что вы хотите делать?
А тот знай себе твердит:
— Ничего! Не бойся, глупенькая! Я уж постараюсь тебя вылечить! — С таковыми словами он собирался было на нее взгромоздиться, но тут она завопила:
— Негодяй! Вы что, таким манером убить меня задумали? Не терпится вам, пока болезнь меня сама доконает? Хотите ускорить мою кончину столь странным способом?
— Что ты! — возразил Сальвестро. — Я пытаюсь поддержать в тебе жизнь, душечка ты моя ненаглядная. Таково лекарство от твоей хвори. Его прописал тебе наш кум Минго, а ты ведь знаешь, что нет доктора его лучше и опытнее. Поэтому молчи и не рыпайся. Лекарство твое теперь я держу в своих руках! Приготовься принять его, моя сладость, и ты встанешь с постели совсем здоровой.
Тем не менее женщина продолжала кричать и сопротивляться, не переставая при этом всячески ругать и поносить своего супруга. Но, будучи очень слабой, она в конце концов уступила силе и уговорам мужа, так что святое бракосочетание в конце концов состоялось. Женщина, решившая поначалу лежать неподвижно, словно мраморная статуя, не удержалась потом от некоторых телодвижений, и ей понравилось то, как муж обнимал ее и каким образом он, по его уверениям, совал в нее сие лекарство. Она вдруг ощутила, что у нее исчезли все недуги: мучительная лихорадка, головная боль, слабость и ломота в суставах, и что ей стало вдруг совсем легко, словно вместе с тем, что изошло из нее, вышли все недомогания и вся хворь.
Закончив первую схватку, супруги некоторое время отдыхали и нежились в постели. Сальвестро, памятуя о том, что сказал ему Минго, приготовился для следующей атаки, после которой прошло немного времени и он в третий раз пошел на штурм. Затем, усталые, они погрузились в глубокий сон. Женщина, которая до этого в течение двадцати дней глаз не сомкнула, уснула как убитая и проспала восемь часов кряду, она спала бы и дольше, если бы муж ласками не вынудил ее к новой схватке, происшедшей на сей раз при свете дня. Потом она опять заснула и спала вплоть до трех часов.
Сальвестро, встав, принес ей в постель, словно она была роженица, множество вкусных яств и вино Треббиано. Она с удовольствием принялась за еду и съела в это утро больше, нежели за всю предшествующую неделю. Несказанно всем этим обрадованный, Сальвестро зашел к врачу и рассказал ему все, как было, подробно и обстоятельно. Врач остался весьма доволен и сказал, что следует продолжить курс лечения.
Закончив, после посещения врача, кой-какие свои дела в городе, Сальвестро через час вернулся домой к обеду. Он приказал зажарить большого, жирного каплуна и вместе со своей дорогой супругой умял его за обе щеки. Жена его, вновь обретя аппетит, ела теперь за двоих, а пила за четверых. Вечером же, после сытного ужина, она отправилась с мужем в постель, но уже не со скорбию и страхом, а довольная и веселая, твердо уверовав в целительность прописанного ей лекарства.
Сальвестро лечил жену все тем же снадобьем, всячески ублажал ее и не давал ей впасть в меланхолию. Через несколько дней жена его начала ходить, и не прошло двух недель, как она снова стала свежей и цветущей, намного здоровей и пригожей, чем раньше. За это она вместе с мужем благодарила бога и благословляла искусство и глубокие познания своего кума-доктора, вернувшего ее чуть ли не с того света и давшего ей желанное здоровье с помощью столь сладостного врачевания.
Между тем наступило время карнавала, и вот однажды вечером, когда Сальвестро и его супруга, отужинав, веселые и довольные сидели у камелька, болтая о разных пустяках и обмениваясь шуточками, Сандра, уразумев, что подмена мочи обернулась для ее хозяйки спасением, а для хозяина немалым утешением, поведала им, как было дело. Те сильно подивились ее рассказу и потом, вспоминая его, хохотали весь вечер так, что чуть животики не надорвали. Едва дождавшись следующего дня, Сальвестро побежал к врачу и рассказал ему обо всем по порядку. Лекарь Минго был ошеломлен. Ничего не понимая, выслушал он рассказ кума; ведь, сам того не желая, он прописал куме средство, которое должно было бы ей сильно повредить, но вместо этого оно оказалось целебным и стало для нее неиссякаемым источником здоровья. Лекарь тоже немало смеялся и всем приходившим к нему рассказывал об этой веселой истории как о чуде. В свои же книги он записал, что, при всех болезнях женщин в возрасте от шестнадцати до шестидесяти лет, когда нет другого лекарства и доктора не знают, что предпринять, весьма надежным средством, вылечивающим в самый короткий срок, являются любовные забавы, и привел вышерассказанное происшествие как случай из собственной врачебной практики. А Сальвестро, своему куму, названный лекарь дал понять, что служанка, оказавшаяся причиной всех его благ, испытывает величайшую нужду в муже и что без оного на нее легко может напасть какая-нибудь необычная и опасная хвороба. Поэтому Сальвестро, дабы расплатиться за оказанное ему благодеяние, выдал Сандру замуж за сына своего работника из Сан-Мартин-ла-Пальма[89], который, смею вас уверить, был мастак выколачивать пыль из матрасов.
Вряд ли стоит говорить вам, — наверное, вы это и сами прекрасно знаете, — что из всех людей на свете, когда-либо прославившихся, не только выдающихся и достойных, но и поборников и покровителей чужих достоинств, поистине таковым, а быть может, и первым среди них, был Лоренцо Медичи-старший. Так вот, в его время проживал во Флоренции один врач по прозванию Маненте, то есть Толстосум, из прихода Сан-Стефано, лекарь и хирург, обязанный своим искусством более практике, нежели науке, человек поистине весьма приятный и остроумный, однако столь самонадеянный и дерзкий, что второго такого было трудно сыскать. Помимо всего, он питал чрезмерную слабость к вину и вечно всем твердил, что он большой знаток вин и мастак выпить; очень часто он являлся без всякого приглашения обедать и ужинать к Великолепному и так ему наскучил и опостылил своей назойливостью и бесцеремонностью, что тот не в силах был больше его выносить и однажды решил сыграть с ним шутку, да такую, чтобы он как можно дольше, а может, и вообще никогда больше в жизни не показывался ему на глаза.
И вот однажды вечером, прослышав, что названный лекарь Маненте так накачался вином в харчевне «Обезьяна», что на ногах не стоит, а хозяин, которому пора уже было закрывать свое заведение, велел слугам вынести его вон и положить на скамью возле одной из тех лавок шерстянщиков, что у церкви Сан-Мартино, где он, покинутый собутыльниками, уснул как сурок да так захрапел, что его и пушкой не разбудишь, Лоренцо решил, что настал весьма удобный момент для осуществления его плана. И, не показывая вида, что он что-то замышляет и обдумывает, Лоренцо для отвода глаз занялся разными другими делами, а потом, притворившись, что собирается отойти ко сну, ибо час был уже поздний, хотя по натуре своей он спал совсем мало и никогда не ложился в постель ранее полуночи, — он велел потихоньку позвать двух своих самых верных стремянных и приказал им выполнить то, что задумал. Надвинув капюшоны, они вышли из дворца никем не узнанные и отправились исполнять приказ Лоренцо в квартал Сан-Мартино, где и нашли уснувшего при вышеописанных обстоятельствах маэстро Маненте; они его приподняли, — ребята они были дюжие и не слишком-то с ним нянчились, — вытянули во весь рост на земле и завязали ему рот, а потом поставили на ноги и поволокли за собой. Лекарь, находясь во власти Морфея в не меньшей степени, чем под действием винных паров, чувствуя, что его куда-то волокут, подумал, что это наверняка слуги трактирщика либо его собственные друзья-товарищи, которые решили помочь ему добраться до дому; и вот так, сонный и захмелевший настолько, насколько вообще может быть пьян человек, он позволил вести себя, куда им заблагорассудится. Покружив немного по Флоренции, они наконец достигли дворца Медичи, со всей предосторожностью, чтобы их никто не видел, вошли через задние ворота во двор, где увидели Великолепного, который поджидал их в полном одиночестве и от души забавлялся. Поднявшись по невысокой лестнице в дом, они затем направились в мансарду и вошли в потайную, никому не известную комнату, где, как велел Лоренцо, опустили лекаря Маненте на мягкую постель; после этого они раздели его до нижнего белья, чего он вовсе даже и не почувствовал, — казалось, они раздевали покойника; унеся прочь все платье лекаря, они оставили его там, хорошенько заперев дверь. Великолепный еще раз приказал им держать язык за зубами и, велев аккуратно сложить одежду врача, тут же послал за Монахом-Шутом, который, как никто другой, умел подражать голосу и манере разговора любого человека; когда тот вскорости предстал перед ним, Лоренцо сам сопроводил его в комнату и, отпустив стремянных, которые пошли спать, рассказал Монаху все, что тот должен делать, а затем в прекрасном настроении тоже отправился почивать. Монах, захватив всю одежду лекаря, вернулся потихоньку домой и там, сняв с себя все до рубашки, переоделся с головы до ног в платье Маненте. Никому не сказав ни слова, он вышел из дома, когда уже звонили к заутрене, и направился к дому Маненте, который жил тогда на улице де' Фосси. Поскольку дело было в сентябре, все семейство врача — жена, маленький сын и служанка— находилось за городом, в его имении в Муджелло, и он жил во Флоренции один и возвращался домой только спать, обедая неизменно с друзьями в трактире или же в гостях у знакомых; и вот Монах, одетый в платье лекаря и с его кошельком, в котором лежал ключ, с легкостью отворил дверь, а потом как следует заперся изнутри и, в высшей степени довольный тем, что выполняет желание Великолепного, а вместе с тем может сыграть шутку с лекарем, улегся спать в его постель. Между тем уже наступил день, и Монах, проспавший до девяти часов утра, встал, оделся в платье лекаря, накинул старый плащ, натянул на голову капюшон, и, подражая голосу врача, позвал из окна, выходящего во двор, соседку, сказав ей, что ему что-то нездоровится и немного болит горло, — перед этим он специально обмотал себе горло шерстяной ватой и тряпкой. А в то время во Флоренции все опасались чумного мора и как раз в эти дни в некоторых домах была обнаружена зараза, поэтому соседка обеспокоилась и спросила, чем ему помочь. Монах, заранее рассыпаясь в благодарностях, попросил у нее пару свежих яиц и свечу и, притворяясь, что от слабости еле говорит и не в силах держаться на ногах, отошел от окна. Добрая женщина, взяв яйца и свечу, еле докричалась его и, когда он наконец вновь высунулся из окна, знаками показала ему, что оставит принесенное на пороге дома. Так она и сделала. Монах, очень довольный собой, вышел, словно он Маненте, на порог в плаще лекаря и надвинутом по самые брови капюшоне, забрал яйца, свечу и вернулся в дом. При этом казалось, что он едва стоит на ногах, а горло его украшал огромный компресс. Поэтому почти все соседи и все соболезнующие сразу же подумали, что у него, наверное, чумной бубон. Слух немедленно распространился по городу, вследствие чего один из братьев жены лекаря — золотых дел мастер по имени Никколао — тотчас поспешил к родственнику, чтобы узнать, что с ним приключилось; но, сколько он не стучался в дверь, никто так и не отозвался, ибо Монах затаился в доме и не подавал никаких признаков жизни. Соседи же уверили его, что врач, без всякого сомнения, заболел чумой. Как раз в это время, будто бы совершенно случайно, по улице проезжал верхом Лоренцо в компании множества знатных господ и, увидев перед домом скопление народа, спросил, что тут случилось. Ему ответил золотых дел мастер, сказав, что серьезно опасается, что лекарь Маненте стал жертвой страшной болезни, и рассказал по порядку все как было. Великолепный сказал, что хорошо бы найти кого-нибудь, кто присмотрел бы за больным, и посоветовал Никколао обратиться к управляющему больницей Санта-Мария-Нуова, чтобы ему предоставили опытного и умелого санитара; золотых дел мастер тотчас же направился в больницу и, действуя именем Лоренцо, получил в свое распоряжение санитара, с которым Лоренцо уже успел до того столковаться, научив, как ему следует поступать. Теперь Лоренцо Великолепный, объехав вокруг, поджидал их в начале квартала Оньисанти и, как только они показались, поскакал навстречу и, притворившись, что он этого санитара видит впервые в жизни, стал для отвода глаз сговариваться с ним относительно порученного ему дела, горячо прося при этом как можно лучше позаботиться о лекаре Маненте. Затем, велев отпереть замок, он приказал санитару войти в дом. Через несколько минут тот высунулся из окна и сообщил, что у лекаря в горле бубон величиной с добрый персик, что он лежит еле живой на постели и у него нет сил пошевельнуться, но что он не преминет оказать ему всяческую помощь; выслушав это, Лоренцо поручил золотых дел мастеру принести еды для санитара и для больного и, велев вывесить на двери дома ленту в знак того, что здесь чума, отправился далее, выражая и словами и жестами свое глубокое огорчение и жалость. А санитар тем временем вернулся к Монаху, который хохотал и веселился, как сумасшедший; когда же вечером золотых дел мастер доставил им уйму разной еды, а в доме они нашли еще вяленое мясо и пробуравили бочонок, в котором оказалось отменное вино, они устроили себе поистине королевский пир.
В это время лекарь Маненте, проспав без просыпу ночь и целый день, наконец пробудился. Увидев, что он лежит в постели, а вокруг полная темнота, он никак не мог взять в толк, где же он находится, то ли у себя дома, то ли где-то в другом месте, и принялся вспоминать, как он давеча в харчевне «Обезьяна» бражничал со своими дружками Буркьелло Бездонной Бочкой, Губкой и еще с маклером по прозвищу Блондинчик, а потом уснул и его, сонного, отвели, как ему казалось, домой. Однако, когда он встал с постели и на ощупь побрел туда, где, по его представлению, должно было находиться окно, он его там не обнаружил; спотыкаясь в темноте, он принялся искать дверь, и наконец ему посчастливилось отыскать дверцу, ведущую в нужник: таким образом, он смог справить малую нужду, что было ему до крайности необходимо, и он испытал большое облегчение, затем, вновь покружив по комнате, он благополучно вернулся обратно в постель, напуганный и исполненный какого-то странного удивления, сам не зная, на каком свете он находится, снова и снова перебирая в уме все, что с ним приключилось; постепенно он начал ощущать признаки голода и неоднократно испытывал желание кого-нибудь крикнуть, но всякий раз страх заставлял его побороть это искушение, и он молчал, ожидая, что же будет дальше. Тем временем Лоренцо потихоньку отдал все дальнейшие распоряжения для выполнения им задуманного и приказал двум своим переодетым стремянным без лишнего шума войти в комнату, где заперт лекарь; на них были надеты длинные, до земли, белые монашеские рясы, а лица и головы обоих закрывали огромные, опускавшиеся на плечи маски, из тех, что продают на улице де' Серви и которые будто смеются: эту монашескую одежду они взяли из гардеробной, где хранилась целая уйма всевозможных одеяний и разных масок, когда-то использованных на карнавальных шествиях. Один из слуг держал в правой руке обнаженный меч, а в левой — большой горящий факел; другой нес пару оплетенных бутылей доброго вина и завернутые в салфетку два хлеба, двух холодных жирных каплунов, кусок жареной телятины и фрукты — те, что соответствовали тому времени года. Так как комната, где находился лекарь Маненте, заперта была снаружи, слуги сперва начали яростно громыхать засовами, потом резко и неожиданно распахнули дверь и, войдя в комнату, сразу же захлопнули ее за собой; тот, что был с мечом и факелом, встал, прислонившись к двери, чтобы лекарь не попытался ее открыть.
Едва лекарь Маненте услышал, как дергают дверь, а затем лязганье засовов, он весь задрожал и, выпрямившись, сел на постели. Когда же он увидел вошедших, одетых столь странным образом, и у одного из них в руке сверкающий меч, его охватили такое изумление и ужас, что он хотел закричать, но крик застрял у него в горле; остолбенев от удивления, ошеломленный, не на шутку опасаясь за свою жизнь, он ожидал, что с ним будет дальше. Но тут он увидел, как второй, который нес еду, расстилает на столе, стоявшем напротив постели, салфетку, раскладывает на ней хлеб, мясо, ставит вино и всю прочую снедь и подает ему знак приблизиться и приняться за дело. Здесь наш лекарь, которого давно уже терзали муки голода, вскочил на ноги и, как был, в одной рубахе и босой, кинулся к столу, но человек в маске указал ему на широкий длинный халат и пару башмаков, лежащих на одной из лавок, и знаками велел ему одеться и обуться, после чего лекарь Маненте накинулся на еду с поистине волчьим аппетитом. Тотчас же оба слуги покинули комнату, на мгновенье распахнув дверь и сразу же задвинув снаружи засов и вновь оставив лекаря в полной темноте; затем они сняли с себя маскарадные одеянья и доложили обо всем Великолепному. Оставшись в кромешной тьме, лекарь Маненте не пронес куска мимо рта: он прекрасно управился и с парой каплунов, и с телятиной, запивая каждый кусок вином из оплетенной бутылки и думая про себя: «Все это не так уж страшно; если мне и суждено умереть, то теперь я хотя бы спокоен, что умру не с пустым брюхом». Тщательнейшим образом подобрав все остатки, он завернул их в салфетку и вернулся обратно в постель, по-прежнему дивясь, что он здесь один, в темноте, и даже не знает, ни где находится, ни как сюда попал, ни когда отсюда выйдет. Однако, вспомнив смеющиеся карнавальные маски, он про себя тоже засмеялся, тем более что ему пришлось весьма по вкусу угощение, а пуще всего — вино, которому он отдал должное, опорожнив чуть ли не целую фьяску; он уже почти не сомневался, что это, должно быть, проделки его друзей, и поэтому твердо надеялся вскорости выбраться отсюда на свет божий; с этими приятными мыслями он и уснул.
Неизвестный феррарский художник XV в. Женский портрет.
Из книги Ф. Форести «О знаменитых женщинах».
Гравюра на дереве.
Наутро, едва рассвело, санитар, высунувшись из окна, громко объявил всем соседям и золотых дел мастеру, что ночь лекарь провел спокойно, нарыв у него в горле рассасывается, что он ставит ему припарки и надеется, что все обойдется благополучно. Наступил вечер, и видя, что все разыгрывается, как по нотам, и ему предоставляется превосходный случай продолжить шутку, Великолепный сообщил Монаху и санитару, что им делать дальше. Как раз в тот день, часов в девять поутру, один барышник, по прозвищу Французик, объезжая коня на площади Санта-Мария-Новелла, упал вместе с ним, причем так случилось, что лошадь осталась цела и невредима, а сам он сломал себе шею. Люди, бросившиеся на помощь, думали, что он без чувств; поэтому они подняли его и отнесли в больницу Сан-Паголо, а там, расстегнув на нем рубашку, чтобы привести в чувство, увидели, что он мертв, — у него оказалась сломана шея. Несколько друзей, продав его жалкую одежду, поручили, так как в городе он был чужой, монахам при церкви Санта-Мария-Новелла похоронить его после вечерни; по чистой случайности они погребли его в одном из тех склепов, что находятся снаружи, вверху лестницы, напротив главного входа в церковь.
Между тем Монах и его приятель следовали плану, замышленному Лоренцо: на исходе того же дня, не успели прозвонить к вечерне, санитар громкими криками из окна сообщил, что болезнь лекаря серьезно осложнилась, и он опасается за его жизнь: нарыв так стеснил больному горло, что он не только не в силах говорить, но даже не может дышать. Тут под окном появился шурин, который хотел было уже заняться составлением завещания, но санитар сказал ему, что пока это еще вряд ли уместно; они условились, что отложат все до утра, а утром, если маэстро Маненте будет в состоянии, они дадут ему написать завещание и позовут священника, чтобы лекарь исповедался и приобщился святых даров.
Тем временем совсем стемнело, было уже за полночь, и стремянные по приказу Великолепного тайно отправились на кладбище при церкви Санта-Мария-Новелла, к тому склепу, в котором был погребен днем Французик, вынули его тело и на плечах отнесли на улицу де' Фосси, в дом лекаря Маненте, где Монах и санитар их уже поджидали на пороге и потихоньку взяли у них и внесли в дом покойника, а стремянные, никем не замеченные, ушли восвояси. Монах и санитар развели большой огонь в печи и, предварительно как следует выпив, закутали мертвеца в саван, которым послужила большая новая простыня, завязали ему горло промасленными шерстяными тряпками и как следует похлопали по щекам, так что лицо у него вспухло и посинело, и положили труп на стол посреди комнаты на первом этаже; на голову покойнику они напялили шапку, которую обычно носил по праздникам лекарь Маненте, закрыли его с головы до ног ветками апельсинового дерева и сами отправились спать. Едва настало утро, санитар громким плачем оповестил соседей и всех, кто проходил в тот час по улице, о том, что маэстро Маненте на рассвете покинул сей мир; слух о его смерти тотчас же разнесся по Флоренции и едва достиг ушей золотых дел мастера, как тот сразу же прибежал и узнал от санитара все подробности. И поскольку мертвого уже не воскресить, то решили сегодня же дотемна похоронить покойного. Золотых дел мастер так и доложил городским властям, ведающим санитарной службой, и похороны назначили на одиннадцать часов вечера. Обо всем заранее поставили в известность также монахов из Санта-Мария-Новелла и священников церкви Сан-Паголо, так что к условленному часу все были готовы. Таким образом, благодаря тому, что монахи и приходские священники, идя за гробом, старались держаться на почтительном расстоянии от умершего от чумы, а могилыцики-божедомы взяли тело покойного из его собственного жилища, конский барышник Французик был принят за маэстро Маненте, и никто нимало не сомневался, что умер действительно лекарь; так же думали и все остальные, кто видел покойника, хотя многие находили, что он весьма изменился, однако объясняли это болезнью, говоря один другому: «Погляди-ка только, в каких он пятнах!» — «Да, видать, болезнь у него была страшная…» Вот так, не занося покойника в церковь, где в это время монахи и священники, служа панихиду как положено, отпевали его, могильщики, поднявшись по ступеням, швырнули тело вниз головой в первый же попавшийся склеп, а затем, опустив каменную плиту, отправились восвояси. Все это происходило на виду у толпы в добрую тысячу человек, которые, заткнув носы и нюхая кто ароматический уксус, кто цветы или душистые травы, издали наблюдали за погребением лекаря Маненте, причем все были уверены, что хоронят именно его. И поистине нетрудно было поддаться обману — ведь тогда все мужчины ходили бритые, а кроме того, видя, как лекаря выносят из его собственного дома, в столь хорошо знакомой всем шапке, закрывавшей ему пол-лица, ни у кого не могло возникнуть и тени сомнения.
Золотых дел мастер, когда покойного вынесли и похоронили, поручил заботу о доме и всем добре санитару и ушел, посулив прислать ему знатный ужин, дабы тот выполнял свой долг с большим старанием и любовью; затем он послал нарочного к сестре, с сообщением о том, что возвращаться во Флоренцию ей вряд ли есть смысл, так как муж ее умер и уже похоронен, а все хлопоты и заботы о доме и обо всем, что в нем находится, она может препоручить ему, а сама пусть постарается успокоиться и живет счастливо и весело, любовно пестуя своего маленького сына.
Спустилась ночь, и Монах, тем более что он уже успел поужинать, ушел, стараясь, чтобы его никто не заметил, оставив санитара в одиночестве, и потихоньку вернулся к себе домой; на следующий день он явился к Лоренцо, и, вместе посмеявшись над шуткой, которую они выкинули и которая удалась как нельзя лучше, они обдумали все, что необходимо сделать, дабы довести ее до конца.
Так прошло дня четыре, а может, шесть, причем каждый день утром и вечером двое слуг в тех же смеющихся масках, так же, как и в первый раз, не забывали приносить лекарю обильную и жирную пищу.
Однажды, едва лишь начало светать, — дело было часа за четыре до наступления дня, — эти две маски по приказу Великолепного распахнули дверь в комнату и разбудили лекаря. Знаками они велели надеть ему короткую куртку красного сукна и длинные, какие носят моряки, штаны из такой же материи, нахлобучили на него шапочку вроде греческой, защелкнули на запястьях наручники и, накинув на голову плащ, да так замотав, чтобы он ничего не мог видеть вокруг, вывели его из комнаты и проводили во двор, настолько растерявшегося и напуганного, что он дрожал, как в лихорадке; приподняв, они впихнули его в закрытую карету, запряженную парой очень резвых мулов, хорошенько захлопнули за ним дверцы — так, чтобы он не мог их открыть изнутри, и повезли куда-то в сторону городских ворот у церкви Санта-Кроче; мулами правили оба стремянных, одетых в обычное платье, ворота перед ними сразу же распахнулись, и они весело покатили по дороге, ведущей из города. Когда лекарь Маненте почувствовал, что его куда-то увозят, причем было неизвестно, куда его везут и кто везет, он испугался и изумился до крайности; но потом, когда уже совсем рассвело, услышав за стенками кареты голоса крестьян и стук копыт скота на дороге, он стал сомневаться, уж не мерещится ли ему все это, однако сумел побороть страх и стал подбадривать себя и утешать. Сопровождающие, не обменявшись между собой ни единым словом, дабы он не мог их услышать, все погоняли да погоняли мулов, остановившись лишь однажды, когда решили, что настало время перекусить, и таким образом вскоре после полуночи они прибыли к месту назначения — в монастырь Эрмо-ди-Камальдоли, где их весело приветствовал у ворот отец настоятель. Въехав во двор, они распрягли мулов; потом Монах проводил их сначала в свою келью, а оттуда в маленькую прихожую и затем, миновав монастырскую канцелярию, ввел в небольшую комнату, где он уже распорядился замуровать окно и поставить узкую койку и столик со складным стулом. Поскольку, по счастью, там к тому же оказались камин и нужник, а выходила эта комната, расположенная в самом отдаленном уголке монастыря, на очень крутой и пустынный обрыв, где никогда не случалось встретить ни человека, ни зверя, и поэтому тут всегда царила тишина, которую нарушали только свист ветра и раскаты грома да негромкий звон небольшого колокола, возвещающего обедню или вечерню и созывающего монахов к трапезе, обеду или ужину, — посему место это стремянные Лоренцо сочли вполне подходящим. Поэтому они отправились к монастырскому странноприимному дому, где была оставлена карета, и извлекли из нее своего пленника, полуживого от голода и жажды, уже нечувствительного ни к лишениям, ни к страху и вообще уже еле державшегося на ногах, и, замотав ему плащом голову и таща чуть ли не волоком, препроводили в ту комнату, а там, усадив на кровать и еще не снимая наручников, оставили одного. Затем они пошли в келью к настоятелю, куда тот сразу же вызвал двух послушников для того, чтобы научить, как им впредь надобно обращаться с маэстро Маненте и как приносить ему пищу, хотя Великолепный еще до того самым тщательным образом их обо всем предуведомил. Между тем стремянные облачились в свои одеяния все с теми же смеющимися масками, не позабыв ни меч, ни факел, и наконец, точно так же, как проделывали это во Флоренции, принесли лекарю обильный ужин, который был уже приготовлен монахом. Едва Маненте увидел появившиеся на пороге маски, он обрадовался им, как старым знакомым; тот, что нес блюда, поставил их на столик и, подойдя к пленнику, снял с него наручники и подал знак приступать к трапезе. Лекарь Маненте, мучимый голодом и жаждой, накинулся на еду с прожорливостью дикой утки, напившись и наевшись до отвала. После чего маски, открыв дверь, сразу же вышли из комнаты, оставив его в полной темноте. Послушники, чтобы хорошенько все увидеть, поднялись на чердак над комнатой и, потихоньку вынув из пола кирпич, смогли в эту щель во всех подробностях разглядеть происходящее внизу; потом они возвратились туда, где уже находились стремянные, которые, сняв с себя свои одеяния, маски и все прочие причиндалы, передали их, а сами, выпив и закусив, легли отдыхать, ибо им до смерти хотелось спать и они валились с ног от усталости. Наутро, поднявшись, однако, не слишком рано, стремянные позавтракали и, еще раз напомнив настоятелю и послушникам о том, что, принося пленнику вечером и утром еду, следует неизменно придерживаться установленных правил, они попрощались и возвратились со своей каретой во Флоренцию, где самым наиподробнейшим образом доложили обо всем Великолепному, который выразил свое полное одобрение и был премного доволен.
Тем временем, по прошествии установленного срока, санитар, получив от золотых дел мастера вознаграждение за охрану дома, передал ему все имущество и вернулся к себе в больницу при монастыре Санта-Мария-Нуова[93], а жена лекаря Маненте с маленьким сыном и служанкой возвратилась во Флоренцию во вдовьем трауре и, оплакав кончину мужа, зажила довольно безбедно.
Послушники-монахи, точно как им было показано, утром и вечером всегда в один и тот же час приносили еду лекарю, который, ибо заняться чем-либо иным все равно не имел возможности, только и ждал, как бы набить себе брюхо и вновь улечься спать, никогда не видя света, кроме тех нескольких минут, когда ему приносили пищу. И даже отдаленно не представляя себе, ни где он находится, ни что за люди ему прислуживают, он опасался, уж не попал ли в какой-нибудь заколдованный дворец; однако это ничуть не мешало ему есть и пить на даровщинку и спать сколько влезет, а когда бодрствовал — строить воздушные замки.
Между тем Лоренцо случилось по некоторым делам чрезвычайной важности, касавшимся государственных интересов и управления городом, покинуть Флоренцию, куда он возвратился лишь через несколько месяцев, а вернувшись, занялся другими неотложными делами, в результате чего довольно долгое время он не вспоминал о лекаре Маненте и вовсе о нем позабыл бы и думать, если бы в один прекрасный день, проезжая верхом, случайно не встретил монаха из Камальдоли, приехавшего во Флоренцию по хозяйственным нуждам монастыря; вспомнив о лекаре, Великолепный велел позвать этого монаха и, услышав от него, что тот на следующее утро собирается покинуть Флоренцию и возвратиться в Камальдоли, написал письмо и велел передать его настоятелю монастыря. Монах почтительно взял письмо и сказал, что с величайшей охотой выполнит поручение, и действительно точным образом и без проволочек его исполнил.
Однако за это время произошло немало событий, и самым главным из них было то, что жена Маненте вступила в брак во второй раз, — вот уже полгода, как она вышла замуж за некоего Микеланьоло, золотых дел мастера, приятеля ее брата Никколао; последний ей весьма советовал это сделать, даже настойчиво об этом упрашивал, ибо такое родство помогало ему возобновить еще на десять лет контракт с Микеланьоло, который был его компаньоном. Поэтому Никколао, отдав на воспитание опекунам сына сестры, переехал теперь в дом к Микеланьоло, а тот, получив некоторое доставшееся ему в наследство имущество, жил припеваючи со своей Бриджидой, — так звали женщину, которая уже ожидала от него ребенка.
Настоятель, услышав, что Великолепный отбыл, не оставив никаких дальнейших распоряжений, продолжал исполнять то, что ему было приказано; и так как он весьма жалел лекаря Маненте, позаботился, ибо уже настали холода, снабдить его жаровней и запасти несколько мешков дров, которые прислуживавшие ему маски сложили в углу комнаты и которыми топили камин, а также распорядился принести ему домашние туфли, кое-что из одежды и какое-нибудь одеяло. Кроме того, он позаботился, чтобы приладили на потолке маленький светильник, который горел днем и ночью, так что комната была в достаточной мере освещена. Таким образом, лекарь теперь видел то, что ел, и все, что делал, и даже в какой-то степени проникся благодарностью к тем, кто доставил ему эти удобства, хотя по-прежнему не знал, кто же эти люди; он частенько напевал песенки, которые обычно пел в компании своих собутыльников еще за столом в харчевне, а иногда, импровизируя, сочинял и какой-нибудь шутейный стишок. Так как голос у него был красивый, а дикция четкая, он нередко декламировал некоторые стансы Лоренцо, тогда только что вышедшие и называвшиеся «Леса любви», доставляя послушникам и настоятелю, которые лишь одни и могли его слышать, превеликое удовольствие и развлечение. Вот так он и жил, стараясь извлечь из подобного существования то приятное, что было возможно, и уже почти совсем утратив надежду когда-нибудь вновь увидеть свет божий.
Между тем прибыл гонец, доставивший письмо Великолепного отцу настоятелю, и последний, полностью следуя воле и приказу Лоренцо, велел послушникам в ту же ночь, часа за два, за три до рассвета, увести маэстро Маненте из монастыря и объяснил им, как и куда, где и каким образом потом его оставить; в назначенное время послушники, одетые, как обычно, явились к лекарю и, приказав встать с постели, знаками велели ему надеть свой странный наряд, напоминавший матросское платье, а потом, защелкнув на запястьях наручники и накинув на плечи плащ с капюшоном, закрывавшим лицо, куда-то его повели. На сей раз лекарь Маненте решил, что настал его смертный час и ему никогда уже больше не вкусить хлеба; и, вне себя от отчаяния, но подчинившись, чтоб не навлечь еще большей беды, он позволил увести себя провожатым, которые, поспешно шагая, волокли его за собой часа два или более того по лесу, пробираясь узкими тропинками, пока наконец не вывели его в окрестности Вернии, где на дне глубокого ущелья привязали лекаря стеблями бородавника к стволу огромной ели и потом, сдернув с головы капюшон, нахлобучили по самые брови шапочку, сняли наручники и, оставив его вот так привязанным к дереву, скрылись с быстротой ветра; по тем же лесным тропинкам, хотя и в кромешной тьме, погасив факел, никем не замеченные, они вернулись в Камальдоли. Лекарь Маненте, оставшись один и связанный совсем не крепко, хотя все еще дрожа от страха, весь превратился в слух и, не слыша ни малейшего шороха, не то что шума, принялся шевелить руками и с легкостью разорвал свои путы; затем, сдвинув шапочку с глаз и воздев их горе, он увидел над собой, меж верхушек деревьев, клочок звездного неба и только тут, радостный и приятно изумленный, наконец уверился в том, что он свободен, как птица. Тем временем уже начало светать, и он, озираясь кругом, разглядел ели, окружавшие его, и траву под ногами и понял, что он, должно быть, в лесу. Однако, опасаясь какой-либо новой неожиданной напасти, он боялся пошелохнуться и застыл неподвижно и безмолвно и даже затаил дыхание, чтобы его никто не услышал, — ему все мерещились эти смеющиеся маски, которые вновь наденут на него наручники и опять куда-то поволокут. Но когда вскоре совсем рассвело и взошедшее солнце залило все вокруг своими яркими лучами, он, не видя кругом ни одной живой души, решился сойти с места и пустился по узкой тропинке вверх по склону, чтобы выбраться из этого горного ущелья, ощущая всем существом, что поистине вернулся к жизни. Не успел он пройти и четверти мили, добравшись до вершины склона, как вышел на весьма оживленную дорогу; по ней навстречу ему шагал погонщик с тремя мулами, груженными мешками с овсом, и, когда тот приблизился, лекарь спросил у него, далеко ли деревня и как называется эта местность. Погонщик в ответ сказал, что это Верния, а потом добавил: «Черт побери, ты что — слепой, разве не видишь святого Франциска?» — и указал рукой на церковь, высящуюся на горе на расстоянии всего лишь каких-нибудь двух полетов стрелы. Маэстро Маненте, поблагодарив его, в самом деле тотчас же узнал селение, ибо неоднократно приезжал туда со своими друзьями, чтобы весело провести время, и, воздев руки к небу, воздал хвалу господу, — он словно заново родился на свет божий. Свернув вправо с дороги, он, похожий в своем платье красного сукна на моряка, направился вверх по склону к монастырю, которого вскорости и достиг.
Там он застал одного странствующего миланского дворянина, который прибыл из Флоренции вместе со своим товарищем, тоже миланцем, со слугами и лошадьми, чтобы посетить эти святые места, поклониться святому Франциску и покаяться в грехах. И поскольку накануне вечером он сильно поранил себе ногу, да к тому же еще и простыл, то ночью нога у него начала болеть и пухнуть, так что наутро он не только не мог ею пошевельнуть, но боялся даже до нее дотронуться, и ему пришлось остаться в постели. Поэтому, чтобы успокоить монахов, он решил послать в Биббиену за врачом, но тут как раз и явился лекарь Маненте; поздоровавшись, он прежде всего расспросил монахов о причине болезни этого дворянина и, узнав, в чем дело, сказал им, что не стоит посылать за врачами и что они могут довериться ему, — не пройдет и десяти минут, как он уймет мучающую дворянина боль, а к следующему утру все как рукой снимет. Хотя Маненте одет был все еще весьма странным образом, вид его тем не менее, равно как и красноречие, располагали к себе, и миланец решил ему довериться; поэтому лекарь Маненте, велев монахам принести розового масла и миртового порошка, сперва занялся лечением открытой раны, а затем вправил кость и, как следует смазав маслом и засыпав порошком, крепко забинтовал ногу; боль сразу же прошла, и миланскому дворянину удалось хорошо выспаться и отдохнуть, тем более что прошлой ночью он не сомкнул глаз; так что наутро, проснувшись, он почувствовал себя вполне здоровым и смог не только ступать на раненую ногу, но даже свободно ходить; поэтому он приказал седлать лошадей и, выпив по стаканчику с монахами и дав два дуката врачу, поскакал во Флоренцию.
Лекарь Маненте в самом веселом расположении духа, оставив пожертвование монастырю, распрощался с монахами и отправился в сторону Муджелло в свое имение и, бодро шагая, прибыл туда под вечер, когда солнце уже садилось; он громко окликнул по имени работника, но вместо него отозвался какой-то совсем молодой крестьянский паренек, сообщивший, что тот теперь работает в другом имении, находящемся довольно далеко отсюда. Лекарю все это показалось странным, он не мог успокоиться, досадуя на жену, что она без его на то согласия уволила прежнего работника и наняла вместо него нового; парнишке он велел позвать отца, которому объяснил, что он — большой друг его хозяина, а посему просит пустить его в дом и предоставить ночлег. Крестьянин, оглядев странный наряд гостя, засомневался и, объятый подозрением, никак не мог ни на что решиться; однако лекарь Маненте говорил так красно, что сумел убедить его; тот успокоился и согласился, ободренный также и тем, что не увидел у гостя оружия, но все же из-за предосторожности пригласил его не в дом, а в хижину, в которой жил сам; введя врача в хижину, крестьянин усадил его за стол, и они скудно поужинали. Маэстро Маненте, решив не раскрывать своего имени, ничего не спрашивал ни о хозяйстве, ни о своей жене; но, увидев на столике чернильницу и стопку бумаги, ибо крестьянин был старейшиной церковного прихода, он попросил письменные принадлежности, и ему их подали; таким образом лекарь получил возможность написать жене, и, черкнув ей коротенькую записку, он обернулся к сыну крестьянина и сказал:
— Я дам тебе карлин, если ты завтра утром пораньше отправишься во Флоренцию и передашь это письмо из рук в руки твоей госпоже, а потом исполнишь то, что она тебе прикажет.
Парень, с разрешения отца, согласился и, уложив лекаря спать на соломе, запер его в хижине. Маэстро Маненте, терпеливо снес это, говоря про себя: «Завтра ты будешь ломать передо мной шапку и сочтешь за честь мне прислуживать», — и, устроившись поудобнее на соломе, постарался уснуть.
Наутро, чуть свет, сын крестьянина, получив накануне вечером карлин и письмо, отправился во Флоренцию и, достигнув к обеденному часу дома своей хозяйки, вручил письмо монне Бриджиде, которая тотчас его распечатала, и ей показалось, что она узнает руку своего первого мужа; но потом, когда она прочитала письмо, ее охватили такое горе и изумление, что она чуть было не лишилась чувств и сама не знала, на каком она свете. Когда же она расспросила молодого крестьянина о возрасте, росте и чертах лица приславшего его к ней человека, она изумилась еще больше и ее охватило еще большее отчаяние; не теряя времени, она послала слугу в мастерскую за Микеланьоло, который, придя и прочитав письмо, так же, как и его жена, пришел к тому мнению, что похоже на то, и даже более того — совершенно ясно, что письмо и впрямь писано рукой маэстро Маненте; но, с другой стороны, поскольку не было никаких сомнений в том, что тот умер, не было никаких сомнений и в том, что письмо писал кто-то другой и, следовательно, человек этот — жулик, который пытается обмануть их таким необычным образом, ибо содержание письма было следующее: писавший сообщал в нем своей дражайшей супруге, что после различных и весьма странных злоключений, проведя более года взаперти, постоянно при этом опасаясь за собственную жизнь, теперь наконец, хвала господу, он избежал опасности, а все подробности расскажет ей при личной встрече, и что пока ей достаточно знать, что он жив-здоров и находится в их имении, и просит ее, незамедлительно сообщив эту новость всем во Флоренции, прислать ему мула, камзол и плащ, высокие сапоги и шляпу, а также растолковать новому работнику, что он — лекарь Маненте, ее муж, а следовательно, является его хозяином, и посему надобно, чтобы ему открыли дом и он смог бы в нем со всем удобством отдохнуть этой ночью, а на следующее утро чуть свет он поспешит во Флоренцию, чтобы нежно прижать ее к своей груди.
В ярости и гневе Микеланьоло тут же ответил от имени жены, написав весьма выразительное и резкое письмо, в котором грозился, что если тот не уберется с богом, то он приедет и велит всыпать ему хорошую порцию палок или пришлет туда капитана городской стражи. Кроме того, он велел крестьянскому парнишке передать отцу, чтобы тот выгнал этого проходимца ко всем чертям. Парень незамедлительно отбыл, а Микеланьоло возвратился в мастерскую, оставив Бриджиду в печали и полном душевном смятении.
Утром лекарь Маненте пошел прогуляться до птицеловного тока, находившегося в трех милях от его дома, и, не узнанный владельцем, с которым они раньше были приятели, и даже более того — назвавшись албанцем, отменно там пообедал, про себя смеясь и потешаясь, а потом, под вечер, все в таком же превеселом настроении, вернувшись к себе домой и будучи совершенно твердо уверен, что он уже признан как хозяин, вознамерился свернуть шею паре каплунчиков, которых заприметил еще утром на дворе. Но не успел он туда дойти, как перед ним вырос уже вернувшийся из города молодой крестьянин и не только безо всякой почтительности, но даже с весьма грубым видом протянул ему письмо, на котором не было ни имени адресата, ни сургучной печати; это обстоятельство сразу же весьма озадачило и раздосадовало лекаря, угадавшего в нем начало печального конца; прочитав же письмо от первой до последней строки, он от удивления и сердечной боли лишился дара речи и был настолько ошарашен, что поистине уже сам не знал, жив он или уже умер.
Тем временем подоспел пожилой крестьянин, отец юноши, привезшего приказ от хозяина, и грубо сказал ему, чтобы он сегодня же позаботился о ночлеге где-нибудь в другом месте, ибо владелец имения велел немедленно прогнать его прочь. Лекарь Маненте вне себя от огорчения, видя, что работник, который, как он предполагал, получив письмо, тотчас признает его своим хозяином, вместо того гонит его на улицу, смиренно ответил, что, так и быть, он уйдет; и, охваченный сомнением, уж не перевоплотился ли он часом в кого-то другого и что он теперь, может, и впрямь вовсе и не маэстро Маненте, попросил крестьянина, чтобы тот назвал ему имя своего хозяина. Работник ответил, что его господина зовут Микеланьоло, он — золотых дел мастер, а супруга его — монна Бриджида; тогда лекарь спросил, не было ли у этой монны Бриджиды другого мужа и есть ли у нее дети. Да, ответил крестьянин, у нее был первый муж, лекарь, который звался, как говорят люди, маэстро Маненте, но, по слухам, он погиб от чумы, оставив ей сынка по имени Сандрино. «Боже мой, что ты говоришь?!» — воскликнул лекарь и принялся дотошно выспрашивать разные подробности, но крестьянин ответил, что больше и ведать ничего не ведает, поскольку сам он из Казентино и нанялся в это имение только прошлым августом. Лекарь Маненте, решив не раскрывать работнику, кто он, и так как времени было уже более двух часов пополудни, попрощался с ним и зашагал по дороге в сторону Флоренции, размышляя про себя о том, что же заставило его жену и родственников по каким-то странным причинам поверить, что его нет в живых, и вести себя подобным образом, тем более что он очень хорошо был знаком с золотых дел мастером Микеланьоло, приятелем своего шурина. И, строя в уме тысячи предположений, он без устали шагал и шагал по дороге, так что под вечер, правда, уже довольно поздно, добрался до постоялого двора «У камня», что возле мельницы, не более чем в миле от города; там он и решил заночевать и, съев на ужин лишь пару вареных яиц, улегся почивать, но всю ночь проворочался в постели с боку на бок, так и не сомкнув глаз. Однако утром он поднялся чуть свет и, расплатившись с хозяином, не торопясь направился во Флоренцию и вошел в город, по-прежнему никем не узнанный, хотя навстречу ему попадалось немало приятелей и знакомых. Покружив по улицам и обойдя чуть ли не полгорода, он наконец очутился на улице де'Фосси как раз в ту минуту, когда его жена и сын, возвращаясь от обедни, входили в дом; будучи уверен, что жена его заметила, но не подала вида, что узнает, он передумал идти с ней объясняться и отправился в церковь Санта-Кроче к своему исповеднику маэстро Себастьяно, полагая, что тот может явиться подходящим посредником и сумеет убедить Бриджиду в том, что это в самом деле он собственной персоной, и горя желанием поведать ему обо всем, что с ним стряслось, и испросить его совета; но, не найдя его, услышал от монахов, что тот ныне живет в Болонье, кое известие повергло его в такое уныние, что он просто не знал, как ему быть. Так побродил он по площади, обошел Новый и Старый рынки, встречая повсюду множество друзей и знакомых, в том числе маклера Блондинчика, Фео по прозвищу Барабан, мастера Дзаноби Бородача, шорника Леонардо, и, не будучи никем из них узнан, был этим немало озадачен, если не сказать больше. Так как между тем наступил час обеда, он отправился в харчевню «Обезьяна», где застал ее хозяина — своего старого и весьма близкого приятеля по прозвищу Амадоре — Любитель Стихов, за столом; он спросил разрешения вместе отобедать и подсел к нему; когда обед подходил к концу, Амадоре вдруг сказал, что сдается ему, будто он уже где-то видел его раньше, но никак не может припомнить, где именно они встречались, на что маэстро Маненте ответил, что это вполне возможно, ибо он долгое время жил во Флоренции у маэстро Агостино на площади Паделла, там, где бани, а ныне, приехав из Ливорно, он хотел бы вновь тут поселиться, ибо жизнь моряка успела порядком ему наскучить. И вот так, слово за слово разговорившись и порассуждав о различных предметах, они закончили свой обед, и лекарь, огорченный и ввергнутый в глубочайшее изумление тем, что он так и остался неузнанным своим сотрапезником, расплатился с трактирщиком и принял решение во что бы то ни стало сегодня же вечером поговорить с женой. И поэтому, пробродив по улицам до тех пор, пока не наступило, как ему показалось, подходящее время, — оставалось полчаса до полуночи, — он направился к себе домой и дважды громко постучал в дверь; женщина выглянула в окно, спросив, кто стучится, и лекарь ей ответил:
— Это я, дорогая моя Бриджида, отвори мне.
— А кто вы такой? — вновь спросила она.
Лекарь Маненте, не желая, чтобы услышали соседи, тихим голосом молвил:
— Спустись вниз и сама увидишь.
Бриджида, слыша его голос и, как ей показалось, узнав маэстро Маненте и в лицо, сразу вспомнила про полученное письмо, однако спуститься вниз не решилась, так как все это было слишком уж странно и непонятно, и повторила свой вопрос:
— Скажите мне, кто вы такой и что вам угодно?
— Разве ты не видишь? — произнес в ответ лекарь. — Я — маэстро Маненте, твой истинный и законный супруг, и я пришел к тебе, своей жене.
— Нет, вы не мой супруг, ибо маэстро Маненте скончался и похоронен, — сказала женщина.
— То есть как это, Бриджида, я умер? Я и не думал умирать! — ответил лекарь и добавил: — Пожалуйста, отвори мне, разве ты не узнаешь меня, моя душенька, разве я так изменился? Скорее открой мне, и ты убедишься, что я живой.
— Вы, наверное, тот самый обманщик, который написал мне письмо, что я получила вчера поутру, — продолжала Бриджида. — Уходите с богом, не то, не ровен час, вас застанет здесь мой муж, и вам не поздоровится.
Между тем на улице уже собралась кучка любопытных, которые пытались понять, что здесь происходит, а в окна высунулись все соседи, и каждый строил свои догадки. Первой во всем разобралась жившая как раз напротив монна Доротея, женщина весьма благочестивая, которая сказала Бриджиде:
— Послушай, доченька, да ведь это, поди, душа твоего покойного муженька — маэстро Маненте, которая бродит здесь неприкаянная, ведь это и лицом и разговором — вылитый он. Ну-ка, позови ее, поговори с ней и расспроси хорошенько, не нужно ли ей чего-нибудь.
Поэтому Бриджида, хотя и не очень-то поверив, что это действительно душа ее покойного супруга, начала жалостливым голосом:
— О божья душа, может быть, что-то мучает твою совесть? Может, ты хочешь, чтобы отслужили мессу в церкви за твой упокой? Может быть, тебе надо выполнить какой-то обет? Скажи мне, благословенная душа, чего тебе надобно, и уходи с богом.
Слушая все это, лекарь Маненте еле удерживался от смеха и продолжал твердить жене, что он живехонек и, если она желает в этом убедиться, пусть отворит ему дверь, но Бриджида, непрерывно крестясь, продолжала спрашивать, чего хочет его душа, не желает ли она, чтобы отслужили мессу святому Григорию.
Здесь в разговор вмешалась и мадонна Доротея:
— О божья душа, если ты пришла из чистилища, скажи нам это, и твоя добрая женушка закажет по тебе полную панихиду и поможет тебе оттуда выбраться!
И, то и дело повторяя «requiscat in расе»[94] она каждую минуту осеняла себя таким размашистым крестным знамением, что все начали — а вокруг собралась уже целая толпа — вслед за ней креститься, опасливо пятясь назад и бросая на маэстро Маненте косые взгляды. Поэтому лекарь, видя, что Бриджида его уже больше не слушает и к тому же принялась без конца креститься и, не закрывая пи на минуту рта, тараторить с ханжой-соседкой, решил убраться подобру-поздорову, тем более что народ продолжал все прибывать, и он уже стал опасаться, как бы с ним не сыграли какую-нибудь злую шутку; решительно свернув на улицу, ведущую к церкви Санта-Мария-Новелла, он припустился по ней таким быстрым шагом, что все попадавшиеся ему на пути, отчаянно крестясь, с испуганными криками кинулись врассыпную, словно и впрямь увидели перед собою воскресшего мертвеца. То и дело оглядываясь, лекарь Маненте, держа курс на высящиеся над крышами купола, все убыстрял шаг, чуть ли не бегом свернул на улицу Дель-Моро, а затем покружив по темным переулкам, выбрался на площадь Санта-Тринита и, пройдя по улице Портаросса, направился к харчевне «Обезьяна», продолжая опасливо оборачиваться, не гонится ли кто за ним; весьма расстроенный, он решил, не видя другого выхода, обождать до утра, а там обратиться к викарию.
Не желая испытывать судьбу, боясь, что даже такие хорошие друзья, как Буркьелло и Блондинчик, могут не узнать его, он сказал Амадоре, сунув ему в руку несколько серебряных монет, что ему было бы очень приятно, если это возможно, пригласить вечером отужинать вместе с ним Буркьелло и маклера Блондинчика.
— Да все будет в порядке, — ответил трактирщик, — предоставьте это дело мне, — и, отдав распоряжения на кухню и накинув плащ, отправился на площадь Сан-Джованни, где разыскал Блондинчика и увел его с собой, говоря, что вечером хочет устроить ужин в компании с одним приезжим и Буркьелло, которого они застали в лавке, расположенной в его собственном доме на улице Гарбо; много слов на уговоры Буркьелло Бездонной Бочки тратить не пришлось, ибо тот сразу смекнул, что предоставляется случай поужинать на даровщинку, чего ему хотелось еще больше, чем всем остальным. Таким образом, в назначенный час все они собрались в харчевне «Обезьяна» — дело было в октябре, незадолго до праздника всех святых.
С первой же минуты Буркьелло показалось, будто перед ним лекарь Маненте, и еще больше он в этом укрепился, когда услышал, как тот заговорил. Маэстро Маненте оказал ему в высшей степени любезный прием, сказав, что, будучи наслышан о его славе и восхищаясь его поэтическим талантом, захотел с ним познакомиться лично, для чего ему пришлось обратиться к нему через трактирщика, просив того передать ему приглашение на ужин, а также просить составить им общество и Блондинчика, столь близкого его приятеля и столь компанейского человека. Буркьелло сердечно поблагодарил его, и вот в отведенной для них отдельной зальце они уселись за стол; в ожидании, пока дойдут на плите крупные молодые голуби и дрозды, они принялись рассуждать о том. о сем, причем лекарь Маненте сочинил им целую историю о своей жизни и о том, как он попал во Флоренцию. Буркьелло, который уже раньше шепнул Блондинчику, что никогда в жизни не видел, чтобы люди походили друг на друга так сильно, как этот приезжий похож на лекаря Маненте, теперь добавил:
— Если бы я не был твердо уверен, что он умер, я бы сказал, что это, без всякого сомнения, он. — И Блондинчик тоже с этим согласился.
Между тем хозяин, ибо все поспело, велел принести салат, хлеб и две фьяски игристого вина. Поэтому, оставив разговоры, они принялись за еду; Бездонная Бочка с Амадоре сидели у стены, а с наружной стороны стола расположились лекарь Маненте и Блондинчик, таким образом, в течение всего ужина Буркьелло мог наблюдать за приезжим; уже с самого начала в его манере пить он узнал знакомую ему привычку лекаря Маненте, который всегда с салатом опрокидывал один за другим два стакана неразбавленного вина, а потом каждый раз уже доливал стакан водой. Это его чрезвычайно изумило; когда же подали на стол голубей и дроздов и лекарь сразу же набросился на дроздов и принялся обсасывать их головки, которые он любил больше всего на свете, Буркьелло так и подмывало спросить приезжего, но он сдержался, чтобы еще точнее удостовериться в своих предположениях. А когда настал черед десерта — подали сементинские груши, санколомбанский виноград, молодой козий сыр, он уверился окончательно, что перед ним Маненте, ибо лекарь, отведав только груш и винограда, тем и кончил ужин, не притронувшись к сыру, хотя все остальные его очень хвалили: дело было в том, что Маненте терпеть не мог козий сыр и его невозможно было заставить взять в рот хотя бы маленький кусочек. Буркьелло это прекрасно знал и теперь был столь твердо уверен, что перед ним лекарь Маненте, что схватил его левую руку и, немного отогнув манжет рубашки, обнажил запястье, на котором резко выделялось темное родимое пятно; затем он сказал громким голосом:
— Ты — лекарь Маненте, и нечего больше скрываться! — И, положив ему руки на плечи, обнял и расцеловал.
Блондинчик и трактирщик, в страхе отпрянув назад, ждали, что тот ему ответит. Маненте сказал:
— Ты, Бездонная Бочка, единственный из всех моих многочисленных друзей и близких признал меня; да, я действительно, как ты сказал, маэстро Маненте, и я вовсе не умер, как думает моя жена и вся Флоренция.
Оба их сотрапезника побелели как мел; Амадоре начал креститься, а Блондинчик с криком ужаса хотел было бежать, ибо оба испугались его, как привидения или воскресшего из мертвых, но Буркьелло Бездонная Бочка сказал им:
— Не бойтесь, ощупайте его, потрогайте, у призраков и мертвецов нет ни мяса, ни костей, а он, как вы видите, из плоти и крови; кроме того, он у вас на глазах и пил и ел.
Лекарь Маненте, в свою очередь, сказал:
— Я живой, не сомневайтесь в том, братья мои, не бойтесь, я и не думал помирать; лучше послушайте, что я вам расскажу, и вы услышите одну из самых удивительных историй, которые кому-либо только приходилось слышать на земле с тех пор, как светит солнце.
Благодаря его стараниям и уговорам, в чем ему как мог помогал и Буркьелло, хозяин и Блондинчик наконец немножко успокоились. Затем они позвали слуг и велели убрать со стола все, кроме вина и зелени. И, сказав им, чтобы те шли ужинать и не совали сюда носа, если только зачем-нибудь не понадобятся Буркьелло, они распорядились хорошенько запереть входную дверь и, горя желанием узнать нечто новое и необычайное, приготовились внимать тому, что им поведает лекарь Маненте. Начав свое повествование с того, как его оставили спящего на скамье посреди улицы, он рассказал по порядку все, что с ним произошло впоследствии, не раз останавливаясь, чтобы подивиться и посмеяться вместе со своими слушателями. Не успел он закончить свой рассказ, как Буркьелло, человек редкого ума и проницательности, сразу же воскликнул:
— Это все проделки Лоренцо Великолепного!
Все стали ему возражать, говоря, что в случившемся повинны ведьмы и волшебные чары и дело тут наверняка не обошлось без колдовства. Однако Буркьелло продолжал стоять на своем и говорил им:
— Никто даже не представляет себе, что у него за голова. Разве вы не знаете, что, начав дело, он никогда не бросит его на полпути и любит, чтобы все задуманное им обязательно было доведено до конца? И уж если ему что втемяшилось в башку, так он во что бы то ни стало этого добьется. Он хитер, как бес, с таким человеком, который все знает, все может и всего хочет, весьма опасно иметь дело. — И, обратясь к маэстро Маненте, продолжал: — Я всегда ждал, что он рано или поздно сыграет с тобой подобную шутку — с того самого дня, когда ты на его вилле в Кареджи, состязаясь с ним в импровизации стихов, осмелился быть недостаточно почтителен. Маненте, знай, князья всегда остаются князьями, и когда мы позволяем себе быть с ними запанибрата, они частенько вот таким образом ставят нас на место.
Лекарь в свое оправдание стал говорить, что музы свободны и что он был в том случае совершенно прав, но слова Буркьелло поколебали его уверенность, и, поразмыслив про себя, он подумал, что, пожалуй, действительно оно так и есть.
Но поскольку они столь подробно обсуждали происшедшее с лекарем Маненте, то теперь он, в свою очередь, попросил их рассказать о всем том, что последовало за чумой, и о человеке, умершем от нарыва в горле, которого вместо него вынесли мертвым из его собственного дома, ибо все это не давало ему покоя; друзья долго ломали себе над этим голову, но даже Буркьелло не мог найти никакой зацепки, за которую можно было бы ухватиться. Время уже было позднее, и в конце концов лекарь Маненте попросил их высказать свое мнение и дать совет, каким же образом ему выпутаться из этого дела, ибо ему никак не хотелось лишаться жены и имущества; и хотя различных мнений и советов высказано было ими великое множество, они порешили на том, что лучше всего обратиться лекарю в епископство.
Наконец, попрощавшись с каждым в отдельности, лекарь Маненте отправился ночевать к Буркьелло, ибо остальные приглашали его не слишком настойчиво, так как все они не совсем еще побороли свой страх.
В это время воротился домой Микеланьоло, и Бриджида преподробно обо всем ему поведала, утверждая, что ей показалось, будто она поистине слышит голос мужа и узнает черты лица маэстро Маненте, и она вслед за монной Доротеей высказала предположение, что это, наверное, страждущая душа, которая нуждается в добром деянии, чтобы выбраться из чистилища.
— Какая еще душа, какое чистилище? Что ты, дура, мелешь? — сказал в ответ Микеланьоло. — Это жулик и злодей, и ты очень мудро поступила, не отворив ему.
Однако он был в высшей степени удивлен и никак не мог взять в толк, чего добивается этот незнакомец, какова его конечная цель; он перебрал в уме все мыслимые случаи, кроме одного, — что лекарь Маненте воскрес и жив-здоров, — только одно было ему ясно, что этот обманщик, после того как его первоначальный план с письмом не удался, не должен был бы больше появляться.
Поутру, разбудив лекаря Маненте пораньше, Буркьелло велел ему первым делом вымыть голову и, как было принято в то время, побриться, а затем одел его в свое платье, которое не только пришлось ему впору, но сидело на нем как влитое, и вместе с ним вышел из дому, чтобы показать его людям и со всеми познакомить; они пошли к церкви Санта-Мария-дель-Фьоре, потом к церкви Санта-Аннунциата, на Старый и Новый рынки, на площадь Синьории, и лекаря Маненте видело множество людей, некоторые его узнали и с ним поговорили, ибо по городу благодаря Блондинчику и Амадоре уже прошел слух о том, что он жив-здоров и желает возвратить себе жену и имущество. Видели его и Никколао с Микеланьоло, и, хотя они и знали, что он умер, им показалось, что это в самом деле он, но они тешили себя мыслью, что этого не может быть; прослышав, что он собирается идти в епископство, они приготовились к отпору: обратились к санитарным властям, заглянули в книгу церковного прихода Санта-Мария-Новелла, поговорили с бакалейщиком, у которого покупали свечи, могильщиками и всеми соседями, заручившись свидетелями и документами, удостоверяющими, что лекарь Маненте скончался у себя дома от чумы и погребен как положено. Жителей Флоренции этот случай крайне озадачил, а многие, кто видел своими глазами, как лекаря предавали земле, были поистине поражены и высказывали подозрение, что дело тут, должно быть, нечисто.
Лекарь Маненте, вернувшись домой к Буркьелло и отобедав, отправился вместе с ним в епископство и изложил там викарию суть своего дела, потребовав, чтобы ему была возвращена жена. Викария рассказ его весьма удивил, и он, дабы установить истину, пожелал выслушать другую сторону; когда же Никколао и Микеланьоло изложили ему свои доводы, представив множество доказательств и показаний уважаемых свидетелей, у него совсем голова пошла кругом, и он окончательно запутался; а так как в этом деле речь шла о покойнике и ни у той, ни у другой стороны невозможно было добиться, кто же это был такой и как попал в дом лекаря, то викарий решил, что дело здесь наверняка пахнет убийством, и секретно сообщил об этом суду Восьми, который немедля послал сбиров арестовать всю компанию: их схватили, когда они еще спорили и пререкались друг с другом, и всех, за исключением Буркьелло, привели в замок Барджелло и посадили за решетку.
Наутро, когда собрался суд, первым предстал перед ним лекарь Маненте, и судьи начали грозить ему пыткой на дыбе, если он не скажет им правду; поэтому лекарь Маненте сразу же рассказал им по порядку, с самого начала и до конца, все, что с ним произошло, причем так складно и остроумно, что не один раз заставил их хохотать; потом они велели отвести его обратно в тюрьму и послали за Никколао, который тоже рассказал им правду — то есть все, что ему самому было известно; сказанное им подтвердил и Микеланьоло, и в доказательство своих слов они представили свидетельские показания, будучи совершенно твердо уверены в том, что умерший не кто иной, как лекарь Маненте. Когда суд Восьми услышал про санитара, на руках у которого умер больной и который производил дезинфекцию в доме, судьи решили, что теперь-то у них в руках имеется необходимая ниточка и они легко смогут распутать это сложное дело; поэтому они сразу же послали за ним сбира в монастырь Санта-Мария-Нуова. Однако, когда сбир, возвратившись, доложил, что означенный санитар, поспорив с другим и поранив ему ножницами лицо, из страха перед герцогом[95] бежал куда глаза глядят и до сих пор неизвестно, где он находится, судьи растерялись еще больше и не знали, что делать. Как видите, подобным шуткам все благоприятствует самым наилучшим образом.
Суд Восьми, отправив всех обратно в тюрьму, поручил своим чиновникам тщательно проверить подлинность свидетельских показаний и, насколько это возможно, расследовать, соответствует ли истине рассказ лекаря Маненте; дня через два-три судейские чиновники доложили, что все допрошенные говорили истинную правду; в связи с этим суд продолжал пребывать в неудовольствии и великом замешательстве.
Тем временем Буркьелло, стремясь помочь маэстро Маненте, отправился на дом к одному важному лицу, члену этого суда, большому своему другу и другу лекаря Маненте, и поведал ему, что все это проделки Лоренцо Великолепного, который хотел сыграть с Маненте эту хитроумную шутку; рассказав, с какой целью Лоренцо сделал это, и приведя в доказательство множество доводов, он сумел убедить этого судейского, и тот в конце концов согласился с ним в том, что никоим другим образом, если не по милости Лоренцо, во Флоренции не мог бы произойти подобный случай; поэтому однажды утром, выступая в суде по этому делу, он высказал мнение, что, как ему кажется, следовало бы обратиться к Великолепному, который находится в Поджо[96], и передать эту судебную тяжбу на его усмотрение, ибо она столь запутана и сложна, что невозможно принять сколько-нибудь удовлетворительное решение. Всем это предложение в высшей степени понравилось; по общему мнению, помимо того, что это дело может доставить Лоренцо большое удовольствие, именно он явится лучшим судьей в подобного рода тяжбе; таким образом, судьи единодушно поручили секретарю суда со всеми подробностями довести обстоятельства этого дела до сведения Великолепного и тяжбу передать на усмотрение его светлости, так и было сделано: в тот же самый день Великолепному было направлено письмо, а арестованные приведены в суд, и им было приказано, чтобы никто из них не смел под страхом виселицы приближаться ближе, чем на сто шагов, к улице де'Фосси и беседовать с Бриджидой до тех пор, пока не будет вынесено решение по этой тяжбе, каковую суд передает на усмотрение Великолепного, который вскорости возвратится в город, и с этим они были отпущены; уплатив судебную пеню, они разошлись по своим делам, причем каждый надеялся, что приговор будет в его пользу.
Слухи об этой тяжбе распространились по всей Флоренции и всех очень озадачили, а Бриджида, донельзя огорченная и недовольная, не могла дождаться, когда же наконец все закончится. Маэстро Маненте, вновь поселившись у Буркьелло, занялся врачеванием, а оба золотых дел мастера вернулись к своему ремеслу. Великолепный, получив письмо Восьми, немало потешался и сам весьма дивился тому, что его шутка удалась в тысячу раз лучше и обернулась куда смешнее, чем даже он мог предполагать, когда ее замышлял, и это доставило ему превеликое удовольствие.
А когда дней через восемь — десять он возвратился во Флоренцию, не успел он приехать, к нему сразу же пожаловал лекарь Маненте, однако не смог добиться аудиенции, то же самое произошло с золотых дел мастерами; однако на другой день Маненте пришел вновь и застал Лоренцо как раз за столом, когда тот только отобедал; увидев лекаря, Великолепный, не подав вида, насколько все это его забавляет, притворился вне себя от изумления и неожиданности и воскликнул громким голосом:
— Маэстро Маненте, вот уж не чаял когда-нибудь тебя вновь увидеть, ведь я был твердо уверен, что ты умер! Да я и теперь еще не совсем убежден, что это в самом деле ты во плоти, а не кто-то другой или, может быть, твой дух, который благодаря какому-то волшебству обрел земную оболочку!
Лекарь, твердя, что он и не думал умирать и что это в самом деле он, хотел пасть на колени, чтобы поцеловать Великолепному руку, но тот сказал:
— Не приближайся! Пока что мне достаточно знать, что ты действительно маэстро Маненте во плоти, в таком случае — милости просим, но ежели это не так, то я тебе совсем не рад.
Лекарь тут собрался было рассказать свою историю, но Лоренцо ответил, что сейчас ему недосуг, а потом добавил:
— Сегодня вечером, после полуночи, я буду ждать тебя, чтобы выслушать твои доводы, — и затем дал ему понять, что пригласит и противную сторону.
Лекарь Маненте, поблагодарив его, почтительно откланялся и, возвратившись домой, подробно рассказал обо всем Буркьелло, который, усмехнувшись, сказал:
— Вот теперь я уверен: ты, как говорится, попал точно по адресу! Увидишь, что Лоренцо будет очень доволен — на ловца и зверь бежит!
Однако Буркьелло не мог побороть опасений и сомнений, ибо еще не представлял себе, чем все это может обернуться. Между тем наступил вечер, и оба золотых дел мастера, получив приказ явиться, были уже на месте и прохаживались в ожидании под портиками, когда прибыл маэстро Маненте; как только Лоренцо доложили об этом, он проследовал в главную залу в сопровождении некоторых знатных господ и именитых горожан, всех друзей и знакомых медика, и, сообщив обеим сторонам о начале разбирательства, вызвал первым Никколао, а затем Микеланьоло; им обоим велели встать рядом, выслушали их доводы, а также показания представленных ими свидетелей, и, судя по лицам присутствующих, все были чрезвычайно озадачены. Потом их отпустили, и в залу ввели лекаря Маненте, который с самого начала, по порядку, ничего не опуская и не прибавляя, рассказал обо всем, что с ним произошло; рассказ этот невероятно поразил и позабавил всех, кто слушал его вместе с Великолепным, но как ни были они изумлены и как сильно ни потешались, они продолжали все больше дивиться и, не в силах долее сдержаться, принялись хохотать, да так, что никак не могли остановиться, тем более что Лоренцо заставил лекаря Маненте повторить свое повествование дважды или трижды; затем он велел снова позвать обоих золотых дел мастеров и получил возможность вдоволь натешиться, как никогда еще ему не доводилось в жизни, ибо обе стороны, разгорячившись и разъярившись, принялись неслыханно поносить друг друга, причем запас изрыгаемых ими грубостей казался поистине неиссякаем. Тем временем в зале появился викарий, за которым послал Великолепный; после того как все почтительно его приветствовали, Лоренцо усадил его рядом с собою и, обратившись к нему, сказал:
— Мессер викарий, я знаю, что вам известна суть тяжбы между этими достопочтенными людьми, и так как они уже изложили вам свои доводы, не буду повторять вам все обстоятельства этого дела; но поскольку уважаемые господа члены суда Восьми выбрали меня судьей в данной тяжбе, то мой долг вынести решение. Однако для этого мне необходимо прежде выяснить, действительно ли лекарь Маненте никогда не умирал и не является ли этот человек, которого мы видим перед собой, существом, испытавшим на себе колдовские чары, или дьявольским духом, а это надлежит установить и доказать вам.
— Но каким образом? — воскликнул викарий.
— Сейчас вам скажу, — ответил Лоренцо и продолжал: — Заклятие с него должны снять монахи, которые умеют изгонять злых духов с помощью прикладываемых к телу святых мощей, развеивающих волшебные чары.
— Вы верно сказали, — ответил мессер викарий. — Дайте мне на это немного времени — дней шесть — восемь, и если он выдержит испытание, то мы сможем наверняка сказать, живой ли он и тот ли, за кого себя выдает.
Маэстро Маненте попытался было вставить словечко, но здесь Великолепный, одобрив намерение викария и повторив, что, как только будет проведено это испытание, он вынесет решение, поднялся и, отпустив всех присутствовавших, вышел из залы в сопровождении находившихся с ним знатных господ, продолжая смеяться и шутить по поводу этого столь необычайного дела.
На следующий день викарий, который был добрым и набожным христианином, глубоко религиозным человеком, велел сообщить всему архиепископату, священникам и монахам, чтобы они приготовили святые мощи и образки, помогающие изгонять дьявола и заклинать духов, ибо через шесть дней им всем надлежит собраться во Флоренции в церкви Санта-Мария-Маджоре, а неявившихся постигнет суровое наказание. Все кругом только и толковали про эту новость, а обоим золотых дел мастерам, не говоря уже о лекаре Маненте, не терпелось дождаться назначенного дня. Лоренцо же тем временем вызвал во Флоренцию старого Непо из Галатроны, знаменитого в те времена колдуна и волшебника, и, объяснив, что он должен будет делать, спрятал его у себя во дворце, чтобы использовать в надлежащий момент. В церковь Санта-Мария-Маджоре со всего города и окрестностей нанесли уже несметное множество изображений святых и мешочков с мощами.
Когда наконец наступил условленный день, лекарь Маненте явился в церковь и стал ждать викария, который прибыл после вечерни в сопровождении не менее чем трех десятков монахов из числа самых уважаемых во Флоренции и, усевшись на приготовленный ему стул посредине церкви, приказал подвести к нему маэстро Маненте и велел ему опуститься на колени; затем два монаха из монастыря Сан-Марко принялись распевать над ним псалмы и гимны, шептать молитвы и тексты из Евангелия, кропя его святой водой и окуривая ладаном, в то время как другие священники и монахи начали подносить к нему один за другим образки и мешочки с мощами, чтобы он мог к ним притронуться. Но все было тщетно, ибо лекарь вовсе и не думал как-то меняться, а, напротив, обращался ко всем, кто к нему ни подходил, со смиренным почтением, воздавал хвалу господу и взывал к викарию, чтобы тот его безотлагательно освободил.
Церковь была набита битком, и все ожидали каких-то чудес, когда вперед выступил один монашек, прибывший из Валомброзы, молодой и дерзкий, который славился своим искусством изгонять духов, и заявил:
— Дайте-ка попробовать мне, и я вам сразу скажу, одержим он бесами или нет.
А затем, связав лекарю крепко-накрепко руки, он прикрыл ему голову епитрахилью и начал его заклинать и пытать вопросами, на которые тот отвечал неизменно исчерпывающе и по существу; но, поскольку, творя свои заклинания, монах нес такую чушь, что рассмешил бы и мертвого, маэстро Маненте, на свою беду, осмелился чуточку усмехнуться; заметив это, монах тотчас же воскликнул:
— Вот он, попался! — и очень ловко отвесил ему две звонкие оплеухи. — Ты, — сказал он, — враг божий, и я любой ценой заставлю тебя выйти!
Лекарю Маненте эта игра пришлась не по вкусу, и он в ответ закричал:
— Заклинай, сколько тебе влезет!
Но монашек изо всех сил хватил его кулаком в грудь, а потом принялся мять ему бока, приговаривая:
— Ах ты, нечистый дух, я заставлю тебя выйти, хочешь ты того или нет!
Так как лекарю оставалось рассчитывать лишь на свой язык, он принялся кричать:
— Ах ты, негодный грязный монах, да разве так обращаются с приличными людьми? Как тебе не стыдно, бездельник и пьяница, бить такого человека, как я? Я тебе за эти побои еще отплачу!
Монашек, услышав его проклятия, вновь кинулся на лекаря и, сбив с ног, стал топтать, а потом вцепился руками в горло и, наверное, задушил бы, если бы лекарь Маненте не начал взывать к милосердию божьему, тогда мессер монах отпустил его, решив, что злой дух согласился выйти наружу, и спросил:
— А какой ты мне дашь знак?
Тут Монах-Шут, который, смешавшись с толпой, по распоряжению Великолепного привел Непо в церковь, сказал, что пора вступать в дело ему. Непо тотчас же закричал громким голосом:
— Расступитесь, расступитесь, люди добрые, дайте мне пройти, ибо я пришел сюда поговорить с викарием и раскрыть ему всю правду!
Вид этого человека сразу всех изумил — он был высок ростом, и внешность у него была уж очень странная: кожа настолько смуглая, что казалась совсем темной, череп совершенно лысый, худое, изможденное лицо с резкими чертами, длинная черная борода, доходившая до самой груди, да и одет он был в грубое и необычное платье. Услышав его голос и поняв смысл его слов, все, исполненные удивления и страха, послушно перед ним расступились. Приблизившись к викарию, Непо первым делом оттащил монашка от лекаря Маненте, которому показалось, что его воскресили из мертвых, а затем заговорил и сказал следующее:
— Дабы истина, как это угодно господу богу, открылась всем, знайте, что лекарь Маненте никогда и не думал умирать, а все, что с ним произошло, объясняется чарами магии и дьявольской силой и было делом моих рук, Непо из Галатроны, это я заставляю демонов творить все, что мне только вздумается и заблагорассудится. Это я, в то время как он спал у церкви Сан-Мартино, повелел дьяволам отнести его в один заколдованный замок, и именно так, как он сам вам об этом рассказывал, продержал его там до того дня, когда однажды на рассвете велел перенести его и оставить в лесах Вернии. Заставив одного домового воплотиться в похожую на лекаря телесную оболочку, я приказал ему делать вид, что этот заболевший чумой дьявол — маэстро Маненте; затем заставил его притвориться мертвым, после чего он был похоронен, — по причине этого потом возникли все известные вам недоразумения. Все это велел сотворить я, чтобы поглумиться и насмеяться над лекарем Маненте, отомстив таким образом за оскорбление, некогда нанесенное мне в приходе Сан-Стефано его отцом, — с ним, увы, я так никогда и не сумел поквитаться из-за ладанки с хранящейся внутри ее молитвой святому Киприану против колдовских чар, которую он всегда носил на шее. И чтобы вы убедились, что слова мои — истинная правда, идите сейчас же и раскройте могилу, в которой был погребен тот, кого вы принимали за лекаря; а ежели вы сомневаетесь в правдивости моих слов и мои доказательства не кажутся вам явными, то можете считать меня лжецом и обманщиком и отрубить мне голову!
Викарий и все остальные присутствующие слушали его слова с большим вниманием, а лекарь Маненте, рассерженный и испуганный, бросал на него исподтишка косые взгляды, однако внимал ему, как зачарованный; и все находившиеся в церкви так же глядели на Непо во все глаза, затаив дыхание. Викарий, желая действительно внести в дело ясность и поскорее покончить с этой историей, от которой уже голова шла кругом, приказал двум монахам из монастыря Сан-Марко и двум монахам из монастыря Санта-Кроче немедля отправиться на кладбище и раскрыть эту злосчастную могилу; они сразу же пошли туда в сопровождении множества других монахов и священников и целой толпы мирян. Непо остался в церкви подле викария и лекаря Маненте, которые, все еще его боясь, не решались взглянуть ему прямо в лицо, опасаясь, как и большинство присутствовавших в церкви, уж не новоявленный ли это Симон Волшебник или новый Маладжиджи[97].
Между тем посланные Великолепным монахи и отправившийся вслед за ними народ дошли до кладбища у Санта-Мария-Маджоре и, вызвав церковного сторожа, велели показать склеп, в котором, как полагали, было погребено тело лекаря. В то самое утро, на рассвете, Монах по приказу Великолепного привез из Кареджи черного как смоль голубя, самую сильную, дальше и быстрее всех когда-либо на свете летавшую птицу, к тому же так хорошо умевшую находить свою голубятню, что она возвращалась туда даже из Ареццо и Пизы; осторожно, чтобы никто не видел, Монах посадил голубя в гробницу, которая ему была прекрасно известна, и вновь закрыл ее, да так, что казалось, ее лет десять не касалась ничья рука. Когда церковный сторож, зацепив крюком железную петлю, потянул вверх закрывавшую гробницу каменную плиту и на глазах более чем тысячи человек открыл могилу, этот голубь, которого звали Уголек, просидев много часов в темноте и без корма, наконец увидев свет, тотчас вылетел на волю и взмыл высоко в небо, в такую высь, что увидел оттуда Кареджи, и полетел в том направлении, достигнув своей голубятни за каких-нибудь несколько минут; присутствующих это настолько ошеломило и испугало, что многие пустились наутек и с криками: «Святой Иисус!», «Боже мой, помогите!» — разбежались кто куда. Сторож от страха упал навзничь, уронив на себя каменную плиту, которая сломала ему бедро, из-за чего ему пришлось много дней и недель проваляться в лубках. Монахи и большая часть толпы бросились к церкви Санта-Мария-Маджоре с криками: «Чудо! Чудо!» Одни говорили, что из гробницы вышел призрак, дух в виде белки, по с крыльями, другие, что змей, который извергал пламя, третьи полагали, что вылетел демон, превратившийся в летучую мышь; однако большинство утверждало, что это был маленький дьяволенок, причем некоторые говорили, что даже разглядели у него рожки и лапки, как У гуся.
В церковь Санта-Мария-Маджоре, где оставались викарий, лекарь Маненте и несметное множество народа, толпа монахов и мирян возвратилась чуть ли не бегом, крича в один голос: «Чудо! Чудо!» Вокруг них поднялась невероятная давка, ибо каждый пытался пролезть вперед, чтобы узнать, что же в самом деле произошло на кладбище. Тем временем Непо при помощи стремянных и Монаха протиснулся к боковой двери и, смешавшись с толпой, вышел из церкви так, что его не заметила ни одна живая душа, вскочил на поджидавшего его доброго коня и был таков; как ему и приказали, он возвратился к себе домой.
Викарий, выслушав рассказ монахов во всех подробностях, растерянно и ошеломленно озирался вокруг, ища глазами Непо, и, нигде его не видя, начал кричать, чтобы его немедленно нашли и схватили, потому что он хочет его сжечь на костре, как настоящего колдуна, мага и волшебника; но поскольку его нигде не было видно, решили, что он исчез при помощи искусства магии. Поэтому викарий, отпустив всех священников и монахов и сказав им, чтобы они забирали все свои образки и мешочки с мощами, направился вместе с лекарем Маненте во дворец к Великолепному.
Буркьелло же с несколькими своими приятелями стоял в церкви в сторонке и, видя все там происходившее, нахохотался так, что у него заболели скулы, особенно когда мессер монашек тузил лекаря Маненте. Оба золотых дел мастера, озадаченные и раздосадованные, тоже присутствовали там все время и, увидев, что викарий направляется во дворец, поплелись вслед за ним, чтобы попробовать, не удастся ли им как-нибудь выпутаться из этого дела.
Великолепному непрерывно доносили о происходящем во всех подробностях, и он, сидя с несколькими знатными господами и своими близкими друзьями, все еще не в силах был справиться со смехом, когда ему доложили, что пришел и просит его принять викарий, который, едва увидел Лоренцо, воскликнул, что он требует стражу, чтобы схватить Непо из Галатроны. Лоренцо, притворившись, что ничего не знает и не ведает, велел ему все рассказать по порядку, а затем молвил так:
— Мессер викарий, ради бога, не будем спешить с этим Непо, лучше скажите, что вы думаете о лекаре Маненте?
— Я думаю, — отвечал викарий, — что больше нет никаких сомнений в том, что это действительно он сам собственной персоной и что он никогда и не думал помирать.
— В таком случае, — сказал Великолепный, — я хочу вынести приговор, чтобы немедля покончить с тем запутанным положением, в котором очутились эти бедняги.
И, подозвав к себе Никколао и Микеланьоло, которых он заметил среди прочих, Лоренцо, в присутствии викария и множества достойных и знатных граждан, велел им обнять и облобызать лекаря Маненте, и они от всего сердца помирились, попросив друг у друга прощения и свалив всю вину на Непо, а затем Великолепный вынес следующее решение: Микеланьоло не позже завтрашнего дня должен вывезти из дома маэстро Маненте все свои вещи, которые он туда принес, когда женился на Бриджиде, а этой последней надлежит, взяв с собой лишь четыре сорочки, юбку и плащ с капюшоном, отправиться в дом своего брата и оставаться там, пока не разрешится от бремени; когда же родится ребенок, Микеланьоло может поступить с ним по своему усмотрению, приняв или же нет на себя заботы о нем, и в случае, если он от него откажется, дитя сможет взять к себе лекарь; если же и он не захочет, то ребенка надлежит отправить в приют Невинных младенцев, а все расходы, связанные с родами, должны быть отнесены на счет Микеланьоло; лекарь же Маненте может возвратиться к себе домой и жить там со своим малолетним сыном, а Бриджида, разрешившись от бремени и получив через сорок дней церковное благословение, должна вернуться к маэстро Маненте, каковой обязан принять ее с лаской и любовью.
Этот приговор всем понравился, и все, кто присутствовал при этом, очень хвалили Великолепного; затем золотых дел мастера и лекарь, почтительнейше его поблагодарив, отбыли в самом прекрасном настроении, а вечером того дня, заранее условившись, отужинали все вместе с Бриджидой в доме маэстро Маненте, куда был приглашен и Буркьелло, к которому лекарь потом и отправился ночевать.
Мессер викарий, оставшись вдвоем с Великолепным, настаивал, что надобно поймать Непо, дабы сжечь его на костре; однако Лоренцо возражал ему, говоря, что куда лучше оставить его в покое, ибо из этой затеи у них все равно ничего не выйдет, так как у Непо имеются тысячи способов и тысячи средств скрыться от них и не даться им в руки; он, в частности, может сделаться невидимым, превратиться в птицу, обратиться в змею и знает множество иных подобных штук, прибегнув к которым оставит их в дураках; кроме того, кто знает, может быть, господь бог наделил это семейство из Галатроны такой силой и властью также и с какой-нибудь благой целью, пока еще неведомой людям, а затем не следует забывать и о той весьма серьезной опасности, что Непо может провидеть и предугадать их враждебные намерения и лишит их дара речи, заставит окриветь, скосит им на сторону рот, нашлет на них паралич или какую-нибудь другую напасть.
Тут викарий, будучи, как вы уже могли заметить, человеком мягким и податливым, сразу же согласился с его доводами и, прося прощения, сказал, что он всего этого не знал и что о высказанном им только что намерении и вообще о всем происшедшем он не заикнется больше никогда в жизни, и, приняв такое решение, он оставил Великолепного и, не без сильного опасения заполучить какую-нибудь неведомую хворь, вернулся к себе домой, и никогда больше до самой смерти от него не слыхали и словечка о Непо — ни хорошего, ни худого.
На следующий день Микеланьоло забрал из дома маэстро Маненте все свои пожитки, а Бриджида переехала к брату, так что лекарь получил в полное распоряжение все свое имущество и в тот же день возвратился к себе домой и вновь обрел сына.
В то время во Флоренции только и говорили, что об этой истории, причем вся честь и невероятная слава достались в первую очередь Непо, которого все, а больше всего простой народ, почитали за величайшего колдуна.
Маэстро Маненте, действительно поверив, что все происходило так, как рассказал Непо, впоследствии размышляя об этом, частенько говаривал, что грушу ест отец, а оскомина остается на зубах у сына; эта его фраза потом стала пословицей и дошла до наших дней, и хотя уже даже не только Буркьелло Бездонная Бочка, но и сам Великолепный, Монах и стремянные впоследствии рассказали во всех подробностях, как была осуществлена эта проделка, ничто не могло заставить его думать по-другому, даже более того: он был так напуган, что накупил множество ладанок с охраняющими от волшебства молитвами святому Киприану и постоянно носил их на шее, а также заставлял носить и свою Бриджиду; последняя в положенное время родила мальчика, которого затем взял к себе Микеланьоло и растил до десятилетнего возраста, а когда он умер, родственники отдали мальчика в послушники в монастырь Санта-Мария-Новелла, и со временем из него вышел на редкость образованный монах, он стал замечательным проповедником и за свою проницательность, приятность и остроумие был прозван в народе братом Буравчиком. Лекарь же Маненте жил-поживал, детей и добро наживал со своей Бриджидой и всю жизнь до самой смерти каждый год праздновал день своего заступника Киприана и всегда особенно глубоко чтил этого святого.
Совсем недавно в одном из городов Ломбардии жила некая благородная дама, жена очень богатого дворянина, и была она более озорного и капризного нрава, чем пристало особе ее положения. Ей доставляло великое удовольствие всех вышучивать, а нередко и всласть поиздеваться над своими кавалерами, чтобы потом в обществе прочих дам насмехаться то над одним, то над другим. Поэтому никто не решался ухаживать за нею и особенно не старался с ней сблизиться: все знали, что язык у нее очень длинный и она может наговорить на человека все, что угодно, особливо если представится случай больно его уколоть. А так как поистине не пристало мужчинам состязаться с дамами и спорить с ними, ибо следует ублаготворять их и чтить, то большинство мужчин старалось вообще уклониться от всякого разговора с нею, — тем более известно было, сколь невоздержана она на язык и сколь язвительна и притом не способна никого уважать. Была она, однако, необыкновенно хороша собою и в полной мере обладала всем тем, из чего слагается женская красота; в манерах ее было столько изящества, что каждым поступком своим, каждым шагом, каждым малейшим движением она, казалось, преумножала неизъяснимую прелесть свою, и во всей Ломбардии нельзя было сыскать ей равной.
Нашлись все же кавалеры, которые, не зная как следует нрава этой дамы, принимались увиваться за нею и даже в нее влюблялись; она же, насытившись вдосталь их нежными взглядами, начинала всячески потешаться над ними, дабы от них отделаться, и неосторожным влюбленным приходилось терпеть ее глумление.
И хотя была она, как я вам уже сказал, особой неприятной, ей тем не менее доставляло удовольствие видеть, как люди любуются ею, и нередко, для того чтобы искуснее заманить мужчину в свои сети, она способна была притвориться и уверяла, что влюблена в того или в другого, но в конце концов в голову ей всходила дурь, и тут она делала вид, что и знать никого из них не знает.
Случилось, что один богатый и очень знатный юноша этого города, хоть он и был наслышан об издевках и насмешках этой дамы над многими людьми и знал о ее дурном нраве, неустанно взирая на совершенства ее и думая день ото дня больше, чем следовало, о ней и о ее красоте, которая глазам его представлялась поистине ангельской, так страстно влюбился в нее, что не мог уже больше помышлять ни о чем другом и понял, что потерял всякую власть над собой. И, перебирая в душе все, что имело отношение к предмету его новой любви и к тому дурному, что ему о ней доводилось слышать, он все думал и думал и становился то веселым, то мрачным в зависимости от того, тешился ли надеждой или впадал в отчаяние, и решил любыми путями добиться расположения этой дамы. И он принялся часто ходить и ездить по улице, на которой она жила, и, видя ее у дверей, всякий раз очень любезно ей кланялся и непременно останавливался и заводил с нею разговор. Хоть ему и не хватало смелости открыться ей на словах, вздохи его и пламенные взгляды говорили о том, что творилось у него на душе. Дама же была хитра и коварна, — влюбленность юноши развлекала ее и тешила; от этого она, может быть, преисполнялась еще более высокого мнения о своей особе. Время от времени лукаво поглядывая на него, она сумела постепенно дать ему понять, что и сама к нему неравнодушна.
У юноши этого была сестра, жившая неподалеку от этой дамы. И так как по некоторым причинам мне не пристало называть их настоящие имена и я даже не сказал вам, в каком городе все это было, назовем сестру этого юноши Барбарой, а самое даму Элеонорой. Барбара овдовела и растила маленького сына, вместе с которым ей досталось после смерти мужа большое наследство, что позволило ей стать полновластной хозяйкой в доме. И всякий раз, когда юноша — назовем его Помпейо — шел к сестре, он должен был проходить мимо дома Элеоноры. Помпейо почитал это за величайшее счастье, тем более что сестра его была дружна с известной нам Элеонорой, и они часто виделись. И вот настал день, когда страсть Помпейо достигла такой силы, что он признался молодой женщине в своей любви, умоляя ее сжалиться над ним и взять его себе в услужение и сказав ей при этом много всего такого, что в подобных случаях говорят влюбленные. Даме же этой Помпейо нисколько не нравился, но она все же не сочла возможным издеваться над ним, ибо принадлежал он к одной из самых знатных фамилий в городе. И она стала уговаривать его устремить чувства свои на кого-нибудь другого и больше не говорить ей о них. Юношу, однако, речи эти нисколько не смутили, и всякий раз, когда к тому представлялся случай, он продолжал ходить за Элеонорой по пятам и снова твердил ей о своей любви. Но она становилась с каждым днем все более суровой, и неприступность ее доводила Помпейо до отчаяния.
Так вот обстояли дела, когда в один прекрасный день он случайно узнал, что муж Элеоноры отлучился, а было это примерно в конце июня. И он решил пойти и поговорить с ней и добиться того, чтобы она снизошла к его желаниям. Не долго думая, воодушевленный своей любовью, придававшей ему уверенность и смелость, он сел на мула и, взяв с собою несколько слуг, отправился к ней. Потом он отослал всех слуг вместе с мулом к сестре и, наказав им там его ждать, пробрался в дом один, а было это в три часа пополудни. Судьба благоприятствовала ему: Элеонора днем не спала; сидя в нижней комнате напротив двери, ведущей в залу, она вышивала шелками. Никого не встретив, юноша направился прямо в залу и, заглянув в дверь, увидел прелестницу раньше, чем та успела заметить его приближение, и устремился к ней. Подняв голову и увидев его, она перепугалась, ибо была одна и все в доме спали. И прежде чем он успел открыть рот, она сказала:
— О, горе мне, Помпейо! Кто же это провел вас сюда? Он же низко поклонился ей и ответил, что, прослышав о том, что супруг ее уехал, решил прийти к ней, побыть с ней наедине и поговорить и что для этого он незаметно проник в дом, отправив всех слуг своих к сестре. Он собирался уже завести речь о снедавшей его любви, но она оборвала его, вскричав:
— О, горе, горе! Какой опасности подвергаете вы и свою жизнь и мою! И какая угроза нависла теперь над моей честью! Ведь муж мой здесь, в городе, и вот-вот должен вернуться домой, после обеда он поехал по делам и сейчас, верно, успел уже управиться. О Помпейо, если вы хоть сколько-нибудь думаете обо мне, если вы любите меня, уйдите. Я вся дрожу. Мне кажется, будто он уже тут.
Не успела она произнести эти слова, как действительно с улицы послышался голос ее мужа, он что-то говорил, и так громко, что она сразу же узнала, что это был он. Узнал его голос и Помпейо. Элеонора вся трепетала от страха; испуганный и дрожавший Помпейо не знал, что делать. Муж Элеоноры находился у ворот; он еще не успел сойти с коня и с кем-то разговаривал.
Вдруг Элеонора сообразила, как выйти из положения: в комнате стояла большая корзина; она вытряхнула оттуда все, а потом упрятала Помпейо на самое дно, а сверху укрыла одеждой и разным тряпьем так тщательно, что никто не мог бы ни о чем догадаться, и наказала ему лежать и не шевелиться. После чего она разбудила одну из своих служанок, спавшую в комнатке рядом. Муж спешился и вошел в переднюю. Элеонора приветливо и спокойно спросила:
— Кто там? Кто это?
Муж ответил ей, вошел в спальню и сел на кровать.
— Дорогая моя, — сказал он, — я купил сейчас у одного моего обедневшего приятеля старинный палаш; такого клинка во всем городе не найти, да, пожалуй, другого такого палаша и за тысячу миль в округе не сыщешь. Мне хочется хорошенько его отшлифовать, заказать красивые бархатные ножны, а потом подарить его другу нашему, капитану Бруско, тот давно о таком мечтает.
Он велел принести палаш и, показав его жене, продолжал:
— Ну-ка скажи, видала ты когда-нибудь такое? Смеясь и шутя, жена ответила:
— Что мне твои палаши, не женское это дело, не больно-то я во всем этом разбираюсь и не могу сказать, хорош он или плох, разве что увижу на нем украшения и позолоту, какие мне нравятся. Не пойму я, для чего тебе нужно столько всякого оружия, ты всю кладовую им завалил, ни один ведь из всех этих палашей и ни одна из твоих турецких сабель не годится даже на то, чтобы сыр на три части разрезать. Лучше бы уж тратил деньги на что-нибудь более полезное.
— Как бы не так, — ответил муж, — стану я покупать всякие чепчики и безделки, какие ты покупаешь с утра до вечера и изо дня в день. Тебе ведь вечно нужны новые уборы, новые воротнички, покрывала с золотой бахромой, да еще чтобы в карету были впряжены четыре неаполитанских или четыре фризских коня, а то тебе, видите ли, стыдно появиться на люди.
— Так, так, — ответила жена, — всегда-то ты возводишь хулу на женщин и каждый раз делаешь все наперекор. Все эти безделки нам кстати, из них складывается наша жизнь; ведь если мы одеваемся небрежно, не приукрашивая искусно нашу природную красоту, вы же сами потом подсмеиваетесь над нами и говорите, что мы неопрятны, что мы одеты грубо, как простые крестьянки и кухарки. Стоит же вам завидеть какую-нибудь хорошо одетую женщину, даже самую некрасивую, только бы лицо у нее было подкрашено, особливо же если левантийскими румянами, — и вы рветесь к ней, как козлы к соли. Ты отлично знаешь, что я-то уж тебя раскусила. Ну а с оружием что? У тебя его столько, будто ты командуешь целой армией, а ведь я верно говорю, что всеми твоими палашами куска сыра не отрезать.
Неизвестный венецианский художник XV в.
Золотых дел мастер. Из серии «Тароки».
Гравюра резцом.
— Ладно, — сказал муж. — Провалиться мне на этом месте, пусть руки у меня отсохнут, если одним ударом этого палаша я коня надвое не разрублю, так он хорош, тонок, остер.
Жена в ответ только улыбнулась и, поднявшись, кинулась к тому месту, где был спрятан Помпейо, и, положив руку на одно из своих платьев алого бархата, которым тот был укрыт, сказала:
— Хочу побиться с тобой об заклад, что и двумя ударами тебе не разрезать платьев, что вот сейчас у меня в руке, — рука же ее в это время лежала на ногах Помпейо.
Даме этой так захотелось нагнать на юношу страху, что она попросила мужа разрезать платья, в душе зная, что он этого не станет делать.
Вообразите, что должен был испытать Помпейо: услыхав слова Элеоноры, он весь помертвел и приготовился уже выдать себя, выскочив вон. Но он был один, оружия при нем никакого не было, он считал, что муж Элеоноры явился в сопровождении слуг, что у него все еще в руках палаш, и был этим приведен в великое смятение; ему уже начинало мерещиться, что голова его лежит на плахе и палач заносит над нею топор. Так вот, кидаясь от одной мысли к другой и в то же время убеждая себя, что на него навалили столько платьев, что вряд ли возможно перерезать их все одним махом, и ожидая, чем же завершатся наконец причуды Элеоноры, он весь покрылся холодным потом, словно коркою льда.
Итак, дама наша сказала мужу, что хочет побиться с ним об заклад, что ему ни в жизнь не разрубить палашом ее платья. На это супруг ответил:
— Женушка, не пойму что-то, какой будет прок и тебе и мне, если я твои наряды испорчу, по мне, так оба мы будем от этого только в убытке. Испытаем-ка лучше палаш на чем другом, и увидишь, что ни одна бритва не режет так, как он.
— Нет, непременно будем биться об заклад, — ответила Элеонора, — если ты действительно одним махом разрежешь эти платья, я закажу тебе золотой парчовый камзол, а не разрежешь, так сошьешь мне на свои денежки белое атласное платье.
У Элеоноры были кое-какие собственные доходы, от тетки она получила в наследство состояние, и притом не малое; вот почему она могла биться об заклад с мужем. Он же, видя, что жена твердо решила испытать, насколько остер его хваленый палаш, и все попытки отговорить ее ни к чему не приводят, согласился, встал, занес руку и сказал:
— Ну, жена, по какому месту рубить?
Она же, как уже было сказано, держала руку на платьях своих прямо в ногах Помпейо. Теперь она передвинула ее выше, ему на бедра, и сказала:
— Руби здесь, если только у тебя хватит духу сделать это с честью.
— Ты говоришь это серьезно или только шутишь надо мной? — спросил муж. — Клянусь тебе спасением души, я за один миг исполню твое желание.
— Говорю это истинно и совершенно серьезно, — ответила она. — Только может ведь статься, что ты ударишь слегка, нет, лучше не сюда, вот здесь руби.
С этими словами она положила руку сначала на грудь спрятанного под платьями любовника, а потом ему на шею и сказала:
— Желтую ленту видишь, вот тут и руби, — и продолжала держать руку.
Муж готов был уже нанести удар и сказал:
— Ну а теперь отойди-ка в сторону; коли хочешь посмотреть, что можно сотворить этим палашом, то сейчас я ударю.
Помпейо лежал на платьях и платьями же был укрыт. Тогда она, смеясь, сказала мужу:
— Честное слово, не верю я, что ты способен погубить мои платья. Что ты, ведь пропадут они — так когда еще я новыми обзаведусь. Нет, нечего тебе на моих платьях силу испытывать.
С этими словами, за которыми последовали и многие другие, она выпроводила мужа из комнаты; он сел на коня и отправился погулять. Она же, поручив служанкам своим делать разные дела по дому, вернулась в комнату и освободила несчастного, который был ни жив ни мертв и много раз проклинал в душе и даму, и себя самого, и свою любовь. Освободив его, Элеонора улыбнулась и сказала:
— Ну, теперь ступайте на все четыре стороны и больше не докучайте мне своей любовью. Знайте, что, посмей вы еще раз явиться ко мне в дом, я разделаюсь с вами точно так же, а может статься, еще и похуже.
Немного приободрившись, Помпейо ответил:
— Синьора, не приписывайте поступки мои ничему другому, кроме великой любви, которая меня на это подвигнула.
И так как она не стала слушать его излияния, он ушел, сгорая от любви, но вместе с тем преисполненный негодования. И когда он начал думать о том, как бы ему лучше насладиться своей любовью и отомстить коварной даме, ему пришла на ум необыкновенная мысль, и он стал только ждать подходящего случая, чтобы привести в исполнение свой план. Он продолжал по-прежнему ухаживать за своей дамой и всюду следовать за нею, она же при виде его не могла удержаться от смеха, вспоминая о том, как ловко над ним подшутила.
Вскоре случилось, что муж Элеоноры уехал из Ломбардии и отправился в Рим. Помпейо, зная, что он пробудет там несколько месяцев, в тот же день притворился больным и распространил по городу слух, что недуг его очень тяжек. И он на несколько дней заперся у себя в комнате, где при нем был известный врач, который готов был исполнить любое его желание. Он посвятил также в эти намерения сестру свою Барбару. Сестра его пригласила Элеонору на завтрак, и та охотно согласилась прийти, ибо была с ней в приятельских отношениях. Пока они завтракали вдвоем и толковали о недуге Помпейо, пришел слуга и сказал, обращаясь к мадонне Барбаре:
— Синьора, с братом вашим что-то неладное приключилось, у него отнялась речь.
— Что ты говоришь! — вскричала Барбара. — Вели сейчас же заложить лошадей.
И она предложила мадонне Элеоноре поехать с ней вместе проведать брата.
Они сели в карету и, закрыв дверцу, направились в дом Помпейо. Он лежал в постели, в комнате было очень темно. Обе дамы подошли к изголовью.
— Мужайся, брат, — сказала Барбара, — посмотри, мадонна Элеонора приехала проведать тебя.
Совсем слабым голосом Помпейо пробормотал какие-то слова, которых они не могли разобрать, выглядел он совсем плохо. Слуги, которым все было наказано наперед, удалились, оставив своего господина в обществе сестры и Элеоноры. Мадонна Барбара под каким-то предлогом сумела на время выйти из комнаты и запереть дверь на ключ. Как только хитроумный юноша убедился, что жестокая красавица в его власти, он вскочил с постели и, крепко обнимая ее, вскричал:
— Вы моя пленница!
Элеонора пыталась вырваться из его объятий, но ей это не удалось. Продолжая крепко сжимать ее, Помпейо открыл окно. Понимая, что крика ее никто не услышит, Элеонора стала плакать и винить во всем мадонну Барбару, сетуя на ее предательство и вероломство. Юноша ласковыми словами утешал ее, как только мог, уговаривая ее успокоиться, ибо решил во что бы то ни стало насладиться ее любовью, дав себе слово не выпустить ее из рук, пока не осуществит своего намерения и не отомстит ей за жестокую и страшную шутку, которую она так бесстыдно с ним сыграла. Но только он намерен вести себя с ней иначе и не станет применять оружие.
Элеонора, однако, ни за что не хотела смириться, ибо это была женщина гордая, упрямая и сильная; к тому же ее обуревали негодование, досада и гнев, — ведь еще не было такого случая, чтобы она подчинилась кому-то по доброй воле. И она плакала навзрыд и, видя, что попала во власть насильника и помощи ей ждать неоткуда, предалась отчаянию. Дав ей выплакаться вволю и излить все свои горькие жалобы, Помпейо крепко сжал ее в своих объятиях и стал неистово целовать в губы и грудь, а потом снова вспомнил старое и сказал:
— Синьора, вы знаете, сколь долго я был вашим покорным рабом, знаете, что на свете не было ничего такого, чего бы я не сделал из любви к вам. Вы много раз встречали меня приветливо и давали понять, что вам приятно мое внимание. Мне казалось, что больше уже не представится ни времени, ни случая выказать вам страстную мою любовь, из-за вас я лишился покоя и сна, потерял аппетит. Поэтому, когда я услыхал, что муж ваш уехал, я решил добиться того утешения, которое, думалось мне, я у вас найду. И, весь дрожа и сгорая от желания, я направился к вам. Вы, должно быть, помните, как вы обошлись со мной и как бесстыдно надо мной потешались. Если же ненароком гордыня и высокомерие вытравили из памяти вашей тот ужас и страх, которые вы заставили меня испытать, то знайте, что я этого не забыл, что это всегда во мне, и я помню, как вы, — хоть я того ничем не заслужил, — подвергли меня смертельной опасности. Вам не следовало вести себя со мною подобным образом, ведь, зная, как я люблю вас, — а вы это преотлично знали, — вы могли, если вам была не по нраву моя любовь, расстаться со мной по-хорошему, и я бы сыскал себе другую. Ныне же я хочу отомстить вам такой местью, какая вам и не снилась. И, понимая, что по своей воле вы никогда не пришли бы ко мне в дом, я решил завлечь вас сюда обманом, а коль скоро вы здесь, то лучше добром отдайте мне то, что теперь вы уже не в силах вырвать из моих рук.
Элеонора упорно сопротивлялась, но в конце концов ей ничего не оставалось, как раздеться и лечь с любовником в постель, где они много раз вступали в единоборство и где всякий раз он оказывался победителем. И Помпейо вкусил с нею наслаждение, которого так домогался. Натешившись любовной игрой, он открыл одну из дверей комнаты и провел свою пленницу в соседнюю роскошную залу, где стояла кровать, от которой не отказался бы даже самый знатный вельможа. На ней было четыре ватных тюфяка, покрытых простынями тончайшего полотна, вышитыми шелком и золотом. Покрывало было из алого атласа, расшитое золотом, украшенное бахромою алого с золотом шелка. В изголовье лежали четыре подушки тонкой работы. Роскошное ложе это укрывал со всех сторон парчовый полог, украшенный драгоценной отделкой. Стены были наместо шпалер с великим искусством обтянуты кармазинным бархатом, в середине стоял удобный, изящный, покрытый шелковой скатертью стол. Восемь очень красивых резных стульев были расставлены вокруг. Четыре кресла, обитые алым бархатом, и несколько картин кисти Леонардо да Винчи прекрасно дополняли диковинное убранство.
Меж тем мадонна Барбара пригласила человек двадцать пять молодых дворян из самых знатных семей города. Предупрежденный об этом, Помпейо успел заранее уложить свою любовницу в кровать и, покрыв ей лицо богатым покрывалом и окропив комнату кипрскими духами, мускусом и другими благовониями, окурив ее алоэ, отдернул полог, Элеоноре же приказал не шевелиться, что бы она ни услыхала. Вслед за тем, роскошно одетый, он вышел и с распростертыми объятиями встретил собравшихся в доме молодых людей. Гости воззрились на него с превеликим удивлением, ибо были убеждены, что он тяжко болен. Он же, видя их изумленные лица, обратился к ним со следующими словами:
— Синьоры и друзья мои, понимаю, как вас должно удивлять, что тот, кто был так тяжко болен, стоит перед вами в добром здравии. Мне действительно было очень худо, и я думал, что мне уже не выжить. Но сегодня я принял чудесное снадобье, которое, как вы видите, меня исцелило. И так как я знал, что все вы были удручены моим недугом, мне захотелось порадовать вас своим видом. Я хочу также показать вам это чудодейственное лекарство, но вместе с тем хочу, чтобы вы пообещали мне не уходить отсюда, что бы ни предстало здесь вашим глазам.
С этими словами он провел их в залу. Всем им показалось, что они вступают в райскую обитель, — до того поразило их убранство залы и струившиеся там чудесные ароматы. Элеонора, которая слышала весь этот разговор и даже по голосу узнала кое-кого из родичей своих и знакомых, вся дрожала, ибо не ведала, что замыслил Помпейо. После того как все громко выразили свой восторг по поводу этой неслыханной роскоши и каждому захотелось увидеть, кто же лежит под пологом, Помпейо сказал:
— На сем ложе, синьоры, вы найдете драгоценное и чудесное снадобье, которое сегодня меня исцелило и которое я собираюсь показать вам, только не все сразу, а постепенно.
Сказав это и предупредив, что лица открывать не следует, он с помощью одного из слуг осторожно снял покрывало: на лежавшую под ним женщину была накинута только тончайшая простыня, под которой угадывались все очертания ее нежного и хрупкого тела. Приподняв затем край простыни, Помпейо обнажил две изящные белоснежные ножки с продолговатыми и тонкими пальчиками, казалось, вырезанными из чистейшей слоновой кости, и походившими на жемчужины ногтями. Вслед за тем он обнажил почти целиком и бедра. Женщина лежала простертая перед ними, и при виде нежных линий ее тела во всех взиравших на нее мужчинах пробудилось вожделение. Помпейо спросил их, как им нравится это лекарство. Они похвалили его и все воспылали желанием испробовать его на себе. Тогда, прикрыв кончиком простыни то, что находится между бедер, он обнажил живот и грудь, на которые собравшиеся взирали с восторгом, ибо при том, что женщина была замечательно сложена, груди ее были поистине необычайной красоты. И все с неизъяснимым наслаждением взирали на этот упругий белоснежный торс с двумя круглыми крепкими чашами грудей, которые можно было бы принять за алебастровые, если бы они не вздымались и не трепетали, чем вызывали еще большее восхищение. Все ждали, что сейчас увидят ее ангельской красоты лицо, но Помпейо за один миг укрыл снова ее обнаженное тело и, уведя гостей, усадил их за стол, где мадонна Барбара приготовила для них угощение: свежие плоды, засахаренный миндаль и самые лучшие вина. И они стали угощаться и пить вино и вести разные речи, причем каждый говорил о том, что ему было всего интереснее. В то время как они угощались, мадонна Барбара, войдя туда, где мадонна Элеонора лежала еще в постели, сказала:
— Ну как, мадонна, брат мой отплатил вам той же монетой, не правда ли?
Заливаясь слезами, Элеонора стала просить ее отдать ей платье и сетовала на то, что та ее предала. Пришел Помпейо, поклонился и сказал:
— Синьора, мы с вами квиты. Но если рассудить по правде, то виноваты все-таки вы.
И он много всего сказал ей такого, что ее успокоило. А так как она уже изведала вкус объятий любовника и нашла, что они сладостнее, чем ласки мужа, то она смирила свой гнев и устроила так, что они долго еще наслаждались своей любовью. С тех пор она никого больше не высмеивала и стала со всеми приветливой и любезной. Вот почему, дорогие дамы, всем надо помнить, что не следует потешаться над другими, если вы не хотите, чтобы люди потешались над вами, а кроме того, и отплатили бы вам за все худое вдвойне.
Вы, должно быть, знаете, что синьора Бьянка Мария, о которой пойдет речь, — я говорю «синьора» из уважения к обоим ее мужьям, — происходила из простой семьи, род ее пользовался не особенно хорошею славой: она была дочерью некоего Джакомо Скаппардоне, простолюдина из Казаль-ди-Монферрато[100]. Сей Джакомо смолоду еще занимался ростовщичеством и брал такие большие проценты, что изрядно на этом нажился и получил возможность скупить немало земель. И он все еще продолжал давать деньги в рост, тратил же их мало и преотменно разбогател. Женился он на молодой гречанке, прибывшей из Греции вместе с матерью маркиза Гульельмо, который был отцом герцогини Мантуанской[101]. Жена Джакомо была очень хороша собой и мила, но она была намного его моложе: в то время как он стал уже глубоким стариком, ей не исполнилось еще и двадцати лет. У них родилась одна-единственная дочь — та самая Бьянка Мария, о которой я упомянул в начале рассказа. Отец ее умер, и девочка, совсем еще маленькой, осталась на попечении матери-гречанки, унаследовав недвижимого имущества на сумму не меньше ста тысяч дукатов. Девочка росла очень миловидной, веселой и резвой. Когда ей было лет пятнадцать — шестнадцать, ее взял себе в жены синьор Эрмес Висконте, сын всеми уважаемого дворянина, синьора Баттисты, и, очень пышно и торжественно справив свадьбу, со всеми почестями привез ее в Милан. Старший брат ее мужа, синьор Франческо, выслал ей в подарок роскошную резную золоченую карету; верх ее был обтянут парчой, весь в затейливых узорах, причудливых завитках — и вышитых и рисованных. Не было цены и впряженным в карету четырем рысакам, белым, как горностай. В этой карете синьора Бьянка Мария торжественно въехала в Милан, где и прожила потом с синьором Эрмесом около четырех лет. Когда он умер, она вернулась в Монферрато, в Казаль, и там, оказавшись на положении вдовы, богатой и свободной, зажила в свое удовольствие, утешаясь любовью то с тем, то с другим.
Немало мужчин сватались к ней и хотели на ней жениться. Самыми знатными искателями ее руки были синьор Джизмондо Гонзага, сын синьора Джованни, и граф ди Челлан, барон Савойский, владелец поместья в долине Аосты и многих замков, приносивших ему немалый доход. Чтобы угодить зятю своему, владетелю Мантуи, маркиза Монферратская старалась сделать все, чтобы выдать молодую вдову за синьора Джизмондо, и можно было уже считать, что свадьба эта — дело решенное. Но граф ди Челлан так искусно ухаживал за синьорой Бьянкой и так обворожил ее, что ему удалось втайне обвенчаться с ней, и таким образом они оказались связанными узами брака. Маркизе Монферратской брак этот был очень не по душе, и она рада была бы отомстить синьоре Бьянке Марии, сыграв с ней какую-нибудь злую шутку, однако из уважения к графу она не решалась дать волю своим чувствам.
Итак, о браке этом оповестили всех и справили свадьбу, не сулившую, однако, ничего хорошего на будущее. Должно быть, верны слова поговорки: «Женишься по любви, а расстаешься по злобе», — потому что, после того как они какое-то время прожили вместе, между ними пошли раздоры, такие жестокие, что Бьянка Мария тайком убежала от мужа и поселилась в Павии, где завела себе хороший, приятный дом и стала жить слишком уж свободно и не так, как пристало женщине порядочной. В это время на службе у императора состоял Ардиццино Вальперга, граф ди Мазино вместе с братом своим, синьором Карло. Случайно оказавшись в Павии и увидав там Бьянку Марию, Ардиццино влюбился в нее и стал проводить у нее целые дни, стараясь угадать каждое ее желание и готовый на все, чтобы добиться своей цели. Он, надо сказать, немного прихрамывал, но это был очень красивый и обходительный юноша, и ему не понадобилось много времени на то, чтобы овладеть предметом своей любви. Больше года они прожили, наслаждаясь счастьем, причем так открыто, что не только в самой Павии, но и по всей округе уже пошли толки об их близости.
Случилось, что в Павию приехал синьор Роберто Сансеверино, граф ди Гаяццо, человек молодой, красивый и статный. Приглядевшись к нему, синьора Бьянка Мария смекнула, что он покрепче сложен и, сдается, поискусней будет в любви, нежели ее избранник, которым она к тому времени, может быть, уже успела пресытиться, и решила добиться его расположения. Поэтому она стала неприветлива с синьором Ардиццино и, не желая, чтобы он бывал у нее в доме, начала всячески вызывать его на ссору. Молодая женщина, забыв обо всем, что между ними было, начала говорить ему грубости, называть калекой, уродом и даже ругать разными бранными словами. Он же, не желая сносить обиды, дал волю своему гневу и не раз обозвал ее бесстыжей бабой, распутницей, потаскухой. И там, где раньше была великая любовь, теперь пробудилась лютая ненависть.
Синьор Ардиццино уехал из Павии и всюду, где только заходила речь о Бьянке Марии, говорил о ней все то дурное, что можно сказать о публичной девке. Ей часто рассказывали, как злословит о ней ее бывший любовник, и в отместку ему она решила безраздельно отдаться графу. Она думала, что таким путем сумеет обольстить его, и он всецело будет в ее власти, и она сможет тогда распоряжаться им, как ей заблагорассудится. И вот однажды в разгар любовных утех, когда граф, казалось, был сам не свой от страсти, она очень вкрадчиво и ласково стала упрашивать его убить синьора Ардиццино, который якобы непрестанно возводит на нее всяческую хулу. Графа эта просьба до крайности поразила. Он, однако, не растерялся и ответил, что исполнит не только это ее желание, но готов исполнить и любое другое, только бы ей угодить. Вместе с тем, зная, сколь коварна эта женщина, и памятуя о том, что синьор Ардиццино благороднейший человек и к тому же его друг, от которого он никогда не видел ничего худого, он решил, что не станет причинять ему никакого вреда, тем более что скорее уж синьор Ардиццино имел основания считать себя оскорбленным тем, что он, граф, хоть и не ведая того, лишил его радостей любви в объятиях синьоры Бьянки Марии. Сам же он тем временем стремился полнее насладиться ласками своей возлюбленной.
Так прошло несколько месяцев. Но стоило Бьянке Марии узнать, что, когда синьор Ардиццино бывал в Павии, — а он приезжал туда за это время раза два или три, — граф не только не пытался убить его, но и просто вызвать на ссору, а напротив, обласкал его и даже несколько раз обедал и ужинал с ним в компании, — как она решила порвать с графом. И вот по этой ли, по какой ли другой причине, она начала прикидываться больной и, пользуясь всякий раз тем или иным предлогом, не позволяла графу видеться с ней. Чаще всего она ссылалась на то, что к ней являются посланцы от мужа ее, монсиньора ди Челлана, который желает примириться с ней, и что она готова все сделать, чтобы вернуться к мужу. И она просила графа больше не приходить к ней, дабы посланцы мужа, приезжающие из Павии, не могли сказать о ней ничего дурного. То ли граф ди Гаяццо поверил этой басне, то ли нет, но, так или иначе, он сделал вид, что поверил, и без лишних слов с ней расстался, положив этим конец своей любовной связи с нею, и, чтобы больше не представилось случая возобновить ее, уехал из Павии в Милан.
Когда синьора Бьянка Мария увидела, что граф ее покинул, она подумала о том, что вообще-то говоря ей жилось привольнее с синьором Ардиццино, который страстно ее любил, и сменила ненависть свою к нему на любовь, а вернее говоря — одно вожделение на другое. И, решив вернуться к прежним любовным забавам с синьором Ардиццино, она изыскала способ поговорить с ним и оправдаться и уверила его, что безраздельно принадлежит ему и будет принадлежать до гроба, если только он этого захочет, и стала просить, чтобы он, в свою очередь, дал обещание принадлежать ей одной, как и она ему, навеки.
И случилось так, что синьор Ардиццино снова вернулся к прежней жизни и, снова начав предаваться любовным утехам с синьорой Бьянкой Марией, денно и нощно пребывал с нею. И так прошло много времени, когда вдруг женщине этой пришла в голову мысль убить графа ди Гаяццо. Если бы кто-нибудь спросил ее, почему ей этого захотелось, то сильно сомневаюсь, что она могла бы назвать какую-нибудь причину, разве что по недомыслию своему, готовая на самые страшные злодеяния, она сослалась бы на свое разнузданное и бесстыдное вожделение, которое, не скажу даже владело ею, а толкало с неистовой силой, ведя к погибели и ее самое, и других, о чем вы и узнаете сейчас, слушая то, что я расскажу.
Одержимая этой мыслью, Бьянка Мария убедила себя, что не сможет радоваться жизни, если граф ди Гаяццо останется в живых. И так как она не могла придумать иного способа разделаться с ненавистным ей человеком, то она решила, что палачом его должен стать синьор Ардиццино. И однажды ночью, лежа с ним в постели и предаваясь ласкам, она сказала:
— Вот уже несколько дней, господин мой, как я хочу просить вас доставить мне одно удовольствие, и мне не терпится, чтобы вы исполнили мою просьбу.
— Я готов сделать все, о чем вы меня попросите, — ответил ее любовник, — даже если это будет делом трудным, лишь бы оно было в моих силах.
— Скажите, — спросила она, — граф ди Гаяццо вам друг?
— Ну, разумеется, — ответил синьор Ардиццино, — я убежден, что он мне друг, и притом верный, я ведь люблю его как брата, да и он меня не меньше, и он всякий раз старается сделать мне что-нибудь приятное, так же как и я ему. Но почему вы меня об этом спрашиваете?
— Сейчас узнаете, — ответила Бьянка Мария и, нежно поцеловав его шесть раз, продолжала: — Любимый мой, вас жестоко обманули, я твердо уверена, что на целом свете у вас нет большего врага, чем он. Теперь послушайте, откуда я об этом узнала, чтобы вы не думали, что все это лишь плод моего воображения. Когда он бывал у меня, у нас с ним однажды зашел разговор о вас, и он поклялся мне, что не успокоится до тех пор, пока не вонзит вам в грудь отравленный кинжал, и что недалек тот день, когда он сыграет с вами такую шутку, после которой вы отдадите богу душу. И еще много всего худого говорил он о вас, но откуда у него такая ненависть к вам, он ни за что не захотел мне открыть, как я его ни пытала. И хоть я в то время была в обиде на вас, я без устали молила его, чтобы он отказался от своего замысла. На это он в гневе ответил, что решение его непоколебимо и лучше нам поговорить о чем-нибудь другом. Так что остерегайтесь его всемерно. Но я дам вам хороший совет, и, если вы последуете ему, вам не придется бояться ни самого графа, ни его угроз. Я бы на вашем месте упредила его и поступила с ним так, как он собирается поступить с вами. Тем самым вы окажетесь хитрее его, и вас за это век будут хвалить и почитать. Верьте мне, если вы не начнете первым, он не будет дремать, и стоит вам только немного зазеваться, как он убьет вас. Последуйте моему совету, убейте его, и как можно скорее; совершив это, вы не только исполните свой долг и поступите как рыцарь, защищая свою жизнь, которая, разумеется, вам дорога, но и мне доставите величайшее удовольствие. И если вы не хотите сделать это ради себя, то сделайте из любви ко мне, — ведь, даже подари вы мне целый город, я бы не так радовалась этому подарку; для меня большей радостью было бы видеть мертвым этого заику. Если только вы меня любите, — а я верю, что вы меня любите, — вы разделаетесь с этим наглым человеком, с этим гордецом, который не признает ни бога, пи людей.
Синьор Ардиццино, может быть, и поверил бы всей этой хитросплетенной лжи, если бы его возлюбленная не обнаружила в эту минуту своих истинных чувств. Он понял, что женщиной этой движет какая-то особая ненависть к графу, а отнюдь не страх за его жизнь, и он в глубине души теперь уверился, что тот не говорил против него ни одного дурного слова. Однако он сделал вид, что очень признателен ей за предупреждение, и много раз ее благодарил, обещав последовать мудрому совету, который она ему дала.
Однако следовать этому совету он не стал. Он решил, что прежде всего поедет в Милан и поговорит с графом. Так он и сделал. Там, найдя для этого подходящий случай, он затеял с графом разговор и во всех подробностях передал ему слышанное от Бьянки Марии. Граф перекрестился и, пораженный его рассказом, воскликнул:
— Какая же это паскуда! Не будь позорным делом для человека благородного пачкать руки в крови женщины, да еще такой бесстыжей твари, как эта, я бы с корнем вырвал у нее из глотки язык. Только прежде мне хочется, чтобы она призналась, сколько раз она заклинала меня убить вас.
И так, раскрывая друг другу глаза на все козни этой злобной женщины, они поняли сполна всю ее низость. И они стали говорить о ней все то худое, что говорится в таких случаях о женщине распутной и бесстыжей, и, как дома, так и на людях, рассказывать о ее злодеяниях, сделав ее притчей во языцех всего города.
До ушей Бьянки Марии дошло все, что говорили о ней эти синьоры, и, хотя она притворилась, что ей нет до этого дела, она не находила себе места от ярости и думала лишь о том, как бы жестоко за все отомстить. Через некоторое время она поехала в Милан и остановилась там в доме синьоры Дарий Боэты.
В ту пору в Милане жил сицилиец Пьетро ди Кардона, который командовал отрядом своего брата дона Артале, а был он побочным сыном графа Коллизано, павшего в сражении при Бикокке[102]. Дон Пьетро был молодой человек лет двадцати двух, смуглолицый, ладно скроенный и всегда печальный. Увидев синьору Бьянку Марию, он страстно в нее влюбился. Она же, завязав с ним знакомство, поняла, что это еще совершеннейший птенец и что он-то и может стать исполнителем ее заветного желания. Она старалась быть с ним всегда веселой и, как только могла, пыталась обольстить его и увлечь. Ему же еще никогда в жизни не случалось иметь дело со знатной дамой. И, думая, что она одна из первых женщин в Милане, он был сам не свой от разгоревшейся в сердце страсти. Кончилось тем, что она назначила ему свиданье и оставила у себя на всю ночь. Бьянка Мария была с ним очень нежна и вела себя так, будто любовь совершенно ее опьянила, была с ним ласкова и сама радовалась его ласкам, он же почитал себя самым счастливым любовником на свете и думал только о ней одной. И он оказался в таком подчинении у этой женщины, что через некоторое время без лишних слов она решилась попросить его оказать ей особую милость — убить графа Гаяццо, а заодно и синьора Ардиццино. Дон Пьетро, который на все смотрел ее глазами, нимало не задумываясь, обещал исполнить ее просьбу и без промедления приступил к делу.
Граф ди Гаяццо в это время куда-то отлучился, синьор же Ардиццино пребывал в Милане, и поэтому дон Пьетро решил начать с него. Через своих соглядатаев он выведал, что в определенный день вечером синьор Ардиццино приглашен на ужин. Дело было зимой, когда ужинают обычно поздно, и дон Пьетро, взяв с собой двадцать пять своих солдат, вооруженных с головы до ног, стал дожидаться возвращения синьора Ардиццино. Вы знаете, что налево от улицы Маравильи в сторону Корсо-Сан-Джакомо есть проход под аркой. Зная, что синьор Ардиццино появится там, дон Пьетро укрылся со своими людьми в соседнем домике, а так как ему донесли, что синьору Ардиццино будет сопутствовать его брат, синьор Карло, он расположил своих людей таким образом, что они окружили обоих братьев, закрыв им проход. Здесь-то они с ними и схватились. Но что могли сделать двое молодых людей и каких-то восемь или девять слуг, у которых ничего не было, кроме шпаг, с таким множеством вооруженных алебардами солдат.
Бой длился недолго, несчастные молодые люди, равно как почти все их слуги, были убиты. Герцог Бурбонский, бежавший из Франции и бывший в то время наместником императора в Милане, приказал в ту же ночь схватить дона Пьетро и отправить его в тюрьму; там он признался, что совершил это убийство по наущению возлюбленной своей Бьянки Марии. Когда та узнала, что дона Пьетро арестовали, она могла бы еще спастись бегством, но почему-то осталась в Милане[103]. Как только до герцога Бурбонского дошла весть о том, какое признание сделал дон Пьетро, он приказал схватить Бьянку Марию, которая совсем растерялась и взяла с собой кошелек, где было пятнадцать тысяч золотых скудо, надеясь подкупить стражу и выйти на волю. Дону Пьетро помогли бежать из тюрьмы. А злосчастную Бьянку Марию, собственными устами подтвердившую признание любовника, приговорили к смертной казни через отсечение головы.
Когда ей прочли приговор, то она, не зная, что дону Пьетро удалось бежать, никак не могла примириться с мыслью, что ей предстоит умереть. Когда же ее привезли в крепостной равелин, выходивший на площадь, и показали плаху, она залилась слезами и стала просить, чтобы ей оказали последнюю милость — дали возможность увидеться с любимым доном Пьетро. Но мольбе ее не вняли и несчастной отрубили голову. Вот к чему привела ее необузданная похоть. А тому, кто хочет знать, как она выглядела, надо только пойти в церковь Большого монастыря, и там он увидит ее портрет.
Антонио Болонья, неаполитанец, — как многие из вас, вероятно, о том слышали, — в бытность свою в Милане жил в доме синьора Сильвио Савелло. После отъезда синьора Сильвио он близко сошелся с Франческо Аквавива, маркизом Битонтским, который при разгроме Равенны был взят в плен французами[104] и заключен в миланскую крепость; позднее он был выпущен оттуда под верное поручительство и проживал в городе. В конце концов означенный маркиз уплатил большой выкуп и вернулся в Неаполитанское королевство. Поэтому Болонья вместе с тремя своими слугами перешел в дом кавалера Альфонсо Висконти и теперь разъезжал верхом по Милану пышно одетый[105]. Это был дворянин с изысканными манерами и весьма доблестный, и помимо того, что отличался красивой внешностью и храбростью, считался искуснейшим наездником. К тому же у него были незаурядные поэтические способности, и он нежно пел и играл на лютне. Я знаю, что некоторые из присутствующих здесь однажды слышали его, хотя это был скорее горестный плач, которым он оплакивал свою судьбу, ибо синьора Ипполита Сфорца Бентиволья запретила ему играть и петь. Уехав из Франции, где он много лет был на службе у несчастного короля Федерико Арагонского, изгнанного из Неаполитанского королевства и нашедшего себе приют в объятиях Людовика[106], двенадцатого по счету короля Франции, носившего это имя, Болонья вернулся к себе на родину, где и остался.
Болонья много лет был у короля Федерико мажордомом. Вскоре по приезде его в Неаполь герцогиня Амальфская, дочь Энрико Арагонского и сестра кардинала Арагонского[107], предложила ему занять у нее место мажордома. Он, привыкший служить при дворах и весьма преданный Арагонскому дому, принял ее предложение и отправился к ней в замок. Герцогиня овдовела еще в ранней молодости и воспитывала сына, оставшегося на ее руках после смерти мужа, так же как и само герцогство Амальфское. Она была молода, здорова и хороша собой, жила в роскоши и не хотела выходить замуж, чтобы не дать другому человеку распоряжаться своим сыном. По этой причине она решила, если ей удастся, найти себе достойного любовника и с ним наслаждаться своей молодостью. Она присматривалась ко многим подданным, да и к другим мужчинам, казавшимся ей воспитанными и учтивыми, и, размышляя об их манерах и поведении, решила, что никто не может сравниться с ее мажордомом, ибо поистине он был красавец, высокий и статный, с хорошими и изящными манерами и одарен многими способностями. Вот почему она пламенно в него влюбилась, и, с каждым днем восхищаясь все более и более его изысканным обращением, она пылала к нему все сильнее, и жизнь ей была немила, если только его не было поблизости. Болонья, который не был ни простачком, ни раззявой, хотя и не считал себя достойным такой чести, догадавшись о ее любви, почувствовал в тайниках своего сердца, что, кроме любви к ней, у него уже нет никаких радостей на свете. Так и жили они, тайно любя друг друга.
Но герцогиня задалась новой мыслью, желая как можно менее оскорбить господа бога и не дать повода всякому осуждению. Она решила, не выставляя напоказ свою любовь, сделаться не возлюбленной, а женой Болоньи и тайно наслаждаться своей любовью до тех пор, пока не сможет объявить о своем браке. Приняв в душе такое решение, она как-то раз вызвала Болонью к себе в комнату и, став с ним у окна, как она это частенько делала, когда отдавала ему распоряжения по дому, повела с ним такую речь:
— Если бы, Антонио, я говорила с кем-либо другим, а не с тобой, то, пожалуй, можно было бы усомниться, что я решилась быть откровенной. Но так как я знаю тебя за человека честного и от природы одаренного высоким умом, воспитанного и выросшего при королевском дворе Альфонсо Второго, Фердинанда и Федерико[108], моих родичей, я твердо уверена и хочу надеяться, что, когда ты узнаешь о моих намерениях, ты вполне их разделишь, Если же будет иначе, мне придется считать, что у тебя нет той проницательности ума, которая всеми признана. Я, как тебе известно, после смерти блаженной памяти синьора герцога, моего супруга, осталась очень молодой вдовой и жила так, что ни один человек, как бы суров и строг он ни был, касательно моей чести не может бросить мне упрека даже с булавочную головку. Да и дела герцогства я вела таким образом, что, когда наступит время и сын мой сам возьмет бразды правления, я надеюсь, что он найдет дела в лучшем состоянии, чем их оставил синьор герцог. Кроме того, что я уплатила пятнадцать тысяч дукатов долгов, которые блаженной памяти супруг сделал в прошлую войну, я приобрела баронское владение в Калабрии с хорошим доходом, и у меня нет долгов, и дом мой полная чаша. И вот теперь, когда я подумала, что мне вечно придется тянуть эту вдовью лямку и, как это было до сих пор, изо дня в день разъезжать и проводить время то здесь, то еще в каком-нибудь замке, то в Неаполе, занимаясь делами герцогства, мне показалось, что надо изменить свои намерения и начать другую жизнь. Я считаю, что гораздо лучше завести себе мужа, чем делать так, как другие женщины, которые, оскорбляя бога и вызывая порицание людей, отдаются в руки своих любовников. Я знаю очень хорошо, что сейчас говорят об одной герцогине нашего государства, будто она любит и любима одним из первых баронов, и понимаю, что имеют в виду меня. Однако вернемся к моим делам. Ты видишь — я молода, не косая, не хромоножка и лицо мое не как у барончи[109], и мне не страшно показаться на люди. Я живу в роскоши, ты это знаешь, так что, на свою беду, мне приходится невольно предаваться мыслям о любви. Найти мужа, равного положением первому, нелегко, если только я не соглашусь взять какого-нибудь молокососа, который прогонит меня, когда я ему надоем, и приведет какую-нибудь потаскушку. Я не знаю сейчас ни одного подходящего мне по годам барона, который хотел бы жениться. И вот после долгих размышлений запало мне в душу отыскать человека достойного и выйти за него замуж. Но чтобы избежать людских толков, а также чтобы не впасть в немилость у моих родичей, особенно у монсеньёра кардинала, моего брата, я хотела бы держать все в тайне до тех пор, пока не представится случай с наименьшей опасностью объявить о браке. Тот, кого я назову своим супругом, будет иметь доходу около тысячи дукатов, и я принесу ему приданого, — вместе с тем приростом, какой был ко дню смерти синьора герцога, — более двух тысяч, не считая вещей, которые принадлежат мне. И если уж я потеряю титул герцогини, то, по крайней мере, буду жить как благородная дама. Теперь я хочу послушать, что скажешь мне ты.
Антонио, выслушав эту длинную речь, не знал, что и ответить: он был твердо уверен, что любим ею, да и сам любил ее и не хотел, чтобы она выходила замуж, надеясь довести свою любовь до желанного конца. Он стоял молча, изменившись в лице, и вместо ответа тяжело вздыхал. Она же, угадавши мысли своего любимого и довольная тем, что он пламенно ее любит, не желая более ни огорчать его, ни мучить сомнениями, так сказала ему:
— Антонио, соглашайся и не мучь себя, ведь если будет на то твоя воля, я решила, что ты во что бы то ни стало сделаешься моим супругом.
Услышав эти слова, влюбленный словно воскрес из мертвых и принялся в подобающих выражениях расхваливать намерение герцогини, предложив ей себя уже не как мужа, а как вернейшего и преданнейшего раба. Уверенные друг в друге, они долго беседовали, строя различные планы, и меж собой порешили встречаться самым тайным образом.
У герцогини жила дочь ее кормилицы, которая была при ней с самой колыбели. Ее-то она и посвятила в свои намерения. Она позвала ее в комнату, где, кроме их троих, была еще служанка, и в их присутствии обвенчалась с Болоньей. Этот брак несколько лет оставался тайной, но почти все ночи супруги проводили вместе. Так продолжалось до тех пор, пока герцогиня, к великой радости обоих, забеременела и в положенное время родила сына, но так хорошо сумела это скрыть, что никто при дворе и не догадался. Болонья окружил ребенка большой заботой и при крещении дал ему имя Федерико. Любовная связь их все продолжалась, и герцогиня забеременела второй раз и родила прелестную девочку. На этот раз не удалось скрыть положения, и многим стало известно, что герцогиня забеременела и родила. Начались всевозможные пересуды и разговоры, и слухи дошли до ушей обоих братьев, то есть кардинала Арагонского и другого брата; проведав, что сестра родила, и не зная, кто отец, они решили не выносить этого позора на люди и старательно всеми способами стали следить за каждым движением, каждым шагом герцогини. При дворе пошли всякие толки, и каждый день появлялись новые соглядатаи братьев герцогини, которые только и делали, что повсюду разузнавали о случившемся. Болонья сильно опасался, как бы служанка не проговорилась, и однажды, беседуя с герцогиней, так сказал ей:
— Синьора, вы ведь знаете, что ваши братья подозревают о вашем втором замужестве и что они стараются разузнать обо всем получше. Я боюсь, как бы им не сообщили обо мне, тогда в один прекрасный день они меня убьют. Вам лучше меня известен их нрав, и вы знаете, как один из них умеет пускать в ход руки. И хотя я думаю, что против вас они не станут свирепствовать, но твердо уверен, что они меня убьют, как только представится случай. Поэтому я решил уехать в Неаполь и отдать распоряжение, чтобы мои вещи отправили в Анкону, куда я постараюсь перевести и мои доходы. Я пробуду там до тех пор, пока подозрение ваших братьев не вылетит у них из головы. Время покажет, как нам быть дальше.
Много слов было сказано между ними. В конце концов Болонья в величайшей печали расстался со своей супругой и как решил, так и устроил свои дела, поручив заботу о них своему двоюродному брату, а сам отправился в Анкону, где нанял приличный дом и зажил в нем со своими почтенными домочадцами. Он привез с собой сына и дочь, которых с большим усердием воспитывал. Герцогиня, оказавшись в третий раз беременной и не будучи в состоянии выносить разлуки со своим дорогим супругом, была в таком отчаянии, что совершенно обезумела. Думая все больше и больше о своем положении, опасаясь, как бы братья не узнали о третьей беременности и не сыграли с ней плохой шутки, она решила поскорей уехать к мужу и лучше стать простой дамой, чем жить без него, имея титул герцогини. А ведь найдутся же такие, которые скажут, что любовь не всесильна! Кто захочет теперь сказать, что любовь — не великая сила? Поистине, могущество ее несравненно больше, чем мы можем себе представить. Разве не видят люди, что любовь каждый день творит чудеса, самые удивительные, и что она все побеждает? Однако надо сказать, что нельзя любить по мерке. Когда Амур того пожелает, он заставляет королей, принцев и благороднейших людей делаться не только любовниками, но даже рабами самых низких женщин. Однако вернемся к нашему рассказу и не будем затевать споров.
Когда герцогиня решила отправиться в Анкону к мужу, она тайно известила его об этом. Вместе с тем она старалась переслать в Анкону как можно больше денег и вещей. Потом она объявила, что дала обет отправиться на богомолье в Лорето. Итак, отдав все распоряжения и передав все заботы о подданных сыну, который должен был управлять герцогством, она двинулась в путь с большой и почетной свитой. С огромным обозом мулов прибыла она в Лорето, велела отслужить в соборе торжественную мессу и принесла богатые дары этому славному и высокочтимому храму. Все ожидали отправления в обратный путь; она же сказала:
— Мы находимся в пятнадцати милях от Анконы, а нам известно, что это древний и красивый город. Будет отлично, если мы остановимся там на денек.
Все подчинились желанию герцогини. Поэтому, послав вперед обоз, свита направилась в Анкону. Болонья, предупрежденный обо всем заранее, велел убрать достойным образом дом и приготовить пышный и обильный стол для всей свиты. Дом стоял на главной улице, так что объехать его было невозможно. Сенешаля, который явился рано поутру, чтобы распорядиться насчет устройства обеда, Болонья провел в дом и приказал ему приготовить покои для синьоры герцогини. Сенешаль все исполнил, ибо хотя Болонья и оставил двор, по истинной причины этого никто не знал и все относились к нему с почтением. Болонья в положенное время сел на лошадь и в сопровождении целой группы анконских дворян выехал за три мили от города навстречу герцогине. Когда люди герцогини его увидели, они весело сказали: «Поглядите, герцогиня, вот и наш Антонио Болонья!» — и все радостно приветствовали его. Он же спрыгнул с коня, поцеловал руку у своей супруги и пригласил ее со всей свитой к себе в дом. Она приняла его приглашение, и он ввел ее в дом уже не как супругу, а как свою госпожу. Но после того как все пообедали, герцогиня решила снять с себя маску, зная, что все равно это неизбежно, приказала позвать свою свиту и сказала так:
— Настало время, мои верные вассалы и вы, мои слуги, всему свету услышать о том, что перед лицом всевышнего было однажды сделано. Я, будучи вдовой, решила выйти замуж и взять себе такого супруга, какого указал мне мой разум. Вот почему, говорю я вам, уже несколько лет назад я обвенчалась с синьором Болоньей в присутствии моей служанки, которая сейчас находится здесь; его вы все знаете; он мой законный супруг, и с ним я намерена здесь остаться, потому что я принадлежу ему. До сих пор я была вашей герцогиней и госпожой, а вы были моими верными вассалами и слугами. В будущем о вас будет заботиться синьор герцог, мой сын, которому вы, как это надлежит, будете преданно служить. Этих моих девушек вы проводите в Амальфи, а приданое для них, перед тем как покинуть герцогство, я положила в банк Паоло Толозы, и все записи об этом находятся в монастыре святого Себастьяна у аббатисы. Сейчас никто из дам мне не нужен, кроме моей служанки. О синьоре Беатриче, которая до сих пор была моей статс-дамой, я позаботилась, и она о том знает. Тем не менее и в бумагах, о которых я говорила, она найдет свое имя и сумеет выдать замуж одну из своих дочерей. Если среди моих слуг найдется такой, который захочет со мной остаться, я охотно приму его. Об остальном, когда вы будете в Амальфи, по обыкновению, позаботится мажордом. А напоследок скажу вам, что мне больше по душе жить скромно с моим супругом синьором Антонио, чем оставаться герцогиней.
Все присутствующие были смущены, взволнованы и совершенно ошеломлены, услышав такие речи. Но после того как все убедились, что дело так именно и обстоит, потому что Болонья приказал привести детей, прижитых им с герцогиней, и она целовала и обнимала их как своих собственных, все порешили вернуться в Амальфи, кроме служанки и двух конюхов, оставшихся со своей госпожой. Много было всяких разговоров, и каждый говорил свое. Все покинули дом Болоньи и отправились в гостиницу, потому что, из страха перед кардиналом и другим братом, никто не посмел остаться с Антонио и с герцогиней; более того, договорились, что один из дворян отправится на почтовых в Рим известить о происшедшем кардинала и другого брата, который находился там же. Остальные поспешили в Амальфи.
Итак, герцогиня осталась со своим супругом и жила с ним в полном согласии. Через несколько месяцев она родила еще одного сына, которого назвали Альфонсо. В то время как супруги жили в Анконе, привязываясь друг к другу с каждым днем все больше и больше, кардинал Арагонский с означенным братом, не будучи в состоянии перенести, что сестра их вышла таким образом замуж, добились с помощью кардинала Мантуанского[110], синьора Джисмондо Гонзага, бывшего при папе Юлии II главным легатом в Анконе, указа об изгнании Болоньи и его жены из города. Впрочем, они оставались в Анконе еще приблизительно шесть-семь месяцев, и, хотя легат[111] настаивал на их изгнании, Болонья пустил в ход все средства, чтобы дело затянулось. Но он прекрасно понимал, что в конце концов они будут изгнаны из Анконы, и, чтобы не быть застигнутым врасплох, он, имея друга в Сиене, выхлопотал охранную грамоту от тамошней Синьории[112] и получил разрешение жить там со своей семьей. За это время он отправил туда своих сыновей и так устроил свои дела, что, когда вышел приказ от анконцев выехать в течение двух недель, он тут же с женой и домочадцами сел на коней и отправился в Сиену. Когда братья-ара-гонцы увидели, что они обмануты, так как им не удалось захватить беглецов в дороге, они уговорили Альфонсо Петруччи, сиенского кардинала, чтобы синьор Боргезе, брат кардинала и глава сиенской Синьории, немедленно изгнал Болонью и из Сиены. Болонья долго раздумывал, где искать убежище, и решил со всей семьей направиться в Венецию. Итак, они пустились в путь через флорентийские земли, направляясь в Романью, чтобы потом морем добраться до Венеции. Уже подъезжая к Форли, они заметили, что за ними гонится множество всадников, о которых они и раньше кое-что слышали. Поэтому, охваченные ужасом и не видя возможности спастись, они были ни живы ни мертвы. Тем не менее, побуждаемые страхом, они пустили лошадей во весь опор, чтобы добраться до ближайшей деревушки, надеясь там укрыться от опасности. Болонья ехал на сильном и горячем турецком скакуне и своего старшего сына тоже посадил на такого же коня. Другой сын и дочь находились в паланкине. Жена ехала на хорошем иноходце. Болонья с сыном могли бы легко ускользнуть, потому что у них были резвые кони, но любовь к жене не позволяла ему оставить ее. Она же, твердо веря, что погоня могла причинить зло только ее мужу, плача, умоляла его, чтобы он спасался.
— О синьор мой, — говорила она, — скачите же, братья мои не сделают дурного ни мне, ни нашим сыновьям; но если они схватят вас, они будут жестоки с вами и убьют вас.
И, дав ему тут же кошелек, полный дукатов, она не переставала умолять его скрыться на некоторый срок, ибо со временем, бог даст, братья с ними примирятся. Несчастный муж, видя, что погоня уже близко и нет никакой надежды на спасение жены, безмерно страдая и проливая слезы, распростившись с ней, пришпорил своего скакуна и крикнул своим, чтобы они спасались.
Сын, видя, что отец мчится во весь опор, поскакал за ним, так что Болонья со старшим сыном и четырьмя слугами, хорошими наездниками, ушли от погони и, изменив свое решение ехать в Венецию, отправились в Милан. Люди, гнавшиеся за Болоньей, чтобы убить его, схватили герцогиню с маленьким сыном, дочерью и со всеми остальными. Первый всадник, — было ли ему это приказано братьями герцогини, или он сам не хотел производить лишнего шума, — решил заставить герцогиню следовать за собой без криков и воплей. Поэтому он сказал ей:
— Синьора герцогиня, ваши братья послали нас проводить вас до вашего герцогства, для того чтобы вы взяли управление страной из рук вашего сына-герцога и больше не разъезжали по разным местам. Антонио Болонья — это такой человек, который рано или поздно, пресытясь вами, оставил бы вас без всего, а сам удрал бы с богом. Не падайте духом и не тужите ни о чем.
Герцогиня, услышав эти речи, как будто бы успокоилась, и ей показалось, что она правильно рассудила, утверждая, что братья не будут жестоки ни с ней, ни с детьми ее. Такая надежда поддерживала ее несколько дней, пока они не прибыли в один из замков ее сына-герцога. По приезде туда их немедленно схватили и посадили в цитадель. Не так скоро узналось, что там с ними произошло. Остальные все были освобождены. Герцогиня же со своей служанкой и двумя детьми, как потом стало известно, умерли жесточайшей смертью.
Несчастный супруг и любовник с сыном и слугами прибыли в Милан, где некоторое время находились под защитой синьора Сильвио Савелло. В эти дни синьор Савелло, действуя от имени Массимильяно Сфорца, осаждал французов, стараясь захватить миланскую крепость, которую он позднее получил по мирному соглашению. Потом Савелло отправился в Кремону, где разбил лагерь и оставался несколько дней. В это время Болонья нашел убежище у маркиза Битонто, а когда маркиз уехал, он остался в доме кавалера Висконти. Братья герцогини столько наделали шуму в Неаполе, что имущество Болоньи было конфисковано. А Болонья только и думал, как бы помириться с братьями герцогини, ни за что не желая верить, что жены и детей его нет в живых. Кое-кто из дворян предупредил его, что ему небезопасно оставаться в Милане и пусть он будет настороже. Но он никого не слушал, и, сдается мне, судя по некоторым имеющимся сведениям, ему по секрету советовали не уезжать, так как он, мол, может встретиться со своей женой. Полный этой напрасной надежды, со дня на день ожидая обещанного, прожил он в Милане около года. Случилось как раз в это время, что один синьор, у которого были свои вооруженные люди в миланском герцогстве, рассказал всю эту историю нашему Делио и даже утверждал, что ему давали поручение убить Болонью, но он не пожелал быть палачом вместо других и, напротив, нашел удобный случай предупредить его, чтобы тот был настороже, и сообщить, что, по всей вероятности, его жена с детьми и служанка удушены. Однажды, когда Делио был у синьоры Ипполиты Бентиволья, Болонья заиграл на лютне и запел жалобную песню, которую сам сочинил о своих страданиях и положил на музыку. Когда Делио, который раньше его не знал, сказали, что это муж герцогини Амальфской, тронутый до глубины души, он отозвал его в сторону, заверив, что жена его и дети погибли и что его тоже собираются убить, как ему, Делио, наверняка известно. Болонья поблагодарил Делио и сказал:
— Делио, вы ошибаетесь, у меня есть сведения из Неаполя, что казна скоро вернет мне мое имущество, а из Рима мне внушили добрую надежду, что монсеньёр, светлейший и сиятельнейший мой господин, и его брат уже на меня не гневаются и что, без сомнения, я скоро увижу свою супругу.
Делио, зная, что Болонья обманут, сказал то, что счел уместным, и отошел. Те, которые искали случая убить Болонью, видя, что им это не удается и что синьор, имевший вооруженных людей, равнодушен к этой затее, поручили это дело какому-то ломбардцу, требуя пустить в ход все средства, чтобы умертвить Болонью. Делио рассказал всю эту историю, вплоть до этого места, синьору Лючио Шипионе Аттеллано[113], который хотел изложить ее в одной из своих новелл, зная наверное, что бедняга Болонья будет убит. Однажды, находясь в Милане, Лючио Шипионе и Делио по дороге в Большой монастырь встретили верхом на красивейшем скакуне Болонью, который направлялся к мессе в Сан-Франческо. Впереди ехали двое слуг: у одного в руке было копье, у другого Часослов нашей пресвятой девы. Тогда Делио сказал Аттеллано:
— Посмотрите, ведь это Болонья.
Аттеллано показалось, что у Болоньи было взволнованное лицо, и он сказал:
— Пожалуй, богу угоднее было бы, чтобы он взял с собой второе копье, а не этот Часослов; ведь ему вечно приходится быть настороже.
Не успели Аттеллано и Делио дойти до Сан-Джакомо, как услышали страшный шум: на дороге, не доезжая Сан-Франческо[114], на Болонью напал капитан Даниэле да Боцоло с тремя вооруженными людьми. От их руки Болонья принял ужасную смерть, и никто не мог оказать ему помощи. Убийцы преспокойно скрылись в такое место, какое показалось им наиболее надежным, и не нашлось никого, кто стал бы их преследовать именем закона.
Монсеньёр кардинал был весьма удивлен той щедростью, которую проявляет в отношении меня наш высокочтимый и милостивый синьор герцог Лодовико[116], но, по правде говоря, я удивлен больше его: я удивляюсь его невежеству, показывающему, как слабо начитан он в хороших авторах. Не буду касаться почестей, которые всегда оказывались людям, прославившим себя в разных других науках и искусствах, — я скажу лишь о том уважении и почете, которыми окружали живописцев. Не бойтесь, что надолго задержу вас перечислением всех знаменитых художников, которые процветали в добрые старые времена. Если бы я захотел это сделать, нам не хватило бы и целого дня. Что касается древних, с нас будет довольно одного примера с Александром Великим и славным живописцем Апеллесом[117], а из современных сошлюсь лишь на одного флорентийского мастера.
Однако перейдем к рассказу. Так вот, скажу я вам, что Апеллес пользовался большим почетом у Александра Великого и был настолько близок к нему, что Александр не раз заходил в мастерскую художника посмотреть, как он работает. Однажды, когда Александр в его присутствии заспорил с кем-то и начал говорить несуразные вещи, Апеллес очень мягко перебил его и сказал:
— Александр, помолчи немного и не неси околесицы! Ты рассмешишь моих учеников, которые растирают краски.
Теперь вы можете судить, сколь велик был авторитет Апеллеса в глазах Александра, особенно если вы вспомните, каким раздражительным, высокомерным и превыше всякой меры вспыльчивым был этот государь. Я не говорю уже о том, что Александр издал публичный указ, по которому лишь Апеллес имел право писать с него портреты.
Однажды Александру захотелось, чтобы Апеллес нарисовал Кампаспу, его прекрасную наложницу, совсем обнаженной. Апеллес, увидя нагое, совершеннейшей формы тело юной женщины, страстно в нее влюбился, и когда Александр узнал об этом, то под видом дара отослал ее Апеллесу. Александр был человек большой души, по в этом случае он превзошел самого себя и был не менее велик, чем тогда, когда одерживал важную победу на поле боя. Он победил самого себя; он не только подарил Апеллесу тело своей возлюбленной Кампаспы, но пожертвовал и своей любовью, совершенно забыв о том, что она из подруги царя станет подругой простого мастера.
Обратимся теперь к нашим дням и поговорим о некоем флорентийском живописце и о морском пирате. Жил во Флоренции Томмазо Липпи, у которого был сын по имени Филиппо. Когда отец умер, мальчику было восемь лет, и бедная мать, оставшись без всяких средств к жизни, отдала его в монастырь кармелитов. Маленький монах вместо того, чтобы обучаться грамоте, целыми днями портил бумагу и стены, набрасывая рисунки; увидя это и узнав о пристрастии монашка, настоятель дал ему возможность заниматься живописью. В монастыре была часовня[118], заново расписанная одним знаменитым художником. Она очень нравилась фра Филиппо Липпи (так звали в обители нового монаха), и он целые дни проводил там, работая вместе с другими учениками, и настолько превзошел остальных в ловкости и мастерстве, что у всех, кто его знал, составилось твердое убеждение, что в зрелом возрасте он будет величайшим живописцем. Но фра Филиппо и в молодости, не говоря уже о зрелых годах, так превосходно владел кистью, что создал много удивительных творений в монастыре кармелитов во Флоренции и в других местах, где их теперь можно видеть. Слыша постоянные похвалы и пресытившись монастырской жизнью, он сбросил с себя монашескую одежду, хотя и был произведен в дьяконы. Много прекрасных картин написал он для Козимо Медичи Великолепного[119], который его всегда очень любил.
Но художник был выше всякой меры сластолюбив и большой охотник до женщин. Если он встречал женщину, которая ему нравилась, он не останавливался ни перед чем, лишь бы овладеть ею. Когда на него находила такая блажь, он или совсем не рисовал, или рисовал очень мало. Однажды фра Филиппо писал картину для Козимо Медичи, которую тот собирался преподнести папе Евгению Венецианскому[120]. Великолепный заметил, что художник частенько бросает работу и пропадает у женщин, и велел привести его домой и запереть в большой комнате, чтобы он попусту не терял времени. Но тот с трудом просидел три дня, затем ночью взял ножницы, нарезал из простыни полосы и, таким образом вылезши из окна, провел несколько дней в свое удовольствие.
Как-то раз Козимо Великолепный, навещавший его каждый день, не найдя его дома, страшно рассердился и послал его разыскивать, но потом разрешил работать, как ему вздумается, и тот с рвением исполнял его заказы; Козимо говаривал, что фра Филиппо и ему подобные суть вдохновенные богом, редкостные и высокие таланты, а не вьючные ослы.
Однако вернемся к тому, что заставило нас завести о нем разговор, и покажем, что талант уважается даже варварами. Как-то Филиппо был в Марке Анконской[121] и отправился со своими друзьями прокатиться на лодке по морю. Внезапно появились галеры Абдула Маумена, великого берберийского корсара того времени, и наш добрый фра Филиппо вместе со своими друзьями был захвачен в плен, закован в цепи и отвезен в Берберию, где в тяжелом положении находились они года полтора, и Филиппо пришлось держать в руке вместо кисти весло[122]. Но как-то раз, когда из-за непогоды нельзя было выйти в море, его заставили рыть и разрыхлять землю в саду. Нередко приходилось ему видеть в саду Абдула Маумена, своего господина, и вот однажды пришла ему фантазия нарисовать его на стене в мавританской одежде, и это ему удалось так хорошо, что тот вышел совсем как живой.
Всем маврам это показалось каким-то чудом, потому что в их краях не принято ни рисовать, ни писать красками[123]. Тогда корсар велел освободить его от цепей и стал обращаться с ним как с другом и из почтения к нему поступил так же с его товарищами по плену. Много еще написал красками прекраснейших картин фра Филиппо для своего господина, который из уважения к его таланту одарил его всякими вещами, в том числе и серебряными вазами, и приказал доставить его вместе с земляками целыми и невредимыми в Неаполь.
Поистине столь велика сила искусства, что даже варвар, наш исконный враг, осыпал наградами тех, кого мог навсегда оставить у себя как рабов. Не меньшей любовью пользовался талант фра Филиппо и на родине. Ему представился случай сойтись с прекрасной молодой флорентийкой по имени Лукреция, дочерью Франческо Бути, от которой у него родился сын, тоже названный Филиппо[124] (впоследствии он стал знаменитым живописцем). Папа Евгений видел много славных творений фра Филиппо и так его любил, ценил и баловал, что даже хотел снять с него сан дьякона, чтобы дать ему возможность жениться на Лукреции. Но фра Филиппо не захотел связать себя узами брака, слишком любя свободу.
Разумеется, синьоры мои, не дело это, что священники с такой великой охотой совершают крестовые походы на жен своих прихожан. А то ведь можно подумать, что пастырь тем праведнее, чем больше своих духовных сынов он увенчает рогами. Вот почему священники, которых прежде все так уважали, по нонешним временам совсем не в почете. Удивляться этому, правда, нечего, среди них немало таких, кому больше пристало по дубравам свиней пасти, чем к святым дарам прикасаться. Они едва умеют читать, еще того хуже поют, а из того, что читают, ничего или мало что разумеют. Зато коли уж привяжутся к бабе, так почти не бывает, чтобы отступились, пока похоти своей не ублажат. Иные же обманывают их с безмерным лицемерием и под личиною праведности обводят вокруг пальца.
А что уж говорить о тех, которые, едва успев отслужить мессу, спешат в кабак, где обжираются и напиваются в стельку и с утра допоздна, как отпетые мошенники, знай себе играют в карты и кости!
Однако я, как видно, немного сбился и вместо того, чтобы занять вас рассказом, ударился в проповедь. Пусть уж их наставляют на путь истинный их духовные отцы, а я лучше начну с того, что не особенно давно в нашем городе Комо должны были хоронить одного из самых знатных людей, графа Элеутеро Русконе, и все священники, а равно и монахи, были приглашены на эту торжественную церемонию. Когда же пришло время выносить покойника, то недосчитались весьма уважаемых священников, настоятелей приходских церквей. А поелику в народе их почитали праведниками, то за ними послали и в церковь и домой, только нигде не могли их сыскать. Тогда пошли всякие толки и стали думать, что, не ровен час, их убили и ограбили. После того как наших священников долгонько проискали и убедились, что их нигде нет, приступили к погребению, и было оно очень торжественным и пышным. По окончании его надлежало огласить правительственные грамоты, и поэтому весь народ собрался на городской площади. Там-то и появились вдруг святые отцы, но в каком виде! Послушайте только!
На полпути между теми двумя церквами, где служили эти священники, жил красильщик по имени Абондио из Порлеццы, большой шутник, женат он был на некоей Аньезе из Лугано, женщине молодой, красивой и добродетельной, имевшей обыкновение каждый день ходить в церковь, где служил дон Ансельмо, один из упомянутых нами священников. Тот же, видя ее каждый день во время мессы и прельстившись ее красотой, воспламенился к ней такой страстью, что, едва успев завести с ней знакомство, стал добиваться от нее самого драгоценного дара. Женщина эта, безмерно возмущенная его домогательствами, ответила, что его дело служить мессу, и стала посещать другую церковь, где настоятелем был его собрат по имени дон Баттиста. Стоило второму священнику увидеть жену Абондио, как им тоже овладело желание сойтись с ней поближе. И вскоре после того, как он завел с нею знакомство, он возьми да и попроси у нее милостыни святой Нефиссы. Бедная женщина увидела, что попала из огня да в полымя, и решила: единственное, что ей теперь остается, это ходить в приютскую церковь, хоть это и было ей неудобно и далеко от дома. Муж, заметив, что она изменила своей привычке, спросил ее, что бы это значило. Чтобы не дать ему повода в чем-либо ее заподозрить, жена во всех подробностях рассказала ему о том, что с ней приключилось. Муж рассердился и сказал:
— Так неужели из-за этих распутников ты теперь будешь терпеть неудобства? Совсем мне это не нравится, до приюта ходить очень далеко, и в те дни, когда я начну покраску, тебе не успеть. Вот что, давай-ка как следует их проучим, чтобы они за все получили сполна, да и чтоб другим собратьям их неповадно было на чужих жен зариться. Погоди, я им такое устрою, что вся любовь у них из головы вылетит. Сходи-ка ты завтра в церковь к дону Ансельмо и, коли он что тебе скажет, сделай вид, что смущена, и немножко поломайся, а потом смирись, скажи, что согласна, и вели ему приходить в такой-то день в два часа ночи, скажи, что меня в Комо не будет. А на другой день сходи в церковь дона Баттисты и тому слово в слово все повтори и назначь ему прийти в тот же день в пять часов утра.
Покорная жена в точности исполнила все, как ей велел муж, и дело приняло именно такой оборот, какой они предполагали, ибо едва только священники увидели эту женщину, как снова начали приставать к ней. Она же прикинулась польщенной и дала им понять, что они могут просить у нее все, чего им захочется. Когда же они высказали ей свои желания, она велела им прийти в тот день и тот час, какие назначил муж. Дон Ансельмо явился в два часа ночи, и Аньезе заперла его в каморке, где стояла кровать, сказав, чтобы он ложился. Священник тут же разделся и лег. Потом Аньезе снова пришла и почти в полной темноте, подойдя к кровати, сказала:
— Мессер, не огорчайтесь, если вам малость подождать придется, надо тут кое-какие распоряжения по мастерской сделать, потом я приду к вам.
В эту минуту муж постучал в дверь и окликнул:
— Аньезе, ты тут? Открой.
— О, горе мне! — прошептала она. — Вернулся муж, погибла я! Скорее, мессер, залезайте вот в эту бочку, а уж об остальном я позабочусь.
И, подняв священника с постели, ответила:
— Иду, муженек!
Впихнув святого отца в бочку, она закрыла ее; потом взяла его одежду, заперла в шкаф, открыла мужу дверь и спросила:
— Чего это ты так рано заявился?
Абондио вошел с фонарем и сказал, что на озере буря, что никак нельзя было переправиться и теперь он хочет отдать кое-какие распоряжения касательно окраски материи в зеленый цвет. Сказав это, он перевернул бочку так, что святой отец не мог теперь вылезти оттуда без посторонней помощи. В бочке была зеленая краска в порошке. Чтобы еще больше нагнать страху, Абондио сказал:
— Поди-ка, жена, да вели вскипятить котел воды, хочу краску развести, завтра понадобится.
— К чему это? — удивилась жена. — Все уже прибрано. Забыл ты, что ли, что завтра графа Элеутеро Русконе хоронят и никто до обеда работать не будет? Работники все давно разошлись. Идем-ка лучше спать, а завтра с зеленой краской все устроится.
Можете себе представить, что за это время пережил дон Ансельмо, — верно, от всей его любви и духу не осталось. Муж ушел, а жена стали успокаивать святого отца, заверяя, что непременно вызволит его из бочки. Священник же до такой степени весь пропитался зеленой краской, что порошок разъел ему все тело и, чем больше он чесался, тем больнее ему становилось, да и вид у несчастного был весьма неприглядный, он ведь был в чем мать родила, а стоял январь.
Как только пробило пять, явился его собрат, мессер дон Баттиста. Аньезе провела его в другое помещение и тоже велела раздеться, сказав, что должна сходить наверх, в мастерскую, чтобы отпустить людей. На самом деле там был сам Абондио и один из работников, они-то нарочно и подняли шум. Как и следовало ожидать, дон Баттиста покорно разделся и лег в постель. Тогда Абондио потихоньку вышел из дома и начал колотить в дверь и кричать жене, чтобы она ему отворила. Та спустилась вниз, вошла в комнату и спровадила дона Баттисту, совсем голого, в другую бочку, где был порошок синьки, что добавляют в краску для черноты. Несчастный залез туда и весь дрожал, он услыхал голос мужа Аньезе и ума не мог приложить, что ему делать.
Войдя в дом и зная уже, что вторая крыса тоже попала в ловушку, дон Абондио велел открыть комнату, где за это время дои Баттиста весь успел вывозиться в синьке, и сказал:
— Жена, поди-ка, вскипяти воду и принеси сюда краску развести.
Та ответила так же, как перед этим, когда дело касалось дона Ансельмо. Муж не стал с ней спорить и сказал:
— Раз уж завтра похороны графа Элеутеро Русконе, такого благородного человека и такого верного заступника народа нашего, не хочу я, чтобы в красильне у меня работали.
И, подойдя к бочке, в которой сидел дон Баттиста, он перевернул ее так, что тому уже было из нее не вылезти. И так святые отцы почти всю ночь могли каяться в содеянных грехах, то надеясь, что Аньезе придет и освободит их, то предаваясь отчаянию, как в подобных случаях всегда и бывает. Порошок синьки, как и зеленый, был довольно едким, причем особенно чувствительным для глаз, и дон Баттиста так натер себе глаза, что они стали красными, как вареные раки.
Рано утром во всех церквах начали звонить по случаю похорон. Графа Элеутеро Русконе похоронили, и, когда, как я уже сказал, весь народ собрался на площади, Абондио решил раз и навсегда проучить обоих священников, чтобы им больше неповадно было приставать к чужим женам. И вот к этому времени с помощью слуг он выкатил обе бочки, в которых сидели святые отцы, на площадь, а так как дорогой их все время подбрасывало, то оба они основательно вывалялись в краске, один в синей, другой в зеленой, так что стал похож на ящерицу.
Абондио нес на спине топор, и вид у него был такой, будто он собрался в лес по дрова. А так как это был человек веселый и большой любитель пошутить, то его сразу же окружил народ. А он принялся рубить обручи на бочках, крича:
— Эй, поберегись, сейчас из моих бочек змеи выползут! Стоило ему разрубить обручи, как клепки бочек вывалились, и злополучные священники все в краске, словно черти, выскочили оттуда, не зная, куда им деться, — они ведь ничего почти не видели, — и кинулись в разные стороны. Собравшаяся толпа не узнала их, народ стал вопить:
— Держи их, держи! Бей, бей!
Гончая градоправителя, бывшая в это время на площади, кинулась в погоню за доном Ансельмо и укусила его за ногу, а когда он стал кричать благим матом, взывая о помощи, повалила его на землю и отгрызла все снаряжение, болтавшееся у него между ног, вместе с бубенцами. От боли несчастный лишился чувств.
Несколько человек подбежали к нему и, видя, как его изуродовала собака, прониклись к нему жалостью и стали его поднимать. Они привели его в чувство, и тогда он сказал им, кто он такой, и попросил, чтобы ради всего святого его увели с площади. Дона Баттисту, сослепу не знавшего, куда ему идти, сразу задержали и стали спрашивать, кто он такой. Назвав себя, он принялся умолять схвативших его людей увести его куда-нибудь подальше. Абондио, видя, что план его удался и бесчестные священники публично посрамлены, попросил всех замолчать. И, встав на случившуюся там скамью, рассказал жителям города Комо всю эту историю, и люди воочию убедились, что под личиной праведников скрывались два лицемера.
Дона Ансельмо отнесли домой; прошло немало дней, прежде чем он выздоровел, и вот единственное, что он выиграл от этой истории: он мог теперь встречаться с женщинами и не бояться, что сделает их брюхатыми. Дон Баттиста также был с большим позором водворен в дом, и епископ города Комо сурово его наказал; он заставил его уплатить красильщику Абондио за его бочки и краску и на много дней заключил его в темницу. Дону же Ансельмо, которого собака начисто оскопила, пришлось тоже посидеть еще некоторое время в тюрьме. Обоих отрешили от должности и ни тому, ни другому больше не разрешили служить мессу в приходских церквах.
Во времена, когда злосчастный герцог Лодовико Сфорца правил Миланом[125], как мне рассказывал мой отец, возглавлявший охрану Миланского замка, в замке этом жила очень большая обезьяна. Это была презабавная тварь, которая всех смешила и никому не делала ничего худого. Поэтому ее никогда не привязывали, а держали на свободе и позволяли разгуливать по всему замку, да и не только по замку, — она выходила также и за его пределы и очень часто бывала в домах кварталов Майне, Кузано и Сап-Джованни-Суль-Муро. Всем окрестным жителям нравилось гладить обезьяну и угощать плодами и другой едой, как из уважения к герцогу, так и потому, что от уморительных проделок ее все покатывались со смеху, а кусать она никогда никого не кусала.
Чаще всего обезьяна заходила в дом старушки, жившей в одном из кварталов Сан-Джованни-Суль-Муро, матери двух сыновей, из которых старший был женат; старушка всегда с удовольствием смотрела, как обезьяна расхаживает по дому, постоянно чем-нибудь ее угощала, веселилась, глядя на ее проделки, и часто возилась и играла с нею, как с комнатной собачкой. Оба сына ее радовались, видя, как от забав этих оживляется их старенькая и уже совсем дряхлая мать, ибо были они оба почтительными и благонравными. Если бы обезьяна эта принадлежала кому-нибудь другому, а не синьору герцогу, то они уж наверное бы ее купили для того, чтобы старушка могла всегда с ней забавляться. И они наказали всем домочадцам, чтобы никто не смел ни бить, ни мучить милую обезьяну, а чтобы, напротив, все ласкали ее и ублажали. Вот почему обезьяна заходила к старушке чаще, чем к ее соседям, с ней ведь лучше там обходились и более щедро угощали. Однако каждый вечер она неизменно возвращалась в замок, где у нее был свой угол, к которому она уже привыкла.
Случилось так, что, совсем ослабев от преклонных лет и от одолевавшего ее недуга, старушка перестала вставать с постели. Сыновья заботливо за ней ухаживали, и у нее не было недостатка ни в лекарях, ни в лекарствах. Обезьяна, верная своим привычкам, по-прежнему наведывалась в дом, и ей разрешалось заходить в комнату больной. Старушка всегда радовалась ее приходу и всякий раз угощала ее засахаренным миндалем. Вы, разумеется, знаете, что эти твари очень лакомы до всякого рода сластей, особливо же любят миндаль. Поэтому обезьяна наша почти постоянно торчала у постели старушки и поедала миндаля куда больше, нежели сама больная.
Однако недуг все тягчал, годы тоже брали свое, и в конце концов, исповедовавшись, получив отпущение грехов и причастившись, старушка наша отошла в лучший мир. Ей начали готовить пышные похороны, как то было в обычае у миланцев, а тем временем женщины обмыли покойницу, натянули ей на голову чепец, подвязали челюсть, а потом одели. Обезьяна не отходила от нее ни на шаг и все это видела. Потом тело положили в гроб, вскоре пришли священники и, как подобает, отслужили панихиду, после чего гроб перенесли в находившуюся неподалеку приходскую церковь.
Оставшись одна, обезьяна принялась опустошать расставленные на столе коробки и банки со сластями. Когда она вдосталь наелась, ей взбрела в голову странная мысль, какие часто приходят обезьянам — животным, падким во всем подражать людям. Я уже говорил, что она видела, как покойнице подвязывали челюсть и как на голову натягивали чепец, перед тем как положить ее в гроб.
Обезьяна отыскала старый чепец, подобрала оставшиеся на постели тряпки, которыми женщины обтирали старуху, и вырядилась в точности так, как те обрядили покойницу. При этом у нее был такой вид, будто она по меньшей мере лет сто только этим и занималась. Потом она забралась в постель и так искусно накрылась одеялом, что ни у кого не могло вызвать сомнений, что в кровати лежит старая женщина.
Пришли служанки, чтобы убрать комнату и все привести в порядок. Но едва только они увидели лежавшее в кровати тело, как сразу же вообразили, что это их покойная госпожа. Смятенные, перепуганные насмерть, они подняли страшный крик, побежали вниз и стали наперебой рассказывать, что покойница, которую унесли в церковь, вернулась и сейчас лежит в кровати. Вскоре из церкви явились оба сына старухи, а с ними кое-кто из родственников. Все поднялись по лестнице и вошли в комнату. И хотя им не приходилось ничего опасаться, — их ведь было несколько человек, — волосы у всех на голове встали дыбом, и в ту же минуту, ошеломленные и охваченные ужасом, они убежали вниз. А потом, когда немного пришли в себя, послали за приходским священником, рассказав ему о том, что случилось.
Священник, человек весьма достойный и благочестивый, велел причетнику принести распятие и святую воду, а сам как был, в полном облачении, явился в дом и стал читать псалмы и различные молитвы. Он старался успокоить сыновей умершей, говоря, что им нечего бояться, ведь мать их он знает уже давно и она, вне всякого сомнения, женщина праведная. Он сказал им также, что если они что и видели в комнате, то либо им это померещилось, как то нередко бывает, либо, не ровен час, это могли быть козни дьявола. Только пусть они не тревожатся, он освятит весь дом, господь услышит его заклинания и молитвы, и злые духи изыдут. И священник принялся молиться и окропил все вокруг святой водою. Вместе с причетником они поднялись наверх, но больше никто не захотел, вернее, просто не посмел, пойти вместе с ними. Войдя в комнату и увидав там обезьяну, степенно водворившуюся на постели, священник также принял ее за покойницу, восставшую из гроба, и его начал разбирать страх. Однако он пересилил его, приободрился, подошел совсем близко к постели и, держа в руке кропило, произнес: «Asperges me, Domine!»[126] — и окропил обезьяну святой водой. Та же, видя, что священник размахивает кропилом, и решив, что он собирается ударить ее, начала скрежетать и щелкать зубами. Услышав это и уверившись, что это поистине нечистая сила, святой отец до смерти перепугался, уронил кропило и бросился бежать со всех ног. Причетник же еще того раньше кинул распятие, разлил святую воду и с такой поспешностью метнулся вниз по лестнице, что упал и покатился вниз головой. За ним последовал и священник, причем умудрился угодить ему прямо на спину, и оба они поползли вниз, будто угри из озера Гарда, которое в древности называлось Бенако, когда они, как говорят крестьяне, «слюбляются». Священник успел только воскликнуть: «Jesus, Jesus! Domine, adjuva mе!»[127]
На шум прибежали оба сына покойной, а вслед за ними все домочадцы и обнаружили, что священник и причетник свалились вниз и расшиблись так, что уже не могут больше стоять на ногах. Братья спросили их, что это значит и что с ними такое приключилось. Лица у обоих были бледные, как у выходцев с того света, а глаза растерянно блуждали. Священник долго не мог вымолвить ни слова. У причетника тоже был испуганный вид, а лицо его было расшиблено в нескольких местах. В конце концов священник глубоко вздохнул и сказал, весь дрожа:
— О дети мои, знайте, мне только что явился дьявол в образе вашей матушки!
Обезьяна, успевшая к этому времени вылезти из постели и сунуть нос во все коробки со сластями, вприпрыжку сбежала вниз по лестнице как раз в ту минуту, когда к священнику вернулся дар речи. На голове у нее был чепец, лицо обвязано бинтами, а вокруг всего тела намотаны куски материи. Спустившись, она одним прыжком очутилась в середине комнаты, и все, кто там был, едва не разбежались от страха, ибо видом своим она действительно очень напоминала покойную хозяйку дома.
В конце концов один из братьев все же понял, кто это, и тогда страх, охвативший присутствующих, сменился смехом, причем все выглядело еще смешнее, оттого что виновница переполоха, как была, во всем этом странном облачении с невероятными ужимками принялась скакать по комнате и отплясывать нечто вроде мавританского танца. Не удовольствовавшись тем, что так позабавилась над людьми, которых перед этим до смерти напугала, она, продолжая свои мавританские пляски, ускользнула от тех, кто хотел ее схватить, убежала из дома и в том же ни с чем не сообразном виде вернулась в замок, вызывая отчаянный хохот окружающих. И как ни грустно в доме братьев было у всех на душе, стоило только вспомнить про обезьяну и про ее забавные проделки, как невольно на всех нападал смех и обитатели дома снова принимались подшучивать друг над другом и над страхом, которого они в тот день натерпелись.
Известие о кончине этого несчастного старика наводит меня на мысль, что жена его, верно, с кем-то изменяла ему и что жестокий, как зверь, сын был не от него, а от кого-то другого. До такой степени, синьор маркиз, мне кажется странным и противоестественным, чтобы сын мог так безжалостно обращаться с собственным отцом. Но ведь человек из Сермедо[129] отнюдь не был первым, кто обагрил руки отцовской кровью. Еще Селим в 1512 году отравил отца своего Баязета[130], чтобы стать императором Константинополя, будучи не в силах дождаться естественной смерти его, хотя тот был уже стар, а еще задолго до этого Фреско да Эсте, чтобы стать властителем Феррары[131], своими руками задушил родителя своего Аццоне, маркиза Феррарского — и все это повергает меня в грустные размышления. Не могу себе представить, как это сын мог с такой лютой варварской жестокостью расправиться с собственным отцом. Ведь если не приходится сомневаться, что даже у варваров и басурманов, не признающих Христа, почитается тягчайшим грехом и нечестивейшим поступком даже поднять руку на отца, не говоря уже о другом, то, право же, куда большего порицания и вечного позора заслуживает отцеубийство, когда оно совершается христианами. Мне приходит на память ужасное и омерзительное преступление, которое не так давно совершилось в Гельдерне, ранее носившем название Сикамбрии[132], поля и замки которого лежат между Маасом и Рейном, и я думаю, что и синьор маркиз и вы, синьоры, удостоите меня чести выслушать мой рассказ.
Вы, вероятно, знаете, что в год от рождения Спасителя нашего тысяча четыреста семидесятый, а может быть, немного раньше либо немного позже, герцогом в Гельдерне был Арнольф, человек уже очень пожилой, который в молодые годы отличался храбростью и мужеством, искусно владел оружием и стяжал немалую славу в боях. Женат он был на сестре герцога Клевского, которая родила ему сына по имени Адольф. Впоследствии он дал сыну в жены сестру герцога Бурбонского и справил их свадьбу с превеликой пышностью. Этот Адольф был очень близок с герцогом Карлом Бургундским, заклятым врагом герцога Лотарингского и швейцарцев[133]. Адольф был человеком бессовестным, безмерно жестоким и жаждавшим власти. Он решил, что отец его чересчур зажился на белом свете, и, хотя тот был уже в очень преклонном возрасте, сын, одержимый неистовым желанием вступить во владение землями, ни за что не желая дождаться, пока родитель умрет естественной смертью, подкупил многих отцовских слуг. И вот, сделав все необходимые приготовления, он однажды вечером, когда несчастный старик находился у себя в опочивальне и, ни о чем не подозревая, собирался отойти ко сну, — кому страшен собственный сын? — явился к нему со своими вооруженными людьми, такими же низкими и безжалостными, как он сам. Он схватил несчастного старика, совсем уже раздетого и разутого, и силой вытолкал его, полуголого, хоть дело было в январе, на улицу, всячески глумясь над ним, а затем заставил его пройти босиком около пяти наших миль, что составляет больше двадцати итальянских, до одного из своих замков, где заточил его в темницу в башне с очень толстыми стенами, куда совершенно не проникал свет, и держал его там полгода в весьма тягостном положении.
Герцог Клевский вступился за Арнольфа, своего зятя, и пошел войной на племянника, не посчитавшись с ущербом, который наносил этим всей стране, и попытался освободить зятя, но ему это не удалось. Карл, герцог Бургундский, приложил все усилия, чтобы примирить отца с сыном, но тоже ничего не добился. Когда папа Сикст IV[134] услышал об учиненном над стариком мерзком насилии, он отправил нунция к императору Фридриху, отцу Максимилиана[135], и призвал того вмешаться в это чудовищное дело. Тогда Фридрих и Карл Бургундский с помощью папы добились того, что Арнольф был освобожден из тюрьмы. Но Адольф не захотел вернуть отцу ни земель, ни доходов с них, на которые бы тот мог жить, и несчастный старик обратился в имперский суд с жалобой, на своего вероломного сына. Хоть он был уже очень стар и изможден, а также безмерно удручен длительным пребыванием в мрачной темнице, тем не менее, будучи человеком правильного образа жизни, крепкого еще здоровья и великого мужества, он вступил в противоборство с сыном. Герцог Карл хотел, чтобы герцогский титул остался за стариком вместе с Граве, землями неподалеку от Брабанта[136], приносившими три тысячи рейнских флоринов дохода, с тем чтобы еще три тысячи ему выплачивал Адольф, а за ним бы остались другие земли герцогства. Услыхав об этом решении, его вероломный сын, захмелев от злобы, а может быть, и от вина, вскричал:
— Прежде чем заключать этот договор с Арнольфом, — он даже не потрудился назвать его отцом, — надо было бы, когда он был в моей власти, отрубить ему голову, а потом сбросить его в колодец. Этого я и хочу!
Услыхав этот постыдный ответ, герцог Карл возгорелся негодованием и приказал заточить Адольфа в Намюрский замок[137] и, как и следовало ожидать, снова сделал старого Арнольфа герцогом Гельдерна. И вот в то время, как преступный Адольф сидел в тюрьме, отец его, герцог Арнольф, чувствуя, что жить ему остается недолго, составил завещание. Чтобы отблагодарить герцога Карла за его милости, он безраздельно завещал ему свое состояние, по всей форме лишив сына прав на наследство. Таким образом герцог Бургундский присоединил к множеству провинций своих и земель герцогство Гельдернское и спокойно владел ими до тех пор, пока не погиб в сражении с герцогом Лотарингским Ренатом и швейцарцами. Тогда жители Гента извлекли Адольфа из тюрьмы и отвезли его в Турне, столицу нервиев[138], где предали его позорной смерти, как он того и заслуживал. Так с соизволения господа нашего были отмщены всё его жестокое обращение с отцом и нанесенные старику обиды.
Не так давно жил у нас в Сиене молодой торговец, державший бакалейную лавку, приносившую ему немалый доход. Был он очень хорош собой, ладный, статный, и одевался красиво. Но, дабы поднатореть в своем ремесле, он нередко стоял за прилавком и сам заправлял всеми делами. Случилось так, что другому нашему бакалейщику, у которого дочки были на выданье, показался он весьма подходящей партией, и тот задумал женить его на одной из своих дочерей. Очень уж понравились старику его красивые наряды, ибо юноша тот постоянно щеголял в атласных кафтанах и подбитых тафтою штанах, украшенных вышивкой и кружевом, как это принято нынче у молодых людей. Видя, что одевается он богато, а торговля у него идет бойко, названный бакалейщик решил, что дела молодого человека обстоят много лучше, чем то было на самом деле, и, окончательно укрепившись в намерении выдать за него дочь, уведомил его о том через посредство одного своего приятеля. Юноша, помышлявший о женитьбе меньше, нежели бакалейщик, увидав несколько раз девушку, которую за него прочили, остался ею совершенно очарован, потому как была она прелестнейшим созданием; короче говоря, Антонио стал гораздо больше думать о девушке, чем о своей лавке; чувствуя, как в груди у него разгорается любовный пожар, он ни о чем другом и не помышлял. Сват, понукаемый отцом милой и красивой девушки, каждый день торопил юношу со свадьбой, и, поскольку тот теперь жаждал этого больше, чем отец невесты, они быстро поладили и, как только обе стороны пришли к обоюдному согласию, назначили день свадьбы. Нетрудно представить, что, чувствуя себя счастливым сверх меры и желая пустить пыль в глаза, юный бакалейщик потратил на великолепные подарки много больше денег, чем то ему подобало. Когда же были закончены все свадебные обряды и отслужены мессы, он снарядил свою молодую жену и, как положено тому быть, привел ее к себе в дом. Много дней не вспоминал он ни о лавке, ни о всех прочих делах. Потом же, по прошествии нескольких недель, он, как это принято, встретился с тестем и шурьями и потребовал у них обещанное ему приданое. У тестя, хорошо помнившего об их уговоре, приданое было припасено, и, подписав с юношей контракт, он выплатил ему все сполна. Получив деньги, молодой бакалейщик задумал пополнить запасы товаров и привести лавку в порядок; поэтому спустя несколько месяцев после свадьбы он решил съездить в Венецию, дабы закупить там все, что требуется для торговли, как то в обычае у многих бакалейщиков, которым средства могут это позволить. Снарядившись в дорогу и нежно распрощавшись с молодой женой, он взял путь на славный и великий город Венецию и прибыл туда, миновав Флоренцию, Болонью, Феррару и Падую. Так как в Венеции он прежде ни разу не бывал, то, оказавшись в чужом городе, не знал, где ему остановиться; расспрашивая встречных, он объяснял им, откуда он родом. И вот, в поисках пристанища, случайно натолкнулся он на одного нашего земляка по имени Джованни Манетти, который постоянно проживал в Венеции. Юноша рассказал ему, зачем приехал, и попросил показать, где можно достать хорошие товары и где ему лучше пристроиться. Тогда Манетти, который всегда из кожи вон лез ради сиенцев, а также старался ублажить всякого чужеземца (таково ведь свойство всех нас, жителей Сиены: об иностранцах печемся мы больше, нежели о себе самих), послал его к своему приятелю, славянину, сдававшему комнаты с пансионом при случае, если ему попадался порядочный человек, ибо — так принято в Венеции; рассказывают, будто там сдают дома чуть ли не все дворяне, не говоря уж о людях простого звания. Послав его к славянину, Манетти отправил с ним слугу, дабы тот показал ему дом и отрекомендовал его как близкого друга своего хозяина.
Послушавшись Манетти, надававшего ему множество полезных советов, юный бакалейщик поселился у названного славянина. Прожив в Венеции дней пять, Антонио Анджелини — ибо именно так звали юношу — в воскресенье обедал со своим хозяином; плотно подзакусив, они разговорились, и Антонио сказал:
— Послушайте, мессер Заноби, — (так звали славянина), — я хотел бы попросить вас сегодня об одном одолжении.
Славянин, будучи человеком любезным и услужливым, спросил:
— Что вам угодно? Вы же знаете, дорогой мой мессер, что вам стоит лишь приказать.
Тогда Антонио сказал:
— Сегодня праздник, давайте, если это вас не затруднит, погуляем немного по Венеции. Покажите мне, пожалуйста, город, ведь без вас с непривычки я непременно заблужусь среди всех ваших улиц и каналов.
Славянин, как я сказал, был рад услужить ему. Обмениваясь любезностями, они вышли из дому и прошли добрую часть Венеции пешком, оставив далеко позади себя дом славянина, расположенный подле церкви Мадонны-делла-Фава у Кабарбаро. Вдоволь нагулявшись, они дали три маркетти гондольеру, чтобы тот покатал их по каналам и по морю. Когда они плыли в гондоле по каналу, Антонио спросил у славянина:
— Мессер Заноби, а не поехать ли нам к девицам, которые дарят любовь и ласку за деньги и которые называют себя на римский манер куртизанками?
— Поедем, — согласился славянин. — Только сейчас еще слишком рано, потому как все они сейчас в церкви у причастия, а как только причастятся, мы заглянет к ним и найдем среди них немало красоток. А пока что покатаемся еще немного по Большому каналу, доедем до моста Риальто — так время и пройдет.
Пока они плыли по Большому каналу, славянин вспомнил об одной фламандке и сказал:
— Мессер, я хочу свозить вас в Калабаллоте и посмотреть, не застанем ли мы дома некую мадонну Джакену, уроженку Фландрии. Ручаюсь, что она — одно из самых прелестных созданий, каких когда-либо видывал свет, и я уверен, что она вам понравится; а коли нет, мы отправимся, куда вам будет угодно.
Засим они направились в Калабаллоте. Причалив у дома фламандки, славянин постучал в дверь. Услышав стук, фламандка выглянула в окно и, увидав славянина, с которым она давно водила знакомство, потянула за шнурок и отперла входную дверь. Славянин, следуя обычаю, отпустил гондолу и вошел в дом, ведя за собой Антонио. Поднявшись по лестнице, они очутились в небольшой зале, стены которой были обиты необыкновенным штофом. К ним вышла, любезно им улыбаясь, фламандка. Прелестнейшее существо, не хуже самой красивой венецианки, встретила она их приветливо и радушно. Была она статна, и лицо ее оказалось на редкость миловидным — белое, как первый снег, и вместе с тем чуть-чуть розоватое, словом, кровь с молоком; цвет кожи ничем не отличался от цвета восточных жемчужин; вся она напоминала букет роз и фиалок, взращенных в тенистом саду и сорванных на утренней заре.
Как уже было сказано, встретила она гостей приветливо и усадила их в кресла, обитые зеленым бархатом с золотом. Кресла сии были словно из господского дома. Сама же она уселась между двумя мужчинами, и завязалась беседа о самых различных вещах и предметах. Хотя женщина эта была родом из Фландрии, по-итальянски она изъяснялась совершенно свободно. Внешняя красота сочеталась у нее с красотой души, широкой и благородной. Когда они вдосталь наговорились, она обернулась к служанке, которая тоже была родом из Фландрии, и что-то сказала ей на своем языке. В тот же миг служанка накрыла роскошный стол. Обнаружив на нем все необходимое для трапезы, — всевозможные яства и самые дорогие вина, — гости, продолжая беседовать, с аппетитом отведали всего. Когда они выпили, славянин, дабы не стеснять юношу своим присутствием, сказал:
— Простите, дорогой мой мессер, но когда мы уходили из дому, я совсем запамятовал, что мне надо было кое-что отослать в Кьоджу[140]. Прошу вас, мессер Антонио, если вам не трудно, подождите меня здесь около часа. Побеседуйте пока с мадонной Джакеной, а я постараюсь не задержаться. — Потом славянин добавил: — Видите ли, мессер Антонио, вам придется дождаться моего возвращения, потому как один дорогу домой вы все равно не найдете.
Он ушел, оставив Антонио наедине с мадонной Джакеной. Юноша ни о чем другом и не помышлял, ему казалось, что он находится подле королевы. Он наговорил ей великое множество всяких приятных слов, взял за руку, а затем, осмелев, стал гладить ее белую упругую грудь, целовать уста и всячески с нею заигрывать. Дама не отвергала его ласки. Она тоже быстро освоилась и начала возвращать ему поцелуи. Долгая любовная игра разожгла в обоих страстное желание. Тогда они в добром согласии, обнявшись, отправились в соседнюю комнату и там, улегшись на богато убранную постель, к обоюдному удовольствию за короткое время сумели довести до конца четыре жаркие схватки. Засим они вернулись в залу. Там они принялись болтать и шутить и чувствовали себя так, будто знакомы целую вечность. Они договорились, поскольку понравились друг другу, провести нынешнюю ночь вместе. Не желая показаться мужланом, Антонио, который насладился столь прекрасной дамой, дал ей на первый раз золотой скудо (цена для нее вполне приличная).
Они пробыли наедине довольно долго, и когда славянину показалось, что прошло достаточно времени, он вернулся к фламандке и спросил Антонио, не угодно ли ему отбыть вместе с ним. Антонио, который, вкушая удовольствие, позабыл и о славянине, и о делах, и о родном городе, и о собственной жене, не нашелся сразу, что сказать. Но тут вмешалась проворная фламандка:
— Мессер Заноби, — сказала она на венецианском диалекте, — мне хотелось бы, чтобы нынче вечером мессер Антонио отужинал у меня.
Однако славянин, заботясь о благе юноши и блюдя его интересы, возразил ей на это:
— Видите ли, мадонна, нынче вечером нам с этим молодым дворянином надо переслать кой-какие товары в Меллоне; как только мы их отправим, я вам его верну.
Фламандка, решив, что славянин говорит ей правду, поверила ему и, обернувшись к юноше, сказала:
— Хорошо, мессер Антонио, я буду ждать вас к ужину; возвращайтесь.
Антонио, не понимая толком, что могут означать речи славянина, попрощался с фламандкой и заверил ее, что непременно вернется. С этими словами он удалился, а фламандка осталась весьма довольна, ибо считала, что нынче заполучила богатого клиента. И она стала поджидать его с большим нетерпением.
Когда Антонио и славянин, беседуя, проходили по Калабаллоте, мессер Заноби сказал ему:
— Знаете, дорогой мой мессер, ведь я вытащил вас из этого дома ради вашего же блага. Фламандку эту содержит один венецианский дворянин. Вот почему мне не хочется, чтобы вы шли к ней ужинать или ночевать, имея при себе деньги. Если бы, на ваше несчастье, сей дворянин застал вас у нее в доме и пронюхал бы, что вы купец, он ободрал бы вас как липку. Ну, а коли вам все-таки угодно к ней отправиться, то прежде оставьте деньги либо у Манетти, либо в каком другом месте, где они будут в полной сохранности. После этого ступайте к ней на здоровье и ничего не опасайтесь. Но помните, если вас в ее доме ограбят или сделают с вами что-либо худое, вы никак не сможете привлечь ее к суду.
Антонио, хотя он сразу же влюбился во фламандку, прислушался к этому совету и поблагодарил за него славянина. И так как он почитал его за человека, которому можно доверять, то, следуя его совету, оставил в своей комнате в крепком и надежном сундуке все, что имелось у него ценного. После чего, не медля ни минуты, он попросил мессера Заноби доставить его снова к дому желанной фламандки. Вернувшись в дом Джакены, Антонио, как говорится, поужинал с ней на венецианский манер. Ночью, которую они провели вместе, фламандка еще больше понравилась юноше, а он столь же сильно понравился фламандке. Судьбе было угодно, чтобы они настолько влюбились друг в друга, что не могли прожить один без другого и часа. Попавшийся в силки Антонио проводил долгие дни в любовных играх, срывая желанные и сладостные плоды страсти. Бедного неосмотрительного Антонио так очаровали не только красота и деликатность фламандки (черта в сем народе весьма нечастая), но и любезное и ласковое обращение и внимание, которым он был постоянно окружен; больше не вспоминал он ни о Сиене, ни о своей жене — всеми его помыслами завладела его дорогая фламандка. Словно глупый, слепой влюбленный, жил он опутанный такого рода сетями, не отходя ни на шаг от Джакены. Целых два месяца продолжалась эта безумная любовь, а Антонио все свое время тратил на фламандку. Будучи женщиной веселой, она учила его некоторым словам на своем языке и между прочими выражениями научила, что надобно сказать, когда мужчина приглашает женщину заняться одним делом, и как следует на это ответить, коли у нее есть на то желание. Всякий раз, когда фламандке хотелось позабавиться, она спрашивала: «Анси визминере?» — а Антонио, который хорошо усвоил ее уроки, коли у него появлялась охота, отвечал: «Ио»; когда же охоты у него не было либо по причине усталости, либо еще почему, то он говорил: «Нитти зминере».
Поэтому как только Антонио появлялся на пороге дома фламандки, он всегда произносил вместо приветствия:
— Анси визминере? — И, взяв фламандку за подбородок, целовал ее в губы.
А она, страстно желая доставить ему удовольствие, отвечала.
— Ио!
И вот от слишком частых сражений несчастный юноша был едва жив. Не закармливай его фламандка вкусными и сытными блюдами, он бы и вовсе протянул ноги из-за своей чрезмерно великой любви. Однако бедняга не обращал на это внимания и, как я уже говорил, совсем позабыл и о своей родине, и о собственной жене. Он не представлял, что его дом находится где-то в другом месте; ему казалось, что здесь он родился и что тут его благо. Уже давно прошли все сроки его возвращения, и к нему стало приходить множество писем от супруги, от братьев, от друзей и от многих других лиц, которых побуждала писать ему жалость к столь красивой женщине, покинутой своим мужем. Антонио, занятый лишь своей любовью, никому не отвечал, но тосковал, когда при нем заговаривали о Сиене.
Потому в один прекрасный день, благодаря увещевательным письмам родных и уговорам приезжих сограждан, он осознал свой грех и понял, что ему надобно непременно уехать и вернуться на забытую родину. За несколько дней он накупил товаров на те жалкие гроши, что у него остались, приобрел несколько сундуков с венецианским стеклом, собрал свое имущество, упаковал все это, погрузил на корабль и отправил в Пезаро. Он уладил свои дела с фламандкой и распрощался с ней, приведя в свое оправдание доводы правдивые и весьма убедительные. Прощаясь, оба пролили немало слез. Антонио крепко обнял фламандку и, клятвенно пообещав ей в скором времени вернуться, отбыл из Венеции.
Разлука сильно огорчила обоих, но поскольку сам Антонио решил, что ему непременно надо уехать, то он переносил ее легче, нежели фламандка. Сев в гондолу, он взял курс на свою старую родину и через несколько дней добрался до Сиены, где его с превеликой радостью встретила жена, очень довольная его возвращением, ибо за это время она по нему сильно соскучилась. Несколько дней спустя прибыли товары, и Антонио, выставив напоказ венецианское стекло, пряности и специи, открыл свою лавку.
Так он прожил в Сиене довольно долгое время, но все не мог забыть свою разлюбезную фламандку; и хотя жена его была женщина неописуемой красоты, глупец постоянно думал о своей венецианской возлюбленной. Часто, дабы смягчить боль разлуки, он забавлялся с женой так же, как забавлялся когда-то с фламандкой, и тогда ему казалось, будто она опять находится подле него. Обнимая жену и беря ее за подбородок, он спрашивал: «Анси визминере?» — и, целуя ее в губы, сжимал крепкую, словно вылепленную из алебастра, грудь, вкушая от сладких плодов наслаждения. Молодая женщина, не понимая, что значат слова, которые она слышала от него не однажды, спросила как-то, ласкаясь:
— А что такое «зминере»? — Муж, не ожидавший подобного вопроса, от которого у него сердце захолонуло, испустил глубокий вздох и, вспомнив свою Джакену, ответил:
— Это значит: «Хочешь поесть?» На что простушка сказала, смеясь:
— А я думала что-нибудь худое, хоть и слышала, как ты говорил это множество раз.
Тогда Антонио привлек ее к себе, дабы насладиться ею вместо фламандки, которую он представлял себе в то самое мгновенье, и они принялись забавляться, получая от сего величайшее удовольствие. Женщина подумала, что муж сказал ей правду, ибо она часто слышала от него это слово за ужином, за обедом, в постели, и тоже взяла привычку выражаться таким же образом. Нередко она говорила мужу с задорным смехом:
— Анси визминере?
И Антонио, который прекрасно все понимал, отвечал:
— Ио, — и при этом всякий раз запечатлевал на ее устах жаркий поцелуй. Женщине такая игра пришлась по вкусу, и не проходило дня, чтобы она, сама того не подозревая, не растравляла мужу его раны.
В такого рода увеселениях прошло у них много дней. И вот однажды, в самый разгар лета, прекрасная супруга не очень мудрого бакалейщика сидела в холодке под навесом и шила. Как всем хорошо известно, в это время года, когда дни стоят длинные, многие отправляются в дальние странствия. А в ту пору на дорогах было великое множество пилигримов не только потому, что стояло лето, но и потому, что наступил святой год Юбилея[141]. Хорошенькая молодая женщина из-за непереносимого зноя была одета совсем по-домашнему и выглядела сущим ангелом, рожденным под кущами рая. На ней было белое открытое крестьянское платье без рукавов, едва прикрывавшее голени, обтянутые белыми шелковыми ажурной вязки чулками, которые муж привез ей из Венеции. Из-под платья виднелись прелестнейшие точеные ножки, обутые в черные бархатные туфельки, расшитые серебром. Голову ее прикрывала шелковая косынка, а шею украшал вышитый воротничок из тончайшего шелка. Так вот, сия ангельской красоты женщина сидела на низенькой скамеечке подле двери дома и шила, склонив головку, отчего видна была ее грудь, красивее которой в то время невозможно было сыскать, — не слишком большая, белоснежная, крепкая, словно выточенная из мрамора, поистине, казалось, что сделана она из жемчуга и рубинов.
И вот, когда прелестная молодая женщина сидела подле своего дома, некие фламандские пилигримы, совершавшие странствие в честь святого Петра, шествовали в Рим за отпущением грехов. Среди них случайно оказался один дворянин, который дал обет совершить паломничество в Рим. Он находился в лучшей поре молодости, ибо ему еще не перевалило за двадцать пять и вместе с тем на вид было не менее двадцати четырех лет. Отправляясь в путь, юноша не оставил дома кошелек и все время жил на свои деньги. Идя по дороге вместе с другими пилигримами, он заметил у дома бакалейщика красивую, изящную женщину, которая, как уже было сказано, сидела и шила. Молодой пилигрим, увидав столь прелестное создание, подумал, что оно спустилось с небесных эмпирей, ибо красота названной женщины показалась ему превыше человеческой. Дабы получше рассмотреть ее, он остановился и попросил у нее то, чего не просил ни у кого за все время своего паломничества: жалобно взирая на женщину, он умолял ее подать ему милостыню Христа ради. Молодая красавица, взглянув на юного фламандца, просившего у нее подаяния, подумала, что он, видимо, человек благородный и благовоспитанный (как то и было на самом деле), и, припомнив словечко своего мужа, спросила:
— Анси визминере?
Услышав такие слова, молодой пилигрим остолбенел от удивления, ибо, как ему казалось, подобного рода предложение никак не вязалось с наружностью названной женщины, и он прямо не знал, что ему делать. Он стоял в нерешительности, растерянный, ошеломленный, и почитал за чудо, что такая женщина сделала ему подобное предложение. Не зная ни слова на нашем языке, он пожирал ее горящим взором, полагая, будто видит перед собой существо божественное, а не земное, и не произносил ни звука, сраженный ее красотой.
Женщина, видя, что он молчит, еще раз предложила ему то же самое. Услышав, что его приглашают во второй раз, юноша пришел к твердому убеждению, что имеет дело с дамой, которой вздумалось позабавиться и сыграть с ним какую-то шутку; однако это не помешало тому, что в его груди вспыхнуло жаркое пламя. Терзаемый любовью, юноша начал строить всяческие домыслы и в конце концов дерзнул подумать, что женщина эта блудница и что именно об этом свидетельствуют как ее дерзкое предложение, так и ее соблазнительный наряд. Тем не менее он продолжал молча пожирать ее молящим взглядом. Поэтому немного погодя, движимая милосердием и желанием подать ему милостыню, женщина в третий раз обратилась к нему с тем же самым предложением. Тогда юный пилигрим, отбросив всяческую робость и благочестие, не помышляя более ни о святом Петре, ни о святом Павле, всею душой устремился к красотке, долгое лицезрение коей напомнило ему о воскрешении плоти. Молча он потянул за шнурок, препоясывавший его штаны, и развязал его. Штаны свалились. После чего он вбежал на галерею, схватил в охапку молодую женщину, отнес на руках и уложил на стоявший тут же сундук со стеклом (бакалейщик часто ставил его сюда, дабы он не загромождал лавку, расположенную как раз напротив его дома). Страстными, горячими поцелуями пытался пилигрим вынудить женщину удовлетворить его желания и, шаря одной рукой, силился приладить к месту свой большой кожаный посох. Молодая женщина, увидав, как обернулось дело, и не зная, что надо делать в подобных обстоятельствах, не придумала ничего умнее, как поднять крик и начать звать на помощь:
— Антонио! Антонио!
Услышав ее вопли, бедный пилигрим, который уже задрал ей подол, был вынужден убрать свой длинный, толстенный посох.
Хоть он и не знал нашего языка, но все же понял, что женщина вопит от страха и что все ее поведение никак не вяжется с ее словами. Не зная местных обычаев, он испугался, что попадет тут в какую-нибудь беду, и с превеликим сожалением исчез, словно призрак, прежде чем кто-либо успел его задержать.
Антонио, который сидел в лавке против своего дома, услышал крики и, узнав голос жены, помчался домой, опасаясь, что кто-нибудь сыграл с ней какую-то непристойную шутку. Задыхаясь от ярости, ворвался он на галерею, но уже не застал там пилигрима, тот сбежал. Зато он обнаружил там свою супругу, распростертую на сундуке в той самой позе, в какой ее бросил фламандец — с юбкой, задранной до пупа, всю растрепанную, еле живую от страха и онемевшую скорее всего от злости. Увидев ее, Антонио так и обмер, решив, что честь его безвозвратно потеряна. Трепеща, он спросил у жены, что произошло. На что та, распалившись не только от пережитого страха, сердито ответила:
— Разрази вас господь!
Антонио, не понимая, что она хочет этим сказать, повторил свой вопрос, но в ответ услышал:
— У, холера вам в бок! Дух не могу перевести — так перепугалась.
Муж, которому не терпелось немедля все выяснить, стал настаивать:
— Да отвечай же скорее, не тяни.
А жена оправила на голове косынку, одернула юбку и заявила:
— В жизни мне еще не приходилось так туго; но клянусь крестом господа нашего, жаль, не случилось того, чего вы заслуживаете.
— Так скажешь же ты наконец, что произошло? — сгорая от нетерпения спросил муж.
А она ему в ответ:
— Не вы ли меня этому выучили? Или, скажете, — не вы? Посмотрите-ка на него — уверял, что все это — совсем прилично, а сам обучил меня разным пакостям. Нет. Бог свидетель, не надо бы мне поднимать крик.
Антонио, все еще не понимая, куда она клонит, умолял ее рассказать, что же все-таки произошло:
— Да говори же наконец, — просил он ее, — не тяни ты мне Душу!
Тогда она рассказала ему всю историю с пилигримом. Антонио, пока он слушал ее рассказ, бросало то в жар, то в холод, и он понял, что сам оказался виновником приключившегося скандала.
— Никогда больше, — сказал он жене, — не говори этих слов никому, кроме меня, ибо они значат: «Хочешь сделать со мною то, что я хочу сделать с тобой?»
Тогда она нахмурилась и вымолвила сердито:
— И как только вам не стыдно было учить меня подобным мерзостям? — И, вконец разозлившись, она наговорила мужу таких ругательных слов, какие только способна наговорить женщина, браня мужчину.
Антонио, сознавая свою вину, молчал; и только под конец, когда все уже было сказано, заметил:
— Впредь будь умнее и благодари бога, что на сей раз все обошлось благополучно.
С этими словами он повернулся и направился к лавке. Однако, пока он уходил, жена успела крикнуть ему вслед:
— Сами скажите богу спасибо. Больше не услышите от меня ни слова, прежде чем я не узнаю, что оно значит. И пожалуйста, без чужеземных словечек. Когда вам захочется попросить меня о чем-либо, изъясняйтесь по-нашему.
Антонио, сильно раздосадованный, бросил на ходу:
— Ладно, поступай как знаешь.
И ушел, оставив жену в большом гневе.
Та кинула шитье и ушла в дом, унося с собой свою досаду. Так в одно и то же время остались раздосадованными, распаленными и разъяренными все трое: бакалейщик Антонио, его прелестная супруга и фламандский пилигрим.
Сульмон, царь Персидский, могущественнейший из царей, был, как приходилось мне слышать, человеком, коего жестокость равнялась доблести. Было у него много детей мужеского и женского пола от жены Селины, женщины благороднейшей крови, но самого что ни на есть злодейского нрава. Сульмон убил ее и своего старшего сына за то, что застал их вместе в бесчестии. Осталась у него из всех детей одна дочь по имени Орбекка; по возрасту ей уже пора было замуж, а красотою она превосходила всех других, за что многие ее любили. Отцу была она милее жизни, и казалось, что на нее возлагал он все свои упования. Не было такой вещи, угодной девушке, в коей он бы ей отказал, а через это нередко случалось, что смягчалась его жестокость, и кто трепетал в страхе, обретал безопасность, а кто страдал от обиды, получал благо сторицей.
Однажды ко двору этого царя явился юноша из Армении по имени Оронт, который, хотя и происходил из царского рода, был брошен своей матерью, тайно его зачавшей, в волны моря в деревянном сундуке, а затем случайно попал к царю Армении и был им выращен в низком звании. Сей юноша настолько был хорош собою, настолько выделялся прекрасными манерами и доблестями, что всякий почитал его, несмотря на жалкое его положение, достойным сойти за царского сына. Итак, прибыв ко двору Сульмона и зная язык этой страны, как родной, он понравился многим при дворе и показался царю столь совершенным рыцарем, что тот решил взять его к себе на службу; на этой службе он настолько преуспел, что меньше чем за три года приобрел больший вес и силу, чем кто-либо другой из приближенных царя. А это весьма не нравилось и претило придворным из самых старинных и благородных фамилий, и многие из них жаловались Орбекке и просили ее поговорить с отцом и убедить его, что, по сравнению с их собственными давнишними заслугами, этот чужеземец и к тому же человек, по-видимому, самого низкого звания не достоин того предпочтения, какое царь ему оказывает. Дочь однажды передала отцу эти жалобы придворных, на что он сказал:
— Дочь моя, в мои годы я хорошо знаю, чем один человек лучше или хуже другого, среди тысячи людей я умею выбрать одного, стоящего всей этой тысячи. Посему, если я ценю юношу, носящего имя Оронт, то я поступаю так потому, что он этого заслуживает, и меня нисколько не тревожит, что он низкого звания, ведь дух его и доблесть не только ставят его выше его судьбы, но и делают достойным быть сыном самого великого царя. Пусть жалуются мои люди, они жалуются напрасно.
Орбекка поверила словам отца больше, чем было должно, и похвалила его за то, что он умеет так хорошо отличать того, кто этого стоит, а сама загорелась таким жгучим желанием увидеть юношу, какого еще никогда не испытывала ни одна женщина. Все ее мысли были поглощены Оронтом, и она думала лишь о том, как увидать его: ведь Орбекка еще ни разу не встретила Оронта, хотя он уже давно был при дворе ее отца, поскольку в те времена у персов существовал обычай, не позволяющий чужестранцам появляться там, где находятся женщины.
Через несколько дней Сульмон потребовал к себе Оронта и, вручив ему драгоценнейшую жемчужину, сказал:
— Отнеси ее моей дочери и скажи, что я дарю ее ей.
Царь, не ведая о том, что из этого произойдет, поступил так только потому, что хотел показать дочери, насколько справедливо он отличил и похвалил этого человека. Оронт, повинуясь приказу царя, вошел в покои Орбекки и с пристойными этому случаю словами и отменной учтивостью вручил ей отцовский дар. Девушка взяла его с благодарностью, заявив, что прекрасный подарок весьма ей приятен тем, что исходит от царя — ее отца, но еще более ценен ей потому, что он прислан с человеком, увидеть и услышать которого она давно хотела. Так, переходя от одного предмета к другому, как бывает в домашних беседах, они провели долгое время вместе, пока юноша, попрощавшись, не вернулся наконец к своему господину. Юноша ушел, но его образ настолько прочно запечатлелся в сердце Орбекки, что ей казалось, будто он днем и ночью стоит перед ее глазами. И, размышляя о достоинствах юноши, она решила, что отец, сколь хорошо ни отзывался ей о нем, все же был скуп на похвалы: так много нашла она в нем достоинств после первой их беседы. И если прежде само имя Оронта отвращало ее по причине зависти, какую питали к нему придворные, то теперь ей стали по сердцу лишь речи, касавшиеся Оронта.
Однажды, когда она была занята такими мыслями, к ней явился отец, вошедший, по своему обыкновению, через потайной ход. Орбекка почтительно его встретила и поблагодарила за присланный подарок. За разговором отец спросил Орбекку:
— Что ты думаешь, дочь моя, об Оронте? Кажется ли тебе он достойным похвал?
— Он кажется мне достойным любой почести, — отвечала она, — но мне кажется также (скажу вам это со всей почтительностью), что вы не должны из-за него пренебрегать другими.
Она сказала так, чтобы отец не понял, что все ее мысли заняты Оронтом, и не помешал выполнению ее желаний, как он мог бы сделать, если бы о них догадался- Царь, когда их беседа закончилась, вернулся в свои покои и потом не однажды по разным делам посылал Оронта к дочери. Казалось, что, подобно тому, как он доверил ему дела в своем царстве, он доверил теперь ему и свою дочь.
Когда Оронт, прежде не знавший девушку, побывал у нее и раз-другой внимательно на нее поглядел, он загорелся такой любовью, что ему не стало от нее спасения. Так же, как он казался Орбекке прекраснейшим рыцарем, Орбекка казалась ему самым восхитительным из всего, что только могли узреть глаза смертного. Снедаемый любовной напастью, он жаждал только одного — беспрестанно любоваться ее поразительной красотой. Он часто упрекал Фортуну за то, что по ее вине не может надеяться обладать столь несравненной женщиной. Но ни одним движением или взглядом он не выдавал своего желания, дабы ни девушка, ни кто-либо другой не смогли о нем догадаться.
Однажды, будучи в покоях девушки и взирая на нее пристальным взглядом, Оронт заметил в ней некое проявление сердечной склонности. Поэтому и он постарался осторожно показать, что если она загорелась к нему любовью, то он пылает к ней еще более жарким пламенем. Они долго таили друг от друга свою любовь, причем и он и она пылали все горячее, потому что тайный огонь всегда жарче явного. Так продолжалось до тех пор, пока девушка, которая по своей нежной природе была слабее, не дошла до того предела, когда ей поневоле оставалось либо признаться Оронту в своей любви, либо умереть. Тогда, оказавшись как-то с ним наедине, она, вся зардевшись от благородного стыда, тихим голосом так ему молвила:
— Оронт, если Фортуна поскупилась для тебя на свои дары, то Доблесть, дабы исправить причиненную ею несправедливость, расточила тебе свои величайшие щедроты. Первая сделала тебя бедняком низкого звания, но вторая своими дарами превратила тебя в первого рыцаря этого двора, быть может, не последнего из существующих ныне на свете. Вот почему ты — пришелец из чужих краев — стал в глазах царя, моего отца, достойным предпочтения, и притом заслуженного, перед всеми баронами и вельможами; так и мне ты люб более, чем кто-либо другой, как единственный достойный (не без благоволения бессмертных богов) владеть моею жизнью. Понимая, сколь мало подобает мне, юной девственнице из знатного рода, обращаться к тебе с такой просьбой, все же, побежденная бесконечной к тебе любовью и будучи не в состоянии иначе поведать о моих чувствах, предпочла я скорее испытать этот мало приличествующий мне путь, дабы сказать тебе о моем желании законным образом стать твоею, нежели молчать и мучительно гибнуть без тебя.
Знай же, что с того дня, как отец мой прислал тебя ко мне с жемчужиной (а эта жемчужина как раз висела у нее на шее), и до сегодняшнего дня я тебя так горячо любила, что неизвестно, как только у меня хватило сил выдержать этот великий пожар. И если мое признание так же подействует на тебя, как подействовали на меня твои редкостные достоинства, то я не сомневаюсь, что ты склонишься к согласию на то, чтобы мы, связанные узами брака, всю нашу жизнь принадлежали друг другу. Однако я заранее знаю, что этого не сможет одобрить мой отец, ибо он не станет руководствоваться тем, что надлежит делать, а скорее, движимый жадностью и заурядным честолюбием, склонится туда, куда повлекут его корысть и тщеславие. Но все же мне кажется, что больше всего заботиться о моем замужестве пристало мне самой, и пусть уж лучше отец мой корит меня за то, что я взяла себе доблестного супруга, чем я стану корить его за то, что он отдал меня неугодному, как, несомненно, случилось бы. Тем не менее я надеюсь, что, постепенно поняв, что я выбрала мужа разумно и, в конце концов, что сделано, то сделано, он примирится с тем, что ты его зять, а я твоя жена. Но если судьба окажется ко мне столь немилостлива (хоть я этого не думаю), что мне придется испытать одно из двух — либо потерять благоволение отца, а с ним его царство, либо потерять тебя, то я предпочту лучше жить без царства, но с тобою, достойным быть любым властелином, чем жить с каким-нибудь великим императором, достойным не столько властвовать, сколько находиться под властью. Я хотела бы, чтобы эти мои слова воздействовали на тебя с той же силой, с какой воздействовали на меня твои доблести и мужество.
Сказав, она ждала, что ответит Оронт. Когда Орбекка начала говорить, тысячи мыслей пронеслись в голове Оронта. С одной стороны, его удерживали верность господину, которому он был обязан многим, и благоволение его господина к нему; с другой стороны, его распаляла любовь девушки, заставляя забывать обо всем на свете и ставить свою любимую превыше всего. Утвердившись в этой последней мысли и собравшись с духом, он начал в ответ:
— Царевна, раз вы, по вашей бесконечной доброте, а не за мои какие-то достоинства (что бы вы об этом ни думали), подняли меня настолько высоко, что избрали себе в супруги, я не могу не поступить так, как вам угодно. Правда, я был бы весьма доволен, если бы имел согласие царя — вашего отца и моего господина. Но поскольку считать это возможным я не могу, да и вы тоже думаете не иначе, для меня нет иного решения, кроме одного, — да свершится ваше желание, и пусть будет, что будет. Тем не менее, полагаясь на добрую волю бессмертных богов, я уповаю на то, что наша любовь, счастливо начавшаяся при содействии вашего отца, придет с его помощью к счастливому завершению.
Девушка осталась очень довольна ответом и решила, что откладывать дело более не следует. Она позвала Тамалию, свою кормилицу, и еще одну столь же любящую, сколь верную служанку и, воззвав к богам, которых персы считают покровителями браков, вручила драгоценное кольцо Оронту и в присутствии двух женщин назвала его своим супругом. Затем, отослав их из комнаты и насладившись тысячью любовных поцелуев, они возлегли на ложе и там сорвали плод своей пылкой любви.
Но вскоре завистливая к людскому благу Фортуна примешала к их сладостным утехам так много горечи и последовавших за сим бед, что от их восторгов и радостей и следа не осталось. Селин, единственный сын Парфянского царя, попросил себе в жены дочь Сульмона, и тот твердо решил отдать ее. Призвав Орбекку и расточив ей свои ласки, царь радостно заявил:
— Уже наступило время, дочь моя, любимая превыше всего, чтобы ты дала мне утешение, которого я давно жду: по просьбе Селина, единственного сына Парфянского царя, прекрасного и любезного юноши, наследника великого богатства, я решил отдать тебя ему в жены. И, будучи уверен, что ты не станешь перечить моей воле и останешься довольна тем, что мне угодно предпринять ради твоего блага, я уже обещал тебя ему и знаю, что ты будешь довольна своей с ним жизнью.
Эти слова как будто острым кинжалом пронзили сердце молодой женщины. Но, чтобы лучше скрыть свое отчаяние, она сказала отцу, что, повинуясь любви, которую она к нему питает, она во всем и всегда была с ним согласна, но что на этот раз любовь внушает ей смелость пойти против его воли, конечно, не потому, что она хочет перечить тому, что ему угодно, или выйти из-под его власти и повиновения, какое должно оказывать любящему отцу, но только потому, что, расставшись с ним, она немедленно умерла бы. При последних словах, она пролила столько слез (и текли они с такой силой не из любви к отцу, а от сознания постигшего ее несчастья), что дальше уже говорить не смогла. Сульмон, поверив, что причиной тому была ее дочерняя любовь, очень похвалил ее в душе за благонравие, поцеловал в лоб и, утешив, как умел, сказал, что рождена она не для того, чтобы вечно оставаться при нем, и что он дает ей на размышление пять-шесть дней, надеясь, что ответ ее окажется разумнее, когда она лучше обдумает, что ей пристало, и с этими словами отослал ее назад, в ее покои.
Едва успела она прийти туда, как тут же призвала любимую кормилицу, с рыданьями и вздохами поведала, что сказал ей отец, и попросила доброго совета. Кормилица стала утешать ее, как умела, и пока она ее уговаривала, а молодая женщина плакала, появился Оронт. Узнав, в чем причина слез, он и сам испытал великую боль, но принял веселый вид, поцеловал и крепко обнял ее, сказав:
— Осуши слезы, недостойные того царственного сердца, какое ты обнаружила, став моею. Верни себе величие души и не сомневайся, что в этом деле мы не проявим меньше разумения, чем проявляли в других делах. И на сей раз мы победим злую Фортуну, как побеждали ее и прежде.
Утешив молодую жену, Оронт отправился к Сульмону, питая в душе величайшую скорбь. Сульмон, лишь только его увидел, поведал, что он сказал дочери и как та ответила. Зная Оронта за человека умелого в искусстве красноречия, царь поручил ему отправиться к дочери и постараться развеять ее девичьи заблуждения, объяснив ей, что дочери рождаются не для того, чтобы оставаться с отцами, а для того, чтобы выходить замуж. Оронт охотно взялся за это и, вернувшись к Орбекке, рассказал все, что услышал от отца, и они условились об ответе. Тогда Оронт вновь пошел к царю и сообщил, что выполнил все, что ему было поручено, но что Орбекка очень изумилась, узнав, что ее отец считает слова кого-то другого более убедительными для нее, чем его собственные. Тем не менее после долгих раздумий она просила передать отцу, что она выполнила бы его волю, не будь столь велика ее любовь и жалость к нему. Но он, Оронт, уверен, что в конце концов она поступит так, как отец того пожелает.
В это время из-за волнений в разных городах царства Сульмону пришлось дней на десять удалиться из Суз, своей столицы, где он держал двор, и на время отсутствия передать все управление двором и царством в руки Оронта. Поэтому у Оронта и Орбекки оказалось много времени, чтобы обдумать наилучшим образом выход из их бедственного положения, и они решили вместе бежать в Армению. Тогда они подготовили самым тщательным образом все, что им требовалось в дорогу, захватили из царских драгоценностей те, что им особенно понравились и стоили дороже, и сделали вид, что хотят провести время в прогулках и развлечениях в одной прекрасной местности милях в пятнадцати от столицы, куда царская дочь часто отправлялась отдыхать со своей кормилицей, служанками и теми придворными, что были приставлены к ней отцом.
Прибыв туда, они ночью выбрали шесть лучших коней, наиболее пригодных для исполнения их замысла. На них сели Оронт, его жена, двое их самых верных слуг-армян, кормилица и служанка — свидетельницы их бракосочетания, и все поспешно отправились в путь через пустынные края в Армению. Достигнув берега моря, они погрузились в подготовленную для них легкую ладью и, поставив паруса по ветру, вышли в открытое море и плыли до тех пор, пока не оказались в Армении. От времени их бегства прошла целая ночь и еще полдня, а их еще не хватились. Покои обоих были заперты, и никто не осмеливался их потревожить. Когда же наконец вошли туда и увидели, что там никого нет, когда узнали, что в стойлах нет коней и на месте нет личных слуг, то предположили, что по какому-нибудь тайному приказу царя обоим пришлось вернуться ночью в столицу, не предупредив никого об этом.
Оставшаяся свита немедленно отправилась в путь и прибыла в столицу вечером. Не найдя там никого, придворные поняли, что обмануты Оронтом. Поделом царю, говорили все, за то, что он больше доверялся выходцу из чужой страны, чем кому-либо из своих подданных. Тут же были посланы всадники, поскакавшие во весь опор за беглецами с приказом, в случае, если их настигнут, доставить обоих пленников в столицу. А к царю были посланы гонцы с донесением о случившемся. Оно причинило ему такую боль, что он едва не упал замертво. Долго он проклинал вероломство Оронта, легкомыслие и притворство дочери, пока наконец не перешел от отчаяния к решимости и не устремил все свои помыслы к мести. И он вернулся в Сузы с самыми злобными намерениями.
Узнав, что всадники, посланные за беглецами, не настигли их, но установили, куда они отправились, он решил отрядить послов к царю Армении, чтобы, несмотря на свои распри и вражду с ним, добиться от него выдачи беглецов. Он велел передать царю, что просит его не потворствовать столь жестоким обидам, что, хотя два владыки и враждуют, негоже, чтобы в делах чести, наносящих ущерб интересам царского венца или царской крови, особенно когда это не идет никому на пользу, поощрялись предатели, ибо если так поступать, то царствующие персоны будут пользоваться не большим уважением, чем люди подлые, а разные подстрекатели, прикрываясь честным словом царей, смогут оскорблять то одного, то другого по своему произволу; и тогда государи в своих замках будут в большей опасности среди своих слуг, чем среди грабителей и разбойников на большой дороге; и если, как он уверен, царю Армении доступны прежде всего доводы справедливости, он требует выдать ему Оронта и дочь, дабы свершить над ними ту кару, коей достойны их преступления — предательство одного и безумие и злодейство другой. И еще он просил передать, чтобы царь Армянский помнил, как из-за одной женщины-злодейки и мужчины-предателя вся Азия была предана огню и мечу, а Троя разрушена[143].
Сеттин (так звали армянского царя) был мудрым человеком и в глубине души очень радовался тому, что один из его подданных сыграл такую шутку с его главным врагом. И он так ответствовал послам:
— Если бы, впервые услышав о деле, которое вы мне сейчас изложили, я взглянул на него глазами вашего царя, я не только не дал бы честного слова Оронту, но либо изгнал его из моего царства, либо, памятуя о чести и долге, о которых упоминает ваш царь, прислал его прямо в Сузы, дабы он понес там положенную кару. Но поскольку я рассудил дело иначе, чем рассудил ваш царь, я должен сохранить верность слову, данному мною ради спасения жизни Оронта и его супруги, и потому не могу предоставить вам того, чего вы требуете от имени вашего царя. А что я рассудил верно, это следует из самой сути дела: и вправду, существует ли на свете кто-либо, не чуждый справедливости, кто счел бы предательством подобный поступок юноши, совершенный им от избытка любви, и к тому же таким образом, что честь другой стороны не понесла урона, и кто счел бы его за это достойным лютой казни и смерти? Конечно, думаю я, такого человека не существует на свете! Предательство было бы налицо, если бы Оронт учинил насилие над царской дочерью и бросил ее, беременную, при дворе, не взяв себе в жены; такой поступок заслужил бы самой что ни на есть жестокой кары. Но раз он взял ее в жены, я вижу в этом лишь грех любви, по-моему, скорее достойный прощения, чем наказания. А если ваш царь считает, что средства, с помощью которых он сделал девушку своею, лишают законности то, что само по себе законно, я скажу, что такой довод слаб и неубедителен. Или вашему царю не известно, что силы Любви могущественнее всех человеческих сил? И разве Любовь, не просто призывающая, но принуждающая людей стремиться к обладанию тем, что их привлекает, не диктует им те средства достижения цели, какие присущи самой Любви?
И пусть ему не кажется странным (как кажется со стороны, хотя на самом деле это, возможно, и не так), что человек низкого звания сделал своей женой царскую дочь. Ибо и в древние и в новые времена было множество свидетельств, когда королевским дочерям нравилось брать мужей низкого звания, а другие королевские дочери бывали, наоборот, недовольны жизнью с царскими сыновьями. Величие души и истинно царские доблести — вот что должно делать человека достойным звания властелина, а не богатство и высокое происхождение.
А если Сульмон думает, что не может быть царского достоинства без власти и господства, скажите ему от моего имени, что он мог бы получить все это без труда, по собственной воле, оставь он, как и должно было, единственную свою дочь наследницей всего царства. Тогда у него рано или поздно оказался бы такой могущественный зять, какого он только мог себе желать. А достоин ли Оронт царства, мудр он или нет, — на этот счет мне не надо других свидетельств, кроме тех, что дал сам Сульмон, который считал его таковым все время, пока тот был с ним, и всегда предпочитал доверять дела государства именно ему, а не кому-либо другому. И, по-моему, ему было бы лучше взять такого зятя, который знал бы, что получил свое царство от него, чем зятя, который присоединил бы его царство к своему (как это могло случиться, выдай он дочь за сына царя Парфянского).
И я весьма хвалю его дочь, столь им хулимую, что она предпочла в качестве мужа человека, который стал бы царем из-за нее, чем кого-нибудь, кто сделал бы ее из царевны своей рабыней, хотя и почиталась бы она его супругой. Да угодно бессмертным богам, чтобы дочь мою постигла не худшая судьба; а если бы так случилось, я не только не сетовал бы, но, наоборот, хвалил бы ее не меньше, чем хвалю сейчас ту, другую. Скажу по совести, окажись в моем доме человек, подобный Оронту, я не стал бы ждать, пока дочь тайно с ним соединится, а от всего сердца и открыто отдал бы ее ему, сочтя, что небо одарило меня необычной милостью, дав ей такого мужа. И если Сульмону, по моему разумению, следует радоваться подобной судьбе, то мне надлежит горевать, что люди, подобные Оронту, не находятся при всех царских дворах.
Итак, заканчивая мои рассуждения, прошу вас передать вашему царю, чтобы он, перестав гневаться, подумал о сказанном мною, а если он посмотрит на все это так, как полагается, то он не должен сетовать на меня за то, что я принял так любовно его зятя и дочь, а должен осудить не меня, а себя самого, — ведь за такую малость он готов стать убийцей обоих вместо того, чтобы ради их добродетелей прощать им даже самые тяжкие проступки или лишь слегка их пожурить. А если ему все же угодно действовать безрассудно и в порыве гнева и ярости обречь свое царство на гибель, меня это не очень-то трогает и не пугает, как человека, который уверен, что никто не может изгнать его из собственного дома. Слава богу, силы мои таковы, что- я легко отражу его натиск, равно как и любого другого царя, как он уже мог в том много раз убедиться. Но если бы Фортуна определила, что за столь похвальное дело я должен быть изгнан из собственного дома, знайте, что я скорее согласен потерять царство, чем изменить моему слову.
Сказав так, он отослал послов обратно. Когда они вернулись к своему царю, они передали все, что сказал Сеттин, между прочим и то, что слово, которое он дал Оронту, не позволяет ему выдать его. Это особенно разгневало Сульмона, который в ответ вскричал:
— А разве Сеттину не ведомо, что верность слову становится подлостью, если она потакает делам преступным? Будь что будет, но я не премину отомстить за это оскорбление и проучу Сеттина.
И он тут же объявил, что проклинает и Оронта, и свою дочь, и детей, которые от них родятся, и обещает не просто награды, а целые царства всякому, кто доставит их ему на расправу живыми или мертвыми. Но не находилось никого, кто рискнул бы на это, хотя соблазн награды и был велик, ибо Оронт, как храбрый рыцарь, хорошо оберегал и себя, и свою жену, да и потому, что опасались царя Сеттина, сулившего жесточайшие казни всякому, кто осмелится хотя бы замыслить что-либо против них.
Тем временем прошло девять лет, и за эти годы у Оронта и Орбекки родились двое сыновей. Оронт не хотел, чтобы дед их ненавидел; поэтому он прибегал к всевозможным средствам, чтобы склонить Сульмона сменить гнев на милость, но все было напрасно.
При дворе Сульмона жил один старец по имени Мелек, человек почитаемый и мудрый, известный добротой души (хотя он и приходился двоюродным братом Сульмону по отцу), чьим советом царь, по видимости, очень дорожил. Мелек глубоко сочувствовал Орбекке, и его огорчало, что отец ее возненавидел; и он неустанно пытался всем, чем мог, отвратить царя от ненависти и вернуть к прежней любви. Однажды он так горячо умолял царя, привел ему столько доводов, что тот позволил себя уговорить. Прошло немного дней, и Мелек был послан вестником мира к Орбекке и Оронту. При этом царь, помимо верительных писем, писанных его собственной рукой и скрепленных самой тайной царской печатью, послал с Мелеком драгоценный перстень для Орбекки, которым он сам некогда обручился со своей супругой, и царский скипетр из тончайшего золота, украшенный самоцветами, для Оронта как наследника Персидского царства.
Мелек явился с письмом и дарами ко двору Сеттина и был охотно принят не только обоими супругами, но и самим царем. Он пытался уговорить супругов вернуться с детьми к Сульмону, приняв его приглашение. Но мудрый Сеттин, предчувствуя беду, какою это грозило, сказал Оронту:
— Мне не угодно, чтобы ты по этому слову ушел от нас. Цари, а паче жестокие, вроде Сульмона, так легко обид не прощают, ты сам любого можешь в этом заверить.
Но Оронту казалось, что Сульмон не изменит своему слову, и, оставив детей и жену в Армении, он попрощался с царем и вместе с Мелеком отправился в Персию, где его встретил Сульмон, чье лицо изображало притворное радушие, но сердце таило ярость тигра.
Сначала он был весь любовь и внимание и каждый день вел с Оронтом долгие приятные беседы. Как раз в ту пору умер правитель нескольких крупных городов царства, и Сульмон заявил, что отдает его должность Оронту. Когда тот согласился, царь сказал, что он сделал бы доброе дело, если бы перед отъездом собственноручно написал жене, чтобы она с детьми прибыла сюда, а он пошлет за нею Мелека с почетной свитой, ибо сгорает от нетерпения увидеть дорогую дочку и внучат; и при этих словах, желая казаться чистосердечным, предатель выдавил из глаз несколько слезинок. Оронт написал письмо, отдал его Сульмону и приготовился отправиться в путь на следующее утро.
Но ночью царь позвал его к себе, как будто желая обсудить с ним важные вопросы, внезапно пришедшие ему на ум. Оронт, узнав, что его зовет царь, прямо к нему направился. Но не успел несчастный переступить порог царского покоя, как его грубо схватили двое слуг, поставленные там жестоким тестем в качестве сторожевых псов. Они закричали:
— Предатель! Твоя смерть пришла!
И тут внезапно появился Сульмон. Увидав его, Оронт в гневе воскликнул:
— Так-то хранят верность слову цари в твоих краях, Сульмон! Надеюсь, что месть, которую не смогу совершить я, совершит за меня великий Юпитер с такой силой, что ты будешь помнить о ней и в царстве Дита[144]. Вот я в твоих руках, предатель! Делай же то, что ты задумал! А Сульмон ответил только:
— Так цари Персидские держат слово, данное убийце.
При этих словах Оронту набросили платок на шею, и, пока двое слуг крепко его держали, царь собственными руками задушил его, затем отчленил голову от туловища, а двоим своим подручным велел бросить обезглавленное тело туда, куда эти негодяи уже не раз бросали других убитых царем таким же способом. А наутро, во избежание толков, царь объявил, что ночью услал Оронта из города для участия в важных переговорах. И тут же изверг-отец отправил Мелека к дочери с письмом мужа, присовокупив к нему собственноручное выражение привета и притворного доброжелательства.
Несчастная дочь поверила Мелеку, который приходился ей дядей, письмам мужа и отца и отправилась в путь. Она прибыла к злодею-отцу вместе со своими малыми сыновьями немного времени спустя после страшного убийства Оронта. Царь встретил всех троих с самым любезным видом, выждал несколько дней, а потом заявил дочери, что сыновьям ее уже негоже оставаться с женщинами, что их пора отдать на его половину, чтобы они росли при дворе среди баронов и привыкали к настоящей жизни. Это очень понравилось Орбекке, и она охотно отдала детей. А Сульмон, схватив их, заперся с ними в той же комнате, где недавно умертвил их отца, и двумя острыми кинжалами зверски зарезал обоих невинных агнцев, а потом, взяв три больших серебряных блюда, заранее для того приготовленных, положил в одно из трех окровавленную голову Оронта, которую он до поры припрятал, и в два других — тела зарезанных мальчиков с кинжалами в горле. Все три блюда он поставил на стол, прикрыл их красным атласом и, смыв с себя кровь, которой весь был залит, велел позвать к себе дочь.
Когда она вошла в царские покои, он, сделав вид, будто хочет поговорить с ней втайне, запер дверь на замок, как он обычно делал, чтобы никто не смог войти, и сказал ей:
— Дочь моя, с тех пор как ты стала женой Оронта, прошло, если не ошибаюсь, немногим менее десяти лет, но за это время, помимо перстня, переданного тебе Мелеком, я, кажется, не сделал тебе ни одного подарка, достойного моей любви к тебе. Поэтому, если тебе угодно, я хотел бы сделать тебе сегодня такой подарок, который показал бы тебе, сколь по душе мне ныне то, что некогда было так противно.
Злосчастная дочь, не понимая коварных слов отца, ответила, что у нее не было причин ожидать больших свидетельств отцовского благоволения, чем те, какие уже были ей явлены, и что она ими вполне удовлетворена, но что она готова принять все, что ему будет угодно ей даровать. Выслушав дочь, Сульмон взял ее за руку и отвел в комнату, где лежало то, что оставалось от любимых ею. Он откинул покрывало с головы Оронта и трупов детей, и перед ней предстало страшное зрелище. А царь воскликнул:
— Вот мой дар тебе, вполне тобой заслуженный.
Каково же было, о любезные дамы, состояние души несчастной Орбекки в ту минуту? Какие терзания и муки, по-вашему, она испытала? При этом ужасном зрелище бедная женщина лишилась сил, похолодела и готова была упасть замертво. Но, овладев собою, в порыве отчаянной решимости она обратила взор на своих сыновей, — они еще не были совсем мертвы и время от времени корчились, а кровь их еще сочилась из ран; сквозь слезы увидала она страшную голову своего любимого мужа. Тогда она пересилила свои рыдания, задушила стон в груди и горестно произнесла:
— Невыносимо тяжко видеть мне детей моих в таком виде, который у всех, да и у вас самого, должен вызвать величайшую жалость. Но скорбь моя еще сильнее от того, что все содеянное вами я должна сносить как расплату за мои дурные поступки, не достойные иной награды, чем та, какую вам угодно было мне даровать, расправившись таким образом с моими детьми и супругом. Поэтому, если принять в расчет всю тяжесть моего греха, то я заслужила от вас не меньшей кары, чем та, какую понесли мой муж и оба моих сына, ибо я одна была первопричиной всего, что вам так досаждало. И я прошу вас смыть начисто моей кровью пятно, павшее по моей вине на род и имя почтенного отца из-за того, что я без вашего согласия избрала супругом того, чья голова явилась мне сейчас в столь ужасном обличье.
С этими словами она выдернула кинжал из горла своего старшего еще полуживого сына, который испустил при этом последний предсмертный стон. Его мучительный вопль словно вселил великую силу в несчастную женщину, и она устремилась к Сульмону, как бы желая вложить кинжал в его руку, дабы он скорее ее прикончил. Но тот, слишком поздно разжалобившись и видя, что она не просит ничего, кроме смерти, подумал, что дочь говорит так только из страха перед ним, не ожидая ниоткуда защиты.
— Не бойся, дочь моя, — сказал он, — я не хочу твоей смерти, я хочу, чтобы ты жила, а я нашел бы тебе достойного мужа. — И, приблизившись к ней, он с улыбкой простер руки для объятия.
Но в это мгновение, вся во власти скорби и ярости, Орбекка с отчаянной решимостью вонзила ему кинжал в грудь с левой стороны и изо всех сил стала поворачивать его из стороны в сторону, покуда злодей не рухнул мертвым наземь. Когда он упал, она выдернула кинжал у него из груди и крепко сжала в руке, говоря:
— Получай же сполна, предатель, за твои злодеяния и вероломство. Поистине, было бы великим преступлением, если бы ты не умер от руки той, кого ты лишил жизни тем, что убил ее мужа и детей, чья жизнь была ее жизнью, но чьей кровью ты утолил свою зверскую жажду крови. А я утолила мою жажду твоей кровью, но по справедливой причине. Что же я медлю, почему еще не пронзила тебя, хотя бы и мертвого, тем другим кинжалом, коим ты порешил моего меньшого сына, дабы, отомстив за одного, убить тебя как бы двойной смертью?! — Так воскликнула она в исступлении, извлекая кинжал из горла младшего сына и вонзая его по рукоятку в горло Сульмона.
Тогда, дав волю жалобам и слезам, она закричала, обращаясь к убитым детям и к мертвой голове мужа:
— Горек мне, несчастной, тот день, когда ты, Оронт, стал моим мужем, не менее горьки и дни, когда вы родились на свет, мои сыновья, но горше всех других сегодняшний день, когда вы являетесь мне в этом прискорбном виде.
Обливаясь слезами, она бросилась обнимать мертвую голову и, нежно ее целуя, говорила:
— Проклят тот (хотя он уже мертв), кто надругался так над тобой, о голова возлюбленного моего супруга! Неужто ты уже не в силах, собравшись с духом, ответить хоть единым словом на страстные мольбы несчастной твоей жены? Неужто я уже не смогу испить своими устами последнее дыхание твоих уст?
Затем она стала обнимать и целовать своих убиенных детей, говоря:
— О опора моей жизни, о плоды моего чрева, о верные подобия любимого супруга! На что же еще мне уповать, когда нет у меня вас, на коих держалась вся моя жизнь? Как я была глупа, что поверила словам вашего жестокого деда! Почему не дала себя убить, не дала рассечь свою грудь, прежде чем согласилась предать вас в руки этого изверга! Ни дикий лев, ни кровавый тигр не могли растерзать вас более жестоко, чем растерзал вас он! Ваше отмщение, о невинные души, в том, что погубивший вас лежит здесь убитый за свою жестокость той самой рукою, что обязана была защищать вас, и тем же самым оружием, коим он вас сгубил.
И, снова обращаясь к мертвой голове мужа, она продолжала:
— Остается еще мне, о мой супруг, отмстить за тебя кровью предателя, как я уже отомстила за детей. Но этого мне не дано, ибо он уже мертв; и все же пусть злая судьба не помешает мне в меру моих сил совершить до конца и этот мой долг.
С этими словами она приблизилась к телу отца, отсекла его голову и, подняв ее, всю окровавленную, поднесла к голове Оронта.
— Вот, Оронт, твоя жена дарует тебе голову того, кто отсек твою, — сказала она, обливаясь слезами, а затем, подвинув ближе друг к другу тела убитых детей и голову мужа, бросилась на них ничком, как подкошенная.
— О дети мои и ты, любимый супруг, — воскликнула она, — исполнен отныне мой долг перед вами. И мне ничего другого не осталось, как пойти по вашим стопам, дабы, разлученная с вами в этой жизни, я смогла навсегда обрести вас в иной. Итак, чада мои, и ты, мой дорогой супруг, чьи души, услышав мои стоны, быть может, бродят сейчас близ этих мест, утоляя свою жажду мщения созерцанием содеянного мною, примите к себе мою душу, вполне готовую следовать за вами.
И, сжав изо всей силы в руке тот самый кинжал, каким она отсекла отцовскую голову, она вонзила его по рукоять себе в грудь и пала мертвой на тела своих детей и на голову Оронта.
Крики дочери царя давно уже достигли слуха многих обитателей дворца. Но они боялись царя, коего жестокость была известна каждому, и никто не посмел прийти ей на помощь, хотя все они не сомневались в том, что он творит расправу над дочерью. Но вот крики несчастной женщины прекратились, стало тихо, и наступил вечер. Лишь тогда они решились посмотреть, что произошло. Раза два постучав и не получив ответа, они выломали дверь, которая вела в покои царя, и, узрев страшную картину, уже нами описанную, испытали невероятный ужас. Много было пролито слез, особенно кормилицей и служанкой, вернувшимися вместе с Орбеккой в надежде, что заживут с ней в довольстве. А затем тела сыновей и матери вместе с головой Оронта при скорбном стечении всего народа положили в одну гробницу. Тело же Сульмона похоронили там, где похоронены другие цари, и все в один голос корили его за неслыханную жестокость.
Так горестно окончилась история двух безрассудных влюбленных, а жестокость и вероломство царя были примерно наказаны.
Нет языка, очаровательные дамы, ни столь изощренного, ни столь красноречивого, коему бы и за тысячу лет под силу было выразить, сколь благодарен должен быть человек своему Творцу, который создал его человеком, а не грубым животным. В этой связи мне вспоминается приключившаяся в наши дни история про того, кто появился на свет поросенком, а со временем обернулся прекрасным юношей, и все с тех пор прозвали его королем-свиньей.
Надобно вам знать, милые мои дамы, что Галеот был королем Англии[146], человеком, не менее богатым достоинствами благоприобретенными, чем врожденными; и женой его была дочь короля Венгерского Матиаша[147] по имени Эрсилия, и красотой, и добродетелью, и учтивостью превосходившая любую из тогдашних матрон. Галеот до того рассудительно управлял своим королевством, что не было человека, который имел бы истинные основания роптать на него. Хотя они уже давно жили вместе, судьбе угодно было, чтобы Эрсилия ни разу не понесла плод, каковое обстоятельство очень печалило обоих супругов.
Случилось так, что Эрсилия, прогуливаясь по своему саду, собирала цветы; почувствовав, что притомилась, она облюбовала местечко, покрытое зеленою травкой, и, дойдя до него, присела отдохнуть и, побуждаемая сонливостью и сладостным пением птиц на зеленых ветках, задремала.
Тем временем, на ее счастье, по небу пролетали три добрые волшебницы, кои, увидав спящую, остановились и, поскольку из себя она была пригожа и полна очарования, заговорили о том, чтобы заколдовать ее и уберечь от бесчестия.
На этом все три волшебницы и порешили. Первая молвила:
— Я хочу, чтобы она не знала бесчестия и в первую же ночь, как ляжет с мужем, зачала; и пусть у нее родится сын, которому не будет в целом свете равных по красоте.
Вторая молвила:
— И я хочу, чтобы никто ее не мог оскорбить и чтоб сын, рожденный от нее, был наделен всеми достоинствами и добродетелями, какие только можно представить.
Третья молвила:
— Я же хочу, чтобы она была самой мудрой и самой богатой из женщин, но чтобы сын, которого она понесет, родился в свиной шкуре и все его поступки и манеры были свиными и дабы таким оставался он до тех пор, покуда не возьмет за себя третью жену.
Волшебницы отправились дальше, Эрсилия же пробудилась и, легко поднявшись с травы и взяв свои цветы, вернулась во дворец.
Прошло некоторое время, и Эрсилия понесла и, когда наступили вожделенные роды, родила сына, у коего члены были не человеческими, но свиными. Как скоро это дошло до слуха короля и королевы, их обуяла неописуемая скорбь. И, не желая, чтобы ребенок, появившийся на свет в таком виде, навлек позор на королеву, женщину добрую и святую, король не раз склонялся к тому, дабы повелеть его умертвить и бросить в море. Но, прикинув в душе и будучи достаточно уверен, что младенец, каков бы он ни был, зачат им и что это его кровь, он отмел первоначальные жестокие намерения и, побуждаемый смешанным чувством сострадания и скорби, порешил сделать все, дабы новорожденного не как скотину, а как разумную тварь растили и вскармливали.
Детеныш, вскормленный в любви, часто приходил к матери и, встав на ножки, клал рыльце и лапки ей на колени. И сердобольная мать гладила при этом покрытую щетиной спину, обнимала его и целовала не иначе, как если бы это было человеческое существо. И ребенок помахивал хвостиком, явно показывая, до чего материнские ласки ему приятны.
Выйдя из младенческого возраста, поросенок начал говорить человеческим языком и разгуливать по городу; и если где находил нечистоты и грязь, он, как это делают свиньи, зарывался в самую гущу. Потом, весь грязный и вонючий, возвращался домой и, подойдя к отцу и к матери, терся об их платье, измызгивая его навозом; поскольку же он был у них единственным сыном, они терпеливо все сносили.
Однажды хряк, явившись домой, забрался к матери на колени и, прихрюкивая, сказал:
— Матушка, я хочу жениться. Услыхав это, мать ответила:
— О безумец, неужели ты думаешь, что за тебя кто-то пойдет? Ты грязный, от тебя скверно пахнет; и ты хочешь, чтобы какой-нибудь барон или рыцарь отдал за тебя свою дочь?
На это он сказал, прихрюкивая, что хочет жениться, и все. Королева, не зная, как тут быть, поспешила к королю:
— Что нам делать? Вы видите, каково наше положение. Наш сын вознамерился жениться, за него же никто не согласится выйти.
Когда хряк снова пришел к матери, он, громко прихрюкивая, заявил:
— Я хочу жену и не отступлюсь, покуда не получу ту девушку, которую я видел сегодня, потому что она мне очень нравится.
Девушка была дочкой одной бедной женщины, матери трех дочерей; все три были красавицы. Уразумев это, королева тот же час послала за женщиной, наказав, чтобы та привела с собой старшую дочь, и сказала:
— Милая матушка, вы бедны, и на вашей шее сидят три дочери, между тем стоит вам пожелать, как вы скоро станете богатой. У меня есть сын-свинья, и я бы хотела женить его вот на этой вашей старшей дочке. Уважьте не его, что уродился свиньей, но нас с королем, тем паче что все наше королевство перейдет в конце концов к ней.
Дочь, услышав эти слова, страшно возмутилась и, покраснев как утренняя роза, ответила, что нипочем на то не согласится. Однако уговоры королевы до того были ласковы, что она уступила.
Воротившись, весь грязный, домой, хряк прибежал к матери, которая ему сказала:
— Сын мой, мы нашли тебе жену по твоему вкусу. — И, велев привести жену, обряженную в благороднейшие царские одежды, представила ее хряку.
Тот увидал ее, красивую и грациозную, и ну радостно прыгать вокруг, замызганный и вонючий, тереться об нее рылом и гладить лапами, как ни одна еще свинья никого отродясь не гладила. Она же, поскольку он перемазал ей все платье, отталкивала его.
Неизвестный венецианский художник XV в.
Кузница.
Из Библии Малерми. 1490 г.
Гравюра на дереве.
— Почему ты меня отталкиваешь? — удивился хряк. — Не я разве справил тебе этот благородный наряд?
На его слова она, заносчивая, высокомерно ответила:
— Ни ты сам, ни твое свиное королевство ничего мне не справляли. — А как скоро пришло время укладываться на покой, сказала: — Нынче же ночью, пусть только его сморит сон, я убью его.
Хряк, бывший неподалеку, все слышал, однако смолчал. И вот, подойдя в должный час, как был в навозе и в грязи, к роскошной постели, он рылом и лапами откинул тончайшие простыни и, все испакостив смердящими нечистотами, лег рядышком с женой. Последняя довольно скоро уснула. Хряк же, который лишь прикидывался спящим, до того сильно ранил ее острым клыком в грудь, что она тут же умерла.
Встав поутру в урочное время, он отправился, по своему обыкновению, пастись и валяться в грязи. Королеве пришло на ум проведать невестку, и, обнаружив ее убитую сыном, она страх как расстроилась. Когда хряк вернулся домой и был встречен суровыми упреками королевы, он сказал, что сделал с женою то, что она намеревалась сделать с ним, и, разобиженный, ушел.
Минуло некоторое время, и хряк снова принялся докучать матери, твердя, что хочет жениться на другой сестре; хотя королева решительно его отговаривала, он упрямо стоял на своем, грозя в противном случае учинить вокруг настоящий погром. Услыхав это, королева поспешила к мужу и все ему передала; и король сказал, что сына не худо бы убить, не то он, чего доброго, натворит бед в городе. Но королева была матерью, очень любила сына и не мыслила жизни без него, пусть даже он был свиньей. И вот, призвав бедную женщину с другой дочерью, она долго с ними говорила; и после долгого разговора о замужестве вторая дочь согласилась взять хряка в мужья. Однако ж на деле все вышло не так, как она рассчитывала, ибо тот убил ее подобно первой своей жене и тут же ушел из дому. А когда он, заляпанный грязью и нечистотами до того, что к нему из-за вони невозможно было приблизиться, воротился в обычный час во дворец, король с королевой очень бранили его за жестокость. Но хряк отвечал им, что сделал с женою то, что она намеревалась сделать с ним.
И опять минуло некоторое время, и мессер хряк снова пристал к королеве, что хочет жениться, — на сей раз на третьей сестре, еще большей красавице, чем первые две. Получив на свою просьбу решительный отказ, он принялся не просить, а требовать, в ужасных и грубых выражениях угрожая королеве смертью, если его не женят, на ком он хочет. Непристойные и омерзительные эти слова столь удручающе подействовали на королеву, что та едва не лишилась рассудка. И, ни о чем больше не думая, она послала за бедной женщиной и за третьей ее дочерью, которую звали Мельдина, и сказала:
— Мельдина, дочь моя, я хочу, чтобы ты стала женой мессера хряка; уважь не его, а короля и меня; если ты уживешься с с нашим сыном, ты сделаешься самой счастливой и довольной женщиной на свете.
На это Мельдина, не переменившись в лице и не моргнув глазом, ответила, что она рада-радешенька и очень благодарна королеве за предложенную честь и за желание видеть ее своей невесткой. И даже если бы она ничего больше не получила, с нее было бы достаточно того, что она, бедная девушка, станет невесткой могущественного короля. Растроганная этими благодарными и уветливыми речами, королева не удержалась от слез. Однако в душе она опасалась, как бы Мельдину не постигла участь первых двух жен.
Надев богатые наряды и драгоценные украшения, Мельдина стала дожидаться, когда ее дорогой супруг вернется домой. И как скоро мессер хряк пришел, грязный и замызганный больше, чем когда бы то ни было, она, ласково его встретив, сбросила свои дорогие облачения на пол и пригласила его возлечь рядом с ней. Королева учила ее не подпускать его близко, но она не послушалась и на эти слова королевы ответила так:
Три стоящих совета я слыхала,
о государыня: один совет
предупреждал про то, что проку мало
за тем, чего не сыщешь, гнаться вслед;
другой — про то, что верить не пристало
тому, в чем смысла праведного нет;
и третий был совет про то, что надо
полученною дорожить наградой.
Мессер хряк, который не спал и все слышал, поднялся на задние лапы и принялся лизать ей лицо, шею, грудь и плечи, она же в ответ гладила и целовала его, так и млевшего от любви. Когда приспело время ложиться, жена взошла на постель и стала ждать своего дорогого мужа, каковой вскоре пришел, весь в грязище и вонючий, намереваясь последовать ее примеру. И тут она, откинув одеяло, уложила его рядышком, так чтобы голова его покоилась на подушке, хорошенько его укрыла и подоткнула одеяло, дабы он не замерз.
С наступлением дня мессер хряк, изгадив за ночь весь матрас, ушел пастись. Утром королева решила заглянуть в комнату невестки: она боялась, что обнаружит то же зрелище, какое уже видела два раза, однако застала невестку веселой и благостной, тогда как постель все еще была в грязи и нечистотах. И она возблагодарила всевышнего за то, что он помог ее сыну найти жену, которая пришлась ему по вкусу.
Минуло некоторое время, и как-то раз мессер хряк, предаваясь с женой отрадным рассуждениям, сказал ей:
— Мельдина, дражайшая моя супруга, будь я уверен, что ты не выдашь никому величайшую мою тайну, я бы, к большой твоей радости, открыл тебе некую вещь, каковую до сих пор таил; но коль скоро я знаю твое благоразумие и мудрость и вижу, как крепко ты меня любишь, я хотел бы приобщить тебя к этому секрету.
— Вы можете спокойно доверить мне любую свою тайну, — ответила Мельдина, — потому что я вам обещаю никому ее не выдавать без вашей на то воли.
Тогда, заверенный женой, мессер хряк сбросил вонючую грязную шкуру и остался пригожим юным красавцем; и всю эту ночь он лежал со своею Мельдиною тело к телу.
Еще раз наказав ей хранить обо всем молчание, ибо недалек день, когда он избавится от этого несчастья, он встал с постели и предался, как делал раньше, нечистотам.
В скором времени девушка понесла, а когда наступили роды, разрешилась прелестным сыном. Король и королева страх как обрадовались, тем паче, что все у малыша было не от животного, но от человека. Мельдина не могла долее скрывать такую великую и удивительную тайну и явилась к свекрови:
— Благоразумнейшая королева, я считала, что делю ложе с животным, а между тем вы дали мне в мужья самого красивого, самого добродетельного и самого благовоспитанного юношу, какого природа когда-либо создавала. Входя в мою комнату, чтобы лечь рядом со мной, он сбрасывает на пол зловонную шкуру и остается милым и грациозным юношей. В это никто бы ни за что не поверил, если б не увидел собственными глазами.
Королева подумала, что невестка смеется, но та говорила истину. И на вопрос королевы, как ей убедиться, что так оно и есть на самом деле, Мельдина ответила:
— Приходите сегодня пораньше ночью в мою комнату; вы найдете дверь незапертой и удостоверитесь, что мои слова — истинная правда.
С наступлением ночи королева, обождав, пока все лягут спать, велела запалить факелы и вместе с королем направилась к невесткиной комнате; войдя, она заметила свиную шкуру, валявшуюся на полу рядом с постелью; когда же мать приблизилась к ложу, она увидела, что сын ее — пригожий юноша и что жена его Мельдина спит, тесно к нему прижавшись. Открытие это несказанно обрадовало короля и королеву, и король приказал, первым выйдя из комнаты, разодрать шкуру в клочья. Счастье родителей до того было велико, что они едва не умерли. Король Галеот, видя, что у него такой сын и что у того, в свою очередь, такие дети, сложил с себя корону и королевскую мантию, и на престол с пышными почестями взошел вместо него сын, который, будучи прозван королем-свиньей, правил государством к удовольствию всего народа и долгие лета счастливо жил с Мельдиною, своей дорогой супругой.
Велики плутни и надувательства, на которые пускаются в наши дни несчастные смертные, но куда хуже, я полагаю, когда кум совершает предательство по отношению к куму. Поскольку ж моя именно сказка должна положить начало рассуждениям этой ночи, я и подумала поведать вам о хитрости, обмане и предательстве, учиненных кумом куму. И подобно тому как первый обманщик с удивительной ловкостью одурачил второго, в точности так же сам он ничуть не менее хитроумно и с не меньшей изобретательностью был обведен своею жертвой вокруг пальца. Об этом вы и узнаете, ежели соблаговолите выслушать мой рассказ.
В Генуе, городе славном и старинном, жили-были некогда два кума: первый из них, коего звали мессер Либерале Спинола, был человек весьма богатый, однако ж приверженный мирским удовольствиям; второй, по имени Артилао Сара, всецело был привержен торговле. Они друг в дружке души не чаяли, и такова была их любовь, что один без другого, как говорится, жить не мог. И если что было нужно, то, нимало не раздумывая и не чинясь, один прибегал к услугам другого.
Поскольку мессер Артилао был крупным торговцем и вел множество дел, как собственных, так и чужих, он порешил однажды съездить в Сирию. И вот, сыскав мессера Либерале, сердечнейшего своего кума, он любезно и с чистой душой обратился к нему:
— Кум, не только вы знаете, но и всем давно очевидно, сколь мы с вами любим друг друга и как я всегда рассчитывал и сейчас рассчитываю на вас, полагаясь на старую-престарую нашу дружбу, а также на священные узы кумовства, которые нас связывают. Задумав отправиться в Сирию и не имея человека, на коего можно было бы положиться больше, чем на вас, я смело и с открытой душой поспешил к вам, чтобы просить об одной милости, в каковой, хоть она и причинит вам немалые хлопоты, я надеюсь, вы, при вашей доброте и при нашем с вами благорасположении друг к другу, мне не откажете.
Мессер Либерале рад был угодить куму и потому, не предаваясь, в отличие от него, долгим рассуждениям, ответил:
— Мессер Артилао, кум мой, добрые наши с вами отношения, искренние чувства и взаимная любовь, скрепленные к тому же кумовством, делают излишними столь пространные речи. Скажите мне прямо, что от меня требуется, и повелевайте мною, я же выполню любое ваше поручение.
— Я бы очень хотел, — сказал мессер Артилао, — чтобы на время моего отсутствия вы взяли на себя заботу о моем доме, а также и о моей жене, помогая ей во всем, в чем бы ни возникла у нее необходимость; то, что вы на нее израсходуете, я полностью вам возмещу.
Мессер Либерале, выслушав волю кума, сперва хорошенько поблагодарил его за высокое о нем мнение и лишь потом охотно обещал исполнить, в меру скромных своих сил, то, о чем его просили. Когда настало время отъезда, мессер Артилао загрузил товарами корабль и, поручив Дарию, свою жену, которая вот уж три месяца как была беременна, куму, поднялся по трапу, подставил паруса попутному ветру и благополучно отбыл из Генуи к цели своего путешествия.
Как скоро мессер Артилао пустился в путь, мессер Либерале направился в дом мадонны Дарий, дорогой своей кумы, и сказал ей:
— Кума, мессер Артилао, ваш муж и возлюбленнейший мой кум, перед отъездом отсюда настоятельнейше меня просил взять на себя заботу о его делах и о вас, способствуя вам во всем, в чем явится у вас нужда, я же в силу добрых наших с ним отношений обещал исполнить его просьбу. Потому-то сейчас вы и видите меня здесь: я пришел с тем, чтобы вы, если вам что-либо надобно, располагали мною без малейшего стеснения.
Мадонна Дария, женщина от природы мягкая, очень его благодарила, прося не оставлять ее без поддержки, буде таковая ей понадобится. И мессер Либерале заверил ее, что она может быть спокойна на этот счет.
Почасту бывая в доме кумы и следя, чтобы она ни в чем решительно не испытывала недостатка, он заприметил, что она беременна, и, делая вид, будто ничего о том не знает, спросил:
— Как вы себя чувствуете, кума? Может быть, вам странно, как это ваш муж мессер Артилао взял вдруг да уехал?
Мадонна Дария ответила:
— Разумеется, мессер кум, и по многим причинам, а в особенности потому, что он оставил меня в таком положении.
— В каком же таком положении, — поинтересовался мессер Либерале, — он вас оставил?
— В интересном, — призналась мадонна Дария. — Я ношу уже три месяца и чувствую себя так скверно, как никогда еще при беременности не чувствовала.
Услышав это, кум сказал:
— Стало быть, кума, вы в тягости?
— Главное, куманек, не было бы тягостно на душе, — ответила мадонна Дария.
Пребывая с кумой в подобного рода рассуждениях и видя, какая она красивая, свеженькая и пухленькая, мессер Либерале до того в нее влюбился, что денно и нощно только и помышлял что об утолении бесчестного своего желания, хотя любовь к куму немало его в этом сдерживала. Но, понукаемый изводившей его пылкой любовью, он подошел однажды к мадонне Дарий и сказал:
— О, как мне жаль, кума, как больно, что мессер Артилао покинул вас и оставил в тягости, ибо я опасаюсь, что из-за поспешного своего отъезда он позабыл в суматохе закончить создание, которое вы носите во чреве. И тут как раз, может статься, причина плохого вашего самочувствия.
Женщина в ответ спросила:
— Так вы полагаете, кум, что у создания, которое я ношу под сердцем, недостает какого-нибудь из членов и что потому именно я маюсь?
— Воистину так я и считаю, — подтвердил мессер Либерале. — Я убежден, что мой кум мессер Артилао не довел свое дело до конца. А ведь отсюда как раз и выходит, что один родится хромцом, другой кривым, кто с таким изъяном, кто с этаким.
— То, что вы говорите, кум, все едино что удар обухом по голове, — перепугалась женщина. — Но каково же средство, дабы отвести эту напасть?
— Ах, кума! — молвил мессер Либерале. — Вы совершенно правы, была бы только ваша воля, ибо от всего существует средство, кроме как от смерти.
— Прошу вас, кум, — взмолилась женщина, — ради вашей любви к куму дайте мне это средство; чем скорее вы мне его дадите, тем больше я буду вам благодарна, да и вы не явитесь причиной того, что ребенок родится с изъяном.
Смекнув, что изрядно обработал мадонну Дарию, мессер Либерале продолжал:
— Кума, было бы страшно подло и некрасиво, если б человек при виде страданий своего друга не пришел бы ему на помощь. Поскольку же я в состоянии образовать то, чего недостает плоду, я совершил бы предательство и был бы несправедлив к вам, ежели бы этого не сделал.
— Так не медлите, дорогой мой кум, — взмолилась женщина, — иначе ребенок останется калекой! А это было бы не только злосчастьем, но и немалым грехом.
— Не извольте сомневаться, кума, я услужу вам как нельзя лучше. Велите прислуге собирать на стол, мы же тем временем начнем выправление.
Покамест прислуга накрывала обед, мессер Либерале удалился с кумой в покои и, заперев дверь, ну оглаживать ее и целовать, осыпая такими ласками, какими ни один мужчина еще не осыпал женщину. Мадонна Дария весьма тому удивилась и сказала:
— Неужто принято, мессер Либерале, так обращаться с кумой? О, горе мне! Это чересчур большой грех; кабы не так, я бы вас удовольствовала.
Мессер Либерале ответил:
— В чем больший грех — в том, чтоб лежать с кумою, или в том, чтоб ребенок родился калекой?
— Я почитаю большим грехом, если он родится калекой по вине своих близких, — рассудила кума.
— Стало быть, вы будете великой грешницей, ежели не дадите мне довершить то, чего не доделал ваш супруг.
Женщина, желавшая, чтобы ребенок родился совершенным, поверила словам кума и, несмотря на кумовство, вменила себе в долг ублаготворить его, после чего они еще не раз встречались наедине. Ей пришлось по вкусу выправлять ущербные члены, и она знай просила кума употребить больше тщания, нежели употребил ее муж, хотя мессер Либерале, которому нравился доставшийся ему лакомый кусочек, и без этого со всем усердием трудился денно и нощно над выправлением плода, с тем чтобы довести его до совершенства.
Как скоро наступили роды, мадонна Дария разрешилась младенцем, поразительно походившим на отца; и до того получился он справный, что невозможно было обнаружить у него ни единого изъяна. Мать это страх как радовало, и она рассыпалась в благодарностях куму, сделавшему столь доброе дело.
Минуло некоторое время, и мессер Артилао вернулся в Геную. Войдя в дом, он нашел жену цветущей и прекрасной; та встретила его с младенцем на руках, и они крепко обнялись и расцеловались.
Узнав о приезде кума, мессер Либерале поспешил к нему, заключил его в объятия, поздравил с благополучным возвращением и порадовался, что он превосходно выглядит.
Случилось, что мессер Артилао обедал в один прекрасный день с женой и, лаская маленького, сказал:
— О Дария, до чего же прелестное у нас дитя! Видела ли ты когда-нибудь ребенка более справного, чем этот? Ты только посмотри на его личико! А какие ясные у него глазки, прямо звезды! — Ив таком духе он перебирал все достоинства малыша.
Мадонна Дария ответила:
— Да, у него все на месте, однако ж заслуга в том не ваша, муженек, ибо до вашего отъезда, как вам известно, я носила три месяца, и плод в моем чреве был несовершенен, отчего беременность причиняла мне множество неприятностей. Стало быть, мы должны сказать спасибо мессеру Либерале, который своевременно и любезно взял на себя труд исправить ваши упущения, довершив за вас то, чего не доделали вы.
Мессер Артилао, услышав слова жены и прекрасно уразумев их смысл, пришел в ярость, ибо слова эти были для него как нож в сердце; он тут же понял, что мессер Либерале его предал и надругался над мадонной Дарией, однако ж, как человек осторожный, прикинувшись, будто ничего здесь не усмотрел, смолчал и перевел разговор на другую тему.
Отобедав, мессер Артилао принялся про себя рассуждать о странном и постыдном поступке своего любимца кума, денно и нощно обдумывая способ и путь отомстить ему за нанесенное оскорбление.
Упорно, стало быть, пребывая в подобных размышлениях и не ведая, какой путь выбрать, он в конце концов задумал одну вещь, отвечавшую, как он рассудил, его намерениям. После этого он сказал жене:
— Дария, приготовь завтра обед получше, ибо я хочу, чтобы мессер Либерале и мадонна Проперция, его жена и наша кума, пришли к нам обедать; но если тебе дорога жизнь, молчи, снося терпеливо все, что бы ты ни увидела и ни услышала.
Взяв с нее обещание молчать, он, выйдя из дома, направился на площадь, нашел своего кума мессера Либерале и пригласил его с женой отобедать с ним на следующий день. Тот с удовольствием принял приглашение.
Назавтра кум с кумою пожаловали в дом мессера Артилао, где были радушно приняты. Хозяева и гости рассуждали о том, о сем, когда мессер Артилао сказал:
— Кума, покуда готовятся кушанья и накрывают на стол, вы должны подкрепиться, — и, уведя ее в небольшую комнату, подал ей стакан вина, в которое заранее примешал опиума, она же, покрошив туда хлеба, все это съела и выпила.
Засим хозяева и гости уселись за стол и весело пообедали. Как скоро они встали из-за стола, мадонну Проперцию до того одолела сонливость, что у нее слипались глаза. Видя это, мессер Артилао предложил:
— Кума, вы должны чуточку отдохнуть; наверно, вы плохо спали ночью, — и проводил ее в покои, где она, упав на постель, тут же уснула. Опасаясь, что действие вина скоро кончится и он не успеет осуществить свой тайный замысел, мессер Артилао кликнул мессера Либерале и предложил ему:
— Кум, оставим ее здесь, пусть она спокойно выспится, ведь небось кума поднялась нынче ни свет ни заря, и ей надобно отдохнуть.
Выйдя вместе из дому, кумовья направились к площади, и тут мессер Артилао сочинил, будто почитает за нужное уладить кое-какие торговые дела, распрощался с кумом и незаметно воротился домой.
Потихоньку проникнув в комнату, где лежала кума, он приблизился к ней и, видя что та сладко спит, проворно как только мог сиял у нее с пальцев кольца и жемчуга с шеи и покинул комнату, так что она не проснулась и пи единая душа в доме ничего не заметила.
Вино с опиумом утратило уже свое действие, когда мадонна Проперция очнулась от сна. Намереваясь встать, она обнаружила пропажу жемчугов и колец и, сойдя с ложа, принялась искать там и тут, переворачивая все вверх дном, однако ж ничего не нашла. Тогда, обеспокоенная, она вышла из комнаты и спросила мадонну Дарию, не у той ли часом ее жемчуга и перстни, на что кума ответила отрицательно, весьма этим мадонну Проперцию опечалив.
Бедняжка пребывала в горе, не ведая, что бы ей предпринять, как тут появился мессер Артилао и, увидав куму в расстроенных чувствах, удивился.
— Что с вами, кума, чем это вы так опечалены? Женщина все ему рассказала.
Мессер Артилао, прикинувшись, будто ничего не знает, посоветовал:
— Ищите хорошенько, кума, да вспомните, не положили ли вы их где-либо, позабыв потом, где именно; может, они все-таки сыщутся. Если же вы их не найдете, клянусь честью доброго кума, что худо придется тому, кто их взял. Но прежде все тщательно осмотрите.
Обе женщины и служанки обыскали комнату за комнатой, учинив в доме жуткий беспорядок, но драгоценностей так и не нашли. Видя это, мессер Артилао поднял страшный крик, грозя то тому, то другому, однако ж все божились, что ведать ничего не ведают. Тогда, обратившись к мадонне Проперции, он сказал:
— Не отчаиваться надлежит кума, но радоваться, ибо я считаю, что пора положить этому предел. Знайте же, кума, мне известна одна тайна такого свойства, что, кто бы ни взял ваши драгоценности, я его изобличу.
Услышав это, мадонна Проперция взмолилась:
— О мессер кум, покорнейше вас прошу, сделайте это, дабы мессер Либерале не заподозрил меня в чем и не подумал обо мне дурно.
Мессер Артилао, сочтя, что приспело время расквитаться за полученное оскорбление, позвал жену и служанок и велел им выйти из комнаты, запретив кому бы то ни было приближаться к двери иначе как по его зову. Едва жена и прислуга удалились, мессер Артилао запер дверь и углем сделал на полу круг; начертав там какие-то знаки и буквы, понятные ему одному, он вступил в круг и обратился к Проперции:
— Кума, лежите спокойно на постели и не пугайтесь того, что услышите, ибо я отсюда не выйду, покуда не сыщу ваши драгоценности.
— Не извольте сомневаться, — ответила женщина, — я не пошевельнусь и ничего не сделаю без вашего приказа.
Тут мессер Артилао, поворотившись вправо, начертал на полу несколько новых знаков, повернувшись же влево, написал что-то в воздухе; изображая, будто изъясняется с целой толпой, он говорил при том на разные голоса, столь странно звучавшие, что мадонне Проперции становилось страшно; видя это, мессер кум успокаивал ее и убеждал не бояться.
Простояв в круге не меньше четверти часа, он не своим голосом забубнил:
То, что найти досель не удалось,
на дне лохматой спрятано лощины;
отчаиваться больше нет причины:
найдется все — лишь удочку забрось.
Слова эти столь же рассмешили мадонну Проперцию, сколь и поразили. Кончив колдовать, мессер Артилао объявил:
— Кума, вы все слышали: драгоценности, которые вы, по-вашему, потеряли, на самом деле у вас внутри. Будьте спокойны, сейчас мы все разыщем. Но для этого, как вы поняли, мне придется поискать их в определенном месте.
Женщине не терпелось получить свои драгоценности, и она весело ответила:
— Я все уразумела, кум, не медлите же и ищите хорошенько.
Мессер Артилао, выйдя из круга и приблизившись к постели, улегся рядом с кумой, которая при этом не пошелохнулась, и, сняв с нее платье и рубашку, принялся удить в мохнатой лощине. Только-только еще приступив к лову и незаметно вытащив из-за пазухи перстень, он протянул его мадонне Проперции со словами:
— Ну что я говорил, кума? Недурное начало: с первого же раза я поймал брильянт.
При виде брильянта женщина пришла в восторг:
— О милый мой куманек, ловите дальше, может быть, вам удастся найти остальное.
Кум, мужественно продолжая лов, извлекал на свет то одну вещицу, то другую, и в конце концов с помощью своего щупа нашел, к великому удовольствию кумы, все, что было утеряно.
Обретя свои дорогие сокровища, женщина сказала:
— О любезный мой куманек, вы вернули мне столько вещей, так посмотрите, не удастся ли вам часом найти мерку, которую намедни у меня стащили: очень уж она была красивая, и я к ней так привыкла.
— Охотно, — согласился мессер Артилао, и, сызнова погрузив свой инструмент в лохматую лощину, он до того усердствовал, что добрался до мерки; правда, ему не хватило сил извлечь ее на поверхность, и он, видя, что его труды остаются втуне, сказал:
— Кума, мерку я нащупал и сейчас упираюсь в нее, однако ж, поскольку она опрокинулась донышком кверху, мне ее никак не подцепить и, следственно, не выудить.
Мадонна Проперция, которой страх как хотелось заполучить мерку, не говоря уже о том, что забава пришлась ей по вкусу, упрашивала его поудить еще, но кум, у коего вышло все масло в лампаде, так что он больше не горел, объяснил в ответ:
— Знайте, кума, что у инструмента, каковым мы до сих пор удили, обломился кончик и им невозможно орудовать дальше, а посему малость потерпите. Завтра я отошлю инструмент кузнецу, он приделает кончик, и тут-то мы в свое удовольствие выловим злополучную мерку.
Женщина спорить не стала и, распростившись с кумом и с кумою, счастливая и благостная воротилась домой.
Однажды ночью мадонна Проперция, лежа с мужем в постели, сказала ему, поскольку в лохматой лощине удил на сей раз не кто иной, как он:
— О муженек, поглядите, не удастся ли вам часом найти мерку, которую мы намедни потеряли, ибо позавчера, когда я посеяла все свои драгоценности, наш кум мессер Артилао, удя в лохматой лощине, вытащил их одну за другой. Как скоро же я попросила его извлечь кстати и пропавшую мерку, он объяснил мне, что нащупал ее, но вытащить не может, ибо она опрокинулась донышком кверху, да и, кроме того, от долгого ужения у его инструмента обломился кончик. Так что потщитесь теперь вы, может быть, у вас получится.
Мессер Либерале, смекнув, что кум в долгу не остался, ничего на это не сказал и терпеливо проглотил оскорбление.
Следующим утром кумовья повстречались на площади: один косился на другого, но ни тот, ни другой не дерзнули себя выдать и, умолчав о случившемся, а также ни словом не попрекнув изменщиц, они в конце концов сделали жен общими, и один давал возможность другому забавляться с чужою женой.
В тосканском городе Ареццо жил некогда монах с деревянной ногой, по имени Стефано, коего за его красноречивые проповеди иначе как маэстро Стефано никто не называл. Родом он был из Мантуи, но так давно жил в Ареццо, что многие — а вернее сказать, все — считали его аретинцем. Это был красивый мужчина лет тридцати восьми, большой говорун и весьма склонный к любовным приключениям; люди вроде него (я имею в виду плутов, подобных этому монаху) только и делают, что обличают других во всех смертных грехах, а сами же никогда христианской любви и милосердия к ближнему не питают. Они целыми днями вещают с церковных кафедр и кричат на всех перекрестках, что, мол, грех пожелать жену ближнего своего и что надобно как можно больше жертвовать на церковь. Все сие говорится, дабы другие доверчиво отворяли перед ними двери и впускали их в дом, а потом жертвовали им, как людям бедным, ведущим жизнь, полную святости, свои имения, дома и всякое иное имущество, лишая тем самым наследства своих родственников, а иногда даже собственных детей; они же сами потешаются над глупостью тех, кто оказывает им гостеприимство, радуются своим победам и множат число незаконнорожденных детей и опозоренных матерей. Они не брезгают ничем и мало помнят о заповеди божьей, что они — апостолы Христа и что не хлебом единым жив человек, и постоянно хлеба этого требуют. А когда им выпадает случай причащать умирающего, который незаконным образом завладел имуществом ближнего своего, то они убеждают его, что лучше и надежнее для грешной души пожертвовать сие имущество им, а не возвращать его тому, у кого оно взято с помощью лихоимства либо каким-нибудь другим обманным путем. Но это еще не все! Скажу, не покривив душой, что они еще никого не одаряли своей любовью: они не хотят исповедовать людей, если те им не платят денег; дорого продают они милосердие господне и кровь Христову.
О человеконенавистники, не удивительно, что вы именно такие, потому как вы, чего тут греха таить, прекрасно обходитесь без людей и без любви к ним! Вы отгораживаетесь от нас высокими монастырскими стенами, но ни для кого не секрет, что вы строите козни друг другу, плетете интриги, стараетесь погубить один другого и способны на самые страшные предательства, каких мы себе и не мыслим. Вы кочуете с места на место, нигде не оставляя после себя друзей. Разве вы любите своих отцов, матерей, родных? Думаю, что нет. И не только затаенная подлость заставляет вас облачаться одного в сутану, другого в стихарь, но и ваша алчность и ненависть к родным, вместе с которыми вы не хотите жить. Можете ли вы сказать, что пребываете в любви и милосердии, как все люди, когда в душе вы готовы причинить нам любой вред, любым путем опозорить нас? Поэтому не рассчитывайте на наше доброе отношение, ибо вы его не заслуживаете; зато мы, в свою очередь, готовы отплатить вам вдвойне, вернее, отомстить вам за то, что вы каждодневно совершаете или замышляете против нас. Правда, я говорю все время только о тех нескольких мошенниках, каковых знал лично (а доверялся я не очень-то многим) и которым не мешало бы поучиться милосердию, доброте и набожности у первых святых отцов, кои своим примером показали бы, живи они ныне, совсем иные нравы и обычаи, а не те, по которым живете вы.
Наш маэстро Стефано был среди них, как говорится, самый отпетый негодяй. Он влюбился в одну красивую, благородную, молодую даму по имени Эмилия, которая была женой молодого человека, звавшегося Джироламо де' Брендали. Благородная дама, которой никогда бы и в голову не пришло, что монах Стефано, коего она держала за человека праведного и святой жизни, может быть обуян греховными помыслами и может влюбиться в нее, принимала его всегда в своем доме необыкновенно радушно, поскольку считала его человеком достойным, чрезвычайно уважаемым ее мужем, и, кроме всего прочего, он уже давно был ее духовником, которому она исповедовалась не менее двух раз в год.
В один прекрасный день монах, будучи человеком избалованным и разнузданным, не в силах долее скрывать свой любовный пыл, надумал открыться ей; но сперва он решил немного повременить, поскольку наступили дни праздничного карнавала, после которого она всегда ему исповедовалась, а чтобы все было шито-крыто, он порешил для осуществления своего замысла встретиться с ней не в ее доме, а подыскать место, где бы его жизни не грозила опасность, а честь осталась незапятнанной.
Прошло восемь дней после карнавала, и дама, как и следовало ожидать, отправилась исповедаться в церковь, в которой в том году нашел себе приют и читал проповеди монах Стефано; она вызвала его и сказала, что пришла исповедаться. Монах, который только того и ждал, быстро повел ее в дальний и темный придел церкви и, не мешкая долго, начал задавать ей вопросы; о всех смертных грехах он упомянул вскользь, а о плотском грехе стал распространяться подробно, всячески смакуя эту тему, — как любят это делать многие монахи, — поэтому часто, вместо того чтобы порицать и наставлять людей на путь истинный, они своей бесстыдной болтовней поучают их разным гадостям, чем усугубляют их грехи; они столь мало считаются с этим, что не стесняются задавать любому человеку самые бесцеремонные вопросы.
Итак, монах, разглагольствуя о плотском грехе, о котором он любил поговорить, а сейчас это его особенно волновало, собрался поведать Эмилии о своей любви. Он тяжко вздохнул и молвил следующие слова:
— Мадонна, одному богу известно, сколь часто я сомневался: отпускать вам грехи после исповеди или нет, потому как слишком целомудренными и сдержанными находил я ваши слова о плотском грехе.
— Как, отец мой?! — воскликнула женщина. — Разве грех хранить верность мужу и быть честной?
Монах ответил:
— Я не верю, что у столь прекрасной, любезной и очаровательной дамы, как вы, нет целой свиты кавалеров, домогательствам которых вы в конце концов должны были уступить; и я часто думал, что вы, стыдясь меня, не говорите мне всего до конца либо из боязни, что я (помилуй бог!) скажу об этом вашему мужу, либо из страха, что я не дам вам отпущения грехов, которого вы будете недостойны, ежели скроете свои прегрешения. Поэтому скажите мне все, пусть вас не остановит ни стыд, ни страх, я обещаю вам, что там, где вы, быть может, ждете от меня упреков и нравоучений, вы услышите похвалу и найдете поддержку. Потому как я считаю большим грехом не замечать любви и тем самым обречь на смерть человека, тогда как за свои чувства он заслуживает в награду тысячу жизней, человека, который волею судеб владеет малым достатком и вынужден жить скромно, чего не произошло бы, если бы все делились друг с другом своим добром.
Немало подивившись подобным речам, дама, женщина умная и осторожная, поняла, куда клонит монах. Но, в душе решив принять его игру, она с невинным видом продолжала говорить с ним как ни в чем не бывало, дабы ему не оставалось ничего другого, как высказать ей все, что было у него на уме. Поэтому она с улыбкой сказала:
— Неужели, отец мой, вы не считаете меня честной, добропорядочной женщиной, какой считают меня все?
— Напротив, — ответил монах — я считаю вас и честной и добропорядочной, но вы сами этого не хотите доказать, потому как истинная честность заключается не в том, чтобы блюсти ее ценой мук и смерти другого человека.
— Господи помилуй! — воскликнула женщина. — Кого это я, по-вашему, могу свести в могилу? Никто еще никогда не смотрел на меня влюбленными глазами.
— Нет такого человека, — ответил монах, — который, раз взглянув на вас, не отдал бы вам свое сердце. Я сам (простите мне мою дерзость!) с тех пор, как увидел вас, и денно и нощно думаю только о вашей красоте и заклинаю Амура послать мне случай (пусть даже ценою самой жизни!) доказать вам те чувства, которые я питаю к вам. И если мне выпала несчастная доля докучать вам напрасно, то будьте ко мне милосердны и вините во всем вашу красоту и вашу обходительность, кои привели меня в то состояние, когда я не смогу больше жить, коли вы мне не поможете, а ежели вы будете медлить, то опоздаете, ибо я умру.
Эмилии, женщине честной, разговор монаха не понравился более всего потому, что ее муж питал к нему добрые чувства, и поэтому она решила его проучить. Сказав, что не верит всем этим небылицам ни о его чувствах, ни о ее красоте, — Эмилия удалилась, оставив его все-таки полным радужных надежд, хотя ни жестом, ни словом она, чистая душа, не пыталась подать ему повод для этого. Вернувшись домой, Эмилия поведала все своему мужу Джироламо, сперва взяв с него клятвенное обещание ограничиться только невинной местью монаху, а потом уже отказать ему от дома, поскольку его поведение недопустимо для порядочных людей их круга. Разгадав замыслы негодного монаха, Джироламо решил сыграть с ним злую шутку, от которой вреда большого не будет, но уж стыда тот не оберется. Поэтому муж сказал жене, что она должна устроить так, чтобы отец проповедник пришел как-нибудь к ней переночевать, а уж он его проучит. Эмилия во всем согласилась с мужем. А чтобы укрепить в монахе надежду и добиться успеха в своем деле, она спустя дня два-три послала ему со своей служанкой несколько пустяковых подарков, а именно: флакон с туалетной водой и небольшой букет цветов, перевязанный зеленой и коричневой шелковыми лентами, — такие подарки имеют обыкновение посылать своим возлюбленным влюбленные женщины; грязный греховодник спокойно все это принял, даже не позаботился, в свою очередь, отослать через послушника ответный подарок своей даме, а та не заставила долго ждать: прислала и второй. По этой причине монах почувствовал, что дело сладилось, и решил в субботу навестить даму, поскольку в тот день он был свободен и надеялся закончить с ней свой поединок. Поэтому в субботу, накануне дня воскресения святого Лазаря, избавившись от своего послушника, он отправился в дом Эмилии и, к своей радости, поскольку он именно этого и хотел, узнал, что ее мужа Джироламо дома нет. С довольным видом поднялся он по лестнице и объявил Эмилии, что зашел ее навестить. Она приветливо встретила его и накормила до отвала, потом он спустя некоторое время после короткого разговора напомнил ей о своих муках и своем желании. На что Эмилия, которую муж научил, как надо отвечать и вести себя, сказала:
— Отец мой, бог свидетель, я всегда считала грешницей ту женщину, которая изменяет своему мужу, но так как вы уверили меня, что греха в этом нет и что весьма любите меня, то я решила вознаградить вас, как вы того заслуживаете, только обещайте мне сохранить все в тайне; и дабы вы не подумали, что это пустые слова либо что я хочу затянуть дело, — если завтра, в день воскресения святого Лазаря у вас нет проповеди, то приходите нынешней ночью, часов в пять-шесть сюда, ко мне в дом, я сама отопру вам двери, поскольку муж мой вечером уезжает в имение, а все слуги и домочадцы будут спать.
Мессер монах, который большего и не желал и которому каждая минута промедления казалась вечностью, ответил:
— Мадонна, располагайте мною в свое удовольствие и как вам заблагорассудится, не думайте о моей проповеди, потому как то, что меня ожидает с вами нынче ночью, даст мне силы произнести завтра такую проповедь, которой все останутся довольны. Мне достаточно того, что вы выпустите меня из дома на рассвете, дабы никто не увидел меня выходящим от вас, поскольку я не ваш муж.
Таким образом, они порешили, что встретятся ночью, после чего монах откланялся и отправился к известного рода женщине, чтобы она как следует умастила его тело всяческими благовониями, дабы избавиться от того тяжелого запаха, который распространяют иные живые люди не хуже всякой мертвечины.
Эмилия, со своей стороны, все рассказала мужу, который снова напомнил ей, как она должна поступать далее, затем ушел из дома и отправился ужинать к одному своему приятелю.
Когда настал назначенный час, монах оказался у дверей дома Эмилии, которая, как и было договорено, впустила его и повела наверх, в комнату, где она обычно спала с мужем; там она предложила ему раздеться и, прежде чем улечься с ним рядом, вышла из спальни, сославшись на то, что ей надо еще кое-что сделать по хозяйству, да так быстро, что он не успел даже ни разу поцеловать ее. И только он облачился в ночную рубашку, как Джироламо, карауливший у дверей дома со своим другом, с которым вместе ужинал и которого посвятил в суть дела, сильно забарабанил в дверь. Эмилия, притворившись напуганной, тотчас же бросилась на балкон и спросила:
— Кто там?
На это Джироламо ответил, чтобы она отворила, — это он, ее муж. Тогда Эмилия, сделав вид, что едва жива от страха, прибежала в комнату, где находился монах, который от ужаса и тяжелых предчувствий сам был ни жив ни мертв, и сказала ему:
— Отец мой, мы пропали! Не могу понять, как это случилось. Я думала, что мой муж находится за десять миль отсюда, а он, как сами слышите, стучит в дверь. Умоляю вас, поскольку нет иного выхода, спрятаться в этом сундуке (она указала на огромный сундук) и посидеть там, пока я что-нибудь не придумаю. А вещи ваши я спрячу от греха подальше. Видит бог, ваша жизнь мне сейчас дороже, чем моя собственная.
Несчастный монах, понимая, что попал как кур в ощип, исполнил все, что она ему сказала. А тем временем проснулись слуги и отворили двери хозяину. Джироламо сказал, что, как только он выехал с другом из Ареццо, на них напали разбойники, поэтому они вынуждены были вернуться и у городских ворот три часа упрашивали стражников впустить их в город, за что уплатили пошлину в один скудо. Потом хозяин приказал постелить своему другу в соседней комнате, а сам улегся возле жены и, зная, что монах заперт в сундуке, всю ночь напролет развлекался с нею, не выпуская ее из своих объятий.
Наступило утро, а затем и день, в церкви, где чесал языком (я хотел сказать, читал проповеди) наш добрый монах, зазвонили колокола, созывая прихожан. Джироламо со своим другом взвалили сундук на плечи двух дюжих парней, которые ради этого случая пришли накануне вечером в дом, и приказали им отнести его в церковь, сами же пошли впереди, расчищая в толпе дорогу; в церкви они велели поставить сундук на самом видном месте и сказать, что якобы выполняют наказ самого монаха-проповедника, потом отпереть сундук, но крышку не подымать, а так и оставить. Те всё, как было велено, исполнили. Люди, собравшиеся в церкви, не понимали, что происходит, и каждый говорил свое.
Наконец, когда все увидели, что колокол звонит не переставая, а на кафедре никто не появляется, вперед вышел какой-то молодой человек и сказал:
— По правде говоря, наш проповедник заставляет себя долго ждать. Давайте в таком случае посмотрим, что он велел принести в этом сундуке.
Сказав это, он у всех на виду поднял крышку сундука и, заглянув в него, увидел бледного и испуганного монаха в одной ночной сорочке, который был похож на мертвеца, лежащего в гробу. Монах, видя, что его обнаружили, собрал все свои силы, встал перед изумленной толпой и, вспомнив, что сегодня день воскресения святого Лазаря, начал говорить:
— Моя благочестивая паства, я ничуть не удивлен, что вы ошеломлены и поражены, видя меня явившимся к вам в этом сундуке, вернее сказать, принесенным в оном. Вы знаете, что сегодня день, когда наша матерь-церковь отмечает великое чудо, сотворенное господом. Он воскресил Лазаря, который четыре дня пролежал в могиле[149]. Я тоже хотел показать вам мертвого Лазаря, явившись в его облике, дабы вы, увидав меня в этом сундуке, который служил мне гробом, проникнулись большим сознанием бренности человеческого бытия и, узрев меня в одной сорочке, поняли, что в конце концов на том свете нам ничего не надобно. И если вы хорошенько обдумаете увиденное, то, может быть, во многом измените свою жизнь. Верите ли вы, что я со вчерашнего дня до сего часа тысячу раз умирал и воскресал, как Лазарь, сознавая свою ничтожность? Можете не верить, но это так! Вспомните, что каждый живой человек должен умереть, и обратитесь к тому, кто может вас воскресить. Но еще при жизни вы умираете от похоти, алчности, лихоимства и прочих пороков, которые вам навязывает ваша слабая плоть, главный враг вашей души, а всего более опасайтесь пожелать жену ближнего своего, господь редко милует тех, кто связывается с чужими женами.
Такими и еще многими подобными словами и поучениями закончил свою проповедь наш добрый монах, которого за его изворотливость похвалили все аретинцы, а особливо Джироламо и его друг, пришедшие, чтобы присутствовать при развязке дела. Отметив удивительную находчивость и хитрость монаха, они вдоволь нахохотались над его проповедью, особенно когда он убеждал людей не пожелать жену ближнего своего; поэтому Джироламо счел себя в достаточной мере вознагражденным подобной местью и уже никогда впредь не пускал на порог своего дома ни этого монаха, ни подобных ему мошенников.
Надобно вам знать, любезные мои дамы и господа, что не так давно в нашем городе[151], нравы коего за последнее время стали более изнеженными и распущенными, чем то нам пристало, жила девушка, происходившая из знатного рода и от природы наделенная немалым и острым умом. Была она свежа, мила, на редкость хороша собой и звалась Лавинелла. Ей должно было вот-вот исполниться восемнадцать лет, но, неизвестно уж почему, те, на ком лежало бремя забот о ней, видимо, вовсе не помышляли о том, чтобы подыскать ей подходящего супруга. Вследствие чего, побуждаемая не столько резвой и пылкой юностью, сколько в гораздо большей мере дерзким, решительным нравом, который в ту пору обнаруживался у нее все чаще и чаще, она не желала сидеть целыми днями, за исключением дней воскресных и праздников, одна-одинешенька, запершись в своей комнате, как то делают многие ее сверстницы, все занятия и развлечения коих сводятся к уходу за цветами и птицами, наряжанию кукол и разучиванию религиозных песнопений. В отличие от них ее нельзя было оторвать от окна, выходившего на главную улицу подле портала церкви святого Августина. Скрывшись за ставней, она, получая от сего величайшее удовольствие, внимательно наблюдала за каждым прохожим, но так, что самое ее разглядеть было невозможно, ибо, как вам известно, согласно обычаю, ставшему у нас непреложным законом, — что, по моему разумению, заслуживает всяческих похвал, — девушку на выданье не должен видеть никто, за исключением самых близких родственников, до тех пор, пока она не станет замужней женщиной.
Так вот, сидя подобным образом у окна каждый будний вечер, а по праздникам и целыми днями, Лавинелла успела разглядеть большую часть молодых людей Сиены, пока те прогуливались пешком или скакали верхом по городу в свите какого-нибудь вельможи. Случилось, что одному из этих красивых и статных юношей довелось не однажды попасться ей на глаза, и девушке показалось, что красотою, изяществом и благородством он намного превосходит всех, кто когда-либо проходил или гарцевал под ее окном. Все звали этого юношу Риччардо из-за густых, курчавых волос[152], венчавших его горделивую голову, хотя настоящее его имя было Пандольфо, и принадлежал он к знатнейшему роду, но подробно об этом распространяться здесь мне бы не хотелось. Увидав несколько раз такого молодца, Лавинелла, как то бывает с веществом легко воспламеняющимся, в единый миг загорелась любовью, и этот огонь столь сильно сжигал ее и извне и изнутри, столь беспощадно пожирал ее, что ни душа ее, ни тело не знали более ни отдохновения, ни покоя. Все ее мысли отныне были сосредоточены на предмете ее любви, и, подогреваемая ими, она все чаще и чаще оставляла свое рукоделие и бросалась к прикрытому ставней окну; там она поджидала своего Риччардо, которого, неизвестно почему, вдруг стала сильно ревновать. Вследствие этого, когда ей доводилось его увидеть, она чувствовала, что любовный жар разгорается в ее сердце сверх всякой меры; когда же ей видеть его не удавалось, а это случалось, пожалуй, еще чаще, она в отчаянье проклинала себя и горько сетовала на Амура, на судьбу и даже на самого Риччардо как на человека неблагородного и неучтивого. Правда, затем, по здравом размышлении и несколько успокоившись, она решила, что ей нечего корить себя, ибо она отдала любовь человеку весьма достойному и того заслуживающему, и что у нее нет ни малейших оснований упрекать Риччардо, поскольку он оставался в полном неведении относительно ее чувств, однако на судьбу и Амура она досадовала с каждым часом все больше и больше. Поэтому вскоре у юной влюбленной родилась мысль, смелая и дерзкая, которая, отринув скромность и благочиние, побуждала ее любыми путями добиваться удовлетворения своего желания; девушка припоминала неких молодых дам, которые каждодневно стремятся делать и делают то, что задумала совершить она, и ставила себе в пример тех из них, кому было угодно довести до конца замыслы гораздо более дерзновенные и менее позволительные, не отступая ни перед чем; а кроме того, она полагала, что для любящего не существует истинно трудных деяний. Но едва лишь ею овладевали такого рода помыслы, как тут же в ее сознании, — она еще сохранила способность рассуждать разумно, — возникали мысли иные и совсем противоположные, показывающие ей, сколь тяжкий проступок она готова совершить, следуя своей безумной и необузданной страсти, а также говорящие о том, что, осуществив свой замысел, она подвергнется немалому риску замарать собственную репутацию и запятнать честь семьи и что ей, возможно, придется поплатиться за это тем, что вся ее дальнейшая жизнь окажется непоправимо испорченной.
Такого рода рассуждения подкрепляла она примерами из жизни женщин, которые, идя на поводу у столь же неукротимого желания, сами обрекли себя на вечную погибель.
Лавинелла почла такие мысли верными и почти совсем притупила острие противных доводов, выдвигаемых ее не слишком твердым духом, однако все же не в такой степени, чтобы дух ее не смог вооружиться другими аргументами, сходными с прежними, но еще более весомыми. Так что в душе девушки опять завязалась битва, из которой пыталась выйти победительницей могучая страсть, и Амур снова побуждал ее следовать этой страсти, сокрушая и попирая все другие желания, возникающие у нее из стремления как-то посчитаться с благопристойностью и оберечь свою репутацию. Вот почему, раздираемая мучительными сомнениями, она обратилась к себе самой со следующими речами: «Да, Лавинелла, положение твое весьма плачевно, оно хуже и невыносимее, чем положение всякой другой влюбленной. Иные, изнемогавшие подобно тебе под игом любви, обретали некоторое облегчение, изъясняясь в своем чувстве тем, кто его пробудил. У тебя такого облегчения не было и быть не может, ибо тебе невозможно открыть свою любовную тоску тому, кто сумел бы и по законам любви был бы обязан ее развеять. Тебе нечего даже мечтать о чем-либо подобном, поскольку ты своею рукой (о, случай неслыханный и небывалый!) душишь собственные надежды, не будучи склонной поведать ему о своей беде. Поразмысли немного: это твое столь пылкое желание либо подвластно разуму, либо, что намного вернее, порождено страстью и безумием. Если оно разумно, ты можешь не колеблясь рассказать о нем твоему Риччардо, человеку мудрому и скромному, и просить у него о снисхождении; если же твое желание во всем противоречит рассудку, тебе не должно даже намекать на него Риччардо и с корнем вырвать его из сердца, подчинившись доводам разума и вспомнив кое-какие примеры, которые наводили на грустные размышления.
Но, возможно, тебе захочется, какой бы ни была природа твоей пылкой страсти, довести ее до желанного завершения. Если так, то почему бы тебе не обратиться к тому, кто, как ты знаешь, один обладает возможностью сделать тебя вполне довольной и совершенно счастливой? Ты робеешь и не решаешься, ты стыдишься обнаружить пламя, в котором сгораешь? Но учти, что ты никогда не зальешь и не потушишь бушующий пожар, коли будешь держать его в тайне, напротив, так он разгорится еще сильнее. Поэтому откройся, проси, умоляй, а если просьбы твои окажутся тщетными, сопровождай мольбы свои слезами и вздохами. Однако, может, тебе кажется неприличным признаваться изустно и идти к нему самой? Тогда пиши, диктуй, посылай других от своего имени.
Горе мне, несчастной! Я прекрасно вижу, с одной стороны, чего мне надо, а с другой — какое поведение мне пристало. Едва лишь подстрекаемая Амуром, я следую душевному порыву, как тут же честь, натянув жесткие удила, поворачивает меня вспять. Я и хочу и не хочу в одно и то же время и испытываю чуть ли не тысячу разных порывов, но не желаю никому говорить о них и не думаю, чтобы кто-нибудь сумел понять это. Но если бы даже Риччардо и был наделен искусством угадывать чужие мысли, то что заставило бы его использовать это искусство ради меня, которую он совсем не знает? Поэтому, раз я не могу получить ни из милости, ни по чести то, к чему я стремлюсь с тем большей силой, чем менее я рассчитываю сего удостоиться, то не следует ли мне прибегнуть к обману? Конечно, обман противен закону благородной души, но что делать, коли я чувствую, как во мне говорит закон страсти, столь отличный от закона рассудка?»
Так неопытная девушка оказалась ввергнутой в великую пучину любви, и, подобно утлому суденышку без верного кормчего, ее гнали в открытое море спорящие друг с другом бурные ветры. С равным рвением и силой напирали на нее Амур и честь, и она никак не могла понять, какому из противоборствующих желаний следует ей подчиниться. Наконец, у Лавинеллы, захваченной столь страшным душевным ураганом, мелькнул в уме, словно молния в черных тучах, яснейший, как ей казалось, замысел, следуя которому, как она думала, ей удастся привести в спокойную гавань корабль сжигающих ее желаний, причем так, что оба стремления ее сердца будут ублаготворены и не понесут никакого ущерба.
А теперь слушайте, я расскажу вам, в чем состоял ее замысел.
В то время, как и нынче, шел карнавал и повсюду в нашем городе устраивались шумные празднества и веселые гулянья. Мне незачем напоминать вам ни о том, какая допускается в эту пору свобода, коей, если кто того пожелает, можно пользоваться как днем, так и ночью, ни о том, сколь различно и по-всякому проявляют свою радость люди в последние три дня мясоеда, как они тогда веселятся, гуляют, ликуют. В эти дни улицы Сиены заполнены мужчинами и женщинами в масках, причем ночью ничуть не меньше, чем днем, а то и больше, — ведь по ночам на улицах появляются даже те, кого днем никогда не встретишь. Лавинелла решила воспользоваться карнавалом и его свободными нравами. Во вторник вечером (а вторник последний и, пожалуй, самый беззаботный, самый веселый день карнавала) после ужина, не сказав никому о своем решении, в тайне от всех, она скрыла под маскою свое прелестное лицо и, хотя, как всякую девушку из знатной семьи, ее усердно стерегли домашние, выскользнула на улицу. Совсем одна, ведомая только Амуром, она быстрехонько направилась туда, где проживал Риччардо, а именно, на площадь Постьерела. Там она стала ждать, пока он выйдет из дома, дабы, по обыкновению всех молодых людей, отправиться куда-нибудь развлечься. Ждать ей пришлось недолго. Вскоре она увидела, что Риччардо появился в дверях, держа в руке, как это теперь принято, глиняный светильник. Лавинелла немедля устремилась к нему. Сердце у нее замирало, но, собравшись с духом, она подошла
— Любезнейший юноша, будьте так добры и не откажите зажечь от вашего светильника мой фонарь, который совсем погас.
Риччардо, памятуя, что вежливость по отношению к любому прохожему требует не только поделиться с ним огнем, но и показать ему дорогу, если он заблудился, сразу же ответил, что он сделает сие весьма охотно, и, подойдя к Лавинелле, будучи человеком осторожным, несколько раз оглядел ее с головы до пят, желая уразуметь, кто же попался ему навстречу в столь поздний час. Он увидал, что маска одета легко и богато; ему показалось, что она наделена красивой наружностью, и он без труда представил, что сокрытое от его взоров ничуть не хуже того, что видел его глаз. В тот же миг в его воображении возникла картина одного из тех приятных ночных приключений, которые не раз случались с его друзьями. Думать о такого рода приключении побуждал нежный и жалобный голосок, а также устремленные на него живые глаза, которые сверкали из-под маски, словно две ярких звезды, и доносящиеся до него страстные, прерывистые вздохи. У Риччардо возникло великое желание узнать, кто эта маска, в которой он ясно признал благородную даму, и он еще раз внимательно оглядел ее всю, что сделать было нетрудно, ибо дрожащей от волнения рукой она долгое время никак не могла зажечь фонарь то ли по той причине, что фитиль свечи в нем отсырел, то ли из-за какой-то другой неполадки. Теперь Риччардо уже не сомневался, надо ли ему воспользоваться подвернувшимся случаем; желая узнать намеренья незнакомки, он любезно предложил ей свое общество, спросив, куда она направляется в столь поздний час и притом совсем одна. Лавинелла, для которой не могло быть ничего сладостнее такого предложения, исходившего от ее любимого, и которая именно этого и ждала, незамедлительно ответила:
— Сударь, если это не причинит вам затруднений, ваше общество будет мне весьма приятно; под вашей защитой и покровительством я даже в столь поздний час не побоюсь пойти всюду, куда вам будет угодно. Однако я последую за вами при одном лишь условии: прежде всего вы должны дать честное благородное слово, что не покуситесь на мою честь и не будете пытаться узнать, кто я такая и каково мое имя, пока я сама не открою вам этого.
Связать Риччардо такого рода обещанием было делом не сложным, и оба они, довольные друг другом, отправились бродить по городу, присматриваясь и прислушиваясь ко всему, что происходило вокруг них забавного и веселого. Через некоторое время Риччардо осведомился у незнакомки, где бы ей было приятней всего провести эту праздничную ночь, и ради бога просил ее не таить от него своих желаний, обещая тут же исполнить любой из ее приказов. На что Лавинелла ответствовала, что пусть он выбирает ту дорогу, которая покажется ему наилучшей, и идет туда, куда ему нравится; что до нее, то, если ее общество ему не наскучило, она пойдет за ним всюду, и ей будет приятнее всего там, где ему больше всего придется по вкусу.
Видя, как держит себя незнакомка, Риччардо пришел к заключению, что та, видимо, питает к нему слабость и добивается его любви. Посему, не долго раздумывая, он кратчайшим путем повел ее к себе и, войдя в дом, проводил ее в красивую залу, расположенную на первом этаже. Там немедленно был накрыт стол, уставленный всевозможными сладостями и тонкими винами. Риччардо полагал, что так ему легче удастся уговорить даму снять маску и узнать, кто она такая. Пока они ходили по городу, он не раз пытался сделать это, но все его старания не привели ни к чему. Теперь он принялся упрашивать ее подкрепиться после прогулки, отведав стоящие на столе яства. Он снова и снова угощал ее и просил не побрезговать его закусками. В конце концов Лавинелле пришлось уступить пылким и настойчивым уговорам того, кто властен был ей приказывать и кто, даже повелевая, оказывал ей милость.
— Уберите все светильники, — сказала она, — и я перестану упрямо и столь невежливо отвергать вашу любезность; я хочу доказать вам, как мило и дорого мне все, что исходит от вас, сколь сердце и воля мои готовы служить и повиноваться всему, что вам угодно будет повелеть мне честным и благородным образом.
Хотя такая неожиданная просьба легко могла бы насторожить Риччардо, он с юношеской решимостью изгнал из своей души всякие подозрения и как до этого следовал всем пожеланиям маски, так и теперь порешил сделать то, о чем она его просила. Приказав вынести светильники, горевшие в комнате, он остался наедине с незнакомкой в полной темноте. Лавинелла тут же сняла маску и принялась расхваливать угощения, хотя она едва к ним прикоснулась, алча, видимо, пищи иного рода и для нее несравненно более сладостной и аппетитной.
Некоторое время молодые люди сидели в темноте, обмениваясь шутками и двусмысленными речами. Затем юноша решил проверить, правда ли то, что обычно толкуют о женщинах, а именно, будто в темноте они обнаруживают совсем не те настроения, нежели при ярком свете. С этой целью он приблизился к незнакомке и, нежно пожимая ей руку, вызвал ее на любовную схватку. Девушка сперва сильно сопротивлялась, однако не настолько, как ежели бы ей хотелось остаться победительницей. Поэтому Риччардо потребовалось немного времени, чтобы одержать над ней верх. Правда, она ни за что не хотела сдаваться после первого же поражения, и ему, дабы лучше показать ей свое превосходство в силе, пришлось за короткий срок подмять ее еще два-три раза, причем, смею вас уверить, побежденная получала от сего удовольствие не менее полное, чем ее победитель. Потом полем боя стала мягчайшая постель. Лежа на ней, Лавинелла, по-прежнему не называя своего имени возлюбленному, любовницей которого она теперь стала, в самых нежных выражениях рассказала ему, сколь давно она пылает к нему любовью и как она, во-первых, чтобы дать испытать огонь ее любви, а во-вторых, дабы несколько поостудить жар оной, решилась с ним встретиться — и обо всем поговорить.
Однако мне нет надобности ни пересказывать здесь те доводы, которыми она оправдывала свою влюбленность, ни повторять ее рассказ о том, как она впервые увидела Риччардо проходящим по ее улице, каким образом она выведала, кто он такой, и как с тех пор она много раз видела его и в городе и за городом. Слушая такие речи совсем ему незнакомой дамы, Риччардо пришел в полнейшее недоумение. Впрочем, он наивно полагал, что теперь незнакомка перестанет от него прятаться, как она делала это до сих пор по причине каких-то особых соображений, а вернее, из-за чисто женского каприза. Как только в комнату опять будут внесены светильники, думал он, ему удастся без особых препирательств удостовериться в том, что с виду товар не хуже, чем на ощупь. Но здесь его постигло разочарование: на даме опять оказалась надета личина. Это не понравилось Риччардо и смутило его, но он скрыл свое неудовольствие за улыбкой, сделав вид, будто считает игрою и шуткой то, что, дав ему насладиться своими прелестями, незнакомка теперь лишает его радости узреть их воочию. Такими и другими подобными речами он все время пытался убедить ее уступить его просьбам и показать свое лицо тому, кому она уже доказала свою любовь как на словах, так и на деле. Однако это ни к чему не привело, ибо дама искусно и весьма логично отражала все его доводы и аргументы. Тогда Риччардо решил придать своим убеждениям больше веса, присоединив к словам действия: он полагал вполне естественным приложить все усилия к тому, чтобы увидеть ту, с которой он столь приятно провел ночь. Но Лавинелла, защищая себя руками и ногтями не менее успешно, чем языком, оттолкнула от себя юношу и напомнила ему, что он дал клятвенное обещание не обижать ее и не докучать тем, что может показаться ей неприятно. К этому она добавила слова о том, что если он не уступит и не откажется от праздного желания увидать ее лицо, то подвергнет ее опасности скандала, в результате которого ее репутации будет нанесен невосполнимый ущерб. А дабы заставить молодого человека отказаться от попыток силой снять с нее маску, она ему тут же наобещала, что ежели он позволит ей беспрепятственно уйти и не станет принуждать ее к дальнейшим признаниям, то не пройдет и двух часов, как он получит достовернейшие сведения о том, кто она такая. Риччардо подобные заверения Лавинеллы показались весьма странными. Он не мог уразуметь, как это она, не желая открыться в его доме, исполнит его просьбу через какой-нибудь час-другой, и не знал, какое решение ему принять. Все же ему представлялось делом недостойным стремиться вопреки воле дамы выведать имя и положение в обществе той, которая столь великодушно и любезно шла до сих пор навстречу всем его прочим желаниям. В конце концов Риччардо решился сделать так, как угодно и приятно его даме.
В тот самый вечер в квартале Казато давался шумный бал, на который были приглашены все знатные дамы города. Туда-то Лавинелла и попросила ее проводить. Остановившись у двери того дома, где давался бал, она сказала, обращаясь к Риччардо:
— Не препятствуйте, душа моя, тому, чтобы я одна вошла в этот дом. Войдите в него через некоторое время после меня. А когда вы подниметесь наверх, то пройдите в залу, где веселятся женщины, и обратите внимание на ту из них, которая станет покусывать кончик своей косынки. Так вы узнаете ту, которая, испытывая от сего великую радость, незнакомкой лежала в ваших объятьях и которая всецело отдала вам и душу свою и тело.
Риччардо послушно исполнил все, о чем его попросила дама в маске, и не заподозрил с ее стороны никакого подвоха, памятуя о том, что она до сих пор говорила и делала. Выждав время, которое понадобилось его юной спутнице для того, чтобы затеряться в толпе гостей, он вошел в комнату, где собравшееся там благородное общество предавалось благопристойным играм и забавам, и принялся, внимательно вглядываясь в лица, присматриваться к приглашенным, дабы по имеющейся у него примете распознать наконец ту, кого подарила ему в эту ночь судьба. Однако, оглядев по очереди всех дам и обнаружив, что ни одна из них не покусывает кончик косынки, как то ему было обещано, а также не одета в цвета его незнакомки, уразумев из разговоров мужчин, что в этот вечер в доме никто не появлялся в маске, Риччардо без труда понял, что произошло. Он подумал, — как оно и оказалось на самом деле, — что незнакомка оставила его под конец с носом, заставив ждать у двери, в то время как сама ускользнула через другой вход, даже не поднявшись ни в залу, ни в какую-либо другую комнату. У названного дома помимо главного, парадного подъезда, выходящего на центральную улицу квартала Казато, имелась другая и, пожалуй, не менее удобная входная дверь, через которую можно было попасть прямо к церкви Санта-Кроче. Воспользовавшись ею, Лавинелла укрылась в своем доме, и там ее уже мало заботили мысли о Риччардо и о том, что с ним сталось. Юноша же, движимый своими подозрениями, спустился вниз и, обнаружив незапертую дверь, окончательно убедился в правильности своих предположений.
Вот каким образом Риччардо оказался лишенным той страстно им желаемой радости, которая, как он надеялся, вознаградила бы его за все огорчения минувшей ночи, а Лавинелла в одно и то же время удовлетворила и свои пылкие желания, и порывы чувственной страсти, причем так, что тот, кто послужил для сего орудием, никогда не узнал, кому он доставлял наслаждения. Лавинеллу это весьма радовало, ибо она твердо верила, что сохранила честь свою незапятнанной, полагая, видимо, как то делают ныне очень многие, что честь целиком исчерпывается сведениями, которыми располагают о жизни и нравах человека его соседи, и мнением, которое они о нем составляют. Именно поэтому она считала, что ей удалось уберечь овец, накормить волков и самым наиприятнейшим образом сочетать любовь с честью.
Первая радость брака в том состоит, что, когда молодой человек находится в расцвете дней своих и он свеж, здоров и радостен, тогда ему только и заботы, что наряжаться, сочинять баллады да распевать их, заглядываться на красавиц и выискивать, какая из них его больше обласкает и любезное слово скажет про его обличье, а до прочего ему и дела нет; не заботится он, откуда сие благоденствие, оттого что за него думают его отец и мать, либо другие родственники, и доставляют ему все, что надо. Но хоть он и живет в забавах и развлечениях, а все же и они ему приедаются, и начинает он завидовать женатым людям, которые давно уже в брачные сети попались и, как ему кажется, сей жизнью наслаждаются, имея подле себя жену красивую, богато убранную и видную, а уборы ей куплены не мужем, но, как его уверяют, это ее родители купили их ей на свои деньги. И начинает наш молодой человек присматриваться и искать себе невесту и кончает тем, что попадает в брачные сети и женится; но не дай бог, если он наспех подобрал себе жену, ибо много хлопот и бед обретет он от этого, недаром сказано: поспешишь — людей насмешишь.
Итак, вот и оженили беднягу, который еще вдоволь не натанцевался и не накрасовался, и не все еще шелковые кошельки красоткам раздарил, и не все любезности от них выслушал. Он и продолжает первое время после свадьбы играть и веселиться, не заботясь ни о чем, но уж за него позаботились, и вот конец веселью: надо жену лелеять и устраивать, как должно. И, может быть, у жены доброе сердце и она весела, но вот однажды, довелось ей увидеть на празднике других дам из купеческого либо из другого какого сословия, и все они были одеты на новый манер, и пришло ей в голову, что по ее происхождению и состоянию ее родителей подобало бы ей наряжаться не хуже других. И вот выжидает она место и час, дабы поговорить о том со своим мужем, — а способнее всего говорить о сем предмете там, где мужья наиподатливы и склонны к соглашению: то есть в постели, где супруг надеется удовольствие и наслаждение обрести, да еще думает, что жене больше и желать нечего. Ан вот тут-то дама и приступает к своему делу: «Оставьте меня, друг мой, — говорит она, — ибо я в большой нынче печали». — «Душенька, а отчего же это?» — «А чему же радоваться, — вздыхает жена, — да и что об этом говорить, когда вам мои речи — звук пустой». — «Да что вы, душенька, к чему это вы так говорите?» — «Ах, боже мой, сударь, да что тут скажешь, да коли бы я вам и сказала, так вы и внимания на мои слова не обратите либо еще подумаете, что у меня худое на уме». — «Ну, уж теперь вы мне непременно должны сказать». Тогда она говорит: «Будь по-вашему, я скажу. Так вот, друг мой, помните ли, что в такой-то день заставили вы меня пойти на праздник, хоть не по душе они мне, но уж когда я туда явилась, так не было там женщины (хоть и самого низкого сословия), что была бы одета хуже меня, — не хочу хвастаться, но я, слава тебе господи, не последнего рода среди всех дам и купчих, что там были, и знатностью не обижена. Так что чем-чем, а этим я вас не посрамила, но что касается прочего, так мне стыдно за вас и за всех знакомых наших». — «Ах, душенька, — говорит он, — а что ж это за прочее такое?» — «Господи боже мой, да вы бы посмотрели на дам, что знатных, что не знатных, — на этой платье было из эскарлата[154], а на той из материи, что из Малина[155], либо из зеленого бархата с рукавами длинными и с оторочкой беличьим мехом, а к платью подобран капюшон красного или зеленого сукна, длинный, до земли. И все как есть сшито по новой моде. А я-то была в моем еще от свадьбы платье, и все-то оно истрепалось и висит на мне, — ведь мне его сшили еще в бытность мою в девушках, а с тех пор у меня столь тяжелая жизнь была и столь бедами обильная, что от меня половина осталась, и меня, верно, сочли матерью той, кому я прихожусь дочерью. Я прямо от стыда сгорала, будучи в таком наряде промеж них, и совсем растерялась и смутилась. А хуже всего то, что такая-то дама и жена такого-то мне сказали во всеуслышанье, что стыдно быть так плохо одетой. И смеялись надо мной, не заботясь о том, что я их услышу». — «Ах, душенька, — говорит бедняга муж, — я вам на это вот что скажу: вам ли не знать, душа моя, что, когда мы с вами поселились своим домом, у нас и мебели не было и надо было нам купить кровати, кушетки и столько других вещей для спальни и для всего дома, и нет у нас теперь денег; да еще купили мы двух быков для нашего испольщика (в такой-то местности). А еще обвалилась недавно крыша на нашем гумне, и его надо покрывать без промедления, да еще надо мне затевать процесс о вашей земле, которая ничего нам не приносит, — словом, нет у нас денег, или есть малая толика, а расходов — выше головы». — «Ах, сударь мой, я так и знала, что вы в отговорку тотчас попрекнете меня моей землей». И она отворачивается от мужа и говорит: «Ради бога, оставьте меня в покое, и больше я ни слова не скажу». — «Ох, несчастье, — говорит простак, — да что же вы гневаетесь без причины». — «Да как же, сударь мой, чем же я виновата, что земля моя ничего не приносит, и что же я могу теперь сделать? Вы и сами знаете, что мне в мужья предлагали того-то и того-то и еще двадцать других, которые меня и без приданого взяли бы, да вот вы уж так за мной ухаживали, что я никого не хотела, кроме вас, и сколько я этим горя причинила моему досточтимому отцу, ну, да я за это теперь сторицею расплачиваюсь, ведь нет меня несчастнее среди всех женщин. Вы мне скажите, сударь мой, да есть ли среди женщин моего сословия хоть одна, что так живет, как я? Да и в других сословиях тоже? Клянусь святым Жеаном, что платья, которые отдают горничным, много богаче моих воскресных. Ох, не знаю, зачем это хорошие люди умирают, а я живу на свете, пусть бы господь послал мне смерть, — по крайней мере, не пришлось бы вам меня кормить и не было бы вам больше от меня никакого неудовольствия». — «Ах ты господи, душенька моя, — отвечает муж, — да не говорите вы так, ведь я все на свете для вас сделаю, только повремените немного, а теперь повернитесь ко мне, я вас приласкаю». — «О, боже мой, да оставьте вы меня, мне совсем не до того сейчас. И дай господи, чтобы вы об этом думали не больше моего и никогда ко мне не прикасались». — «Ах, так», — говорит он. «Да уж так», — отвечает жена. Тогда, чтобы испытать ее, спрашивает муж: «Верно, если я умру, вы сейчас же за другого замуж выйдете?» — «Сохрани господи, — восклицает она, — за вас я вышла по любви, и никогда больше ни один мужчина не похвастается тем, что целовал меня, — да если бы я узнала, что мне суждено вас пережить, я бы на себя руки наложила, чтобы умереть первой». И начинает плакать.
Этьен Делон (1518–1583?), французский художник.
Геометрия.
Аллегорическая фигура из серии «Основные науки».
Гравюра резцом.
Так вот и причитает для виду молодая жена (хоть и думает совсем обратное), а супруг ее и не знает, смеяться ему или плакать: ему и радостно, что его любимая жена столь целомудренна, что об измене и не помышляет, ему и горько и жалко ее оттого, что она плачет, и он не утешится, пока ее не утешит, и для того старается и так и сяк ее развеселить. Но она, твердо решивши добиться своего, то есть желанного платья, безутешна. И, встав утром раньше обычного, ходит весь день как в воду опущенная, и слова путного от нее не добьешься. А как наступит следующая ночь, она ляжет спать, а добрый ее муж все будет смотреть, заснула ли она и хорошо ли она укрыта. И если нет, он ее укроет получше. Тогда она притворится, что проснулась, и простак ее спросит: «Вы не спите, душенька?» — «До сна ли тут», — ответит она. «Ну, как, вы утешились ли?» — «Утешилась? А что вам до моего утешения? И слава богу, у меня всего достаточно, что мне еще желать?» — «Клянусь богом, — говорит он, — душенька моя, у вас будет все, что душе угодно, и я уж постараюсь сделать так, чтобы на свадьбе у моей кузины вы были самой нарядной из всех дам». — «Ну, нет, я уж больше на праздники ни ногой!» — «Нет, душа моя, вы уж пойдите, и все, что хотите из нарядов, я вам доставлю». — «А разве я чего-нибудь хотела? — говорит она. — Ничего я не хотела, и не выйду я теперь никуда из дома, кроме как в церковь, а если я вам что-нибудь и говорила, так это оттого, что меня другие застыдили, а уж мне одна кумушка донесла, как они обо мне судачили».
И снова приходится мужу ломать себе голову над всеми этими делами, и мебели-де в доме нет, а платье ему обойдется в пятьдесят или шестьдесят экю[156] золотом, а денег, хоть тресни, взять неоткуда, а взять-то надо, потому что вот она, жена, — честная и добрая женщина, которую господь бог дал ему на радость, за что ему хвала. И так он ворочается всю ночь с боку на бок, и уж ему не до сна, как подумает о том, сколько ему денег надо раздобыть. А хитрая дама тем временем смеется себе потихоньку в подушку.
Утром простак муж, измученный бессонной ночью и заботами, встает, и уходит из дому, и покупает сукно и бархат на платье в кредит, на долговое обязательство, или занимает деньги у кого-нибудь в обмен на десять — двадцать ливров[157] ренты или же закладывает какую-нибудь золотую либо серебряную драгоценность, что ему досталась от отца, а затем возвращается к себе со всем, что жена у него просила, а она делает вид, что вовсе этому не рада, и проклинает тех, кто завел всю эту моду и наряды; потом же, видя, что дело сделано и сукно с бархатом у нее в руках, начинает так говорить: «Ах, мой друг, надеюсь, вы не упрекнете меня в том, что я заставила вас потратить деньги, ибо за самое красивое платье в мире я гроша не дам, если мне в нем не будет тепло, — для того я и просила у вас сукно да бархат». Как бы то ни было, а платье шьется, а также пояс и капюшон, и все эти уборы будут выставляться напоказ и в церквах и на праздниках.
А тем временем подходит срок платить долги, а платить бедняге мужу нечем, но кредиторы ждать не хотят и описывают у него дом либо самого тащат в суд, и вот жене его об этом становится известно, и она видит, как пропадают в закладе золотые вещи, за которые было ей куплено платье. А после суда сажают мужа в тюрьму, а нашу даму выселяют в трактир[158]. И только бог знает, каково сладко приходится мужу, когда дама с криками и воплями приходит к нему в тюрьму и слышит он от нее вот что:
«Будь проклят день, когда я родилась, и почему я не умерла сразу же после того. Увы! Приходилось ли когда-нибудь женщине моего происхождения нести такой позор, когда мне столь благородное воспитание дано было. Увы мне! Сколько я трудов положила, как дом вела, и все, что я наживала и копила, идет прахом! Отчего я не выбрала среди двадцати других женихов, — жила бы я тогда в богатстве и почете, как и живут сейчас их жены. Бедная я, несчастная, хоть бы меня смерть забрала!» Так причитает дама и не поминает при этом ни о платьях, ни об украшениях, каких она добивалась, ни о праздниках и свадьбах, куда в своих уборах ходила, когда приличней ей было бы сидеть дома да вести хозяйство, — а она все сваливает на беднягу мужа, который ни сном ни духом не виноват. Но он столь простодушен, что ему и невдомек, кто всему виною. Невозможно и представить, как терзается и грызет себя бедняга, — не спит он, не ест, а только думает о том, как бы ему утешить дорогую жену в ее горестях. А жене все кажется, что ему мало досталось, и если она чем и недовольна, так только этим. И так влачит он свои дни в бедности, и вряд ли когда-нибудь дела его пойдут на лад, а ей все нипочем.
Вот так и попадаются простаки в брачные сети, не ведая, чем это чревато, а кто еще не попался, все равно попадется и загубит свою жизнь и горестно окончит свои дни.
Четырнадцатая радость брака в том состоит, что юноша, приложив все старания к тому, чтобы в брачных сетях оказаться, женится, и женится он на красивой молодой женщине, нежной и милой, простодушной, веселой и доброй; и живут они в мире и согласии два или три года, ничем один другого не огорчая, но доставляя друг другу все радости, какие только можно придумать, и нет меж ними ссор, и милуются они, как два голубка, и столь крепко любовь их соединила, что если бы одному из них стало больно, то и другой тотчас бы боль почувствовал. Так живут они, будучи юными супругами, но случается, что дама жизнь земную сменяет на загробную, и тогда молодой ее муж приходит в такую печаль, что невозможно и пересказать. И счастье от него отворачивается, ибо рассудите сами — ведь не живут люди в тюрьме в свое удовольствие, а иначе тюрьма не была бы тюрьмою. И молодой человек впадает в большое отчаяние, ропщет на бога, на смерть и на судьбу, что так жестоко его наказала и всякую радость у него отняла; и, как мне кажется, нет большей в мире печали, чем та, о которой выше рассказано.
И так проходят его дни в горе и душевных невзгодах, и живет он один, избегая друзей и думая лишь о большой потере, которую понес, и стоит у него перед глазами образ его милой жены, которую он так любил. Но нет в мире ничего, что не проходило бы. И многие в городе или в окрестности, рассудив, что он хороший и честный человек (а это и в самом деле так), стараются его посватать и женят его на другой, которая от первой его жены отличается, как ночь от светлого дня: она вдова и не первой молодости, но скорее средних лет, и уж эта женщина многому научилась за первым мужем, в особенности тому, как ей надобно вести себя со вторым. И, поскольку она хитра, то ей долгое время удается прикидываться не такой, какова она на самом деле. Но чуть лишь она убедится, что муж ее человек прямодушный и добрый и на дурное не способный, — куда что девалось! Тут-то она и изольет на него весь яд, что скопился у ней под языком. И начинает она мужем помыкать и обрекает его страдать и мучиться. Да будет вам ведомо, что нет хуже раба и горше рабства, чем для молодого человека, простодушного и доброго, быть под пятой у жены, успевшей до того повдоветь, особливо если она зла и взбалмошна. Такую бабу можно сравнить лишь с самым отъявленным и жестоким злодеем, а тому, кто попал к ней в руки, ничего не остается, как только молиться богу, чтобы тот ниспослал ему побольше терпения перенести все муки. Такой муж подобен старому медведю в наморднике (а у него и зубов-то давно нет), опутанному толстой железной цепью, прикованному к бревну, и все, что ему осталось — это реветь, да и за то получит он от злого поводыря еще лишних два-три пинка.
Только такое сравнение и можно подобрать для простодушного молодого человека, который женился на вдове, злой и взбалмошной. И часто случается также, что, поскольку он намного моложе ее, она принимается его ревновать, ибо свежесть и красота молодого человека делает ее жадной и ревнивой, и она хотела бы всегда держать его при себе и владеть им безраздельно. Такая женщина подобна той рыбе, что живет в воде, которая по причине большой жары застоялась, потеряла свое быстрое течение и загнила, и оттого рыба, что живет в этой воде, хочет найти свежую воду и ищет ее, и когда она ее находит, то и оживает. Так же бывает и с женщиной в летах, когда она находит себе молодого мужа и его гладкое тело ее обновляет. Но знайте, что нет испытания, которое вызывало бы у молодого человека большее отвращение, чем это, и вредило бы так его здоровью. Он как путник, которого мучит жажда и он пьет прокисшее вино, не замечая вкуса, по после у него во рту плохой привкус от того вина, что он выпил, и больше он не станет его пить, коль сможет купить себе другого вина; так же и с молодым человеком, имеющим старую жену, — конечно, он любить ее будет не больше, чем молодая жена любит старого мужа. Многие из скупости женятся на старухах, но глупы же и эти последние, ибо, хоть мужья и служат им, но никогда они не будут им верны. И еще глупее старый человек, который ничего лучше не может придумать, как жениться на молоденькой. Как увидишь такое, смешно делается, ибо известно, чем такой брак кончается. Если старик берет молодую жену, ему очень повезет, коли она согласится за ним ходить; даже и подумать противно, как это молодая женщина, нежная и благоуханная, может терпеть подле себя старика, что всю ночь кашляет, харкает да кряхтит, чихает и потеет; чудом будет, коли она смолчит, слыша рядом его отрыжку от больной печени или других хворей, в которых нет у стариков недостатка. И так получится, что один из них вечно будет другому поперек дороги. Подумайте, разумно ли совмещать две вещи несовместные? Да это все равно, что посадить в один мешок кошку с собакой, и они там передерутся насмерть. И случается часто, что такие муж и жена не отказывают себе ни в чем и безрассудно сорят деньгами, впадая из-за этого в нищету. И случается также, что старый муж или старая жена становятся все ревнивее и жаднее и этим только еще больше портят дело. А когда молодые любезники видят красивую юную даму замужем за эдаким старым дураком, они тотчас расставляют свои сети, рассчитав, что она скорее туда попадется, нежели другие, у кого мужья молоды и ловки. И бывает, что старуха берет себе молодого мужа, а тот женится на ней из-за денег, но отнюдь не по любви, и они крепко ссорятся и деньги тратят без разбора и без толка, отчего также впадают в бедность. И знайте, что настойчивость старухи губит жизнь молодого мужа: не о том ли говорит Ипокрас[159], non vetulam novi, cur moriar?[160] И часто такая старуха, будучи замужем за молодым, становится столь жадной на любовь и столь ревнивой, что бесится от злости, и куда бы ни пошел муж — в церковь ли или в другое какое место, ей все кажется, что ее обманывают, и только одному богу ведомо, что за муки и терзания муж от нее принимает и какие наскоки выдерживает. Никогда молодая жена не станет ревновать, как старая, а если и приревнует, так быстро от сей напасти излечится. А муж старухи так ею заморочен, что он с другой женщиной и заговорить-то не смеет, разве что с пожилой какой-нибудь, и при эдакой жене состарится он за год так, как не состарился бы и за десять лет с молодой. Старуха из него все соки высосет, загубит он в сварах да ссорах свою жизнь и горестно окончит свои дни.
Некий нашего королевства дворянин, оруженосец славный и с громким именем, живучи в Руане, влюбился в одну красавицу и всячески старался войти к ней в милость. Но Фортуна столь была ему супротивна, а дама так к нему нелюбезна, что под конец, как бы отчаявшись, прекратил он свои домогательства. И, может статься, не так уж он был неправ, ибо дама этот товар забирала в другом месте, а он не то чтобы знал об этом доподлинно, однако же слегка догадывался.
Все же тот, кто ею услаждался, знатный рыцарь и человек многомощный, был так к оному оруженосцу близок, что вряд ли скрыл бы от него что-либо, кроме этого дела. Правда, часто он ему говорил:
— Знай, друг мой, что в здешнем городе есть у меня зазноба, от которой я совсем без ума; ибо когда я так устану в пути, что силой меня не заставишь паршивенькой мили проехать, так стоит мне с нею остаться, как я проскачу три или четыре, а из них две без передышки.
— А не дозволите ли вы мне обратиться к вам с мольбой или челобитной, чтобы только мне узнать ее имя?
— Нет, честное слово, — отвечал тот, — ничего больше ты не узнаешь.
— Ладно же, — сказал оруженосец, — ежели впредь залучу лакомый кусочек, так буду так же. скрытен с вами, как и вы со мной неоткровенны.
И настал день, когда добрый тот рыцарь пригласил оруженосца отужинать в Руанском замке, где сам проживал Тот явился, и они отлично потрапезовали, но когда ужин кончился и они еще немного побеседовали, благородный рыцарь, который в назначенный час должен был отправиться к своей даме, отпустил оруженосца и сказал:
— Вам известно, что нас назавтра ждет большая работа и что надо нам рано встать ради такого-то дела и еще ради такого-то, которые надлежит завершить. Лучше нам будет пораньше лечь спать, а посему желаю вам доброй ночи.
Оруженосец, хитрый от природы, сразу догадался, что добрый рыцарь собирался пройтись по такому делу и для того лишь прикрывается завтрашней работой, чтобы его спровадить, — не подал виду, а только сказал, прощаясь с рыцарем и желая ему доброй ночи:
— Ваша правда, монсеньер. Встаньте завтра пораньше, и я поступлю так же.
Спустившись вниз, наш добрый оруженосец увидал у дворцовой лестницы маленького мула; а кругом не было никого, кто бы того мула сторожил. Тотчас же сообразил оруженосец, что встреченный им на лестнице паж пошел за хозяйским чепраком, да так оно и было.
— Ого! — сказал он про себя. — Не без причины отпустил меня хозяин в столь ранний час. Вот его мул только и дожидается, пока я уберусь, чтоб отвезти своего хозяина туда, куда меня не хотят пускать. Эх, мул, мул, — продолжал он, — ежели бы ты умел говорить, сколько бы ты хороших дел порассказал. А теперь отведи меня, пожалуйста, туда, куда собирается твой хозяин.
И с этими словами он велел своему пажу подержать стремя, вскочил в седло, отпустил поводья и предоставил мулу трусить рысцой, куда ему заблагорассудится.
А добрый мул повез его из улочки в переулочек, то вправо, то влево, покуда не остановился перед маленькой калиткой в косом тупичке, куда обычно ездил на нем хозяин; а это был вход в сад той самой дамы, которую оруженосец так долго обожал и с отчаяния бросил.
Он сошел с мула и легонько постучался в калитку; тут какая-то девица, караулившая за оконной решеткой, спустилась вниз и, думая, что это рыцарь, сказала:
— Добро пожаловать, монсеньер: вот госпожа ожидает вас в горнице.
Она не опознала его, потому что было темно, а он прикрыл лицо бархатной полумаской. И добрый оруженосец ответствовал:
— Иду к ней.
А затем шепнул на ухо своему пажу:
— Иди скорее и отведи мула туда, откуда я его взял, а затем отправляйся спать.
— Будет сделано, монсеньер, — отвечал тот.
Девица заперла калитку и вернулась в свою комнату. А наш добрый оруженосец, крепко раздумывая о своем деле, уверенной поступью идет в горницу к даме, каковую он застал уже в нижней юбке и с толстой золотой цепью вокруг шеи. И так как он был любезен, вежлив и очень учтив, то отвесил ей почтительный поклон, а она, изумившись, точно у нее рога выросли, сперва не знала, что ответить, но наконец спросила, что ему тут нужно, откуда он в такой час явился и кто его впустил.
— Сами можете догадаться, сударыня, — сказал он, — что, не будь у меня иного помощника, кроме меня самого, то мне бы ни за что сюда не проникнуть. Но, слава богу, некто, больше меня жалеющий, чем вы, оказал мне такое одолжение.
— Кто же это вас сюда привел, сударь? — спросила она.
— Поистине, сударыня, не стану от вас скрывать: такой-то сеньор (и тут он назвал того, кто угощал его ужином) направил меня к вам.
— Ах он предатель и вероломный рыцарь! — говорит она. — Вот как он надо мной издевается? Ну ладно же, ладно: придет день, когда я ему отомщу.
— Ах, сударыня, нехорошо так говорить, ибо никакой в том нет измены, чтоб удружить приятелю и оказать ему помощь и услугу, когда можешь. Вам известно, какая крепкая дружба издавна повелась между ним и мною, и ни один из нас не скрывает от приятеля того, что у него на сердце. И вот недавно я признался и исповедался в той великой любви, которую к вам питаю, и как по этой причине нет у меня в мире ни единой радости; и ежели каким ни на есть способом не попаду я к вам в милость, то невозможно мне долго прожить в мучительных сих страданиях. Когда же добрый сеньор удостоверился, что слова мои не ложны, он, опасаясь великой невзгоды, которая могла для меня из сего проистечь, согласился поведать мне то, что у вас с ним затеялось. И предпочитает он покинуть вас и спасти мне жизнь, нежели плачевно меня загубить, оставаясь с вами. И будь вы такой, как вам следовало бы быть, вы не отказывали бы так долго в утешении и исцелении мне, вашему покорному служителю, ибо вам доподлинно известно, что я неизменно служил вам и повиновался.
— А я вас прошу, — сказала она, — чтобы вы больше со мною о том не говорили и вышли бы отсюда вон. Проклят будь тот, кто вас сюда прислал!
— Знаете что, сударыня? — сказал он. — Не в моих видах уходить отсюда до завтрашнего дня.
— Клянусь честью! — сказала она. — Вы уберетесь сейчас же.
— Разрази меня бог! Ничего такого не будет, потому что я переночую с вами.
Увидавши, что он стоит на своем и что это не такой человек, которого можно прогнать суровыми речами, она попыталась удалить его кротостью и сказала:
— Умоляю вас, как могу, на сей раз уйти, и, клянусь верой, в другой раз я исполню ваше желание.
— Ни-ни, — говорит он, — забудьте об этом и думать, ибо я здесь ночую.
И тут он начинает раздеваться, и берет даму, и целует ее, и ведет к столу; словом, добился он того, что она улеглась в постель, а он с ней рядышком.
Не успели они расположиться и преломить всего-навсего одно копье, как вдруг является добрый рыцарь на своем муле и стучит в комнату. А добрый оруженосец слышит его и тотчас узнает; тут начинает он грозно ворчать, изображая собаку.
Рыцарь, услышав сие, сильно изумился и не менее того разгневался. Поэтому он снова громко постучался в комнату.
— Кто там рычит? — крикнул тот, что был на улице. — Черт подери! Я это сейчас узнаю. Отворите двери, или я их в дом внесу!
А добрая дама, вне себя от бешенства, подбежала к окну в одной сорочке и сказала:
— Ах, это вы, рыцарь неверный и фальшивый? Стучите сколько хотите. Сюда вам не войти!
— Почему же мне не войти? — спросил он.
— А потому, — говорит она, — что вы самый вероломный человек, когда-либо сходившийся с женщиной, и недостойны быть в обществе честных людей.
— Ловко вы расписали мой герб, сударыня, — ответил он. — Не знаю только, что вас укусило. Насколько мне известно, я вам никакой измены не учинил.
— Нет, учинили, — сказала она, — да еще самую гнусную, какую когда-либо женщина испытала от мужчины.
— Нет, клянусь честью! Но скажите же мне, кто там у вас в горнице.
— Сами отлично знаете, скверный вы этакий предатель! — ответила она.
А в это самое время добрый оруженосец заворчал, как и прежде, подражая псу.
— Ах, черт возьми! — говорит тот, что на улице. — Ничего не понимаю! Неужто же я не узнаю, кто этот ворчун?
— Клянусь святым Иоанном, узнаете! — сказал оруженосец. И с этим он вскакивает с постели и становится у окна рядом со своей дамой и говорит:
— Что вам угодно, монсеньер? Грешно вам так рано нас будить.
Добрый рыцарь, узнавши, кто с ним говорит, так остолбенел, что просто чудо. А когда вновь заговорил, то промолвил:
— Откуда же ты взялся?
— С вашего ужина; а сюда пришел ночевать.
— Тьфу, пропасть! — сказал рыцарь; а затем отнесся с речью к даме и сказал:
— Вот каких гостей вы здесь принимаете, сударынька?
— Да, монсеньер, — отвечала она, — и спасибо вам на том, что вы мне его прислали.
— Я? — сказал рыцарь. — Ничуть не бывало, клянусь Иоанном Крестителем! Я даже явился сюда, чтоб занять свое место; да, видно, опоздал. Но раз уж мне ничего другого не достается, так впустите меня хоть выпить глоток-другой.
— Видит бог, вы сюда не войдете, — сказала она.
— Ан войдет, клянусь святым Иоанном! — сказал оруженосец.
И с этим он встал, и отпер дверь, и снова улегся в постель, а она — рядом с ним, бог свидетель, весьма пристыженная и раздосадованная; но впору приходилось ей повиноваться.
Когда добрый сеньор очутился в комнате и зажег свечу, то полюбовался он уютной компанией, собравшейся в постели, и сказал:
— На здоровье вам, сударынька, да и вам, мой оруженосец!
— Покорно благодарю, монсеньер, — отвечал тот.
Но красотка, которой уж до того было невмоготу, — ну вот-вот сердце из живота выскочит, — не могла вымолвить ни слова и совсем уверилась в том, будто оруженосец пришел к ней по желанию и указанию рыцаря, на коего она за это так сердилась, что и сказать невозможно.
— А кто показал вам дорогу сюда, почтенный оруженосец? — спросил рыцарь.
— Ваш мул, монсеньер, — отвечал тот. — Я застал его внизу перед замком, когда отужинал с вами; он был одинок и покинут, и я спросил его, чего он дожидается; а он отвечал, что вас и своего чепрака. «А куда лежит путь?» — спросил я. «Туда, куда каждый день ездим», — сказал он. «Я наверное знаю, сказал я, что хозяин твой нынче не выйдет: он пошел спать. Но свези меня туда, куда он обычно ездит, очень тебя прошу». Он согласился, я сел на него, и он привез меня сюда, спасибо ему.
— Пошли бог черный год паскудному скоту, который меня выдал, — сказал добрый сеньор.
— О, вы это честно заработали, монсеньер, — сказала дама, когда дар речи к ней вернулся. — Я отлично вижу, что вы надо мной измываетесь, но знайте — чести вам от того не прибудет. Ежели сами вы больше не хотели приходить, так незачем вам было присылать другого заместо себя. Плохо вас знает, кто сам вас не видал.
— Разрази меня бог! Я его не присылал! — сказал тот. — Но раз он тут, я его прогонять не стану. Да, кроме того, тут на нас двоих хватит. Не так ли, приятель?
— Совершенно верно, монсеньер — отвечал оруженосец, — добыча — пополам. Я согласен. А теперь надо спрыснуть сделку.
И тут повернулся он к поставцу, налил вина в объемистую чашу, там стоявшую, и сказал:
— Пью за ваше здоровье, любезный сотоварищ!
— Отвечаю тем же, сотоварищ! — сказал сеньор и велел налить вина красотке, которая ни за что не соглашалась выпить; но под конец волей-неволей пригубила чашу.
— Ну, ладно, сотоварищ, — сказал благородный рыцарь, — оставляю вас здесь; работайте на славу; нынче — ваша очередь, завтра — моя, с божьего соизволенья. Прошу вас, ежели застанете меня здесь, обойтись со мной столь же любезно, как я с вами.
— Так оно и будет, сотоварищ, видит меня пресветлая богородица! — сказал оруженосец. — Можете в том не сомневаться.
Тут добрый рыцарь удалился и оставил там оруженосца, который в ту первую ночь сделал все, что мог. А затем он объявил даме всю как есть правду о своем приключении, чем она оказалась несколько более довольна, чем ежели бы рыцарь его прислал.
Вот так-то, как вы слышали, была дама обманута мулом и принуждена подчиниться и рыцарю и оруженосцу, каждому в свой черед, к сему она в конце концов привыкла и несла крест со смирением. Но хорошо во всем этом деле было то, что, ежели рыцарь и оруженосец крепко любили друг друга до вышесказанного приключения, то любовь между ними удвоилась после сего случая, который у других, менее разумных, вызвал бы распрю и смертельную ненависть.
Покуда другие будут думать и вызывать в памяти какие-либо происшедшие и случившиеся события, годные и подходящие для присовокупления к настоящему повествованию, я расскажу вам в кратких словах, как был обманут в нашем королевстве самый ревнивый в свое время человек. Я готов верить, что он не один запятнан был этим недугом; но так как у него сие проявлялось свыше положенной меры, то не могу не оповестить вас о забавной шутке, которую с ним сыграли.
Добрый тот ревнивец, о коем я повествую, был превеликим историком, то есть много видал, читал и перечитывал всяких историй. Но конечная цель, к коей устремились его усилия и изыскания, была в том, чтобы узнать и изучить, чем и как и какими способами умеют жены обманывать мужей. И, слава богу, древние истории, как-то «Матеолэ»[164], Ювенал[165], «Пятнадцать радостей брака» и многие другие, коим я и счета не знаю, упоминают о разнообразнейших хитростях, подвохах и надувательствах, в брачном состоянии совершенных. Наш ревнивец с этими книгами не расставался и не менее был к ним привязан, нежели шут к дубинке. Всегда он их читал, постоянно изучал, и из этих же книг для себя сделал небольшое извлеченьице, в коем содержались, значились и отмечались многие виды надувательства, выполненные по почину и по наущению женщин над особами их мужей. А сделал он это на тот предмет, чтобы быть лучше защищенным и осведомленным в случае, ежели его жена, не ровен час, захотела бы воспользоваться ухищрениями, подобными помеченным и перечисленным в его книжке.
Жену свою сторожил он так бдительно, ну прямо как ревнивый итальянец, но и при этом не был совсем уверен: настолько сильно захватил его проклятый недуг ревности.
В таком-то положении и приятнейшем состоянии прожил сей добрый человек года три-четыре со своею супругой, которая только тем и развлекалась, только так и избавлялась от дьявольского его присутствия, что ходила в церковь и из церкви в сопровождении змеюки-служанки, к ней для наблюдения приставленной.
Некий веселый молодец, прослышав молву об таком обращении, повстречал однажды оную добрую даму, которая была и любезна, и собой хороша на славу. Тут он отменнейшим образом изложил ей, как мог, доброе свое желание ей служить, сожалея и сетуя из любви к ней о жестокой судьбине, приковавшей ее к величайшему ревнивцу, какого носит земля, и добавляя на придачу, что она — единственная живая женщина, ради коей он на многое готов.
— А поскольку здесь не могу ни высказать, как я вам предан, ни сообщить много других вещей, коими вы, надеюсь, будете не иначе как довольны, то, ежели дозволите, я все изображу на письме и завтра вам передам, умоляя, чтобы смиренная моя судьба, от чистого и недвуличного сердца исходящая, не была отвергнута.
Она охотно сие выслушала, но из-за присутствия Опасности[166], слишком близко находившейся, ничего не ответила. Все же она согласилась прочитать письмо, когда его получит.
Влюбленный простился с нею, сильно и не беспричинно обрадованный. А дама, по своему обычаю, мило и ласково его отпустила. Но старуха, ее сопровождавшая, не преминула спросить, что за разговор был у нее с только что удалившимся человеком.
— Он привез мне, — ответила дама, — весточку от матери, а я обрадовалась, ибо матушка моя — в добром здравии.
Старуха больше не расспрашивала, и они пришли домой.
Кавалер же на следующее утро, захвативши письмо, бог знает как ловко сочиненное, постарался встретить свою даму и так быстро и шустро вручил ей послание, что стража в образе старой змеюки ничего не заметила. Письмо было вскрыто той, которая охотно его прочитала, когда осталась одна. Суть послания вкратце сводилась к тому, что он захвачен любовью к ней и что нет для него ни единого радостного дня, пока не представится ему время и возможность попространнее ей все изъяснить, а в заключение он умолял, чтобы она по милости своей соизволила назначить ему подходящий день и место, а также любезно дала и ответ на сие письмо.
Тогда она составила послание, в коем весьма отказалась, желая-де содержать в любви лишь того, кому она обязана верностью и неизменностью. Тем не менее, однако, раз он из-за нее столь сильно охвачен любовью и она ни за что не хотела бы, чтоб он остался без награды, то она охотно согласилась бы выслушать то, что он хочет ей сказать, ежели бы то было возможно или мыслимо. Но, увы, это не так: столь крепко держит ее при себе муж, что ни на шаг не отпускает от себя, разве только в час обедни, когда она идет в церковь, охраняемая, и более, чем охраняемая, самой поганой старухой, какая когда-либо досаждала добрым людям.
Этот наш веселый молодец, совсем иначе и роскошнее одетый, чем накануне, вновь встретил свою даму, которая сразу его узнала, и, пройдя довольно близко от нее, принял из ее рук вышеизложенное письмо. Не диво, ежели ему не терпелось узнать его суть. Он свернул за угол и там на досуге и вольной воле увидел и узнал положение своего дела, которое, по всей видимости, была на мази. Посему заключил он, что не хватает ему только удобного места, чтобы довести до конца и завершения похвальное свое намерение, а для исполнения оного не переставал он думать и размышлять денно и нощно, как бы ему сие провести. В конце концов пришла ему на ум хорошая уловка, достойная вековечной памяти.
Он отправился к некой доброй своей приятельнице, жившей между домом его дамы и церковью, в которую та ходила. И этой приятельнице рассказал он безо всякой утайки про свою любовь, прося, чтобы в такой крайности она ему помогла и пособила.
— Ежели я что могу для вас сделать, то не сомневайтесь, постараюсь от всего сердца.
— На том вам спасибо, — сказал он. — А согласитесь ли вы, чтобы она пришла сюда со мною побеседовать?
— Ну что ж, — сказала та, — ради вас соглашусь охотно.
— Хорошо, — говорит он, — если сумею отслужить вам такую же службу, и будьте уверены, что не забуду вашей любезности.
И не успокоился до тех пор, пока не отписал своей даме и не вручил письма, в коем значилось, что «так, дескать, я упросил такую-то великую свою благоприятельницу, женщину честную, верную и не болтливую, которая и вас хорошо знает и любит, что она предоставляет нам свой дом для разговора. И вот что я придумал. Завтра я буду стоять в верхней комнате, что выходит на улицу, а подле себя поставлю большое ведро с водой, испачканной сажей, и опрокину то ведро на вас, когда вы мимо будете проходить. Сам же я буду так переряжен, что ни ваша хрычовка, ни другая живая душа меня не опознает. Когда же вы будете так разукрашены, то сделаете вид, будто опешили, и убежите в дом, а Опасность свою ушлете за новым платьем. Пока она сбегает, мы побеседуем».
Коротко вам сказать, письмо было вручено, и от дамы пришел ответ, что она согласна. Вот настал оный день, и была та дама из рук своего рыцаря облита водою и сажей, так что убор на голове, платье и прочая одежда перепачкалась и насквозь промокла. И бог свидетель, что она отлично притворилась изумленной и сердитой. И в таком облачении бросилась она в дом, будто не чая встретить там знакомых. Едва увидела она хозяйку, как принялась сетовать на свое злоключение, оплакивая то убор, то платье, то косынку; словом, послушать ее, так подумаешь, что конец мира настал. А служанка ее, Опасность, в бешенстве и волнении держала в руках нож и пыталась, как могла, отскрести грязь с платья.
— Нет, нет, милая! Это напрасный труд: этого так сразу не отчистишь; все равно, сейчас ничего стоящего не сделаете; нужно мне новое платье и новый убор — другого лекарства нет. Ступайте же домой и все принесите; да, смотрите, поторопитесь, а то мы в придачу ко всем невзгодам еще и обедню пропустим.
Старуха, видя, что дело это необходимое, перечить госпоже не посмела: сунула платье и убор под плащ и пошла домой. Не успела она повернуть спину, как госпожу ее проводили в горницу, где поджидал поклонник, с радостью увидевший ее простоволосой и в исподней юбке.
Ну-с, покуда они станут беседовать, мы вернемся к старушке, которая пришла домой, где застала хозяина; а он, не дожидаясь ее речей, незамедлительно вопросил:
— Куда вы девали мою жену? Где она?
— Я оставила ее, — отвечала та, — у такой-то в таком-то месте.
— А на какой предмет? — спросил он.
Тут показала она ему платье и убор и рассказала все происшествие с ведром воды и с сажею, говоря, что она пришла за переменой, ибо в таком виде госпожа ее не решается выйти оттуда, куда зашла.
— Вот оно что? — сказал он. — Матерь божия! Этой уловки нет в моем сборнике! Ладно, ладно, я уж вижу, что здесь такое.
Он едва не сказал, что у него рога выросли; и именно в то самое время они и росли, можете мне поверить. И не спасла его ни книга, ни реестр, куда немало проделок было записано. И надо думать, что эту последнюю так хорошо он запомнил, что никогда не исчезла она из его памяти и не было ему никакой нужды на сей предмет ее записывать, так свежо было о ней воспоминание во все последующие дни недолгой его жизни.
Молодые люди охотно пускаются в странствия, и весело им наблюдать да и самим гоняться за мирскими приключениями. И вот в Ланской земле[168] тоже был недавно крестьянский сын, который с десяти до двадцати шести лет все время скитался по чужим землям. И со времени его ухода до самого возврата ни разу отец с матерью не имели от него вестей, так что зачастую приходило им в голову, будто его уже нет и в живых.
После все ж таки он объявился, и один бог знает, какая настала в доме радость и как по случаю возвращения потчевали его из тех малых благ, что господь им отпустил. Но хоть многие были рады его видеть и всячески его чествовали, все же лучше всех его принимала и особливо радовалась его приходу бабушка, мать его отца. Она поцеловала его больше пятидесяти раз и не переставала славословить господа, вернувшего им милого отпрыска и возвратившего его в столь добром здравии. После обильного сего угощения наступило время ложиться. Но во всем доме было только две кровати: одна — для отца с матерью, другая — для бабки. Посему приказали родители, чтобы сын спал с бабушкой, чему она чрезвычайно обрадовалась; он же охотно бы от этого отказался, но послушания ради согласился потерпеть эту ночь.
И вот покуда он лежал подле бабки, не знаю, что его укусило, но только он на нее взгромоздился.
— Что ты делаешь? — спрашивает она.
— Не ваша забота, — отвечает он, — знайте молчите. Увидев, что он в самом деле собирается над ней орудовать, принялась она причитать что было мочи и звать сына, спавшего в соседней горнице. Затем встает она с постели и, жалобно плача, идет к нему жаловаться на внука. Тот, выслушав жалобу матери и узнав о нечеловеческом поступке сына, вскакивает на ноги в великом гневе и злобной ярости и грозится его убить. Сын, слыша такую угрозу, берет ноги в руки и — драла. Отец — за ним, по только без толку: сын-то был легче на ногу. Видя, что это напрасный труд, вернулся он домой и застал мать горько сетующей на обиду, которую претерпела она от его сына.
— Не печальтесь, матушка, — говорит он ей, — я сумею за вас отомстить.
Не знаю, сколько дней спустя наткнулся отец на сына, игравшего в мяч посреди города Лана. И едва он его замечает, как выхватывает добрый кинжал, идет на него и хочет его тем кинжалом проткнуть. Сын увернулся, а отца удержали. Некоторые из бывших там хорошо знали, что это отец и сын, и один из них сказал сыну:
— Послушай-ка, чем это ты перед отцом провинился, что он хочет тебя убить?
— Ей-богу, ничем, — отвечает тот. — Он так неправ, что хуже и быть не может. Он желает мне всякого зла, какое может быть на свете, за один-единственный разок, что я хотел прокатиться верхом на его матери; а он на моей больше пятисот раз скакал, и я никогда словечка не молвил.
Все, слышавшие сей ответ, от души посмеялись и сказали, что он честный человек. И постарались они при этом случае помирить его с отцом и так тут потрудились, что уладили дело, и все было прощено и с той и с другой стороны.
Не так давно в некотором городке нашего королевства, в герцогстве Овернском жил дворянин; и, на свое несчастье, был он женат на женщине молодой и очень красивой. О ее добродетели я и поведу рассказ. Эта добрая дама подружилась со священником, жившим по соседству в полумиле оттуда, и стали они такими добрыми соседями и приятелями, что любезный пастырь замещал дворянина всякий раз, как тот уходил со двора.
А была у той дамы горничная девушка, во всех ихних делах поверенная, которая частенько носила священнику весточки и осведомляла его о месте, часе, куда и когда ему являться к барыне. Но в конце концов дело это не так было скрыто от людей, как требуется, так что некий соседний рыцарь, родич обесчещенного мужа, был о том оповещен и сам по мере своего уменья и разуменья оповестил того, кого это ближе всего касалось.
Сами понимаете, что сей добрый рыцарь не очень обрадовался, услышав, как жена в его отсутствие утешается со священником, и, ежели бы не тот родич, он жестоко и собственноручно отомстил бы попу, едва только о том проведал. Теперь же, однако, он согласился повременить с местью, покуда не накроет их обоих с поличным. И порешили они с тем родственником пойти на богомолье за четыре или за пять лье от дома и повести с собой жену и священнослужителя, дабы посмотреть, как они станут друг с дружкой обходиться. По возвращении из сего паломничества, во время коего отец иерей нес любовную службу по мере сил и возможности, сиречь с помощью нежных взглядов и прочих таких мелочишек, муж подослал подставного гонца, якобы приглашавшего его к какому-то местному сеньору. Он притворился, будто сильно недоволен и уезжает с сожалением; но раз, мол, добрый этот сеньор его приглашает, то он, дескать, не смеет ослушаться. Вот собирается он в путь и уезжает, а другой дворянин, его друг, его родич, говорит, что составит ему компанию: он-де едет домой, и ему с мужем почти что по дороге.
Отец настоятель и барынька, услыхав эту новость, обрадовались, как никогда в жизни. И вот они порешили промеж себя и уговорились, что священник распростится и уйдет со двора, дабы никто в доме не возымел на него подозрения, а затем, около полуночи, вернется и войдет к своей даме обычным путем. И немедленно после сего уговора наш священник уходит и откланивается.
А надо вам знать, что муж с тем дворянином-родичем засели в некой ложбине, через которую нашему священнику надлежало пройти и туда и обратно; никак не мог он ее миновать, чтоб не слишком отойти от прямой дороги. Они видали уходившего попа, но сердце им подсказало, что ночью он вернется туда, откуда пришел; да таково и в самом деле было его намерение. Они пропустили его, не остановив и не сказав ни слова, а сами надумали соорудить великолепную западню с помощью нескольких крестьян, которые услужили им как надо. Эта ловушка вскоре была устроена хорошо и прочно, и немного спустя поймался в нее пробегавший там волк. Сейчас же вслед за ним является отец иерей в коротком платье, с крепким копьем на плече. И, дойдя до места, где была ловушка, провалился он в нее и оказался там вместе с волком, чем сильно был озадачен. Волк же, обновивший ту ловушку, испугался священника не меньше, чем тот его.
Наши два дворянина, видя, как наш священник присоединился к волку, обрадовались донельзя. И молвил тот, кого дело ближе касалось, что живым попу оттуда не выйти и что он там же его прикончит. Другой бранил его за такое желание и не хотел допустить убийства, а довольствовался тем, чтоб отрезать преступнику детородные части. А муж не унимался и настаивал на смерти. В таком пререкании провели они немало времени, дожидаясь, пока рассветет и наступит день.
Покуда длилось это ожидание, дама, тоже поджидавшая своего духовного отца, не знала, что и думать о таком его промедлении. Посему решила она послать к нему свою девушку, чтоб его поторопить. Служанка двинулась по дороге к церковному дому, наткнулась на ловушку и провалилась в нее, подобно волку и священнику.
— Ох, — сказал священник, — я пропал! Дело мое раскрыто. Кто-то подстерег нас на пути.
А муж и его родич, все слышавшие и видевшие, были так довольны, что больше и быть нельзя. И подумали про себя, словно по наитию святого духа, что барыня, весьма возможно, последует за служанкой, ибо они слышали, как девушка говорила, что хозяйка послала ее к священнику узнать, почему это он так запаздывает против уговоренного промеж них срока. Хозяйка же, видя, что священник и служанка долго не возвращаются и уже начинает светать, заподозрила, как бы девушка и поп не сделали кое-чего в нарушение ее прав (ибо легко им было уединиться в лесочке подле того места, где была вырыта западня), и порешила пойти на разведки. Вот она пускается в путь по направлению к церковному дому и, дойдя до ловушки, катится в яму, как и все прочие. Невозможно сказать, кто из всей компании был более озадачен, когда они очутились вместе, но только всяк силился вызволиться из ямы, однако ничего у них не вышло: все уже почитали себя мертвыми и обесчещенными.
А оба виновника, то есть муж дамы и дворянин, его родич, подошли к яме, приветствовали все собравшееся общество и кричали им, чтоб они веселились и готовили себе завтрак. Муж, у которого до смерти чесались руки, ухитрился отослать сродственника посмотреть лошадей, которых они оставили неподалеку в каком-то доме. Едва избавившись от него, он не без труда натаскал множество соломы, сбросил ее в яму и поджег. И сгорело там все общество: жена, священник, служанка и волк. После этого он уехал из страны и послал к королю с просьбой о помиловании, каковое получил без труда. А иные передавали, будто король сказал, что жаль только сожженного волка, который в грехе остальных был неповинен.
Один монах, находясь в пути, зашел вовремя ужина в харчевню. Хозяин усадил его с другими проезжими, которые успели изрядно закусить, и наш монах, дабы догнать их, принялся уписывать свой ужин за обе щеки с такой жадностью, словно он не видал хлеба целых три дня. Для большего удобства он снял с себя все облачение до фуфайки. Обратив на это внимание, один из сидевших за столом принялся задавать ему разные вопросы. Монаху это весьма не нравилось, ибо он был занят ублажением своей утробы, и, чтобы не терять времени, он стал давать краткие ответы, в которых, я полагаю, он упражнялся раньше, ибо отвечал весьма точно. Вот в чем состояли вопросы и ответы:
— Какую вы носите одежду?
— Клобук.
— А много в вашем монастыре монахов?
— Очень.
— Какой вы едите хлеб?
— Черный.
— Какое вы пьете вино?
— Светлое.
— Какое мясо вы едите?
— Говяжье.
— Сколько у вас послушников?
— Девять.
— Как вы находите это вино?
— Добрым.
— Вы не пьете такого?
— Нет.
— А что вы едите по пятницам?
— Яйца.
— А сколько их полагается на брата?
— Два.
Таким образом он отвечал на все вопросы, ни разу не оторвавшись от еды. Если он так же кратко читал свои утренние молитвы, то, надо полагать, он был хорошей опорой церкви.
Вот послушайте, пожалуйста, что приключилось намедни с простоватым, но богатым деревенским попом, который из-за простоты своей внес своему епископу пеню в пятьдесят добрых золотых экю.
У этого доброго пастыря был пес, которого он сызмальства вскормил и при себе держал и который всех собак своей округи превосходил в искусстве бросаться в воду за палкой или приносить шляпу, когда хозяин ее забывал или где-нибудь оставлял нарочно. Одним словом, во всем, что хороший и умный пес должен знать и уметь, он собаку съел. И по этому случаю хозяин так его любил, что трудно даже рассказать, какое это было обожание.
Случилось, однако же, невесть по какой причине (то ли он перегрелся, то ли перезяб, то ли поел чего-нибудь такого себе не на пользу), что пес этот сильно захворал и от той хвори околел и из сей юдоли прямехонько отправился в собачий свой рай.
Что же сделал добрый пресвитер[171]? Дом его, то есть церковный дом, стоял под самым кладбищем, и вот, видя что пес его от сего мира преставился, не счел он возможным такую умную и добрую животину оставить без погребения. А посему вырыл он яму неподалеку от своей двери, которая, как сказано, выходила на кладбище, и там закопал его и схоронил. Велел ли начертать на оном эпитафию, — этого не знаю, а потому молчу.
Немного времени прошло, как весть о кончине доброго поповского пса разнеслась по деревне и окрестным местам и так распространилась, что дошла до ушей местного епископа вкупе со слухом о христианском погребении, устроенном хозяином. Посему вызвал епископ того священника к себе повесткою, которую вручил какой-то приказный.
— Увы! — сказал поп приказному. — Чем я погрешил и кто меня вызывает? Ума не приложу, что суду от меня нужно.
— Ну, а я-то, — отвечал тот, — и вовсе не знаю, в чем тут дело; разве только в том, что вы зарыли своего пса в святом месте, куда опускают тела крещеных людей.
«Ах, — подумал священник, — вот оно что!»
Тут впервые пришло ему на ум, как неладно он учинил, и сказал он себе, что дело его плохо и что ежели он даст себя засадить в тюрьму, то быть ему ободранным как липка, ибо монсеньер епископ, слава тебе, господи, самый жадный прелат во всем нашем королевстве, да и есть при нем такие люди, которые умеют качать воду на его мельницу бог знает как.
«Итак, придется мне раскошелиться; так уж лучше раньше, чем позже».
Он явился в назначенный срок и прямехонько направился к монсеньеру епископу, который, едва его завидев, прочел ему длинную рацею по поводу христианского погребения собаки и так чудесно расписал его казус, что казалось, будто наш священник меньше согрешил бы, ежели бы прямо отрекся от бога. И под конец всех своих речей приказал он отвести священника в узилище. Когда наш поп услыхал, что его хотят бросить в каменный мешок, он попросил, чтоб его выслушали, и монсеньер епископ дал на то согласие. А надо вам знать, что при сем разбирательстве присутствовало множество важных особ, как-то официал[172], промоторы[173], письмоводители, нотарии[174], стряпчие, и прокуроры, и многие другие, радовавшиеся необычайному случаю с бедным попом, который пса своего предал освященной земле.
Священник же в защиту свою и оправдание говорил кратко и молвил:
— Поистине, ваше преосвященство, ежели бы вы, как я, знали доброго моего пса (упокой господи его душу), то вы не столь изумились бы похоронам, которые я ему устроил, ибо равных ему не было и никогда не будет. — И тут начал он рассказывать про пса чудеса в решете: — И ежели был он добр и разумен при жизни, то столь же и более того отличился после смерти, ибо составил превосходное завещание и, между прочим, сведав о вашей нужде и скудости, отписал вам пятьдесят золотых экю, каковые я вам ныне принес.
Тут вытащил он их из-за пазухи и передал епископу, который охотно их принял и тут же одобрил мудрость доблестного пса, равно как и духовное его завещание и учиненное ему погребение.
Нет истории правдивее той, что произошла однажды в городе Перпиньяне[178]. Жил там богатый торговец сукном и прочими товарами, женатый на весьма красивой молодой женщине, и они очень любили друг друга. Так вот, в их доме служил юноша двадцати двух лет от роду или около того, а жил он у своих хозяев с малого возраста. Звали его Пьер, и надо вам знать, что этот слуга Пьер без памяти влюбился в свою госпожу, но никак не мог осмелиться и признаться в любви, которую он чувствовал к ней. Так что спустя некоторое время он даже сделался болен от несчастной любви. Никто об этом не догадывался, так как он никому и никогда не жаловался.
И вот, прогуливаясь однажды по городу, чтобы развеять меланхолию, овладевшую им, встретил он одну старуху, давнюю свою знакомую. И она с ним ласково поздоровалась, спросила, как он поживает, и пригласила его к себе домой. А введя его в дом, давай допытываться, что с ним. Тогда отвечал ей Пьер:
— Уж поверьте мне, добрая душа, что я в жизни не был так болен, как нынче, и даже не знаю, отчего это мне так худо.
Старуха пощупала ему пульс и нашла, что юноша в добром здравии. Тут она ему говорит:
— Ах, Пьер, мой дружок, вот теперь я знаю, где сидит ваша хворь. Уверяю вас, что вам неможется не от чего иного, как от любви!
— Ах, как же, — спрашивает Пьер, — вы это угадали? Голову даю на отсечение, что все верно.
— Да уж куда вернее, — говорит старуха, — у меня глаз зоркий, а вот теперь скажите мне, по ком это вы вздыхаете?
— Господи, боже мой, — вздохнул Пьер, — да что толку, ежели я и назову ее, — разве вы мне поможете?!
— Пресвятая мадонна, — говорит старуха, — а я о чем вам толкую? Я уж стольким помогла и такие дела устраивала, — не чета вашему. Так что уж говорите, кто это, и дело с концом!
— Да что ж тут скажешь, — говорит Пьер, — не кто иной, как хозяйка моя.
— Святая Мария, — воскликнула старуха, — только и всего?! А ну, скажите, Пьер, дружочек, сколько бы вы дали тому, кто устроил бы ваше дело?
Отвечал Пьер:
— Да сколько вам будет угодно.
— Ну, так и не печальтесь ни о чем, — говорит старуха, — давайте-ка поужинаем с вами повкуснее да пожирнее, и я обещаю, что пришлю сюда вашу хозяйку сразу после ужина, а там уж действуйте половчее, как сами знаете, и договаривайтесь с нею о чем угодно.
— Святой Жеан! — обрадовался Пьер. — На это-то я согласен и очень этого желаю, а вот и деньги, да готовьте поскорее ужин!
Тогда отправилась старуха за покупками для ужина и приготовила отменные блюда, а еще добавила к тому пинту ипокраса[179], потому что сухая ложка рот дерет.
Так вот, надо вам знать, что пока готовился у старухи ужин, она отправилась к хозяину Пьера и застала его в лавке. Почтительно с ним поздоровавшись, она спросила, как он поживает. На что он отвечал ей, что хорошо, мол, вашими молитвами.
— А на это, мессир, скажу вам, что я молю у господа милости и благодати для всех упокоящихся и для нас, когда придет наш черед. Я ведь знала покойных ваших родителей — достойные были люди. И как же они привечали меня, когда я приходила к ним в дом!
На что отвечал ей купец:
— Да, госпожа моя, вы правду говорите, они были весьма достойные люди.
— Ну, мессир, а как поживает ваш слуга Пьер? — спрашивает старуха.
— Ах, поверите ли, я весьма им озабочен, — говорит купец, — что-то он занемог совсем.
— Верно, верно, — говорит старуха, — а знаете ли, отчего я о нем речь веду? Ведь он сейчас лежит в моем доме совсем больной. Проходил мимо наших дверей, да и упал замертво, так что я и мои соседи подумали было, что он вот-вот богу душу отдаст, по он все же отдышался. Оттого я и пришла к вам сказать, что хорошо, кабы вы послали за ним кого-нибудь. Не то чтобы он мне мешал в доме, — боже упаси! Да я бы ему ничего не пожалела в память о покойных его родителях, — уж такие славные были люди, что для их сына все отдай и будет мало!
— А и впрямь, — говорит купец, — надо бы его привести сюда, а мы уж за ним поухаживаем, как за родным сыном.
И он позвал свою жену и велел ей отправиться в дом к этой почтенной женщине и проследить, чтобы Пьер — верный его слуга — был переведен к нему в дом. И велел ей пойти туда тотчас же после ужина. Старуха тогда распрощалась с ними и, придя к Пьеру, рассказала ему, как она провернула дело. Тут сели они вдвоем ужинать и отменно угостились, оросив трапезу купленным ипокрасом, и пришли в то прекрасное расположение духа, когда сам черт не брат.
После ужина старуха и говорит Пьеру:
— Знаете ли что? Я устроила так, что хозяйка ваша придет навестить вас сразу после ужина, — я оставлю вас наедине, и вы милуйтесь сами, как сумеете.
На том они и порешили.
Дама, хозяйка Пьера, прибывает и спрашивает, где лежит ее слуга. Старуха отвела ее в комнату, где он находился, и затем оставила их вдвоем. Тогда приблизилась дама к кровати, взяла Пьера за руку и, пощупав ему пульс, нашла, что юноша здоров и жара у него нет. Тогда она стала его расспрашивать, что с ним и отчего ему неможется.
— Ох, и не спрашивайте, госпожа моя, все у меня болит, и, видно, пришел мой смертный час.
— Да что вы, Пьер, — говорит дама, — неужто нет никакого лекарства от вашего недуга?
— Увы, — говорит Пьер, — только вы можете меня вылечить.
— Да как же это? — спрашивает она.
— Господи боже, — отвечает Пьер, — я ведь вас, хозяйка, так люблю, что прямо вам скажу: коли вы меня не пожалеете, я умру!
— Ну и ну! — говорит она. — Вот так ужасная болезнь! Но скажите же мне, Пьер, как это вы решаетесь нанести такое бесчестье вашему хозяину?
— Да ведь он, — говорит Пьер, — об этом никогда не узнает!
— Как знать! — отвечает она. — Да вправду ли вы меня так сильно любите, как говорите?
— От всего сердца! — отвечает Пьер.
— Тогда вот что я вам скажу, Пьер, — раз уж вы уверяете, что так любите меня, я не хочу, чтобы вы горевали понапрасну. Вы знаете дом и мою комнату, так вот, приходите к нам вечером, около десяти часов, а горничная будет вас ждать. И когда вы придете, закройте двери, а горничную отошлите спать и идите прямо в мою спальню. Вы найдете дверь открытою; проберитесь за кровать, и там я буду вас тихонько ждать.
Очень обрадовался Пьер таким прекрасным речам, и обнял свою хозяйку, и поцеловал ее пять или шесть раз на прощание, после чего она вернулась домой. А Пьер не стал спать и все прислушивался, когда же пробьет десять часов, и был он в такой решимости, как никогда в жизни. Вот пробило десять, и наш молодец встал и отправился к дому своего хозяина и, конечно, нашел дверь отворенною, как и было условлено. Он запер все, как обычно, и отослал горничную спать. Затем отправился он в спальню своей хозяйки и, открыв дверь, пробрался за кровать прямо к своей милой, которая его уже ожидала. Тут он давай ее целовать и прижиматься к ней весьма нежно, а она хвать его крепко за руку обеими руками, а ногой толкает своего мужа так сильно, что он просыпается. И она его спрашивает:
— Как же это, мой друг, вы всё спите да спите?
— А что ж, — говорит он, — когда ж еще и спать, как не теперь?
— Ну конечно, — говорит она, — но я хочу с вами немного потолковать. Скажите-ка мне, пожалуйста, что вы любите больше всего на свете?
— Вот уж действительно, — удивился супруг, — ничего себе вопрос в такой-то час!
— Да скажите же мне все-таки, мой друг, — говорит она. Тогда отвечает ей добряк:
— Больше всего на свете я люблю господа нашего.
— Ну хорошо, — говорит она, — а помимо господа нашего кого любите вы более всего на свете?
— Ах, душенька, — отвечает муж, — да вас же!
— А после меня, — не унимается она, — кого вы любите больше всего?
— Пьера, нашего слугу.
— Ах, несчастный, — говорит тогда дама, — да ежели бы вы его получше знали, вы бы так не говорили!
А бедняга Пьер как услышал, что толкуют о нем, так опешил и давай тянуть да дергать свою руку, но хозяйка держала крепко, и ему никак было не вырваться.
— Да что же это, — удивился добряк-хозяин, — отчего вы это так о нем? Я вас уверяю, душенька, что у меня в жизни не бывало лучшего слуги!
— Ах, мой друг, — говорит его жена, — вы ведь всего не знаете, и я вам клянусь именем господним, что скажу сейчас всю правду, как на духу. Как известно, слуга ваш Пьер сильно занемог, но недуг-то его был любовный. И когда я пришла в дом той почтенной женщины, куда вы меня послали, он мне признался в любви и сказал, что хочет со мною спать. И чтобы над ним подшутить, а заодно испытать его, я обещала сегодня ждать его в саду за нашим домом около полуночи, хоть и знаю, что не следовало мне так поступать. Так вот, мой друг, я вас прошу, берите-ка мою юбку, платье да накидку, наденьте все это и ступайте в сад вместо меня. Да прихватите с собой большую палку и хорошенько отделайте наглеца!
— Ну, уж не беспокойтесь, — говорит хозяин, — я ему покажу!
Надел он одежду своей половины и отправился в сад подстерегать Пьера. И незамедлительно за тем, как он вышел, дама встала и накрепко закрыла за ним двери. Тут Пьер и взял в работу свою хозяйку, и одному богу ведомо, чего только они не творили битых полтора часа. А простак муж в это время топтался в саду, пока его работу делали за него. Наконец является в сад Пьер с двухаршинной палкой, — само собой, ему хорошенько растолковали, на что ее употребить, — и, набежав на своего хозяина, поднимает крик:
— Ах ты, шлюха, ах ты, распутница! Так вот ты из каковских! Я и не думал, что ты сюда явишься, — я тебя звал только затем, чтобы испытать, какая ты верная жена, — и вот так-то ты блюдешь честь моего хозяина, моего доброго, честного хозяина! Да я сейчас, клянусь богом, тебя так разукрашу, что живого места не останется!
И давай мочалить палку об спину своего хозяина, притворившись, что принимает его за хозяйку. А хозяин ну улепетывать и укрылся в своей комнате. Пьер же перескочил через ограду и вернулся ночевать к старухе. Вот приходит хозяин в спальню, и жена у него спрашивает, был ли Пьер в саду, как обещал.
— Был ли он в саду?! — стонет муж. — Еще как был! Все кости мне переломал!
— Иисусе! — говорит наша дама. — Да как это, мой дружочек?
— Ах, душенька, — отвечает ей супруг, — тут совсем не то, что вы подумали. Он меня обругал шлюхой и распутницей и так расчехвостил, что и впрямь только шлюхе впору, — ведь он думал, что это вы. Уж и не знаю, как мне удалось удрать от него.
— Как, — говорит дама, — а я сочла, что он хочет учинить мне бесчестье!
— Святой Жеан, — отвечает ей муж, — забудьте и думать об этом, душенька, он не из таковских.
И долго еще он растолковывал жене что к чему, о чем здесь нет нужды рассказывать.
Назавтра утром встал Пьер и отправился прямо в лавку своего хозяина и приветствовал его так:
— Здравствуйте, хозяин, дай вам бог удачи!
— И вам также, Пьер, — отвечает хозяин, — ну, как, вылечились ли вы от своей болезни?
— Слава богу, — говорит Пьер, — прошел мой недуг, все как рукой сняло. А теперь я хотел бы потолковать с вами, хозяин, если вам угодно.
— Ну, послушаем, — говорит хозяин, — что же вы хотите?
— Хозяин, — говорит Пьер, — вы знаете, я уж давно служу в вашем доме и никогда не требовал с вас платы за работу. Так вот, хочу я просить, чтобы вы разочлись со мною как положено, потому что собрался я уходить подальше отсюда.
— Да отчего же, — спрашивает купец, — вы хотите от нас уйти? Что до денег, так я вам всё отдам, а затем живите у нас и дальше!
— Ох, сказать по правде, хозяин, лучше вас мне не найти, — отвечал Пьер, — но что же делать, коли вам так с женой не повезло? Вы-то небось ее за порядочную считаете, а она ведь как есть шлюха!
И давай ему рассказывать с начала до конца, как он вызвал в сад свою хозяйку и как крепко ее поколотил. Тогда и сказал ему торговец:
— Пьер, друг мой, вы ошиблись, ваша хозяйка — самая честная женщина, какую только можно сыскать отсюда до Рима. И чтобы вас в том убедить, признаюсь, что это не она, а я был в саду в ее одежде, в которой она меня туда послала, и что это меня вы так отделали.
— Ай-ай-ай, хозяин, — закричал Пьер, — простите меня, ради бога, я ведь не знал! Да как же вы-то мне не открылись?!
— Ну, сделанного не поправишь, — отвечал купец, — что было, то было, и забудем об этом.
Затем рассчитался он с Пьером и составил новый договор, и Пьер снова зажил в доме, управляя всем, а особенно хозяином с хозяйкой, да так, что, если бы даже хозяин застал Пьера на своей жене, он бы и тогда промолчал, — уж очень он его любил!
Дабы продолжить наши новеллы, расскажем вам, как в Сантьяго-де-Компостелла[181] сошлось однажды множество богомольцев, а среди них были четверо из Парижа, и держались они особняком. Так вот, один из них был не то адвокат, не то прокурор, второй — сержант, третий — мельник, а четвертый — портной. И так как сошлись вместе их дорожки, то и завязались у них разговоры о том, о сем, да почему очутились они в Сантьяго, и у кого какие грешки. Вот, между прочим, и говорит адвокат:
— Господа, знаете ли что? Мы тут находимся частным образом, да, кроме того, все земляки, и я не буду ничего от вас скрывать. Сознаюсь вам откровенно во всех обманах, что я допустил в своих речах и тяжбах против многих бедных людей. Бывало, вот-вот они, кажется, выиграют процесс, а я поверну дело так, что сам черт не разберет, кто истец, а кто ответчик, — и, глядишь, процесс в нашу пользу. Много я пограбил бедняков и забирал у них денег вдвое больше, чем мне причиталось. И столько я чинил беззаконий, что их и перечесть невозможно. А потому мой исповедник обязал меня творить отныне добрые дела за все содеянное зло и велел мне, ежели будет возможно, вложить деньги в сооружение какой-нибудь красивой часовни. PI я дал обет, что вложу в эту часовню все, мною награбленное.
Тогда говорит сержант:
— Господа, знаете ли что? Сдается мне, что среди нас четверых нет подлее меня, столько я бесчинствовал и жульничал. Я несправедливо и без всякой на то причины обвинял людей и сажал в тюрьму тех, кто ни сном ни духом виноват не был, и порол бедняков направо и налево, а их добро утаивал от казны и удерживал для себя. И столько я обманывал, мошенничал, столько обирал и грабил что богатых, что бедных, — прямо уж и не знаю, как меня земля-то носит. Рассказал я это на исповеди, — само собой, не все, всего не скажешь, — и обещался сделать доброе дело, а потому и решаюсь, коли вы согласны, потратить мои денежки на постройку часовни, о которой вы говорите.
— В добрый час, — отвечал адвокат, — прекрасно сказано, и я весьма доволен!
— Ну, и я, — сказал тогда портной, — расскажу вам все без утайки. Многонько наворовал я материй, так как если давали мне пять локтей сукна на платье, то уж я его кроил не больше, чем из четырех, то же было и с бархатом и с атласом, с дама[182] и эскарлатом, да и не перечесть, сколько шерсти и шелков прошло через мой руки! И какую бы одежду я ни шил, непременно я выкраивал оттуда себе лоскут. Правду сказать, я с этого дела наворовал в свое время на тысячу экю, а то и побольше. И в том я исповедался, так же, как и вы, и такую же наложили на меня епитимью, так что я с радостью уделю от своих сбережений немалую толику, чтобы вместе с вами строить часовню.
— Что правда, то правда, — сказал мельник, — и я, со своей стороны, буду в четвертой части, потому как наворовал столько зерна за свою жизнь, что чудеса, да и только. Мне хоть буасо[183] зерна на помол принеси — я и оттуда ухитрюсь урвать. И за то обязуюсь войти в долю, чтобы строить часовню.
Так все четверо и договорились, что будут воздвигать часовню. И, будучи уже недалеко от Парижа, стали они решать, где же эта часовня должна быть выстроена. Адвокат желал, чтобы стояла она подле здания суда, и сержант — также, портной хотел ее строить около своего дома, а мельник — близ мельницы. Каждый, как говорится, тянул в свою сторону. Тогда заговорил портной:
— Послушайте, господа, что я вам предложу. Есть у меня собака — умней и забавней ее на всем свете не сыщешь. А вот и сворка, на которой я держу ее; давайте-ка все четверо завяжем глаза и будем держаться за сворку, а собаку пустим вперед, и там, где она остановится, там и стоять нашей часовне.
На что все четверо согласились и, завязав глаза, пустили собаку бежать впереди, а сами шли за нею. И собака долго бежала, нигде не останавливаясь, но наконец стала.
— Что ж, господа, — сказал адвокат, — вот нам и место для нашей часовни. Как мне кажется, собака больше с места не трогается, — развяжем же смело глаза!
И тут все четверо разом сняли свои повязки, и увидали они, что стоят под Монфоконом — виселицей города Парижа. Изрядно же были они удивлены, увидевши, в каком распрекрасном месте приходится им строить часовню! И так будет со всеми вороватыми и недобрыми прево, судьями и адвокатами, сержантами, мельниками и прочими мошенниками, которые без зазрения совести грабят и притесняют простых людей. Их часовням место на Монфоконе, под виселицей, и не смотрите, что не принято вешать судей и адвокатов. Всех их ждет петля в аду, и пусть ведомо будет это тем, кто дерет три шкуры с бедняков!
Случилось так, что в провинции Шампань-ле-Труа, в местечке, называемом Бреен, проживал трактирщик — почтенный человек, державший таверну и хороший постоялый двор. И была у него молодая красивая служанка, весьма здоровая и расторопная, которая заправляла всем домом, а звалась она Николь. Что вино, что хлеб — все проходило через ее руки. И надо вам знать, что было в доме еще несколько слуг, — каждый по своему делу, — и слугам этим не часто доводилось пробовать винца, если только они к нему тайком от хозяев не прикладывались, так как не принято в той местности, чтобы слуги пили вино.
Между этими слугами был один молотильщик зерна, балагур и весельчак по имени Жакино, и вина ему доставалось не больше, чем всем прочим. Этот Жакино был со всем домом на короткой ноге, а заодно слегка приударял за красоткой-служанкой Николь, что была, как вам уже известно, домоправительницей. И среди многих ее воздыхателей был еще один, который влюбился в нее без памяти, так что ее родители и друзья с ним ее сговорили. И так у них быстро пошло дело, что вскорости они и обручились. И этим наш молотильщик Жакино был весьма опечален, — еще бы, его милая обручилась с другим! — да что тут поделаешь!
Спустя некоторое время после помолвки этот молотильщик зерна Жакино и служанка Николь болтали, повстречавшись, о разных делах. И тут давай Жакино над Николь причитать:
— Ах, Николь, бедняжка Николь, и сдуру же ты замуж идешь! Не сказать, как я опечален твоей бедой! Ну, как ты с мужем-то будешь жить, несчастная, — ведь замучаешься да замаешься ты с ним вконец. Ну, сама посуди, — полюбил ли бы он тебя, знай он твою дурость? Да начать с того, что ты ничегошеньки не знаешь, не ведаешь, — ведь ты с мужчиной-то никогда не спала! Тебе небось и невдомек, чем занимаются жены с мужьями, а тебя замуж несет! Да он тебя что ни день будет так колотить, что никакого терпения не станет, — и помрешь ты от этого раньше срока. Я тебе так скажу: тот, кто тебя замуж толкал, видать, совсем сбрендил, а мне вот тебя страсть как жалко, потому что я тебя знаю давно, и люблю, и счастья желаю, как самому себе.
Когда девица Николь все это выслушала, стала она ему говорить:
— Жакино, миленький, если ты что-то знаешь, что я должна с моим мужем делать, расскажи мне, прошу тебя, — я ведь вижу, что ты мне добра и счастья желаешь. Так посоветуй же мне, дружок, как мне с ним лучше поладить!
Тут Жакино ее спрашивает:
— Ну, вот, к примеру, голубушка Николь, что ты сделаешь, когда ляжешь с мужем в первую ночь, с чего ты начнешь, чтобы с ним слюбиться?
— Ах, батюшки, — отвечает она, — да я не знаю.
— Вот то-то и штука, — говорит он, — оттого и пробежит меж вами черная кошка — тут и начнется тебе колотежка!
— Так как же мне быть? — спрашивает Николь. — Как заслужить его любовь?
— Святой Жеан! — говорит Жакино. — Я бы тебе показал, что да как, а тебе надо бы покрепче мой урок запомнить.
— Ну, так покажи, — просит Николь, — дай мне урок-то! А уж я тебе за это каждый день буду ставить стаканчик!
— Черт подери! — это Жакино ей. — Без монет и науки нет! Ишь ты — покажи ей да расскажи! Думаешь, я этому выучился за пятак да за так?! Нет, вот ты мне приплати — будет тебе и наука и обучение, все честь по чести!
— Ах ты, господи! — закручинилась девушка. — Жакино, голубчик, много-то я заплатить не смогу, но все, что есть у меня, я тебе отдам, лишь бы ты научил меня хорошенько, как мне поладить с моим муженьком!
— Ну, ладно, — говорит Жакино, — сколько там у тебя в кошельке?
— Да у меня есть сто су, — отвечает она, — а больше нет, но эти сто су будут твои, а еще я тебе обещаю, что всякий раз к завтраку, обеду, полднику и ужину я буду тебе выставлять полный стакан самого лучшего вина за твою мне услугу.
Тут Жакино понял, что девица на все готова, и, поломавшись еще немного, согласился и взял у нее сто су. После чего сказал:
— Ну, вот что, Николь! Чтобы хорошенько усвоить тебе мою науку, надо бы нам спрятаться вдвоем, — в таком деле, знаешь ли, лишний глаз — не для нас, а потому давай-ка пойдем на чердак, там и сено есть, там я тебя и обучу всему, что тебе требуется.
И отправились они вдвоем на чердак. Тут и давай Жакино показывать Николь, что да как нужно делать, да так уж старался, что и сам разнежился и сладким голосом ей нашептывал:
— Послушай, Николь, я тебе поддам разок, а ты мне вдвойне, дружок, и не ленись, а шевелись скоро да споро. Да так вывернись, чтобы у тебя под мягким местом отборный заяц смог пробежать. Вот так и постигнешь мою науку.
И так уж усердствовала Николь, что Жакино остался весьма доволен ученицей, а затем после этого первого урока они расстались. И надо вам сказать, что Николь сдержала слово и наливала Жакино винца к каждой трапезе, да и он, со своей стороны, обучал ее на совесть. И дабы получше усвоить его науку, наша девица желала обучаться как можно чаще, так что Жакино начал уже призадумываться. И не без причины, потому что она то и дело норовит улучить минутку, когда никого нет, и просит поучить ее еще и еще.
Так вот и шло у них обучение, покуда не подошел срок свадьбы, и назавтра Николь должна была венчаться. А с того дня, как она взялась за науку, до свадьбы прошло добрых семь месяцев, так что, уж поверьте, она стала мастерицей в своем деле, — и то сказать, повторенье — мать ученья! Итак, в самый канун свадьбы Николь и говорит Жакино, что надо бы еще подучиться, а то как бы к завтраму не забыть науку и перед мужем не осрамиться.
— Господи, — взмолился Жакино, — да что мне, делать больше нечего?! Ох, помилуй, Николь, ведь сил моих больше нет!
— Клянусь святым Лу[185], — рассердилась Николь, — что ты мне дашь урок, и дашь сию же минуту! За что же, как не за это, я выплатила сто су и поила тебя столько времени вином?!
— Ах, дьявольщина! — говорит он. — Ты что же думаешь, — как тебе нужен урок, так я тут же и лег?! Да от такой жизни и жеребец мерином станет!
Но все же и на этот раз он ее ублажил. Вот пришел день свадьбы и, едва оттанцевали и стали готовиться к ужину, Николь разыскала Жакино и отвела его в сторонку:
— Ну, Жакино, дружок, — говорит она, — вот и пришло нам времечко расставаться. Я тебя прошу, поучи меня сейчас, напоследок, да хорошенько, чтобы я крепко помнила твой урок, когда лягу с мужем. Уж ты не поленись в честь нашего расставания и в память о моем обучении!
Тогда Жакино ей хорошенько еще раз втолковал урок, да так ее усладил, что Николь осталась предовольна. После свадебного ужина и танцев повели молодую укладывать спать, и не обошлось без смеха и крепких словечек. Каждый наставлял невесту, как и что ей следует делать, но она, как ни странно, знала это получше, чем вся компания. Потом пришел и молодой муж и, прилегши весьма плотно к своей жене, без лишних проволочек принялся за дело. И как уж он сверху старался да его половина снизу так наяривала, что ему за ней и не поспеть было, чему новобрачный весьма удивился, видя, какая умелица его жена, — да и кто бы на его месте остался спокоен! Она изворачивалась то так, то эдак, и все столь ловко, что не успел он опомниться, а уж проскакал первую версту. Совершив это, он от нее отодвинулся и стал спрашивать:
— Эй, голубушка, вы так дьявольски ловки в этом деле, как будто вас кто-то обучал?!
— Да, черт возьми, я этому выучилась не за так да не за пятак. Мне обучение в целых сто су обошлось!
И давай ему рассказывать по порядку все любовные уроки, как у них шло да как она обучалась, чтобы ему угодить и чтобы он любил ее крепче и никогда не колотил. И рассказала ему, что Жакино с нею проделывал, какие выверты показывал, с чего начинал и чем кончал. Ох, и ошарашила же она своего супруга, — бедняга как откатился на самый краешек кровати, так больше к своей жене и не притронулся, да с тем и заснул.
Когда наступило утро, встал молодой в большой печали и смущении и пошел рассказывать все отцу и матери новобрачной, которые также пришли в великую печаль и отчаяние, узнав, как обработали их дочь. Позвали Жакино, который пришел, ничего не подозревая, и начали у него допытываться, что это он сделал с их дочерью, и стали бить его нещадно. Но он сумел вывернуться и удрать. И в дом возвращаться не захотел.
Об этом происшествии узнала вся деревня, так что даже до ушей графа Де Бреен дошли слухи об обучении невесты, над каковым он весьма смеялся. Затем он послал отыскать этого Жакино, чтобы поговорить с ним и узнать правду, и тот, придя, рассказал ему все и даже больше того.
— Ох, монсеньер, — говорил он, — вы не поверите, — ну никак я не мог ее ублажить, — так она и бегала, так и бегала за мной, прося поучить ее еще; однажды мне пришлось обучать ее восемь раз кряду — вот до чего дошло! Ей-ей, зря они устроили переполох, — мне кажется, раз уж она с моей помощью постигла это ремесло, не из чего ее муженьку так беситься, — ему же было легче ломиться в открытую дверь!
И монсеньер граф, слушая его, хохотал до слез и отпустил Жакино, сказав, что он отличный парень. А новобрачному пришлось примириться со своей слишком уж хорошо обученной женой, но он, слава тебе господи, не держал на нее зла, так как бедняжка затеяла все это лишь для того, чтобы угодить ему и лучше его ублажать. Хотя, уж конечно, он был не очень-то этим доволен, да делать нечего — бери, что есть. И я вас уверяю, что эта история истинна и правдива, а случилась она в местечке Бреен года тысяча пятьсот тридцать шестого в мае месяце.
В провинции Анжу жил когда-то один дворянин, который был и богат и знатен, да вот только немного больше, чем следует, падок на увеселения. У него были три прелестных, обворожительных дочери в возрасте, когда уже самая младшая ждала битвы один на один. Они рано остались без матери. Не будучи еще старым, отец продолжал держаться своих прежних добрых обычаев: собирал в своем доме всякие веселые сборища, устраивал балы и задавал пиры. А так как был он от природы человеком снисходительным и легкомысленным и не очень заботился о своих домашних делах, то его дочери могли совершенно свободно забавляться с молодыми дворянами, которые обычно беседуют с девицами не о вздорожании хлеба и не о политике. Кроме того, отец, как и все люди, не чуждался любовных забав, и это давало его дочерям право позволять влюбляться в себя, а также и любить самим, ибо, имея доброе сердце и гордясь своим благородным происхождением, они считали неблагородным и невежливым позволять любить себя и не отвечать тем же. А посему, ежедневно и ежечасно преследуемые вздохами и ласками, они сжалились над своими поклонниками и начали с ними забавляться в уединенных местах. Этими забавами они так увлеклись, что вскоре обнаружились их последствия. Старшая, самая зрелая и бойкая, не доглядела, как у нее начал пухнуть живот, и, спохватившись, когда уже было поздно, изрядно струхнула, ибо не знала, каким образом удержать это в тайне.
Ведь это случилось в доме, где нет маменек, следящих за тем, чтобы их дочери не попадали в такую беду, и уж на худой конец умеющих устранять неприятные последствия подобных случайностей. И вот дочь, не зная, у кого попросить совета и не смея удалиться из общества без позволения отца, была вынуждена поведать ему о своем горе.
Услышав эту новость, отец сначала опечалился, но так как он принадлежал к разряду тех счастливцев, которые не принимают огорчения слишком близко к сердцу, то скоро успокоился. По правде говоря, терзаться несчастьем после того, как оно уже случилось, не значит ли его усугублять? Под предлогом болезни он немедленно отправил старшую дочь за несколько миль от дома к одной из своих теток (врачи-де сказали, что ей полезно переменить воздух) — пусть погостит у ней, пока не выйдут ножки. Но одно счастье всегда влечет за собой другое, и в то время, когда старшая заканчивала свои дела, средняя начинала. Может быть, бог наказал ее за то, что она подсмеивалась над старшей сестрой. Словом, и у нее потяжелело на сердце, то бишь во чреве, и отец тоже узнал об этом. «Ну и слава богу! — сказал он. — Пусть человеческий род умножается. И мы ведь тоже когда-то родились». А затем он отправился к младшей дочери, заподозрив и ее. Та еще не была беременной, хотя и исполняла свой долг, как умела. «Ну, а у тебя, дочь моя, как дела? Не идешь ли ты по стопам старших сестер?» Дочь, будучи еще очень молода, не могла сдержать румянца, и отец решил, что его подозрение подтвердилось. «Ну что ж? — сказал он. — Пусть бог пошлет тебе счастья и избавит нас от худшей беды!» Однако же приспело время придумать какой-нибудь выход из этого неприятного положения, и он понял, что самый лучший выход — это выдать дочерей как можно скорее замуж. Но он понял также, что это не так уж просто, ибо выдать их за соседей было невозможно — об этом происшествии соседи уже знали или, по крайней мере, догадывались. С другой стороны, женить на них виновников было тоже нельзя, потому что ведь возможно, что в этом деле участвовало не по одному лиходею, а больше: может быть, один мастерил ножки, другой — ушки, а кто-нибудь третий — носик. Чего не бывает на свете? А если у каждой из них и было по одному, то все равно: мужчина неохотно женится на девушке, которая положила ему в печь каравай. Поэтому отец решил поискать женихов где-нибудь в стороне, и так как весельчакам и хлебосолам всегда везет, то его поиски скоро увенчались успехом. Посчастливилось ему в Бретани, где он был хорошо известен как человек знатный и владелец имений, находившихся неподалеку от Нанта, которые ему и послужили предлогом для поездки в эти края. По приезде туда он сам и через своих посредников объявил, что выдает замуж дочерей. Бретонцы скоро отозвались, и ему осталось лишь сделать выбор. Кроме того, он сошелся с одним богатым дворянином, у которого было трое рослых молодцов-сыновей, мастерски танцевавших паспье и триори[187], отличных борцов, не боявшихся схватиться с любым силачом. Наш дворянин весьма обрадовался этой находке и, поелику дело у него было спешное, немедля условился с отцом и его тремя сыновьями, что они возьмут всех его трех дочерей и даже свадьбу сыграют одновременно, то есть женятся все в один день. С этой целью все три брата после недолгих сборов простились с родным домом и вместе со своим будущим тестем отправились в Анжу. Все они оказались довольно сговорчивыми, ибо хотя и были бретонцы, но не из Нижней Бретани и отлично управлялись с теми бретонками[188], которые, говорят, довольно покладисты (не на войне). Приехав к нашему дворянину, они принялись разглядывать своих невест и убедились, что все они красавицы, все резвые, веселые и вдобавок умницы. Свадьба была решена, все было приготовлено, и епископу было уплачено за оглашение[189] и за скамьи. Накануне свадьбы отец позвал к себе всех трех дочерей. «Подите-ка сюда! — сказал он. — Все вы знаете, какую вы сделали ошибку и сколько доставили мне хлопот. Если бы я был строгим отцом, я отказался бы признавать вас своими дочерьми и лишил бы вас прав на мои владения. Но я решил, что лучше принять на себя один раз заботы и поправить дело, нежели причинять вам горе и жалеть о вашем глупом поступке всю жизнь. Я привез вам сюда по мужу. Постарайтесь оказать им хороший прием, не робейте, и вы не пропадете. Если они что-нибудь заметят — черт с ними! Зачем сюда приехали? За ними пришлось съездить. Когда ваше дело устроится, вы ведь не будете с ними церемониться, не так ли?» Все три дочери улыбнулись и ответили: «Истинно так». — «Прекрасно, — сказал отец, — вы еще перед ними ни в чем не провинились, но если вы в будущем не сумеете вести себя как следует, то ко мне больше не обращайтесь. Зарубите себе это на носу. Я же обещаю вам забыть ваши прошлые ошибки, а чтобы вы были смелее, я прибавлю еще двести экю той, кто из вас сумеет лучше всех ответить своему жениху в первую ночь». После этого прекрасного напутствия он отправился почивать, дочери — тоже. Они стали думать про себя, какие слова им следует сказать в эту ночь сражения, чтобы заслужить эти двести экю, и решили наконец положиться на бога, надеясь, что он не откажет им в нужный момент в своей милости. На другой день состоялись свадьбы. Ели, пили, танцевали — чего еще больше? По окончании бала все три девы легли со своими женихами в постели. Жених самой старшей, лаская ее, ощупал у ней живот и обнаружил на нем небольшую складку. Он догадался, что его надули. «Ого! — сказал он. — Птички-то уже вылетели!» А невеста, весьма довольная, ответила: «Ступайте сами в гнездо». Такова одна! Жених второй сестры, гладя ее, нашел, что живот у нее несколько кругловат. «Как? — сказал он. — Амбар уж полнехонек?» — «Постучите в дверь, впущу», — ответила невеста. Вот уже и две! Жених третьей сестры, забавляясь с нею, скоро понял, что он не первый. «Дорожка проторена!» — сказал он. «Зато не заблудитесь!» — ответила младшая. Вот и все три! Ночь прошла. На другой день они пришли к отцу и поочередно доложили ему обо всем происшедшем. Queritur[190], которой из них отец должен был отдать обещанные двести экю? Подумайте. Мне кажется, вы согласитесь со мною, что они должны были либо поделить их между собою, либо получить каждая по двести экю, propter mille rationes, quarum ego dicam tantum unam brevitatis causa[191], ибо все они показали свое усердие, а всякое усердие подтверждается делом, ergo in tantnm consequentia est in Barbara[192] и так далее[193]. Кстати, если вы не рассердитесь, я задам вам по этому поводу вопрос: что вы считаете лучше — получить рога до брака или после брака? Не торопитесь с ответом, что до брака лучше, чем после брака, ибо вы понимаете, какое это редкое удовольствие жениться на девственнице. Ведь если она наставит вам рога после свадьбы, то это удовольствие (я говорю не о рогах, а о том, что она досталась вам девственницей) навсегда останется за вами. Помимо того, она доставит вам всякие протекции и выгоды. Об этом весьма хорошо сказано в «Пантагрюэле»[194]. Впрочем, не хочу затевать здесь споров и предоставляю вам подумать об этом на досуге, а вы мне после изложите свои мнения.
Один парламентский прокурор овдовел, не достигнув еще сорока лет, и, будучи добрым малым, сильно тяготился своим одиночеством. Он не мог обойтись без женского пола и весьма сожалел, что жена, которая была для него еще вполне пригодна, умерла так рано. Однако он постепенно привык к своему положению и сумел возместить потерю, занимаясь благотворительными делами, а именно: стал любить жен ближних своих, как свою собственную, и вести дела вдов и всяких других женщин, приходивших к нему с жалобами. Словом, ловил, где попадалось, и рубил, как боец на турнире. Но через некоторое время это стало ему надоедать, ибо, не имея досуга заниматься выслеживанием удобных случаев, как это делает молодежь, он не мог посещать своих соседей так, чтобы не внушать подозрений. Кроме того, все это ему обходилось довольно дорого. Поэтому он решил найти себе какую-нибудь женщину для постоянных услуг. Он вспомнил, что в Аркейле, где у него было несколько виноградников, он видел когда-то одну молоденькую девушку, лет шестнадцати — семнадцати, по имени Жильетта, дочь одной бедной женщины, зарабатывавшей себе кусок хлеба пряжей льна. Эта девушка была крайне простодушна и глупа, хотя и довольно хороша лицом, но прокурор решил, что лучшего ему и не нужно, вспомнив когда-то слышанную им пословицу: глупая супруга лучше умного друга. Умным женам доверять нельзя, они всегда водят своих мужей за нос, то и дело вытягивают у них деньги, украшают рогами или оказываются уж чересчур честными, а иногда и совмещают в себе все эти качества.
Короче говоря, наш прокурор поехал во время сбора винограда в Аркейль[195] и стал просить мать этой девушки отпустить ее к нему в услужение. У него-де в настоящее время нет служанки, а без служанки он не может обойтись, он-де будет с ней хорошо обращаться и женится на ней, когда придет время. Старуха, отлично понимавшая, к чему он клонит речь, упиралась, однако недолго. Бедность вынудила ее согласиться на это предложение, и она обещала послать к нему свою дочь в ближайшее воскресенье, что и сделала. Девушка, попав в город, была совсем ошеломлена, увидев такое множество людей, ибо до той поры ничего, кроме коров, и не видела.
Чтобы дать ей немного прийти в себя, прокурор поначалу ни о чем с ней не толковал и по-прежнему искал приключений. А чтобы она исполняла предстоящие ей обязанности старательнее, он заказал для нее кое-какие наряды. Но в доме у него жил один писец, который поступил совсем иначе. Дня через два или три, когда прокурор ушел к кому-то на обед, он, увидев девушку, завел с ней разговор. Стал ее расспрашивать, откуда она приехала и где ей больше нравится — в деревне или в городе. «Милая моя, — сказал он, — не бойтесь ничего, вы не найдете лучшего места, чем здесь. Особых забот у вас не будет. Хозяин — человек добрый, и вам у него будет хорошо. А еще он не говорил вам, для чего он вас взял к себе?» — спросил писец. «Нет, — ответила девушка, — мать наказывала мне только слушаться его, помнить все, что мне скажут, и ничего не терять». — «Милая моя! — сказал писец. — Ваша мать дала вам хороший совет. Но она знала, что все ваши обязанности объяснит вам писец, и поэтому больше ничего не сказала. Милая моя, когда молодая девушка поступает в городе в прислуги к прокурору, она должна предоставить себя в полное распоряжение его писца, а писец должен знакомить ее с городскими обычаями и с привычками ее хозяина, чтобы она умела ему угождать. В противном случае бедные девушки ничему не научаются, а хозяева начинают с ними дурно обращаться и, наконец, отсылают обратно в деревню». Так говорил писец, а бедная девушка слушала его и всему верила, ибо он учил ее угождать хозяину. Наконец она робко и с самым простодушным видом ответила ему: «Я буду вам за это очень благодарна!» Писец, увидев по лицу девушки, что дела у него идут недурно, стал с ней заигрывать, гладить ее и целовать. А она только и говорила: «Ох! Мать ничего про это мне не сказала». Когда писец начал ее обнимать, она тоже не сопротивлялась, думая, что это городской обычай. Вот насколько она была глупа! Он проворно повалил ее на сундук, и, должно быть, сам черт ему помогал, так ловко он начал действовать!
С этого дня они продолжали свои занятия всякий раз, когда писцу представлялся удобный случай. И пока прокурор ждал, когда его служанка поумнеет, писец делал его дело, не спрашивая у него никаких полномочий. Через некоторое время, нарядив молодую девушку, которая от привольной жизни, а равно и оттого, что красивое оперение придает птице красоту, хорошела с каждым днем, прокурор решил наконец испытать, какова она в деле, и послал однажды утром писца, который шел к Жильетте для обычных занятий, снести в город какой-то пакет. Когда писец вышел, прокурор начал с ней заигрывать, трогать ее за груди и совать руки под юбку. Ей было очень весело, ибо она знала, что плакать тут не из-за чего, хотя и продолжала относиться к хозяину с прежней деревенской застенчивостью. Прокурор прижал ее к кровати, и так как, прижимаясь к ней, он делал совершенно то же, что и писец, то девушка (ха-ха! Какая дура!) сказала ему: «Ах, сударь! Спасибо вам. Мы с писцом это все уже изучили».
Прокурор, у которого уже натянулся гульфик, хотя и не отказался от удобного случая заняться своим делом, но сильно рассердился, узнав, что писец уже успел ее просветить. Надо полагать, что, по крайней мере, он уволил своего писца.
Никто не знает, почему алхимикам не удаются их затеи. Но Мария Пророчица[196] весьма хорошо и подробно объяснила это в своей книге о великом искусстве, где она дает философам мудрые наставления и поддерживает их мужество. По ее мнению, философский камень является для людей величайшей ценностью и, помимо всех прочих чудесных свойств, заключает в себе силы, дающие власть над демонами: обладатель его может их заклинать, предавать анафеме, связывать, срамить, терзать, сковывать, истязать и пытать. Словом, играй этим камнем, как палашом, и делай все, что хочешь, если умеешь пользоваться своим счастьем. Затем она говорит, что Соломон[197] добыл самый лучший философский камень и бог просветил его познанием величайшей чудодейственной силы этого камня, о которой мы уже говорили, а именно — силы, дающей власть над демонами. Поэтому, получив его, он решил немедленно вызвать к себе демонов, но сначала велел соорудить огромный медный чан, в окружности не менее Венсенского леса или, в крайнем случае, на каких-нибудь полфута поменьше (это ведь все едино, стоит ли толковать об этаких пустяках). Такие громадные размеры его были необходимы для дела, задуманного царем. Для чана была сделана такая же большая, плотно закрывающаяся крышка и одновременно вырыта соответственной ширины яма, в которую этот чан по повелению царя и зарыли. Когда приготовления были закончены, царь вызвал с помощью своего чудодейственного камня всех обитателей преисподней от великих до малых, от властителя четырех сторон земли, от королей, герцогов, графов, баронов, военачальников, капитанов и до капралов, ефрейторов, солдат, конных и пеших, и всех, кто в аду обитал, не оставив ни одного черта даже на их адской кухне. Когда они явились, Соломон посредством своего камня велел им всем войти в этот чан, уже вкопанный в землю. Черти не могли его ослушаться и вошли, разумеется, весьма неохотно, корча самые ужасные рожи. И только они вошли, Соломон тут же велел прикрыть их сверху крышкой, хорошенько замазать luto sapientiae[198] и яму засыпать до самого верха землей.[199]
Засадив туда господ чертей, Соломон надеялся избавить мир от вреда, который причиняли людям эти злые, проклятые гады, дать людям мирную, счастливую жизнь, чтобы в ней царили одни только добродетели и радости. И действительно, тотчас же после этого все люди вдруг сделались счастливыми, довольными, здоровыми, веселыми, бодрыми, полными, шутливыми, бойкими, радостными, любезными, пылкими, забавными, красивыми, ловкими, милыми, игривыми и сильными. Ах, как они счастливо зажили! Ах, как стало хорошо! Земля начала без всякой обработки приносить плоды, волки перестали нападать на стада, львы, медведи, тигры и кабаны сделались кроткими, как овцы. Словом, пока эти плуты черти сидели в своей яме, земля походила на рай. Но что произошло потом? По истечении долгого времени, когда сменились многие царства и разрушились старые города, а на их месте возникли новые, появился один царь, который, словно по велению судьбы, задумал построить город как раз на том месте, где были черти погребены. Надо полагать, что по недосмотру Соломона, когда черти входили в чан, какой-нибудь шустрый чертенок сумел-таки улизнуть и спрятаться за ком земли. Этот-то чертенок и внушил царю мысль строить город на том месте, где находился чан, чтобы выпустить своих товарищей на волю. Итак, царь собрал людей строить город. Он задумал построить в нем пышные дворцы и обвести его крепкими, неприступными стенами. А для таких стен потребовался очень прочный фундамент, и закладывавшие его землекопы так глубоко зарылись в землю, что один из них натолкнулся на чан с чертями. Он поднял сильный стук. Услышавшие его товарищи сочли себя богачами, думая, что там зарыты несметные сокровища. Но увы! Что это оказались за сокровища! О, как позавидовало людям небо! О, какое случилось несчастье! О, как боги разгневались на людей! Где перо, где язык, который сумел бы проклясть эту ужасную, несчастную находку? Вот к чему ведет алчность, вот к чему ведет честолюбие, которое, пресытившись счастьем, до самой преисподней разрывает землю в поисках своего несчастья! Но возвратимся к нашему чану и к нашим чертям. Повествование говорит, что землекопы не скоро сумели его открыть, ибо, насколько он был велик, настолько же тяжела была его крышка. Поэтому о находке должен был узнать и сам царь. При виде чана у него зародилась та же мысль, что и у землекопов, ибо кто мог подумать, что там находятся черти, если никто не подозревал об их существовании и даже слухи о них давным-давно уже канули в воду? Этот царь знал, что его предшественники владели огромными богатствами, и ему, конечно, тут же пришло в голову, что они зарыли здесь свои несметные сокровища, а судьба приберегла их для него, чтобы сделать его самым могущественным царем на земле. И вот что из этого вышло. Он собрал всех людей, живших над этим чаном, и велел его откапывать. Пока они его откапывали, черти прислушивались к шуму и не понимали, что это значит. Они решили, что окончился суд, начавшийся над ними со дня их заключения, и их хотят откопать для того, чтобы повесить. Землекопы же так усердно колотили по чану, что им удалось его погнуть, отрубить от крышки большой кусок и проделать в нем отверстие. Нечего и говорить, как черти рвались к этому отверстию и какой ужасный рев они испускали при выходе. Их вопли так испугали царя и всех присутствовавших, что они упали наземь, как мертвые. А черти выползли из своей тюрьмы, поднялись на ноги и разбежались по земле, по своим местам. Некоторые из них при виде изменений, которые произошли на земле со времени их заключения, были совсем ошарашены и, не найдя колоколен своих приходов, не помня родных своих мест, навсегда сделались бродягами. Но, бродя по земле, они всюду разносили столько зла, что страшно даже рассказывать. Вместо прежних злодейств, которыми они старались отравить человеческую жизнь, они придумали новые: начали убивать и истязать людей, бесчинствовать и опрокидывать у них все вверх дном. Все побежали прятаться по горшкам, но и там были черти. С этого времени на земле появилось множество философов (ибо алхимиков принято считать преимущественно философами). Для добывания упомянутого чудодейственного камня Соломон оставил им письменное руководство, которое не уступало в точности и ясности такой науке, как грамматика, и многие люди начали было уже постигать его, ибо черти, находясь в заключении, не затемняли их мозгов. Когда же их выпустили на свободу, они, обозленные на Соломона за его проделку, начали с того, что забрались к философам в очаги и разнесли их вдребезги. Они постарались также стереть, исцарапать, порвать и подделать все найденные книги, в которых излагалась эта наука, отчего она сделалась столь темной и трудной, что люди совсем перестали ее понимать. Черти охотно уничтожили бы их книги совсем, если бы им это позволил бог. Вырвавшись на свободу, они стали мешать ученым работать. Когда какой-нибудь ученый наталкивался на дорогу, ведущую к цели, и начинал уже постигать всю премудрость, следивший за ним бесенок вдруг разбивал аламбик[200], наполненный драгоценным веществом, и в один миг уничтожал все, над чем бедный философ трудился десять, двенадцать лет, и ему приходилось начинать сызнова. И вели себя так не свиньи, а черти, которые хуже свиней[201]. Вот почему в настоящее время алхимикам так редко удается добиться каких-нибудь полезных результатов.
Но это не значит, что их наука потеряла ту истинность, которой она обладала в прежние времена. Причина их неудач — ненависть чертей к этому дару божию. Но так как вполне может случиться, что в один прекрасный день какому-нибудь философу посчастливится сделать то же, что сделал Соломон, и если случайно это произойдет в наше время, то я буду просить его, обратив внимание на все изложенное, чтобы он не забыл заговорить, заклясть, изгнать, предать анафеме, проклясть, заколдовать, погубить, истребить, развеять в прах и уничтожить всех этих злых, гадких бесов, врагов творений божьих и добра, которые приносят такой вред бедным алхимикам и всем остальным людям, а значит, и женщинам. И действительно, не кто иной, как бесы, внушают женщинам неприступность, упрямство и всяческие фантазии; не кто иной, как бесы, влезают в головы старух, позабытых смертью, и делают их сущими дьяволицами. Отсюда про дурных женщин и пошла поговорка, что у них — черт в голове.
В Париже по Сене три лодки плывут[202], в Париже около Круа-дю-Тируар[203] жил в своей хижине сапожник Блондо. Он весело трудился, зарабатывая себе кусок хлеба починкой башмаков, и больше всего в мире любил хорошие вина, в которых был большим знатоком и авторитетом для своих заказчиков. Как только где-нибудь поблизости появлялось хорошее вино, он непременно его отведывал и радовался всей душой, если его было вдоволь. С утра до вечера распевал он песни и веселил своих соседей. За всю свою жизнь он был грустным не более двух раз. В первый раз — когда он нашел где-то в старой каменной стене большой чугун со старинными серебряными и биллонными[204] монетами неизвестного для него достоинства. С этого дня он загрустил, замолк и стал думать только о своем чугуне с побрякушками. Он рассуждал про себя: «Это — деньги неходячие. Мне не дадут за них ни хлеба, ни вина. Если я покажу их ювелирам, то они на меня донесут или потребуют из них себе долю и не дадут мне за них и половины того, что они стоят». Затем он стал думать, что плохо их спрятал, беспокоился, как бы их не украли, и поминутно ходил смотреть, лежат ли они на месте. Он испытывал нестерпимые муки, пока его не осенила наконец хорошая мысль. «Как? — сказал он. — Я только и думаю о своем горшке? Глядя на меня, люди начинают подозревать, что у меня что-то случилось. Ба! К черту этот горшок! Он. принес мне одно только горе!» И действительно, когда он вежливенько взял этот чугун за бока и швырнул его в реку, то вместе с ним утонула и его печаль.
В другой раз много огорчений причинил ему один живший напротив него господин (или, если угодно, сапожник Блондо жил напротив этого господина). У него была маленькая обезьянка, которая причинила бедному Блондо много убытков. Она подсматривала, например, с верхнего окна, как Блондо резал кожи, и, когда тот уходил обедать или отлучался куда-нибудь по делам, спускалась вниз, забиралась в его хижину и, взяв его нож, начинала так же, как он, резать у него кожи. Она делала это всякий раз, как Блондо отлучался, и поэтому бедняга не мог сходить ни поесть, ни попить, не заперев свои кожи. Когда он забывал это сделать, обезьяна изрезывала их на куски. Эти проделки сильно его сердили, но он не смел ее наказать, потому что боялся ее хозяина. Наконец, когда ему стало уж совсем невтерпеж, он решил ее проучить. Он заметил, что обезьяна имела обыкновение в точности подражать всем его действиям. Если Блондо точил нож, обезьяна по его уходе тоже точила нож, он смолил дратву, и обезьяна делала то же, он пришивал заплату, обезьяна тоже принималась вертеть локтями. Однажды Блондо взял свой нож, наточил его как бритву, и, когда обезьяна показалась на своем наблюдательном посту, он приложил этот нож к своему горлу и начал водить им взад и вперед, словно хотел им зарезаться. Затем, проделав это несколько раз, чтобы обезьяна могла у него научиться, он положил нож и ушел обедать. Обезьяна, обрадовавшись новому развлечению, тотчас же спустилась вниз, схватила нож, приложила его к горлу и начала водить им взад и вперед, как это делал Блондо. Но она держала его слишком близко к горлу, не догадавшись, что может им зарезаться, и так как нож был очень острый, то не прошло и часу, как она испустила дух. Таким образом, Блондо без всяких неприятных для себя последствий отомстил этой обезьяне и по-прежнему стал петь песни и есть с большим аппетитом. Так он и жил до самой своей смерти. В память его веселой жизни на его могильной плите соседи написали эпитафию:
Под этим камнем погребен
Блондо, сапожник. В жизни он
Себе богатств не накопил,
А после — с миром опочил.
Друзья скорбят о нем душой:
Он мастер выпить был большой.
В городе Мен-ла-Жюэ[205] в нижнем Мене (то есть в прекрасной стране Кидна[206]) жил один судья, человек весьма почтенный и большой любитель всевозможных редкостей. Он держал у себя в доме несколько прирученных зверьков, и в том числе одну лисицу, которую достал еще сосунком, прозванную за ее обрубленный хвост герой[207]. Эта лисица унаследовала хитрость еще от родителей, но от общения с людьми она превзошла свою природу и развила свой ловкий ум до того, что, если бы умела говорить, то показала бы многим людям, что они по сравнению с нею — не более как дураки. По ее морде иногда можно было заметить, как она говорила что-то на своем лисьем языке, а когда она смотрела на слугу или на служанку, которые давали ей на кухне лакомые куски, вы подумали бы, что она хочет назвать их по имени. Видя иногда беготню слуг и хлопоты повара, она догадывалась, что хозяин ожидает гостей, и пробиралась в чужие курятники, откуда всякий раз приносила кроликов, каплунов, голубей, куропаток или зайчат — смотря по сезону. Она делала это так ловко, что никогда не попадалась, и таким образом прекрасно снабжала припасами кухню своего хозяина. Со временем, однако, она стала чересчур увлекаться этими посещениями курятников и возбудила против себя подозрения владельцев. Но это ее мало беспокоило, ибо всякий раз она придумывала какой-нибудь новый способ пробираться к своей добыче, и так как она озорничала с каждым днем все больше и больше, то владельцы решили ее убить. Однако, боясь ее хозяина, который был в городе весьма важным лицом, они не могли исполнить задуманного открыто, а поэтому каждый из них про себя решил убить ее ночью, как только застанет ее на месте преступления. А наша гера, придя за добычей, пролезала то через отдушину кладовой, то через какое-нибудь низкое окно, то через слуховое окошко или ожидала, когда кто-нибудь откроет впотьмах дверь, и проскальзывала в нее, как крыса. Она часто слышала, как птичник грозился убить ее, и, узнав о готовящемся против нее заговоре, говорила про себя: «Сумейте-ка меня словить!» Для нее нарочно выставлялась дичь, и птичник сторожил ее неподалеку с натянутым арбалетом и стрелой наготове, но наша лиса чуяла это так же хорошо, как дым от жаркого, и никогда не подходила к дичи, которую сторожили. Но как только сторож, побежденный дремотой, закрывал глаза, наша гера схватывала дичь и давай бог ноги! Тщетно ставились для нее и всякие ловушки: она так ловко избегала их, как будто ставила их сама. Поэтому, не имея возможности выследить и убить ее, птичникам оставалось прибегнуть к последнему средству, а именно — запирать свою дичь в такие места, куда гера не могла проникнуть. Но даже и в этих случаях она ухитрялась иногда отыскать какую-нибудь лазейку, хотя это ей удавалось не часто. Это обстоятельство начало её сильно сердить, ибо она, с одной стороны, лишалась возможности оказывать услуги повару, а с другой — ей и самой приходилось лакомиться уж не столь часто. Ко всему этому, начиная уже стареть, она сделалась подозрительной. Ей стало казаться, что на нее меньше обращают внимания и обходятся с ней хуже, чем раньше (плохая штука — старость!), а поэтому она стала вести себя еще хуже, чем прежде, и принялась истреблять уже хозяйскую птицу. Ночью, когда все укладывались спать, она пробиралась в хозяйский курятник и выкрадывала каплунов и кур. В первое время ее никто не подозревал, и все думали, что это делает ласка или белодушка, но вскоре все ее шалости раскрылись. Она повадилась ходить туда так часто, что одна девочка, спавшая в сарае, слава богу, подсмотрела за нею и рассказала об ее проделках. После этого на геру обрушилось большое несчастье. Господину судье был сделан донос, что гера ворует птиц. Наша лиса имела обыкновение подслушивать все, что о ней говорилось, и никогда не пропускала хозяйских обедов и ужинов, ибо любивший ее хозяин всегда давал ей лакомые куски. Но, узнав о том, что его любимица ворует кур, он переменился в лице, и однажды во время обеда, лиса, притаившись за слугами, услышала, как господин судья сказал: «Так вы говорите, что гера ворует моих кур? Ну, я расправлюсь с ней не позже чем через три дня!» Лиса поняла, что оставаться в городе для нее стало опасно, и, не дожидаясь истечения этого срока, сама себя подвергла изгнанию — убежала в поле к своим собратьям лисицам. Разумеется, она не упустила при этом случая в последний раз полакомиться хозяйской птицей. Но бедной гере предстояло сначала помириться со своими собратьями, ибо, живя в городе и изучив собачий язык и собачьи манеры, она ходила с собаками на охоту и пользовалась своим родством с дикими лисицами для того, чтобы обманывать их и предавать собакам. Вспомнив об этом, лисицы отнеслись к ней очень недоверчиво и не пожелали принять ее в свое общество. Но она пустила в ход риторику и сумела оправдаться перед ними в части своих поступков, а за остальное выпросить прощение. Затем она уверила их, что может доставить им царскую жизнь, так как она знает, где находятся лучшие курятники города и когда в них можно проникнуть. Они поддались наконец ее заманчивым речам и выбрали ее своим вожаком. И действительно, благодаря ей в течение некоторого времени они благоденствовали, ибо она водила их в такие места, где им доставалась превосходная добыча. Но плохо было то, что она чрезмерно старалась приучить их к стадной, товарищеской жизни, держалась с ними в полях и жила слишком открыто. Вследствие этого жители, видевшие их стаями, могли с большим успехом охотиться на них с собаками, и не проходило дня, чтобы какая-нибудь кумушка не попадалась в собачьи зубы. Однако гере всегда удавалось спастись, ибо она старалась держаться позади стаи, чтобы иметь возможность убежать, пока собаки ловят передних. Даже в нору она не входила иначе как с товарищами: когда в нее забирались собаки, она кусала своих товарищей и выгоняла их наружу, чтобы собаки, погнавшись за ними, оставили ее в покое. Но бедная гера все-таки не могла наконец не попасться, ибо крестьяне были убеждены, что она главная виновница всех опустошений, наносимых лисицами в этой местности, и только и думали о том, как бы ее изловить. Для этой цели собрались однажды все жители окрестных приходов и разослали церковных старост по всем ближним помещикам с просьбой дать обществу по одной собаке, чтобы помочь ему избавить страну от этой злой проказницы-лисицы. Помещики охотно согласились и обещали свою помощь, тем более что многие из них давно уже тщетно пытались ее изловить. В результате собак удалось собрать так много, что их оказалось достаточно и для геры, и для ее товарищей. Напрасно она кусала и терзала их, по обыкновению, — ибо, как она ни была ловка, но на этот раз спастись ей было уже невозможно. Ее скоро окружили, загнали и оттеснили в задний угол норы, разрыв и раскопав нору, ибо собаки не могли ее оттуда выгнать, да и, кроме того, она могла их провести, как это она делала обычно, или, что еще более возможно, уговориться с ними на собачьем языке и как-нибудь ускользнуть. Словом, бедную геру схватили и привели, или, точнее, принесли в Мен, где над ней произвели суд, публично вынесли ей приговор за кражи, мошенничества, грабежи, лихоимства, предательства, обманы, убийства и другие учиненные и совершенные ею тяжкие преступления, а затем она была подвергнута смертной казни. При казни присутствовала громадная толпа народу. Все бежали смотреть на нее, словно на пожар, ибо она славилась за девять миль в окрестности, как самая лукавая и злая лиса из всех, какие когда-либо были на земле. Однако говорят, что многие умные люди жалели ее и говорили, что напрасно убивают такую ловкую, хитрую и одаренную таким умом лису. И хотя они взялись было за оружие, они не в силах были, однако, спасти ей жизнь. Ее повесили и удушили в замке Мен. Как видите, никакие плутни и злодейства не остаются безнаказанными.
В городе Ле-Мане жил когда-то священник, мессир Жан Мелен, необыкновенный объедало, съедавший за один присест столько, сколько могли съесть по меньшей мере девять — десять человек. Свою молодость он прожил довольно счастливо, ибо всегда находил людей, которые его охотно кормили, а каноники[208] даже ссорились из-за него, приглашая его к себе ради той потехи, которую он доставлял им своим удивительным аппетитом. Благодаря этому ему иногда удавалось по целым неделям обедать поочередно то у одного, то у другого. Но когда хорошие времена миновали, все стали забывать бедного мессира Жана Мелена, и ему пришлось свести знакомство с постом. Он высох, как полено, и живот у него стал полым, как фонарь. Довольно долго терпел он нужду, ибо шести беленьких ему на хлеб насущный не хватало. Но аббат Бо-Лье, в былые хорошие времена довольно часто баловавший его кормежками, все-таки задумал однажды доставить ему удовольствие — накормить его, как прежде, до отвала. На годовой праздник в аббатстве в числе прочего многочисленного духовенства был приглашен и мессир Жан Мелен. Аббат наказал келарю: «Вот что сделайте. Накормите мессира Жана завтраком и дайте ему еды столько, сколько он сможет съесть». А затем сам сказал священнику: «Мессир Жан, как только вы окончите мессу, ступайте на кухню и скажите, чтоб вам дали позавтракать. Да кушайте вволю. Понимаете? Я распорядился, чтобы вас хорошо угостили». — «Много вам благодарен, сударь!» — ответил священник. Служа мессу, он только и думал о предстоящем ему угощении и, поскорее ее закончив, отправился на кухню, где ему отвалили сначала большой кусок говядины, с монашескую порцию, громадный хлеб, какими кормят борзых, и добрую кварту вина, служащую в этой местности в качестве мерки. Не пробило еще и десяти часов, как он уже управился с этим завтраком, ибо такой порцией он мог только облизнуться. Ему принесли еще такую же порцию, и он съел ее так же быстро. Увидев, что аппетит у него неплох, келарь, помнивший наказ аббата, велел принести ему еще два куска говядины, но и их он так же быстро уложил в свой мешок вместе с первыми. В конце концов он съел все, что было приготовлено на обед монахам, и келарь, как король под Аррасом, стрелявший до последнего заряда[209], был вынужден спешно заготовлять для него еще. В ожидании того времени, когда мессир Жан кончит завтракать, аббат прогуливался по саду и, когда мессир Жан, туго набивший свою утробу, тоже вышел прогуляться, аббат, увидев его, спросил: «Ну, мессир Жан, позавтракали?» — «Да, сударь! — ответил священник. — Благодарю бога и вас. Я съел кусочек и в чаянии обеда выпил чарочку».
Разве он был не вправе ожидать хорошего обеда, если он еще не наелся?
Однажды в пятницу ему подали где-то огромную деревянную миску гороховой похлебки и супу, которого хватило бы на шесть-семь виноделов. Зная аппетит гостя, потчевавший его хозяин подсыпал в горох две здоровенных горсти круглых косточек трески, называемых «Paternoster»[210] подлил побольше масла и уксусу и подал это кушанье мессиру Жану. Но тот, по обыкновению, съел все до дна вместе с «Paternoster». Я думаю, что он съел бы и «Ave Маriа»[211] и «Credo»[212], если бы их ему подали. Хотя эти кости и хрустели на его зубах, но в чрево проходили совершенно беспрепятственно. Когда он кончил, его спросили: «Ну, мессир Жан, как вам понравился горох?» — «Благодарю бога и вас, сударь! Горох хорош, но только немножко недоварен». Разве плохо, что природа наделила священника таким аппетитом? Это — милость божия. Будь он купцом, он опустошил бы все дороги от Парижа до Лиона, все дороги Фландрии, Германии и Италии. Будь он мясником, он съел бы всех своих быков и баранов, вместе с рогами и копытами. Будь он адвокатом, он съел бы свои бумаги и пергаменты. (Хотя это была бы небольшая беда. Гораздо хуже то, что он съел бы и своих клиентов. Впрочем, и другие адвокаты едят их неплохо.) Будь он солдатом, он стал бы есть кольчуги, шишаки, аркебузы и даже пороховые бочки. А если бы ко всему этому он был женат, его жене, разумеется, достался бы не лучший удел, чем жене Камблеса[213], царя Лидийского, который в одну ночь сожрал свою жену до последней косточки. Боже милостивый! Что это за царь! Уж и людей есть начал!
Жанен все-таки решил жениться. Но молодая жена стала забавляться с манекенами[214] и, не желая порочить доброе имя своего мужа, делала это совершенно открыто. Как-то раз один из соседей Жанена стал задавать ему кое-какие вопросы, а так как при этом он должен был делать и некоторые замечания, то получилась довольно любопытная сцена. «Ну, Жанен, вы все-таки женились?» — «О да!» — ответил Жанен. «Это хорошо», — сказал сосед. «Хорошо, да не очень». — «А что?» — «Да очень ветрена». — «Это плохо». — «Плохо, да не очень». — «А что?» — «Она — первая красавица в приходе». — «Это хорошо». — «Хорошо, да не очень». — «А что?» — «Да у нее есть ухаживатель. Он то и дело ходит к ней». — «Это плохо». — «Плохо, да не очень». — «А что?» — «Он каждый день что-нибудь мне дарит». — «Это хорошо». — «Хорошо, да не очень». — «А что?» — «Он постоянно куда-нибудь меня посылает». — «Это плохо». — «Плохо, да не очень». — «А что?» — «Он мне дает денег, и я кучу на них по дороге». — «Это хорошо». — «Хорошо, да не очень». — «А что?» — «Да мне приходится постоянно быть на ветру и под дождем». — «Это плохо». — «Плохо, да не очень». — «А что?» — «Я к этому привык». Можно на этом и закончить. Это вроде рассказа про белого бычка.
Однажды довелось мне отправиться в деревню, дабы там не торопясь, на досуге, завершить некое дело; и вот в праздничный денек прогуливался я по окрестным селениям в поисках веселой компании. Наконец я приметил чуть ли не целую толпу молодых и старых людей; те и другие, как водится, держались особняком, ибо (согласно старинной поговорке) рыбак рыбака видит издалека. Молодые стреляли из лука, боролись, дрались на палках, бегали наперегонки, а старики смотрели на них, устроившись под громадным дубом, скрестив ноги и слегка надвинув шляпы на глаза: они хвалили ловкость одних, подбадривали других и, освежая в памяти младые свои годы, испытывали истинное удовольствие, наблюдая, как резвятся неугомонные юнцы. Расположились же эти добрые люди в таком образцовом порядке, в каком могли бы расположиться старейшины хорошо и умело управляемой республики, ибо самые старые и уважаемые, истинные мужи совета, занимали места самые почетные, а места похуже достались тем, кто был помоложе и не слыл столь разумным человеком и искусным землепашцем. Завидя этих почтенных людей, я подошел ближе, чтобы, как и другие, вслушаться в их речи, каковые мне весьма по душе, ибо не было в них ни прикрас, ни краснобайства, а одна только чистая правда, особливо когда они сравнивали свое время с нынешним, толковали о переменах во нравах и высказывали известное сожаление о былых годах, когда, по их словам, и пили больше и ели слаще. И тут, желая узнать имена этих разумных людей, я дернул за рукав одного из своих знакомцев и негромко спросил у него об этом.
— Тот вон, что оперся локтем о землю, а в руке держит ореховый прут и похлопывает им по своим сапогам, стянутым белыми ремешками, зовется Ансельм, — отвечал он мне. — Он один из самых богатых жителей здешнего селения, добрый землепашец и человек по местным понятиям весьма сведущий. А того вон, что с ним рядом сидит, засунув большой палец за пояс, на коем висит сумка с очками да молитвенником, кличут Паскье, он редкостный забавник, другого такого забавника не сыщешь, даже если день целый на лошади проедешь, а коли я скажу, что и в два дня не сыщешь, то и тогда, думается, не солгу. К тому же среди всей честной компании только он один охотно развязывает кошель, дабы угостить винцом приятелей.
— Ну, а тот, что надвинул на брови колпак и держит в руке старинную книгу, кто он таков? — осведомился я.
— Тот, что почесывает кончик носа? — переспросил мой знакомец.
— Ну да, — подтвердил я, — он теперь как раз к нам оборотился.
— Господи, да это ж известный весельчак, — отозвался он. — Чуть не полвека назад он содержал школу в здешнем приходе, но потом оставил прежнее занятие и сделался добрым виноградарем; однако ж для него и теперь еще праздник не в праздник, ежели он не притащит какую-нибудь старинную книгу да и не начнет читать ее вслух, пока нам не надоест. А книги у него все занятные:
Так я и поступил; два или три праздничных дня подряд слушал, как они рассуждают и толкуют о своих сельских занятиях, а после, на досуге, не спеша все кратко изложил, но только пришлось мне немало над этим потрудиться, будто я тяжкую работу какую делал; изрядно покряхтев и попотев, думая да прикидывая, что ж именно надобно пересказать, я вынужден был дважды или трижды как следует выпить, дабы толком прочистить и освободить мозги, и пребывал я в ту пору в таком затруднении, что сам себе напоминал возчика, каковой, желая помочь своим лошадям, тянущим нагруженную доверху повозку, кладет себе на плечо шляпу и упирается в заднее колесо, чтобы хоть малость подсобить им, и с устатку пьет воду из ведра, подвешенного к хомуту передней лошади.
В те времена, друзья мои, когда еще носили башмаки с загнутыми вверх острыми носками и на стол выставляли сразу целый кувшин вина, а деньги в рост давали лишь тайком, жены неукоснительно соблюдали верность мужьям; да и мужьям не полагалось (ни днем, ни ночью) верность своим достойным женушкам нарушать; так что обе стороны непреложно следовали этому обычаю, и сие достойно не только похвалы, но и удивления. По причине чего ревности тогда почти не знали, окромя разве той, что проистекает от слишком сильной любви, от коей даже собаки дохнут. В силу этакого полного доверия все без разбора, и женатые, и те, кто только еще собирался жениться, ложились вместе в широкую кровать, и никто ничего не боялся — ни дурных помыслов, ни досадных последствий, хотя, как известно, природа человеческая куда как лукава, и к тому же не стоит класть паклю возле огня. Однако ж с той поры люди изрядно испортились, а потому для всякого стали ставить особую, отдельную кровать, и не зря, а дабы уберечь всех и каждого от соблазна. Ведь в доброе старое время почти никто своих краев не покидал, но потом монахи, бродячие певцы да школяры начали бросать родные места, слагать с себя сан или оставлять прежнее ремесло и шататься по белу свету; вот тогда-то, с общего согласия, и стали делать кровати поуже на благо иным мужьям (понеже следом за пиром идет похмелье) и на радость их женам, ибо, как говорит мой сосед Жеребчик: «Да будет проклята кошка, ежели она, увидев, что горшок без крышки, не сунет в него лапу, а посему пусть тот, кто не знает своего дела, прикроет лавочку и убирается ко всем чертям».
— Клянусь честью, — вмешался Паскье, — старинный этот обычай достоин похвалы, но ведь все в мире меняется, и я всегда думал, что долго он не продержится.
— И я был того же мнения, — сказал Ансельм. — На наших глазах даже самые лучшие обычаи вырождаются. Вот вы тут сейчас толковали, какие прежде были кровати. Ну, а скажите, как по вашему разумению: люди и прежде вели себя в делах любви так, как нынче?
— Ни в коем разе, — вступил в разговор Любен, — уж это я по себе знаю. Ведь когда меня собрались женить на вашей племяннице, мне уже было лет тридцать пять или около того, а я еще ни за кем сроду не волочился и даже не понимал, как за это приняться, спасибо, покойная бабка (да ниспошлет господь мир ее душе!) растолковала мне, что к чему. А теперь; сами посудите, можно ли нынче встретить такого молодого парня, что за пятнадцать лет ни разу бы не сталкивался со столь приятными вещами, как мягкий шанкр, перелой[219] либо дурная болезнь, или же такого, что еще женщин не знал? Вот и причина, почему нынешние дети против прежних карликами кажутся. Что? Да ныне, коли молодцу восемнадцать сравнялось, а он не увивается за дамами, не обхаживает девиц, не наряжается да не любезничает, его все кругом осуждают; и приходится ему волей-неволей поступать, как поступают все прочие олухи, делаться их товарищем по несчастью, ежели он не хочет прослыть чудаком, юродивым, безмозглым упрямцем, недотепой.
Тут заговорил мэтр Юге и сказал, что теперь, коли верить молве, мужчину и мужчиной-то не считают, а уж тем более человеком любезным и обходительным, ежели он мало беседует и совсем не знается с женщинами, а вот, дескать, в старину трудно было встретить такого молодца, чтоб понимал толк в вещах, какими ныне кичатся и каким непреложно следуют.
— Вы тут, — продолжал он, — толковали о любви, а я вам расскажу, как прежде бывало: эдакий хват, разряженный по тогдашней моде, — в пестрой рубахе, в красивом пурпурном кафтане, ладно скроенном и расшитом зелеными нитками, в небольшом красном колпаке или, наоборот, в широкополой шляпе, на коей красовался затейливый букетик, в узких штанах до колен и открытых башмаках, перетянутый цветным кушаком с кистями чуть не до пят, — эдакий галантный кавалер, говорю я, постукивал ногой о сундук и лениво любезничал с Жанной там или с Марго, а потом, убедившись, что их никто не видит, вдруг обнимал ее и, не молвя худого слова, валил на скамью, а уж об остальном сами догадаетесь. Сделав свое дело и даже ухом не поведя, он тут же и откланивался, правда, перед тем преподносил даме букет цветов, в те поры это служило высшим знаком благодарности и свидетельством любви; нет, я, конечно, не говорю, что красотка не приняла бы в дар ленту или там шерстяной платок, да только весьма неохотно, ибо это ее уже связывало. Вы, нынешние повесы, вроде бы понимаете толк в любви и сделали волокитство своим ремеслом, вот и скажите, беретесь ли вы таким способом достичь той вожделенной цели, какую высокопарно именуете благодательным даром, высшим блаженством, наградой за долгие усилия, пятой ступенью любви, — той цели, какую иные ученые мужи зовут старинной забавой, древним занятием или даже милой и приятной игрой на цимбалах либо игрою марионеток, разумеется, отнюдь не монашеской? Ан нет, вы без конца рассыпаетесь в любезностях, не скупитесь на клятвы, приходите в отчаяние, тревожитесь, разговариваете сами с собой, точно лунатики, сочиняете вирши, поете на заре серенады, притворяетесь, подаете в церкви святую воду своей даме сердца, выказываете ей различные знаки внимания, меняете наряды, транжирите деньги, заказывая у купцов красивые надписи, подкупаете слуг, дабы те помогали вам в ваших замыслах, затеваете ссоры, стараетесь прослыть отважными, а на самом деле кажетесь храбрецами только среди женщин, а среди воинов слывете дамскими угодниками; зато, когда вам порою удается поговорить с женщиной наедине, вы, как последние хвастуны, ведете такие вот речи:
«Эх, любезная моя госпожа, только прикажите, и я, дабы завоевать вашу любовь, шею себе сверну! Но понеже сделать это здесь несколько затруднительно, я, пожалуй, пойду сражаться хотя бы против турок, а уж они известные вояки. Клянусь святым Кене[220], милая дама, во время последней войны (а была она, если не ошибаюсь, в Люксембурге) я при одном только воспоминании о вас нанес такой удар, что все войско… Нет, больше я ничего не скажу. Ах, любезная дама, моя сладостная мечта, моя благая надежда, источник моей твердости, мое сердечко, душа моя!..», «Увы, любовь!..», «Увы, когда б вы знали…», «В моей душе пылает жар», «Перетта, приходи скорей…», «От этого огня…»[221]. «Как? Что я могу еще вам предложить, — прибавляете вы потом, — кроме самого себя, да ведь я и так служу вам верой и правдой, вы можете располагать мною, как собственной вещью, заклинаю вас, соблаговолите считать меня своим рабом и поверьте, что отныне число ваших преданных слуг выросло, и вы найдете в моем сердце любовь и решимость служить вам до гроба».
И вот после всех этих смиренных просьб да прошений на вашей слезнице снизу пишут: «Да ведь я вас совсем не знаю», — а сие надобно понимать так, что вам надлежит быть верным слугою еще года два, а то и все три, что вы и впредь должны вести себя, как одержимый, пока дама не убедится в вашем неизменном постоянстве и полной преданности. Но тут, как на грех, появляется вдруг человек более ловкий и решительный, нежели вы, он живехонько оттирает вас в сторону, и тогда-то начинается самая заковыка: вам скрепя сердце надобно обхаживать теперь этого пришельца, дабы вызнать его истинные намерения, но делаете вы все это, понятно, тайком, напуская на себя безразличный вид, уверяете его, что совсем от этой дамы отдалились, что она не стоит того, чтобы человек благовоспитанный уделял ей внимание, ибо она ко всем холодна и даже не думает вознаграждать тех, кто долго и бескорыстно ей служит. Однако во всех этих гордых речах сердце не участвует, и достаточно ей в один прекрасный день украдкой бросить на вас взгляд, приветливо кивнуть, улыбнуться уголком рта или просто позволить вам прикоснуться к краю ее платья, поднять с пола наперсток либо подать веретено, и вы уже считаете себя (так вам, по крайней мере, кажется) самым счастливым человеком на свете; а между тем стоит вам отвернуться, и она показывает вам язык, корчит за вашей спиной рожи, высмеивает вас с каждым встречным и поперечным, говорит, что вы, конечно, пригожий юноша, и ростом вышли, и статью взяли, и за столом сидеть умеете, да только человеком благовоспитанным станете еще не скоро, что, коли не помрете, то долгий век проживете, что манеры-то у вас, дескать, хороши, а пользоваться ими вы не умеете, и все в этом же роде, так что если б вы хоть одно ее такое словечко услышали, то тут же пошли бы да и удавились со стыда, понявши наконец, какое презрение она к вашей особе испытывает. Вот и имейте с ними дело после этого!
— Как же так получается?! — вмешался Паскье. — Вот я вас слушал, куманек, и все думал, к чему вы это рассказываете? Ведь эдаких волокит да молодчиков в наших местах и видом не видать, да и привечать бы их у нас нипочем не стали.
На это мэтр Юге отвечал, что он, дескать, просит прощения, но только он говорил, мол, о том, что ему доподлинно известно; однако ж он уже довольно порассказал и готов кончить.
— Ну и кончайте в добрый час, — подхватил Любен, — только допрежь скажите, как по-вашему должен бы браться за дело повеса, о коем вы поведали?
— По мне, — отвечал мэтр Юге, — ему бы надобно бросить все эти длинные и докучные разглагольствования, ибо они, по правде сказать, ни к чему не могут склонить даму; он бы гораздо раньше своего добился, коли ввернул бы вовремя нужное и приятное словечко да еще сопроводил бы его тем, что в кошеле носят, а без конца прислуживать да угодничать к лицу разве только дурачине-простофиле. Ибо, сами посудите, ведь они, дамы-то, столько всяких ухажеров повидали, что те им уже просто глаза намозолили, и так они к своим обожателям привыкли, как осел привык на мельницу ходить; а еще, сдается мне, дам этих можно уподобить ослам, каковые обычно встречаются в военных обозах: такие ослы постоянно слышат брань да богохульство, а потому ухом не ведут и с места не трогаются, пока их как следует дубинкой не огреть, а уж тогда они мчат своих хозяев сквозь огонь, точно вязанки с хворостом. То же самое можно сказать и о нынешних дамах, — ведь они только потешаются, видя, как несчастный воздыхатель теряет всякую надежду, убивается, как он при одном взгляде на предмет своей любви меняется в лице и не знает ни минуты покоя; я бы так сказал: сии дамы держат в руках сердце обожателя и играют им по собственной прихоти, как это делает фокусник с картинкой, проворно вертя ее в руках. Зато, когда наш воздыхатель достает набитый деньгами красивый кошелек, запертые досель ворота распахиваются перед ним, так что в них теперь хоть воз с сеном въедет; вот и выходит, что кошелек — самое лучшее лекарство, ключ к любой загадке, кормило корабля, рукоять плуга.
— Вижу, вы судите не по рассказам, а по опыту, куманек, — заметил Ансельм, — и я так понимаю, что многое вы на своей шкуре изведали.
— Черт побери! — отвечал мэтр Юге. — Вот то-то и оно, я такие дела куда как хорошо знаю и мог бы обо всем этом сочинить книгу потолще молитвенника.
— Неужто нельзя отыскать таких женщин, коими движет не расчет да алчность, — вмешался Любен, — таких, что могут любить бескорыстно?
— Отчего ж, и такие встречаются, — отвечал мэтр Юге, — да только я говорил о тех, каких гораздо больше, ведь я сам не раз бывал обманут и многие, мои приятели тоже.
— Ну, это меня не удивляет, — заметил Паскье, — коль скоро вы сии дела досконально изучили и в них понаторели. Но только, позволю себе заметить, мы уже старики, и нам не пристали эдакие речи, вернемся-ка лучше к прежним беседам, кои касались лишь благонамеренного поведения да старины, ибо, клянусь святым Обером[222], от ваших разговоров даже и у меня слюнки текут. Хотел бы я знать, как вы себя вели, когда были школяром.
— Я-то? — отозвался мэтр Юге. — Да я прогневил бы господа бога, ежели, будучи школяром, не употреблял бы во благо то, чем школяры обладают, ибо не зря женщины говорят, что всякий школяр, как скоро к своим штанам гульфик прицепит, тут же ищет, кому бы о том рассказать.
— Скажу по совести, — подхватил Любен, — слыхал я в свое время, что вы в этих делах мастак были и черт знает что откалывали. Ха-ха, ведь вы у нас известный повеса!
Мэтр Юге усмехнулся и, отвернувшись, пробормотал, что господь бог, конечно же, простит ему былые проказы, но кто, мол, через все это не проходил или хотя бы разок вместо двери в окно не выходил?
В мае месяце, когда в полях вновь начинаются любовные забавы, жители деревни Фламо основали сообщество лучников и каждый праздник премного упражнялись в стрельбе из лука; дело у них шло так успешно, что во всей округе только об этом и говорили и не уставали их хвалить. Однако так продолжалось недолго, ибо жители деревни Вендель, как известно, их ближайшие соседи, начали испытывать к ним зависть и тайную вражду, слыша такого рода похвалы и одобрительные отзывы: сердило их то, что хвалят соседей, а они считали, что и сами молодцы хоть куда и не менее ловки. Жители Венделя эту свою вражду затаили глубоко, но до поры до времени они притворялись и ничем ее не выказывали, хотя, когда пасли скот на лугах или пахали землю либо занимались иными полевыми работами, их так и подмывало затеять ссору с соседями. Но все же зависть свою они долго скрывать не могли, и она непременно должна была выйти наружу, подобно тому как огонь, что долго таился под пеплом, вдруг вспыхивает ярким пламенем как раз по тон причине, что угли неприметно тлели под золою. И вот однажды, когда четверо или пятеро крестьян из каждой деревни ненароком оказались рядом, жители Венделя затеяли ссору, стали задевать соседей и завели с ними яростный спор о своих правах да преимуществах; жители Фламо были этим немало удивлены, ибо не понимали истинной причины свары и думали, что ссора началась из-за пустяков и что вся-то она выеденного яйца не стоит. А посему они и попросили соседей ссору прекратить и больше их не задевать, говоря, что все они, мол, друг дружку знают и что не стоит, дескать, так сердиться да злобиться, ибо без соседей ведь не проживешь.
— Эх, да будь у нас столько экю, сколько у вас козьего дерьма, в коем вы по горло сидите, — отвечали им на это жители Венделя, — мы бы куда как богаты были!
Жители Фламо, как и подобает людям рассудительным, ничего на это не ответили, ибо что пользы спорить с тем, кто прикидывается глухим. Они только сказали:
— Ладно, ладно, так уж и быть! Вы, конечно, люди любезные, славные. Ступайте, ступайте, вас, видать, с кислого молока развезло.
Жители Венделя распалились и, в свой черед, отвечали, что их соседи из Фламо — известные потаскуны да хвастуны, по что они даже землю возделывать не умеют, а потому бедны, как церковные крысы, и только языком молоть горазды. А вот в Венделе земля дает гораздо больший урожай, чем земля во Фламо, и это могут по чистой совести подтвердить те, кто живет возле Ведского брода[223], ближайшие соседи и друзья тех и других. А что до скотины, то, сказать по правде, бараны из Фламо не идут ни в какое сравнение с их собственными баранами, а уж быки и подавно. Так что нечего-де впредь чепуху молоть, потому как верх все равно за ними. Жители Фламо, однако ж, твердо и упрямо гнули свое, говоря, что земля у них, мол, гораздо плодороднее и лучше ухожена, чем в деревне Вендель, где ничего не растет, окромя чертополоха, терновника да репьев, и живут-то люди в той деревне, точно нехристи какие, не ведая стоящих забав; они же тут, во Фламо, напротив того, отличаются в стрельбе из лука, так что на них даже приходят глядеть пригожие девицы, кои ни за что на свете в Вендель не пойдут, ибо тамошние жители просто пентюхи и неповоротливы, как раскормленные быки.
Столь обидные разговоры и выпады с обеих сторон продолжались весьма долго, и спорщики уже готовы были проломить друг дружке голову, ежели б те, кто поблагоразумнее, не выступили посредниками и не утихомирили забияк. Под конец жители обеих деревень почувствовали себя оскорбленными, каждый почитал себя задетым и жаждал мести. А крестьяне из Венделя, из-за коих, по правде сказать, весь сыр-бор загорелся, всюду жаловались, что они, мол, кровно обижены, и ждали только малейшего повода для ссоры, но при этом они прикидывались простачками, говоря, что пусть им, дескать, дадут есть свой суп спокойно, а уж им самим-то ничего от других не надобно, только бы их первыми не задевали; впрочем, прибавляли они, теперь уж этого дела так оставить нельзя. И вот (по наущению обитателей Ведского брода, кои надеялись в конце концов подмять под себя обе деревни) они порешили в ближайшее воскресенье устроить набег на пастбище, где жители Фламо упражнялись в стрельбе из лука, и задать им жару. В этой затее особо горячее участие принимал Жуан Претен, тот самый, что любил всех подзадоривать да подливать масла в огонь; он твердил, что надобно, мол, проучить этих наглецов из Фламо, коль скоро они сами напрашиваются, и что, дескать, людям честным и порядочным не пристало искать дружбы подобных мерзавцев; он вспоминал и перечислял все споры, какие, известно, всегда происходят между соседями. Изучив вдоль и поперек причины ссоры и все тщательно взвесив, жители Венделя с общего одобрения порешили, что в ближайшее воскресенье они как следует всыплют этим нахалам из Фламо. И вот в воскресенье все собрались в харчевне у Тальбо Ловкача, вооружившись чем попало: один притащил железный прут, другой вилы, тот явился с серпом на длинной рукоятке, этот прихватил пику, у кого в руках была суковатая дубина, у кого остроконечный кол, кочерга, а то и коромысло; кто-то разыскал ржавое копье еще времен битвы при Монлери[224], словом сказать, всякого оборонительного и наступательного оружия было вдоволь.
Изрядно выпив для храбрости, они построились в боевой порядок и тронулись в путь, распаленные хмелем, твердо решив показать противнику, где раки зимуют. Впереди доблестного воинства для поддержания духа шел некий Туржи, наигрывая на волынке, да еще мельник из Блоше, играя на гобое, причем оба они дудели что есть мочи. Так продвигались вперед наши вояки, и жители Фламо, впрочем, думавшие о них не больше, чем о прошлогоднем снеге, могли бы легко услыхать шум, ибо пришельцы галдели, громко гоготали и похвалялись:
— Братцы, ведь мы, как известно, идем туда не четки перебирать. Пусть каждый покажет, на что он годен, ну, а уж там дело само пойдет!
И вот, достигнув пастбища, где жители Фламо упражнялись в стрельбе из лука, пришельцы подняли такой шум и гам, что многие обитатели Фламо сбежались, дабы узнать, что случилось; увидя своих заклятых врагов, они весьма изумились, ибо им и в голову не могло прийти, что те окажутся столь дерзкими. А жители Венделя, не молвя худого слова и даже не поздоровавшись с честной компанией, принялись плясать, как сумасшедшие. Когда же какой-то крестьянин из Фламо вздумал было присоединиться к их пляске, они его весьма грубо оттолкнули, присовокупив, что, уж конечно, не для такого танцора они сюда с собой музыкантов привели. После чего чужаки стали зло потешаться над жителями деревни, говоря, что никто, мол, из здешних хвастунов теперь и кашлянуть не посмеет, если даже слопает целый мешок перьев. Между тем стрелки из лука оставили свое занятие, дабы узнать, что случилось. Однако ж, услыхав, что шум стоит все из-за той же перебранки, какая произошла несколько дней назад, и поняв, что им следовало бы дать достойный отпор нахалам, они тем не менее тишком да молчком возвратились к себе на лужок. Видали ли вы когда, как собака, стянув кусок сала и заметив, что ее увидели, словно бы признаёт свою вину и убегает трусцой, поджавши хвост и все время оглядываясь? Точно так повели себя и лучники из Фламо, правда, вид у них был при этом прежалкий и были они весьма пристыжены. Впрочем, они тут же одумались и собрались с духом, понявши, какое ужасное оскорбление нанесли им жители Венделя, кои до того обнаглели, что заявились прямо во Фламо и бросили его обитателям вызов на пороге их собственного дома. Кто бы мог подумать, что из-за нескольких слов, сказанных в запальчивости в ответ на грубость, жители Венделя захотят нанести своим соседям такую обиду? Хорошенько все взвесив, люди из Фламо заключили, что если они не дадут отпора чужакам, то навсегда будут опозорены и унижены и им тогда ни в одну из окрестных деревень нельзя будет нос показать, ни в одну порядочную компанию заявиться, понеже их честь и достоинство будут слишком задеты и понесут непоправимый урон. При одной мысли об этом к ним вернулись храбрость и мужество. Украдкой стали они поодиночке пробираться в харчевню кабатчицы Ногастой, и скоро их туда набилось человек тридцать; пропустив по стаканчику вина да повторив это не раз и не два, они пришли в такой раж, что, не теряя времени, вооружились, пожалуй, не хуже, а даже лучше своих противников, и хотя жителей Фламо было поменьше, нежели тех, однако ж ведь победа чаще всего добывается не числом, а умением. Хорошенько приготовившись, наши храбрецы из Фламо решили не нападать на врагов среди равнины, ибо риск при этом был слишком велик; а посему они положили подстеречь противника возле дороги в ущелье, что было куда выгоднее, так что замысел этот одобрил даже некий старик ландскнехт[225]: он когда-то участвовал в войне и постоянно твердил, что одолеть врага позволительно любым путем и способом. И вот оскорбленные жители Фламо пустились в путь, твердо решив как следует проучить невеж и нахалов. Жители Венделя между тем весьма дивились, не видя вокруг больше никого и обнаружив, что все куда-то подевались, кроме двух или трех стариков из Фламо, кои принялись стыдить пришельцев и учить их уму-разуму, говоря, что негоже, мол, так поступать, негоже мешать мирному отдыху людей и, как говорится, лезть прямо в чужой двор; под конец старики прибавили, что пришельцы, чего доброго, еще в этом раскаются, ибо частенько ждешь одного, а дело оборачивается совсем по-другому. Жители Венделя, однако ж, в ответ на попреки да укоры осыпали стариков самой обидной бранью и снова пустились в пляс. Потом они повалили наземь мишени для стрельбы из лука и беспорядочной гурьбою двинулись в обратный путь, даже и не подозревая о засаде; по дороге они толковали о том, что им, дескать, бояться нечего, ибо жители Фламо им в подметки не годятся, и что те отныне и навсегда лишатся всяческого уважения; потом они прибавляли, что во Фламо кричат громко, но это, мол, гром не из тучи, а из навозной кучи; прямо тут, по пути домой, они сложили незамысловатую песенку о своих подвигах и распевали ее во все горло, впрочем, довольно складно, да еще пританцовывали в лад. За всем этим они даже не заметили, как достигли ущелья; эта часть дороги неспроста звалась ущельем, ибо дорога тут переходила в очень темную ложбину, и такую узкую, что по ней могла проехать всего лишь одна повозка, а по обе стороны дороги возвышались две скалы, так что выбраться оттуда было никак нельзя; возле того места, как я уже сказал, и спрятались жители Фламо, одни в конце ущелья, другие — по бокам, причем все они запаслись увесистыми камнями. Жители Венделя еще шли, приплясывая, и болтали без умолку; когда же они вступили в ущелье, их там встретили, как говорится, по достоинству, ибо жители Фламо, не молвя худого слова, принялись швырять в своих врагов увесистыми камнями, так что эти бедолаги сперва не могли уразуметь, откуда на них такая напасть, позднее они сами с кривой усмешкой признавались, что были весьма удивлены и даже просто ошарашены, когда на них обрушился град камней. И вот, по причине этого, они гурьбой кинулись к выходу из ущелья, дабы поскорее выбраться из западни. Однако ж (какая злосчастная встреча!) у выхода их уже поджидала добрая дюжина молодцов из Фламо, кои, вооружась оглоблями, стали лупить врагов по голове да по плечам и отделали их на совесть. Бедняги из Венделя, понявши, что попали впросак, и видя, что дело плохо, стали истошно вопить: «Караул! Убивают!» — и молить о пощаде.
— Ох, люди добрые, помилосердствуйте! Простите нас!
— Черт побери! — отвечали на это жители Фламо. — Прощают да грехи отпускают в Риме, а уж тут вы свое получите сполна! Вы ведь, дьявол вас возьми, молодцов из себя строили, вот и покажите свою храбрость! Ну, как? Хватит? Или еще добавить?!
Надобно заметить (и это самое забавное), что женщины из обеих деревень вскоре услышали шум и вопли, доносившиеся с дороги, и тут же решили пойти поглядеть, что ж там такое происходит и творится, понеже из мужчин в деревнях оставались в ту пору одни только старики, что сторожили дом, поддерживали огонь в очаге да передвигали горшки в печи, — правда, они тоже приковыляли к месту драки, да только уже было поздно. И вот женщины, сильно распалившись и побросав все домашние дела, сбежались к ущелью, и там, по воле божьей, крестьянки из Фламо нос к носу повстречались с крестьянками из Венделя. А те, увидя, что с их незадачливыми муженьками обошлись столь жестоко и они едва ноги унесли, задумали выместить обиду на женщинах из Фламо, а посему принялись швырять в них камни. Их противницы, в свою очередь, ответили на это градом булыжников; поблизости, как на грех, оказался некий хват, глазевший на сию схватку, и он, чтоб посмеяться над женщинами, крикнул, что, дескать, нипочем нельзя ловко метать камни, не вскидывая задом; услыхав это, крестьянки с досады начали изо всех сил молотить друг дружку кулаками, разбивать носы в кровь, таскать за волосы, волочить по земле, царапаться, кусаться, срывать одна у другой с головы платки, словом сказать, безжалостно сводить счеты, на что женщины, как известно, великие мастерицы.
Однако ж я оставлю покамест женщин и возвращусь к крестьянам из Венделя; они тем временем пустились наутек и бежали во всю прыть, но при этом по-прежнему молили о пощаде, прося, чтобы их Христа ради оставили в покое, — только все было тщетно, их куда как крепко да здорово отлупили, и, хотя они и задали стрекача, противники преследовали их до самой деревни. Прибежав к себе, бедолаги из Венделя с преогромным трудом разыскали свои дома, ибо были они во власти ужасного страха и торопились спастись от преследователей. Между тем жители Фламо (по крайней мере, иные из них) вошли во вкус и положили так проучить своих злополучных обидчиков, чтобы тем впредь неповадно было, но все же среди них нашлись люди благоразумные, они-то и сказали, что, мол, это уж слишком, что те свое, дескать, получили и негоже столь жестоко мстить соседям. Слова сии сочли справедливыми, и жители Фламо повернули назад, прихватив с собою волынку да гобой, чему они весьма радовались и веселились. Подойдя к ущелью, победители увидели, что женщины все еще сражаются. И в той схватке с обеих сторон показали себя многие знатные драчуньи: они с особливой яростью наносили удары друг дружке; одна, сняв с ноги подбитый гвоздями башмак, изо всех сил гвоздила им своих супостаток, другая так яростно пинала ногой всех подряд, что те валились наземь, третья, положив в сумку камень, размахивала ею, как кузнец своим молотом. Словом сказать, неуемные эти бабы дрались так, что чертям было тошно. И они бы еще долго сражались, когда б их не развела наступавшая ночь. Заметив, что уже смеркается, сии амазонки вернулись каждая под свой стяг, и тут обнаружилось, что ни у одной не осталось на голове ни платка, ни сетки, лица у всех были расцарапаны в кровь, уши едва не вырваны с корнем, волосы свисали, как нечесаная пакля, а платья обратились в лохмотья. Когда же они увидели, что совсем стемнело, то начали безбожно поносить друг друга, крича во всю мочь: «Шлюхи, гулящие девки, торговки тухлой требухой, ведьмы, беззубые чертовки, злыдни, паскуды, воровки, мошенницы, мерзавки, колдуньи, подлюги, грязные свиньи, суки, толстозадые бабищи, дри…ньи, сопливицы, гниды, вшивицы, слюнявые рожи, замарахи, спесивые дуры, гнусные стервы, недотепы, ржавые пищали, старые сквернавки, негодные корзины, солдатские подстилки, сводни, бестолковые баламутки, бесстыжие нахалки, вонючки, замшелые кислены, облезлые образины, наглые морды, прожженные потаскухи!»
И так эти богини орали да голосили, что весь лес Де-ла-Туш гудел от их крика, как рассказывал потом Илло Твердозад, а находился он тогда там, ибо срезал гибкую ветвь вяза, дабы смастерить себе лук. По правде говоря, трудно судить, кто ж именно взял верх, понеже с обеих сторон было выказано премного храбрости и ловкости, ибо амазонки сии отменно и кулаками махали, и языками трепали; когда же схватка уже затихла, они, расходясь по домам, все еще грозили друг дружке.
А эту часть дороги, какую допрежь обычно называли ущельем, стали с тех пор именовать Дорогой Схватки. И местные жители всякий раз столь упорно и яростно бились на ней, что и по сей день, ежели там ненароком сойдутся крестьяне из обеих деревень (ибо гора с горой не встречается, а человек с человеком сходится, ежели только оба не горбаты), то уж беспременно задирают друг друга и пускают в ход кулаки единственно для того, чтобы поддержать сей славный и достохвальный обычай: так они пообещали и поклялись делать и поступать, сами по доброму своему желанию и согласию положили держаться сего правила, как говорится, ныне, и присно, и во веки веков.
Вот что я хотел поведать вам об этом приснопамятном дне на Дороге Схватки, и, поверьте, рассказал я все так, как сам слыхал.
Тут заговорил Ансельм и присовокупил, что жители Венделя испокон века были страсть какие забияки и никогда удержу в гневе своем не знали. Однако ж чаще всего они бывали биты или уж непременно попадали впросак.
Нет здесь, конечно же, никого, кто не знает, что Перро был славный малый, щеголял он в камзоле тонкого сукна и отличался весьма тонким умом, а уж выпить-то был всегда готов, не слишком заботясь о том, кто за выпивку платить станет. Понеже все мы несовершенны, то и у него был один недостаток: насколько хорошо он разбирался в чужих делах, настолько же бывал слеп, худоумен и безрук, едва речь заходила о его собственных, ибо, сдается мне, куда как просто давать советы, но тот, кто других поучает, сам зачастую ничего не умеет. Перро распоряжался в своей округе, словно бы полубог какой, и был он, как говорится, первый человек на деревне. А получалось это, как я уже сказывал, поелику умел он весьма скоро чужие дела решать, и все обращались к нему за советом, зане слыл он человеком знающим и понаторевшим в делах; и посему ни одна тяжба (а это немало) не начиналась, покамест он к ней своей руки не приложит; водрузив на нос очки, потому как был он подслеповат, Перро погружался в изучение бумаг и с важностью изрекал свое суждение; зато в благодарность он всегда первым вкушал от плодов местных земледельцев: приносили ли ему гусят либо цыплят — ничем он не брезговал и, ничуть не чинясь, брал все без разбора, хотя сперва для вида отказывался, говоря (по обычаю стряпчих), что с него хватило бы и словесной признательности, но коль скоро проситель так настаивает, то уж ничего не поделаешь. А еще отличался он превосходным свойством: где бы ни шла пирушка, он был тут как тут, даже если его и не звали. Прямо с порога принимался хихикать и обращался к честной компании обычно так:
— Да пребудет господь бог в доме сём, а монахов к чертям пошлем! Мир честной компании. Да будет на то воля божья, чтобы мы и век спустя могли здесь друг друга обнять!
Этьен Делон (1518–1583?), французский художник.
Диалектика.
Аллегорическая фигура из серии «Основные науки».
Гравюра резцом.
Возгласив это, Перро снимал плащ, швырял его на сундук и присаживался к столу. И какой бы ловкий говорун уже ни восседал за этим столом, никто не мог забить нашего Перро и никто не умел лучше поддержать беседу; он болтал без умолку — то побасенку какую расскажет, то историю какую вспомнит, а то самую свежую новость сообщит, тут же и выдумав ее на месте; любил он похвастаться и тем, как он ловко иск вчинил, и сочинял такие подробности, что все служило к его чести. Затем он просил:
— Передайте-ка мне это блюдо! Позвольте взять у вас нож! Налейте винца, горло промочить! Нет, ничего не убирайте, новые кушанья несите, а старых не уносите! Да простит ему бог, он подцепил тот кусок, на какой я сам нацелился! Из всех рыб, окромя линя, вкуснее всего крылышко каплуна, что бы там ни толковали знатоки о ножках! А вот и кусок, ради коего наша славная хозяюшка зарезала барана, и надобно ему честь воздать. Любезная дама, коли вам не спится, отведайте сию куриную ножку. Видать, отменный был бычок! Должно, нагуливал себе жир на сочных лугах. Пододвиньте-ка мне этого голубя, и я с ним разделаюсь по всем правилам. Еще капельку уксуса, дочь моя. Ах, черт бы побрал прислугу, вам этого голубчика изрядно подпортили, хозяюшка, где только были ваши глаза! Его бы еще на вертеле подержать, да соус поострее сделать. А-а, любезный зайчишка, добро пожаловать! Черт подери, да он совсем сырой! Ну, уж ладно, подавайте его сюда, с горчичкой пойдет. Как, сударь, неужто вы это на блюде оставите? Оно, конечно, первые куски следующим метают. Послушай, сынок, положи-ка его на жаровню, и я тебя, с божьей помощью, женю на своей старшей дочке, а покамест налей мне вон из той бутылочки. Покорно благодарю, сударь, я в долгу не останусь. Да, да, клади, как себе. И я вам услужу в день вашей свадьбы. Вот что, дружок, ответь без вранья: сколько ты можешь этого съесть, прежде чем осовеешь? Да, лет эдак пятнадцать назад столь лакомого кусочка я б не упустил! Ну и аппетит у него! Глядите, как уплетает, хоть бубенцы к подбородку подвязывай… Дьявол меня возьми! Вот славный поросенок! Ей-ей, он вволю поел желудей. А у меня, как на грех, во рту ни единого крепкого зуба. Да, встречаются чудаки, что едят только в свои часы, да все больше утром, а не вечером; я не таков: ем во всякий час и на здоровье не жалуюсь. Будем поступать, как старые служаки, еду запивать паки и паки! Коли мне стаканчик не поднесут, я за все яства и гроша медного не дам. Уберите воду, вино и без того достаточно крепкое. Утром пей чистое вино, а вечером — неразбавленное! Вот так сыр! Дружище, подыми-ка салфетку. Дайте мужлану салфетку, он из нее путлищ настрижет. Что-то нож у меня давно без дела, дай-ка мне выпить! Ну да, я пьян, а брюхо у меня что барабан, пойду малость потанцую. Ешьте! Да вы совсем не пьете! Говорите, после такого обеда и попоститься не грех? Трень-брень! Ежели мои дети доброй закваски, они долгий век проживут. Коль вино с водой мешаем, мало проку получаем! Вина! Не то я потом больше потребую! Съел грушу — пей за милую душу! Ну и яблоко! Знай, к чему оно поведет, первая на земле дама подальше б спрятала его от Адама. Эх, куманек, выпьем из почтения к нему, из любви к ней! Да, сестрица, я выпил за свою кумушку, так неужто она за меня не выпьет? Ничего, не помрете, ежели разок выпьете, как бретонке положено. А я из этого дома не уйду, пока жажду не залью…
— Кум Ансельм, — вмешался мэтр Юге, — покорно вас прошу, будьте покороче и заканчивайте поскорей, ибо я хочу, пока еще не спустилась ночь, поведать вам занимательную историю, она позволит нам поддержать сию беседу на старинный мудрый лад.
— Клянусь богом! — подхватил Паскье. — Я б тоже мог такое порассказать о Перро! И все кстати. Да только ночь близится, и мы уж всякого о нем наслушались, а посему я готов выйти из игры, и у нас останется время, каковое вы с пользой употребите на свой рассказ.
В городе Амбуазе жил некий погонщик мулов. Он был на службе у королевы Наваррской, сестры короля Франциска Первого, которая в то время жила в Блуа[227] и у которой только что родился сын[228]. Туда-то и отправился погонщик мулов, чтобы получить свое жалованье за три месяца, жена же его осталась одна в Амбуазе[229] по другую сторону реки.
Один из их работников давно уже был до безумия влюблен в нее и в конце концов как-то раз не выдержал и открыл ей свою любовь. Но, как и подобает женщине целомудренной, она встретила его весьма нелюбезно и даже пригрозила, что скажет об этом мужу и попросит, чтобы тот его побил и выгнал из дому.
После этого работник ей больше ни слова не говорил о своей любви и ничем ее не выказывал. Огонь этот он хранил в тайне в своем сердце до того самого дня, когда хозяин его уехал, а хозяйка отправилась к вечерне в церковь святого Флорентина при королевском замке, находившуюся довольно далеко от их дома. Когда влюбленный работник остался один, ему пришло в голову, что он может силою овладеть той, которая была глуха ко всем доказательствам его любви и ко всем его мольбам. И он проломал дыру в деревянной перегородке, отделявшей его комнату от спальни хозяйки. А так как в этой спальне стена возле кровати была прикрыта занавесью и в комнате работника стена была точно так же занавешена, то сделанный им пролом остался никем не замеченным, и, вернувшись из церкви, хозяйка и жившая вместе с нею девочка одиннадцати — двенадцати лет спокойно улеглись спать. Едва только ничего не подозревавшая женщина уснула, как работник, в одной ночной рубашке и держа в руке обнаженную шпагу, проник в комнату и забрался в кровать к своей хозяйке. Увидав его около себя, та сразу же соскочила с постели и, будучи женщиной честной, старалась его образумить, как только могла. Ему же язык мулов был бы в эту минуту понятнее самой разумной человеческой речи, — он был до такой степени охвачен плотскою страстью, что стал еще большим скотом, чем те животные, с которыми он столько времени пробыл. Видя, что женщина бегает вокруг стола и никак не дается ему в руки и что она достаточно сильна, так как ей два раза удавалось от него вырваться, он отчаялся завладеть ею живой и решил использовать для этого последнее средство: он изо всей силы ударил ее шпагою по спине, думая, что, если он ни страхом, ни силой никак не мог ее одолеть, жестокая боль принудит ее все-таки сдаться. Случилось, однако, совсем другое. Точно так же, как истый воин, завидев кровь, разгорается еще больше и хочет отомстить врагам и стяжать себе славу, так и у этой целомудренной женщины словно прибавилось сил: она вырывалась из рук негодяя, убегала от него и продолжала с еще большим рвением увещевать его, стараясь, чтобы он понял всю низость своих побуждений. Однако тот был так разъярен, что, не слушая ее слов, нанес ей еще несколько жестоких ударов. До тех пор, пока несчастная женщина держалась на ногах, она все еще пыталась от него убежать. А когда наконец она уже совсем ослабела и почувствовала, что смерть близка, она воздела очи к небесам, сложила руки и обратилась с молитвою к богу, наделившему ее силою, добродетелью, целомудрием и терпением, моля его узреть ту кровь, которая была пролита, дабы не ослушаться его велений и в память о крови, пролитой его сыном, способной, как она твердо верила, смыть всякое зло. И со словами: «Господи, прими душу, искупленную милосердием твоим», — она упала на землю лицом вниз. Негодяй нанес ей еще несколько ударов, а потом, когда она уже не в состоянии была ничего сказать и совсем ослабела, отнял у нее силою то, что защитить она уже не могла.
Едва только работник удовлетворил свое мерзкое вожделение, он бежал — и с такой поспешностью, что, сколько его потом ни искали, найти никак не могли. Девочка, спавшая в той же комнате, до того испугалась, что спряталась под кровать. Но едва только она уверилась, что насильник убежал, она кинулась к своей хозяйке и увидела, что та уже ничего не говорит и еле дышит. Тогда она высунулась в окно и стала звать на помощь соседей, которые любили и уважали ее хозяйку как женщину порядочную, и тут же все сбежались, приведя с собою хирургов. И эти, осмотрев ее, обнаружили у нее на теле двадцать пять ран, оказавшихся смертельными. Они пытались всячески помочь ей, но старания их были напрасными. Несчастная протомилась еще около часу, так и не вымолвив ни слова. И только по тому, что она делала какие-то знаки то глазами, то рукой, можно было видеть, что сознание она не потеряла. Когда вызванный к ней священник стал спрашивать, верит ли она и надеется ли на то, что Иисус Христос один может даровать ей спасение души, она отвечала ему знаками, изъяснявшими едва ли не лучше, чем то могли бы сделать слова, что умирает она настоящей христианкой. Вот так, с радостью на лице, с глазами, воздетыми к небесам, она отдала свое целомудренное тело земле, а душу — господу. И только когда ее уже одели и положили в гроб, а гроб в ожидании погребения поставили перед домом, явился несчастный муж. И первое, что он увидел, прежде чем успел что-либо узнать, — была покойница в гробу. Когда же ему рассказали, что послужило причиною ее смерти, он так опечалился, что чуть было не отдал богу душу. А мученицу целомудрия погребли в церкви святого Флорентина, и все порядочные женщины этого города собрались отдать ей последний долг и чувствовали себя счастливыми, что именно в их числе оказалась столь добродетельная жена. Женщины же легкомысленные и ветреные, видя, сколько почестей воздают ее телу, прониклись уважением к ней и решили с тех пор вести себя иначе.
Вот, благородные дамы, истинное происшествие, которое должно еще больше побудить всех нас беречь добродетель и целомудрие, ибо им нет цены. И мы, женщины благородного происхождения, должны бы сгореть со стыда, когда в сердце нашем рождается вожделение, видя, как несчастная жена погонщика мулов не побоялась столь жестокой смерти, чтобы только этому вожделению не поддаться. А есть ведь среди нас и такие, которые считают себя женщинами порядочными, в то время как им еще не пришлось испытать, что значит заплатить за честь свою кровью. И нам следует смириться, ибо милость господня дается не только людям богатым и благородным, а всем тем, кого господь возлюбит в своей доброте; он ведь не принимает в лоно свое любого из смертных, а избирает сам угодных ему, а избранник его творит ему хвалу добродетелями своими. Избирает же он нередко людей простых и незаметных, чтобы не слишком возгордились те, кому благородство и высокое положение приносят почести в свете. Ведь и в Писании сказано[230]: не будем радоваться добродетели нашей, возрадуемся только тому, что имена наши занесены в Книгу Бытия, где их не сотрет ни Смерть, ни Ад, ни грехи наши.
Не было ни одной дамы, которая бы не прослезилась от жалости к несчастной, сумевшей умереть столь достойно- И каждая в душе думала, что, если с ней приключится нечто подобное, она постарается последовать примеру мученицы.
Тогда госпожа Уазиль[231], видя, что все наперерыв восхищаются этой женщиной и воздают ей хвалу, сказала Сафредану[232]:
— Вы должны сейчас же рассказать что-нибудь, чтобы рассмешить нашу компанию, вы один только можете загладить ошибку, которую я совершила, заставив всех плакать. Передаю вам слово, чтобы вы рассказали третью новеллу.
Сафредан, который горел желанием рассказать что-нибудь, что доставило бы удовольствие всей компании, а в особенности одной из дам, вначале стал было отговариваться тем, что среди присутствующих есть люди и старше и опытнее его, которым надлежало бы быть первыми, но потом сказал, что, коль скоро уж ему выпал этот жребий, он поторопится исполнить то, чего от него хотят, ибо, если ему придется говорить после них, он окажется в еще более трудном положении…
Между Дофинэ и Провансом жил некий дворянин, у которого не было иного богатства, кроме красоты, благородства и чести. Он любил одну девушку, имя которой я не хочу называть, чтобы не причинить огорчения ее родителям, людям весьма почтенным и знатным, но поверьте, что все, о чем будет здесь говориться, действительно было[233]. Будучи ниже ее по происхождению, молодой человек не решался открыть ей свою любовь. А любовь эта была так возвышенна и самозабвенна, что он скорее согласился бы умереть, нежели чем-либо задеть ее честь. Понимая, что он ее недостоин, он запретил себе думать, что когда-либо сможет на ней жениться. И, ничего от нее не добиваясь, он продолжал втайне любить ее самой высокой любовью, на какую только был способен. И длилось это так долго, что в конце концов девушка не могла об этом не догадаться. Видя, как он беззаветно предан ей и сколько в его чувстве бескорыстия и прямоты, она была польщена любовью столь достойного человека и относилась к нему с таким расположением, что он чувствовал себя счастливым и на большее не рассчитывал.
Но злобе человеческой, которой ненавистен всякий покой, захотелось разрушить эту благочестивую и счастливую жизнь. Нашлись злонамеренные люди, которые сказали матери этой девушки, что они боятся, как бы молодой человек не навлек на их дом беду, ибо дочь ее, вероятно, очень к нему привязана, если позволяет себе так часто с ним встречаться. Мать, нисколько, впрочем, не сомневавшаяся в порядочности молодого человека, в котором она была уверена так же, как и в своих собственных детях, крайне огорчилась, услыхав, что о нем так дурно говорят, и в конце концов, опасаясь, что все эти сплетни не доведут до добра, попросила его на какое-то время перестать бывать у них в доме. Молодому человеку было нелегко на это согласиться, ибо он отлично видел, что ему не в чем себя упрекнуть и он никак не заслуживает подобной кары. Однако, чтобы заставить злые языки замолчать, он уехал и не появлялся у них в доме до тех пор, пока поднявшийся вокруг него шум окончательно не улегся. Тогда он вернулся и стал снова бывать в доме своей любимой, где его принимали столь же приветливо, как и раньше. Но однажды, будучи там, он услыхал, что молодую девушку собираются выдать замуж за человека, который, как он полагал, ничуть его не богаче, и подумал, что это несправедливо, ибо сам он знает ее гораздо дольше, чем ее жених. Он опечалился и стал просить своих друзей поговорить с девушкой, считая, что если выбор зависит от нее самой, то, во всяком случае, она отдаст предпочтение ему. Однако и мать этой девушки, и все родные решительно выбрали другого, ибо тот все же оказался намного его богаче. Известие это очень огорчило несчастного молодого человека, который был уверен, что вместе с ним страдает и его возлюбленная. Он занемог от тоски, стал с каждым часом хиреть и вскоре переменился так, что его невозможно было узнать. Его красивое лицо стало бледным, как у покойника, и видно было, что дни его сочтены и он ждет только смерти.
Но, несмотря ни на что, он старался возможно чаще видеться с любимой девушкой, а когда силы совсем его оставили и он уже больше не мог подняться с постели, он не захотел, чтобы возлюбленная его об этом знала, дабы не причинять ей лишних страданий. И, предаваясь так в одиночестве отчаянию и скорби, он перестал пить и есть, лишился сна и покоя и так похудел, что стал совсем страшным. Мать девушки от кого-то проведала об его болезни. Сама она была женщиной очень доброй и к тому же искренне его любила, и если бы все родственники девушки держались того же мнения, что и она, то они, несомненно, предпочли бы честность и благородство этого молодого человека всем богатствам другого. Но родственники отца не хотели об этом и слышать. И все же она вместе с дочерью навестила несчастного. Тот уже еле дышал и в то самое утро исповедовался и причастился, считая, что умирает и больше никого не увидит. И вот, когда он действительно был уже на волосок от смерти, к нему явилась та, которая была для него жизнью, и за миг словно воскресила его. Он почувствовал такой прилив сил, что соскочил с постели и воскликнул:
— Что заставило вас прийти сюда, сударыня, зачем вы явились к тому, кто одной ногой уже в могиле и в чьей смерти виновны вы!
— Подумайте, что вы говорите! — изумилась почтенная женщина. — Возможно ли, чтобы мы были причиною смерти того, кого мы так любили! Прошу вас, объясните нам, как вы решились произнести такие страшные слова.
— Сударыня, — сказал он, — полюбив вашу дочь, я скрывал свое чувство, сколько мог. Сказав, что я хочу жениться на ней, родители мои сказали больше, чем я хотел, а теперь вот беда, которая со мною стряслась, лишила меня последней надежды. А ведь, мечтая об этой женитьбе, я больше всего мечтал отнюдь не о радости, которую она бы доставила мне. Просто я был уверен, что никто на свете не будет так холить и любить вашу дочь, как я. Видеть, как она теряет то благо, которое могла бы иметь от лучшего и преданнейшего друга, для меня мука еще более тяжкая, чем мысль о грозящей мне смерти. Ведь жить мне хотелось только ради нее. А раз жизнь моя не может быть употреблена ей на пользу, то потерять эту жизнь не столь уж большое несчастье.
Услыхав эти речи, мать и дочь принялись утешать его. Мать сказала ему:
— Мужайтесь, друг мой, я обещаю вам, что, если господь возвратит вам здоровье, дочь моя станет вашей женой. Сама она тоже здесь, и я велю ей поклясться, что это будет так.
Дочь ее, заливаясь слезами, старалась заверить его, что исполнит данное матерью обещание. Однако несчастный хорошо понимал, что, если бы вдруг здоровье вернулось к нему, она все равно никогда бы не стала его женой и все, что говорится в эту минуту, говорится только для того, чтобы немного его подбодрить. И он сказал, что, если бы ему довелось услыхать эти слова месяца три назад, он был бы самым здоровым и счастливым человеком во всей Франции. Но сейчас уже поздно: ему больше не во что верить и не на что надеяться. А когда он увидел, что они все же стараются вселить в него веру, он сказал:
— Коль скоро вы обещали мне счастье, которого я теперь никогда не смогу вкусить, даже если бы хотел этого от всей души, ибо сейчас я уже совсем ослабел, я попрошу вас о чем-то гораздо меньшем, о чем при иных обстоятельствах никогда бы не дерзнул просить.
Обе женщины поклялись, что исполнят все, что он захочет, и стали уговаривать ничего от них не таить.
— Умоляю вас, — сказал он, — позвольте мне заключить в свои объятия ту, кого вы мне обещаете в жены, и велите ей обнять меня и поцеловать.
Девушка, не привыкшая к подобного рода ласкам, смутилась и стала было отказываться. Но мать, видя, что и чувства и силы стали уже оставлять его, приказала ей немедленно исполнить все, о чем он просил.
Дочь ее подошла к постели умирающего и сказала:
— Будьте счастливы, друг мой!
Несчастный простер к ней свои исхудавшие руки и, собрав последние остатки сил, обнял ту, которая была причиной его смерти. А потом, запечатлев своими бескровными холодными губами на ее губах долгий поцелуй, прошептал:
— Любовь, которую я питал к вам, так велика и так чиста, что вне брака я не мечтал ни о каком ином блаженстве, чем то. которое ныне вкушаю. Именно потому, что я обрел его и расстаюсь с ним, я с радостью отдаю душу свою господу, который сам есть совершенная любовь и совершенное милосердие, который знает, сколь высока эта моя любовь и сколь праведно мое желание. И сейчас вот, держа в руках то, что мне дороже всего на свете, я молю его, чтобы он принял дух мой в свои руки.
С этими словами он снова ее обнял, и с такою страстью, что его ослабевшее сердце уже не выдержало последнего напряжения и силы его окончательно оставили. Радость любви была столь безгранична, что душа его вместе с нею покинула свою оболочку и улетела к творцу. И несмотря на то, что бездыханное тело становилось все холоднее и холоднее, любовь, которую девушка всегда скрывала от всех, вспыхнула вдруг в ней с такою силой, что матери со слугами стоило большого труда вырвать дочь из объятий ее возлюбленного, которого они потом похоронили со всеми подобающими почестями. А на похоронах несчастная так плакала, так рыдала, так исступленно кричала, что казалось, она только теперь поняла, как его любила, и хотела вознаградить его после смерти за те муки, которые причинила ему при жизни. И потом, как мне довелось узнать, хотя ее и выдали замуж, чтобы она хоть сколько-нибудь утешилась в своем горе, сердце ее больше уже никогда не вкушало радости.
— Мне думается, господа, что этого примера более чем достаточно, чтобы вы поверили, что настоящая любовь, когда она остается скрытой и держится в тайне, может привести человека к гибели. Вы все отлично знаете родственников обоих этих влюбленных. Поэтому сомневаться в истинности того, что я рассказал, не приходится, и в то же время человеку, который сам не испытал ничего подобного, поверить этому трудно.
При этих последних словах дамы прослезились.
— Свет еще не создавал такого дурака! — воскликнул Иркан[234]. — Что же, по-вашему, нам следует погибать из-за женщин, в то время как они созданы исключительно для нашего блага? Мы еще, оказывается, должны бояться потребовать от них то, чем сам господь бог велит им услаждать нас. Я не говорю уже о себе самом и о людях женатых. С меня, например, женщин хватает, у меня их даже больше, чем надо. Я говорю о тех, кто в этом нуждается, кто, на мой взгляд, настолько глуп, что боится женщин, вместо того чтобы внушить им страх. Посмотрите, как эта несчастная девушка жалела о совершенной ею глупости! Ведь уж раз она способна была обнимать мертвое тело (что, вообще-то говоря, отвратительно) и раз ее так растрогал умирающий, она бы ни за что не оттолкнула его здорового и цветущего, если бы в свое время у него нашлось достаточно смелости, чтобы овладеть ею.
— И все-таки, — сказала Уазиль, — любовь этого юноши была так высока, что заслуживает всяческой похвалы. Быть влюбленным и сохранить целомудрие — это же просто чудо.
— Госпожа моя, — сказал Сафредан, — для того чтобы подтвердить слова Иркана, с которыми я вполне согласен, прошу вас, помните, что Фортуна всегда помогает смельчакам и что нет ни одного мужчины, любимого женщиной, — пусть только он домогается этой любви настойчиво и умело, — который в конце концов не получил бы не только то, на что он рассчитывал, но и гораздо больше. И лишь неведение и безрассудный страх заставляют мужчин упускать множество удобных случаев, оправдывая малодушие, которым вызваны все эти неудачи, добродетелью своих возлюбленных. А ведь стоит только по-настоящему напасть, и самая неприступная крепость сдается.
— Послушайте, — сказала Парламанта, — меня, право, удивляет, как вы смеете говорить такие вещи. Или ваши возлюбленные не бывали к вам привязаны, или вы обращались к недостойным предметам любви. Иначе вы никогда не стали бы думать, что все женщины одинаковы.
— Сударыня, — ответил Сафредан, — что касается меня, то в любви мне всю жизнь так не везет, что и похвалиться-то мне совершенно нечем. Но, однако, я был бы неправ, если бы во всех неудачах моих винил одну только женскую добродетель и забыл о том, что сам я подчас бывал недостаточно ловок и осторожен. Людям же ученым я объясню мою мысль словами «Романа о Розе»[235]:
Нам дозволено судьбою
Счастье с женщиной любою.
Вот почему я совершенно уверен, что мужчина, которого полюбила какая-нибудь женщина, если он достаточно сообразителен, всегда сумеет добиться того, чего хочет…
В городе Париже жил некий адвокат, которого уважали так, как никакого другого. Это был человек способный, очень многим приходилось обращаться к нему за помощью, и он считался одним из самых богатых людей во всей Франции. Он был женат, но, так как детей от этого брака у него не было, он решил оставить жену и жениться на другой. И, как он ни был стар, сердце его оказалось достаточно молодо и желания в нем не угасли. Ему приглянулась девушка лет восемнадцати — девятнадцати, одна из самых красивых во всем городе. Она была очень стройна и хороша собою и обращала на себя внимание нежным цветом лица. Адвокат полюбил ее и был с нею очень счастлив, но и от этой жены детей у него не было. Молодую женщину это, разумеется, огорчало. Но так как молодости не свойственна тоска, она стала искать развлечений вне дома, ездила по гостям и бывала на балах, но при всем этом вела себя крайне скромно, и ничего худого о ней муж не думал, ибо хорошо знал, что подругам ее, с которыми она проводила время, вполне можно доверять.
Однажды, когда она была на какой-то свадьбе, в числе приглашенных находился некий принц, который мне потом и рассказал всю эту историю, — запретив, однако, называть его имя. Достаточно сказать, что это был человек, чьи красота и манеры не имели себе равных, да, пожалуй, и не будут иметь. Встретив эту молодую и пленительную женщину, принц не мог оторвать от нее глаз и, увлеченный ею, заговорил с ней столь ласково и нежно, что она охотно стала рассказывать ему о себе и даже не скрыла от него, что чувство, о котором он ее просит, давно уже живет в ее сердце и что уговоры его совершенно излишни, ибо она полюбила его с первого взгляда. Увидев, что в простоте душевной она согласилась сразу на то, чего обычно приходится долго добиваться от женщины, он возблагодарил бога, который оказался к нему столь милостив. И с этой минуты молодые люди так хорошо стали понимать друг друга, что тут же условились о том, где и когда они встретятся наедине. В условный час принц пришел в назначенное место и, чтобы ничем не задеть чести своей дамы, явился туда переодетый. Но чтобы на него не напали бродяги, слоняющиеся ночью по городу, и чтобы, встретив их, он мог остаться неузнанным, он захватил с собою нескольких друзей, на которых мог вполне положиться. Дойдя до угла улицы, где жила эта дама, он расстался с ними, сказав:
— Если в течение четверти часа вы не услышите никакого шума, идите по домам, а часа в три-четыре приходите сюда за мной.
Друзья его так и поступили и, не услыхав никакого шума, ушли. Юный принц направился прямо в дом адвоката. Как ему и было обещано, дверь оказалась открытой. Но едва только он стал подниматься по лестнице, как перед ним из темноты появился сам адвокат со свечою в руке. Адвокат его сразу же узнал. Однако любовь делает людей находчивыми, храбрыми и способными на все. Принц поздоровался со стариком и сказал:
— Господин адвокат, вы знаете, с каким доверием я и все мои близкие относятся к вам, знаете, что я почитаю вас за моего самого преданного слугу. И вот я пришел сюда запросто, чтобы посоветоваться с вами насчет моих дел и также попросить, чтобы вы мне дали чего-нибудь выпить, а то меня совсем замучила жажда. Только не говорите никому, что я здесь, потому что от вас мне надо пойти еще в один дом, и я не хочу, чтобы меня узнали.
Увидев, что принц совершенно запросто пришел к нему в дом, адвокат был так польщен оказанной ему честью, что провел его к себе в комнату и велел жене подать к столу самые лучшие сласти и фрукты, какие у них были в доме. Она не замедлила исполнить его приказание и подала им отличнейшее угощение. И несмотря на то, что в ночном одеянии и в чепце она выглядела еще прелестнее, чем обычно, наш принц даже не взглянул на нее и, сделав вид, что ее не знает, продолжал говорить с адвокатом о своих делах, которыми тот давно занимался. Но в то время, когда молодая женщина потчевала гостя угощениями, а муж отошел к буфету, чтобы принести ему что-нибудь выпить, она успела шепнуть принцу, чтобы тот не уходил и спрятался в гардеробной, расположенной по правую сторону, и что она вскоре туда придет. Выпив и закусив, молодой принц поблагодарил адвоката и, когда тот хотел непременно его проводить, просил этого не делать, уверив его, что там, куда он сейчас идет, провожатых не требуется. И, обратившись к его жене, он сказал:
— Помимо всего прочего, я не хочу лишать вас, сударыня, общества вашего супруга, который давно уже показал себя моим верным слугою. Вы должны заботиться о нем и во всем его слушаться. С ним вы всегда будете счастливы и спокойны и должны благодарить господа, что он послал вам такого достойного человека.
Произнеся столь учтивые речи, принц ушел и закрыл за собой двери, чтобы хозяин не вышел за ним на лестницу. И сразу же спрятался в гардеробной, куда, как только почтенный адвокат уснул, не замедлила явиться его молодая жена. Она провела принца в комнату, убранную как нельзя лучше, — где, однако, самыми примечательными украшениями были он и она, представ друг перед другом в том виде, в каком обоим больше всего хотелось. И я нисколько не сомневаюсь, что там она исполнила все, что ему обещала.
Принц ушел оттуда в тот час, к которому он велел прийти своим провожатым, и те уже ждали его в назначенном месте. А так как встречи влюбленных продолжались долгое время, принц в конце концов нашел другую, более короткую дорогу к этому дому, — через монастырский двор. И он сумел так очаровать приора этого монастыря, что около полуночи привратнику было приказано каждый раз открывать ему ворота; когда же поутру он возвращался обратно, ему открывали их снова. А так как дом адвоката находился в двух шагах от монастыря, принц мог спокойно ходить один и не брать с собой провожатых. Но несмотря на то, что он вел такую жизнь, — будучи человеком богобоязненным и благочестивым, он на обратном пути каждый раз непременно заходил в монастырскую церковь и подолгу там молился. И монахи, которые, приходя в церковь, заставали принца коленопреклоненным, считали его благочестивейшим из людей.
У принца была сестра[236], часто наезжавшая в этот монастырь. Она так любила брата, что постоянно просила всех за него помолиться. И вот однажды, когда она обратилась с этой просьбой к приору монастыря, он сказал ей:
— Да что вы, сударыня! О ком вы меня просите молиться! Да я сам больше всего нуждаюсь в его молитвах. Ведь среди мирской суеты брат ваш умеет быть праведником, какого не сыскать на свете. Ибо сказано в Писании: «Блажен тот, кто может сотворить зло и не сотворит его».
Сестре принца захотелось узнать, почему приор считает ее брата столь добродетельным, и она так настойчиво стала его расспрашивать, что, взяв сначала с нее слово, что она не выдаст никому этой тайны, тот сказал:
— Можно ли не восхищаться, видя, как молодой и красивый принц лишает себя по ночам удовольствий и отдыха и вместо этого приходит сюда, в святую обитель, где ведет себя не как принц, а как самый смиренный монах, пребывая вместе со всеми в монастырской капелле. Должен сказать, что столь добродетельная жизнь приводит в смущение и наших братьев, и меня самого, — ведь рядом с ним мы не достойны называться монахами.
Услыхав эти слова, сестра принца не поверила своим ушам. Хотя она и знала, что, будучи человеком светским, брат ее был чист в своих помыслах и привержен богу, ей никогда бы не пришло в голову подумать, что он способен делать что-то сверх того, что пристало всякому христианину. Она отправилась к брату и рассказала ему, какого мнения о нем монахи. Услыхав это, принц расхохотался, и у него было такое лицо, что она, знавшая его, как самое себя, догадалась, что под благочестием этим что-то скрывается, начала его допытывать и не успокоилась до тех пор, пока он не рассказал ей всей правды. От нее-то я и узнала эту историю и записала, чтобы вы помнили, благородные дамы, что Амур способен перехитрить и лукавого адвоката, и хитрых монахов (а уж кто, как не они, привыкли обманывать других) и что он умеет обучить этой хитрости самого неискушенного человека, если только тот действительно воспламенился любовью. А раз Амур способен обманывать даже обманщиков, нам, людям простым и несведущим, надлежит постоянно его бояться.
— Хоть я и догадываюсь, кто этот принц, — сказал Жебюрон, — надо сказать, что он достоин всяческой похвалы. Чаще всего знатные сеньоры нимало не беспокоятся о чести женщин. Что им до того, что вокруг их похождений поднимается шум: они думают только о собственном удовольствии. Больше того, они иногда бывают довольны, когда возникает скандал, а мы знаем, что нередко молва приписывает соблазнителю даже то, чего он не делал.
— Уверяю вас, что было бы неплохо, если бы все молодые сеньоры следовали его примеру, — сказала Уазиль, — ведь скандал иногда бывает хуже самого греха.
— И, уж конечно, принцу было что замаливать в монастырской церкви! — воскликнула Номерфида.
— Не осуждайте его, — сказала Парламанта, — очень может быть, что раскаяние его было столь велико, что ему простился и самый грех.
— Очень трудно раскаиваться в таких приятных забавах, — сказал Иркан, — что до меня, то мне не раз приходилось рассказывать подобные вещи на исповеди, но каяться я в них никогда не каялся.
— Тогда уж лучше было совсем не исповедоваться, — заметила Уазиль.
— Знаете, госпожа моя, — возразил Иркан, — как ни тяжек грех и как я ни огорчаюсь, когда мне приходится чем-либо оскорбить господа бога, грешить-то людям всегда приятно.
— Вы и подобные вам наверняка хотели бы, чтобы бога совсем не было и чтобы единственным законом для вас было ваше собственное желание! — сказала Парламанта.
— Должен признаться, — воскликнул Иркан, — я хотел бы, чтобы господь бог каждый раз радовался вместе со мною, — и тогда, могу вас уверить, скучать бы ему не пришлось.
— Ну, нового бога вам все равно не создать, а раз так, то, значит, надо слушать того, который у нас есть, — воскликнул Жебюрон. — Пусть уж об этом спорят богословы, а сейчас давайте попросим Лонгарину предоставить кому-нибудь слово.
— Я предоставляю его Сафредану, — сказала Лонгарина, — только я попрошу его рассказать какую-нибудь действительно интересную историю и не стараться во что бы то ни стало говорить о женщинах одни только гадости; пусть следует правде и там, где надо, их хвалит…
Между Ниором[237] и Фором есть деревня под названием Грип, принадлежащая сеньору Форскому[238]. Однажды случилось, что два монаха-францисканца, шедшие из Ниора, добрались до этой деревни, когда было уже совсем поздно, и заночевали там в доме одного мясника. А так как между комнатой, куда их поместили, и спальней хозяев была тоненькая перегородка из плохо сколоченных досок, им захотелось подслушать, о чем муж говорит с женою в постели, и оба они приставили ухо к щели у изголовья кровати мужа и стали слушать. А тот, ведя с женой разговор о домашних делах, произнес вдруг такие слова:
— Вот что, дорогая моя, встану-ка я завтра пораньше да займусь нашими монахами, один-то уж больно жирен, надо будет его зарезать. Мы его потом засолим и в накладе не останемся.
И, хоть имел он в виду поросят, которых промеж себя они называли монахами, несчастные францисканцы, услыхав этот разговор, решили, что речь идет именно о них, и, дрожа от страха, стали дожидаться рассвета. Один из них действительно был очень жирен и толст. Толстый решил довериться своему приятелю и сказал, что мясник потерял и страх божий, и христианскую веру и ему ничего не стоит зарезать его так же, как он режет быков или какую другую скотину. А так как монахам нельзя было выйти из своей каморки, не пройдя через спальню хозяев, они уже не сомневались в том, что их ждет смерть и им остается только вверить души свои господу богу. Однако молодой монах, который не до такой степени поддался страху, как его товарищ, сказал, что, коль скоро дверь закрыта, им надо попытаться выскочить в окно и что хуже им от этого не будет — все равно ведь их часы сочтены. Старший с ним согласился. Тогда молодой открыл окно и, видя, что оно не так уж высоко над землей, соскочил вниз и пустился бежать со всех ног, не дожидаясь своего товарища, который собирался последовать его примеру. Тот, однако, был тяжел и неповоротлив, он грохнулся на землю и сильно повредил себе ногу.
Увидев, что товарищ его покинул, а сам он не в состоянии бежать за ним, он стал беспомощно озираться и искать место, где можно было бы спрятаться. Но поблизости он увидел только свинарник и с трудом дотащился туда. Когда же он стал открывать дверь, чтобы спрятаться там, оттуда выскочили два больших поросенка. Несчастному оставалось только занять их место и закрыть за собой дверь. Так он и притаился там, надеясь, что, когда кто-нибудь будет проходить по дороге, он сумеет позвать на помощь. Настало утро, и мясник, наточив свои огромные ножи, попросил жену пойти с ним в свинарник и помочь ему резать жирного поросенка. И, придя в загон, где укрывался наш монах, он открыл дверцу и стал громко кричать:
— Выходи-ка скорее, дружок мой монах, выходи скорее, уж и колбас же я из тебя сегодня понаделаю!
Несчастный, у которого так болела нога, что он не мог подняться, выполз на четвереньках из свинарника и стал умолять мясника пощадить его. Но как ни напуган был наш святой отец, мясник и его жена перепугались не меньше: они решили, что прогневили святого Франциска[239] тем, что прозвали поросят своих монахами, и, став на колени перед несчастным толстяком, начали вымаливать прощение у святого Франциска и у всего ордена за учиненное ими кощунство. И вышло так, что монах молил мясника пощадить его, а мясник и его жена молили его о том же, и целых четверть часа ни та, ни другая сторона не могли разобраться, что же, собственно, с ними со всеми приключилось. Наконец монах, убедившись, что мясник не хочет ему зла, рассказал, что заставило его полезть в свинарник, и тогда, забыв всякий страх, мясник и его жена принялись хохотать что есть мочи. Монаху же было совсем не до смеха, так сильно у него болела нога. Мясник отвел его к себе в дом и сделал ему перевязку. А товарищ его, который покинул несчастного в беде, бежал всю ночь, а наутро явился в дом к сеньору Форскому с жалобой на мясника; он сказал, что злодей, верно, давно уже зарезал его приятеля, ведь тот так и не догнал его и пропал без вести. Сеньор Форский тут же послал человека в деревню Грип, чтобы узнать, что за беда приключилась с монахом; когда же выяснилось, что оплакивать его не приходится, рассказал всю эту историю госпоже герцогине Ангулемской[240], матери короля Франциска Первого…
— Вот, благородные дамы, как не надо подслушивать чужие разговоры и, не разобравши, в чем дело, подозревать, что против вас замыслили что-то недоброе.
— Я был уверен в том, что Номерфида не заставит нас плакать и что мы посмеемся, — сказал Симонто. — Мне кажется, теперь все со мною согласны.
— Это только доказывает, — заметила Уазиль, — что мы более склонны смеяться над глупостью, чем над вещами разумными.
— Все дело в том, — сказал Иркан, — что такие вот глупости нам по душе, они ближе нашей природе, которая сама по себе отнюдь не благоразумна. Каждый следует своей склонности: люди легкомысленные увлекаются глупостями, а степенные внимают голосу разума. Но я думаю, — добавил он, — что история эта потешит всех, и степенных и безрассудных.
— Есть и такие, — сказал Жебюрон, — в ком столько серьезности, что ничто не в силах заставить их рассмеяться: радость свою они таят про себя, а внешне всегда так невозмутимы, что, кажется, ничто не может их вывести из равновесия.
— Где это вы таких видели? — спросил Иркан.
— Это философы древности, — ответил Жебюрон, — они почти не чувствовали ни горя, ни радости, так они ценили способность побеждать самих себя и овладевать своими страстями[241].
— Я тоже считаю, что дурные страсти следует побеждать, — сказал Сафредан, — но что касается естественных человеческих чувств, которые никому не приносят вреда, то, по-моему, побеждать их совершенно незачем.
— Однако древние почитали такую победу за величайшую добродетель, — сказал Жебюрон.
— Но ведь нигде не сказано, что все они были мудры, — возразил Сафредан, — иногда в том, что они говорили, была только одна видимость добродетели и здравого смысла, а в действительности того и другого было совсем мало.
— И тем не менее, как видите, они осуждали все дурное, — продолжал Жебюрон, — и даже Диоген попирает ложе Платона[242], который, по его мнению, был слишком падок до знаний. Чтобы доказать, что он презирает и повергает под свои стопы самонадеянность и неуемную жадность Платона, он ведь говорит: «Я ни во что не ставлю и презираю гордыню Платона».
— Но вы не договариваете до конца, — сказал Сафредан, — Платон возразил Диогену, что и Диоген сам находится под властью гордыни, хоть и другого рода.
— Ну, уж если говорить правду, — сказала Парламанта, — то мы действительно не в состоянии сами победить свои страсти, не пробудив в себе удивительной гордыни, а это порок, которого каждый должен больше всего страшиться: он ведь губит и сводит на нет все наши добродетели.
— Разве я вам не читала сегодня утром, — сказала Уазиль, — о том, как те, которые считали себя умнее всех остальных, разумом своим дойдя до признания бога, создателя всего сущего, приписывали эту заслугу себе самим, а не тому, кому она в действительности принадлежит? Полагая, что добились всего собственными усилиями, они стали не только невежественнее и безрассуднее всех прочих людей, но, больше того, уподобились грубым скотам! Ибо, впав в заблуждение духом и приписав себе то, что принадлежит одному только богу, они заблуждения свои перенесли и на тело, забыв свой пол и извратив его суть, как то нам указует святой Павел в послании своем[243], обращенном к римлянам.
— Прочтя это послание, — сказала Парламанта, — каждый из нас должен будет признать, что телесные проявления греховности нашей — не что иное, как плоды душевного неустройства, которое, чем больше оно прикрыто добродетелью и чудесами, тем более для нас опасно.
— Что до нас, мужчин, — сказал Иркан, — то мы ближе к спасению, чем вы, женщины, ибо, не скрывая поступков наших, мы хорошо знаем их истоки. Вы же боитесь выставить дела свои напоказ и так стараетесь их приукрасить, что сами едва ли знаете истоки той гордыни, которая таится за столь привлекательным обличаем.
— Поверьте, — сказала Лонгарина, — что в тех случаях, когда словом своим господь не указует нам, сколь ужасно неверие, которое, подобно проказе, забирается в наше сердце, он оказывает нам большую милость тем, что заставляет нас споткнуться и совершить проступок, о котором все узнают и который делает явным сокрытое в нас зло. И блаженны те, кого вера привела к такому смирению, что им не надо испытывать свою греховность подобными средствами.
— Но послушайте, — воскликнул Симонто, — до чего же мы, однако, договорились: мы начали с разговоров о великой глупости, а кончили тем, что пустились в философию и богословие; оставим же эту область тем, кто лучше нас умеет витать в облаках, и давайте спросим у Номерфиды, кому она предоставит слово.
— Я предоставляю его Иркану, — ответила Номерфида, — но прошу его не задевать женскую честь…
Однажды в город Падую приехала некая француженка, и кто-то рассказал ей, что в епископальной тюрьме находится монах-францисканец. Слыша, что говорят о нем все с насмешкой, она осведомилась, за что его туда посадили. Тогда ей сказали, что монах этот, человек уже пожилой, был духовником одной очень благородной и благочестивой дамы. Дама эта, овдовев, осталась одна с дочерью, которую она так любила, что готова была сделать все, что угодно, лишь бы ублаготворить ее и хорошо выдать замуж. И, видя, что дочь ее подросла, она денно и нощно пеклась о том, чтобы найти ей хорошего мужа, который бы жил с ней в мире и дружбе, человека такого же совестливого, как и она сама. А так как один глупый проповедник сказал ей, что даже дурной поступок, содеянный по совету богослова, лучше любого хорошего, внушенного духом святым, она обратилась к духовнику своему, доктору богословия, который был уже человеком пожилым и пользовался в городе большим уважением, прося, чтобы святой отец молитвами своими и советом помог ей и дочери обрести мир душевный.
И она стала умолять его найти мужа для ее дочери — и именно такого, какого могла пожелать женщина благочестивая и достойная. Святой отец ответил, что прежде всего надо снискать милость духа святого постом и молитвою и что, если господь вразумит его, он надеется, что сумеет помочь ей в том, о чем она просит. С этим он и ушел и стал думать, как ему поживиться на этом деле. А так как дама эта сказала ему, что она скопила пятьсот дукатов, чтобы отдать их будущему зятю, и берет на себя прокормить молодых, а также отделать и обставить им дом, он вспомнил, что у него есть товарищ, молодой монах, статный и красивый, который, взяв эту прелестную девушку в жены, получит за ней хорошо обставленный дом, а пятьсот дукатов достанутся ему самому и удовлетворят его неуемную страсть к наживе. Он поговорил со своим товарищем, и тот согласился. Тогда он пошел к вдове и сказал ей:
— Должно быть, сам господь послал ко мне, как к Товию, ангела своего Рафаила, чтобы указать достойного мужа вашей дочери, ибо могу вас уверить, что в доме моем сейчас находится благороднейший из мужей Италии. Он несколько раз видел вашу дочь, и она так ему нравится, что, когда сегодня я стоял на молитве, господь послал его ко мне, и дворянин этот поведал мне, что любит вашу дочь и хочет на ней жениться. А так как я знаю его родных и знаю, что он из хорошей семьи, я обещал ему поговорить с вами. Правда, есть одно небольшое препятствие, о котором известно только мне одному. Недавно кто-то задумал убить одного из его друзей. И вот, чтобы спасти друга, молодой человек выхватил шпагу и хотел разнять враждующих. Но случилось так, что, защищаясь, его друг убил противника. И тогда ему, хоть сам он никого не тронул, пришлось бежать из этого города, — все ведь видели, что он был там и выхватил шпагу. И вот по совету родных, переодевшись студентом, он бежал в наш город, где его никто не знает, и останется здесь до тех пор, пока родители его не замнут это дело, что, вероятно, произойдет очень скоро. Поэтому свадьба должна быть тайной, и вам придется примириться с тем, что утром он будет уходить слушать лекции и только по вечерам приходить домой.
— Отец мой, — ответила дама, — то, что вы мне сейчас говорите, большая для меня радость. Ведь желание мое теперь исполнится, и в доме моем будет жить тот, кто мне более всего угоден.
Монах исполнил свое обещание и привел к ней своего молодого друга, одетого в роскошную куртку алого шелка, и тот очень понравился этой даме. Молодых помолвили, и, когда наступила полночь, все прослушали мессу и была сыграна свадьба, после чего молодые легли спать, а наутро муж сказал, что, дабы его не узнали, он должен скрыться в университете. Надев свою куртку из алого шелка и свое длинное одеяние, не забыв и своей черной шелковой шапочки, он пошел проститься с женой и сказал ей, что каждый вечер они будут ужинать вместе, к обеду же она его ждать не должна. С этим он и ушел, а его молодая жена считала себя счастливейшею из смертных, оттого что нашла себе такого хорошего мужа. После чего молодой монах пришел к своему почтенному другу и передал ему пятьсот дукатов, о которых они еще раньше договорились между собою. Вечером же он снова вернулся к той, которая считала его своим мужем. И он сумел снискать такую любовь жены и тещи, что те не променяли бы его на самого знатного принца.
Так они прожили некоторое время. Но господь наш милостив и жалеет людей простодушных, доверчивых и добрых. И случилось, что однажды утром вдове этой и ее дочери захотелось послушать мессу во францисканском монастыре и навестить своего духовника, который так облагодетельствовал их, найдя одной мужа, а другой зятя. И хотя в церкви не оказалось ни их духовника, ни другого монаха, которого бы они знали, дамы все же решили остаться там и послушать торжественную службу, которая уже началась, надеясь, что монах еще может прийти. Молодая женщина сосредоточенно и благоговейно молилась — и вдруг, когда священник обернулся, чтобы прочесть «Dominus vobiscum»[244], она была поражена: ей показалось, что перед ней ее муж или человек, на него чрезвычайно похожий. Но она не решалась ничем это выказать и продолжала ждать, пока он повернется еще раз. И после того, как во второй раз она разглядела его гораздо лучше, у нее уже не осталось никакого сомнения, что это он; она толкнула мать, которая была погружена в молитву, и прошептала:
— Боже мой, матушка, кого я вижу!
— Кого? — спросила мать.
— Да это же мой муж служит сейчас мессу, а если не он, то кто-то похожий на него как две капли воды.
Мать, которая не успела как следует его разглядеть, сказала:
— Прошу тебя, дочь моя, не забивай себе голову такими мыслями, — слыханное ли это дело, чтобы люди столь праведные способны были на такой обман? Если ты поверишь этому, ты совершишь большой грех против господа нашего.
Однако она тоже стала разглядывать священника и, когда тот дошел до слов «Ita missa est»[245],— убедилась, что, действительно, близнецы и те не могут быть так похожи друг на друга, как этот монах на мужа ее дочери.
Но простодушие ее было так велико, что она готова была уже сказать себе: «Господи, не дай мне поверить тому, что я вижу!»
Но так как дело касалось ее дочери, она не хотела больше пребывать в неведении и решила узнать всю правду. И когда настал вечер и муж, даже ничего не подозревавший о том, что они были в церкви, должен был вернуться домой, мать сказала дочери: — Если хочешь, мы сейчас можем узнать всю правду о твоем муже. Как только он ляжет в постель, я войду в комнату, а ты тогда подкрадись к нему сзади и незаметно сорви с него шапочку: мы сразу увидим, есть ли у него на голове тонзура, как у того, кто служит мессу.
Сказано — сделано. Как только вероломный муж улегся в постель, почтенная дама зашла в спальню и, как бы играя с ним, схватила его за обе руки. В эту минуту дочь ее сорвала с него шапочку, и обе они увидели сиявшую у него на голове тонзуру, чем и мать и дочь были несказанно поражены. Они тут же позвали слуг и вместе схватили его и, связав, оставили так до утра.
И как ни оправдывался монах, сколько он ни говорил красивых слов, ему ничто не помогло. Утром вдова послала за своим духовником, велев сказать, что хочет сообщить ему что-то очень важное. И когда тот поспешил прийти, она приказала расправиться с ним так же, как и с молодым, и стала попрекать его тем, что он оказался обманщиком. После этого она послала за судейскими и предала обоих монахов в их руки. Само собой разумеется, что судьи оказались людьми порядочными и не оставили этого преступления без наказания.
— Вы видите, благородные дамы, что поклявшиеся жить в бедности не свободны от искушений, в которые повергает их жадность — источник всякого зла.
— И добра тоже! — воскликнул Сафредан. — Ведь эти пятьсот дукатов, которые скопила старуха, пошли на пользу: бедная девушка, столько времени дожидавшаяся мужа, могла за эти деньги приобрести себе двоих мужей; и, кроме того, она познала монашескую иерархию.
— У вас обо всем самые превратные представления, — сказала Уазиль, — вам кажется, что все женщины на вас похожи.
— Простите меня, госпожа моя, — сказал Сафредан, — я бы дорого дал, чтобы это было так и чтобы удовлетворить женщин было бы так же легко, как нас.
— Какой у вас злой язык, — сказала Уазиль, — все здесь присутствующие отлично знают, что вы не правы. И доказательство этого — история, которую нам только что рассказали и из которой явствует, сколь доверчивы несчастные женщины и сколь коварны и хитры те, кого мы считаем выше вас, пребывающих в миру мужчин. Ведь ни она, ни ее дочь не хотели ничего решить сами, а вместо того, чтобы следовать своим намерениям, положились на добрый совет.
— Некоторые женщины настолько требовательны, — сказала Лонгарина, — что им кажется, что муж их должен быть ангелом.
— Вот поэтому-то им часто попадаются дьяволы, — заметил Симонто, — и случается это чаще всего с теми, которые, не доверяясь благодати господней, считают, что они своим собственным разумом — или послушавшись чьего-то совета — сумеют снискать в этом мире счастье, даровать которое может только сам господь.
— Что я слышу, Симонто! — воскликнула Уазиль. — Вот уж не думала, что вы можете рассуждать так разумно.
— Госпожа моя, — сказал Симонто, — мне очень жаль, что вам не удалось убедиться, какой я на самом деле. Оттого что вы меня плохо знаете, у вас, я вижу, сложилось дурное мнение обо мне, но и я ведь могу заниматься делами монахов, если монах позволил себе вмешаться в мои.
— Выходит, ваше дело — это обманывать женщин? — сказала Парламанта. — Этим вы сами же выносите себе приговор.
— Если бы даже мне удалось обмануть сто тысяч женщин, — сказал Симонто, — этого было бы мало, чтобы отомстить за все обиды, которые мне причинила одна из них.
— Я знаю, — сказала Парламанта, — как вы часто жалуетесь на дам. И вместе с тем вы всегда веселы и так хорошо выглядите, что невозможно поверить, чтобы вам действительно пришлось перенести все те беды, о которых вы говорите. По этому поводу в «Красавице, не знающей жалости»[246] сказано:
Но так обычно говорят,
Чтобы добиться утешенья.
— Вы приводите слова известного ученого мужа, — сказал Симонто. — Он не только сам был человеком суровым, но и заразил своей суровостью всех дам, которые прочли его и последовали его учению.
— Пусть так, но его учение, как ни одно другое, полезно для молодых дам, — сказала Парламанта.
— Если бы все женщины были безжалостными, — продолжал Симонто, — мы могли бы преспокойно отвести наших лошадей в конюшню, снять все наши боевые доспехи и, пока не настала новая война, заниматься домашними делами. Но скажите, пожалуйста, неужели можно считать благородной женщину, у которой нет ни жалости, ни милосердия, ни любви и которая к тому же жестока?
— Милосердие и любовь у нас должны быть, — сказала Парламанта, — но слово «жестокая» настолько неуместно, когда говорят о женщине, что не может не задеть нашу честь. В самом деле, не быть жестокой — означает оказать ту милость, о которой вас просят, а ведь всем хорошо известно, какой милости домогаются мужчины.
— Должен вам сказать, сударыня, — возразил Симонто, — что есть мужчины настолько разумные, что они не просят ничего, кроме доброго слова…
В церкви святого Иоанна в Лионе есть темный придел, и там находится изображение гроба господня с изваянными из камня статуями в натуральную величину, а по сторонам — несколько надгробий[247] с фигурами лежащих рыцарей. Как-то раз один солдат зашел в церковь, и, так как в приделе этом темно и свежо, он решил, что будет охранять гробницу не хуже, чем эти каменные воины, и улегся рядом с ними. И случилось, что, когда он уже сладко спал, туда пришла одна очень благочестивая старушка; помолившись, она с зажженной свечой в руке подошла к гробнице и хотела поставить свечу — и, видя вокруг каменные фигуры, поставила ее на лоб солдата, которого она приняла за одну из таких фигур. Однако оказалось, что к этому камню воск никак не хочет пристать. Тогда бедная старушка решила, что статуя слишком для этого холодна, и стала капать воск ей на лоб, чтобы удобнее было потом закрепить свечу. Изваяние же, которому все это было отнюдь не безразлично, не вытерпело и закричало. Старушка до того перепугалась, что сама принялась кричать: «Чудо, чудо!» — и весь народ, бывший в этой церкви, сбежался на ее крик: одни принялись звонить в колокола, другие старались взглянуть на «чудо» собственными глазами. И старушка показала им статую, которая неожиданно ожила. Кое-кто просто посмеялся, но священникам этой церкви пришло в голову использовать эту ожившую фигуру и извлечь из этого не меньшие выгоды, чем из стоявшего в церкви распятия, которое, как рассказывают, однажды заговорило. Но вся комедия эта окончилась, как только узнали, что причиною всему была глупость старухи.
— Если бы люди знали, какие глупости подчас вытворяют монахи, пропала бы вера и во всю их святость, и в их чудеса. Поэтому, благородные дамы, впредь хорошенько смотрите, каким святым вы ставите свечи.
— Известное дело, — сказал Иркан, — женщины вечно чем-нибудь да навредят.
— А разве ставить свечи значит вредить? — удивленно спросила Номерфида.
— А как же это иначе назвать, — воскликнул Иркан, — если мужчинам вдруг ни с того ни с сего начинают поджигать лбы? Никакое доброе дело нельзя почесть добрым, если оно причиняет вред.
— Но ведь бедная старушка была уверена, что приносит свою маленькую свечку в дар господу богу! — сказала госпожа Уазиль. — По мне, так важна не ценность самого дара, а сердце человека, который дарит. Может быть, у этой доброй старушки больше любви к богу, чем у тех, кто жертвует дорогие светильники, ибо, как говорится в Евангелии, она отдала все, что имела[248].
— Не думаю я, — сказал Сафредан, — что господу, который являет собою высшую мудрость, были приятны женские глупости, ибо, несмотря на то что простота сердца угодна ему, достаточно почитать Святое писание, чтобы увидеть, что невежества он не терпит. И, уча нас быть чистыми, как голуби, он вместе с тем учит нас быть и мудрыми, как змии[249].
— Что до меня, — сказала Уазиль, — то я не считаю невежественной ту, которая подносит господу свою зажженную свечу в знак поклонения и, преклонив колена перед всевышним, сокрушается о своих грехах, уповая на милость его и моля о спасении своей души.
— Дал бы бог, чтобы все думали так, как вы, — сказал Дагусен, — но, по-моему, у таких вот глупых богомолок этого нет и в мыслях.
— В тех, кто хуже всех выражает свои мысли, — возразила Уазиль, — больше всего настоящей любви и божьей воли, и поэтому судить человеку следует только себя самого.
— Не такое уж это диво напугать спящего простолюдина, — сказала, смеясь, Эннасюита, — случалось ведь, что самые простые женщины пугали высокопоставленных сеньоров, — и для этого вовсе не надо было обжигать этим сеньорам свечкою лоб.
В провинции Пуату проживал один аббат, имени которого я не назову как из уважения к нему самому, так и к его репутации всеми почитаемого святого человека. Этот святоподобный отец, порастреся все статуты святой веры, от них сохранил лишь монашеское одеяние. К тому же он заботливо ублажал и питал свою особу (вкупе с остальными монахами), соблюдая пост разве что во время службы, и во весь опор несся от обедни к обеду, так что, следуя старинной пословице, не столько он молился, сколько стол у него от всевозможной снеди ломился. А после трапезы, дабы продлить удовольствие, услаждал он себя некоторое время музыкой, если сразу не впадал в спячку. Вакх и Церера[252], столь свободно доступ находившие к плоти нашего монаха, указали туда путь и Венере, и богиня, завладев сей откормленной плотью, так разожгла жирные монашьи внутренности, что, позабыв о холоде заутрень, преподобный поджаривался на сковородке похоти и стал уподобляться козлу, по лесам гоняющемуся за козами. Подстрекаемый богинею красоты и грации, аббат возжаждал любви прекрасных дам, увлекаясь мирским больше, нежели это было разумно; и, забросив своих монахов, стал искать общества кавалеров и дам, живущих по соседству с аббатством, — он держал для них открытый и обильный дом, где не прекращались празднества и пиршества, и, сведя короткое знакомство с дамами, дабы удовлетворить сжигающее его желание, выбрал среди них одну — замужнюю, приветливую и пригожую, но, наметив ее себе в любовницы, оказывал ей, однако, весьма почтительный прием и так был хитер, что, глядя на эту благообразную образину, никому и невдомек было, на кого он точит зубы. Дама, которая была женщиной порядочной, хорошо воспитанной и нрава весьма кроткого, обращалась с ним, равно как и с другими, приветливо и радушно, в чем монах, распаленный под своею рясой, усмотрел уже свою победу. И еще до того, как обратиться к ней с предложениями, каковые влекут за собой либо согласие, либо отказ, он не забывал посещать ежедневно ее супруга, одалживать ему денег и оказывать множество других услуг под предлогом близости его земель к владениям аббатства. Так что ceй дворянин, не подозревая, что всем этим обязан жене, весьма большую пользу извлекал из такого знакомства для своего дома и в недолгий срок уладил все давние свои распри с монастырем. Кончилось дело тем, что аббат, жаждущий поскорее отведать плодов своих благодеяний, изъяснился перед дамою в своем вожделении к ней. Благонравная дама, выслушав его околесицу (которую я не берусь здесь приводить, дабы мое повествование не слишком разило похотливым монахом), дала ему такой ответ, какого и следовало при ее благонравии ожидать. И поскольку сие признание ее разгневало и уязвило, то она, любя мужа и не желая его и себя бесчестить, наотрез отказалась посещать монастырь. Дворянин же, напротив, весьма был привязан к аббату, ничего не подозревал и, частенько получая приглашение прийти с женой, заставлял ее сопровождать себя, не желая ничем обидеть приятного соседа, от которого он видел столь много милостей. Убедившись, что супруга сердит ее неповиновение, дама принуждена была объявить ему о любезном предложении преподобного отца. Чем весьма супруга изумила, и он, смекнув наконец, чему обязан был монашьими милостями, сказал своей жене: «Я вас прошу, моя милая, раз уж он так упрашивал вас прийти к нему, давайте посетим его один-единственный раз, и, если он будет настолько глуп, что опять начнет строить вам куры, соглашайтесь смело на всё и просите его погостить у нас с ночлегом, — а там уж мы поступим с ним так, как он того заслуживает». Дама, уступив супругу, отправилась вместе с ним к аббату, а он, увидев ту, которая ему была в сто раз милее его требника, уж так стал любезен, что любезнее и быть нельзя. И после обеда (а это был как раз час, когда его сильнее всего одолевала похоть) он вновь начал свои авансы. И уж так подступился, что дама, наученная, как ей быть, сказала, что согласна удовлетворить его, но что единственное средство устроить дело — это принять приглашение ее мужа прийти сегодня ужинать к ним в дом. И поскольку ее муж ежедневно от зари до вечера уезжает в поле на охоту, она обещает под утро прийти в его спальню, дабы усладить его так, как должно услаждать дорогого друга, который ей даже еще желаннее, чем она ему.
«Но, мессир, я вас умоляю, — говорила дама притворно дрожащим голосом, — храните наше опасное дело в секрете, а для того отошлите всех своих людей в аббатство, чтобы вам быть в спальне одному, и тогда мы насладимся нашей любовью без помех и без страха быть пойманными». После того как монах согласился на эту просьбу, дворянин понял, что пора и ему заговорить, и с вежливым поклоном стал упрашивать аббата принять участие в охоте на куропаток, и если аббат окажет ему такую честь, то он, пока будут охотиться, велит приготовить ужин у себя в доме. Аббат не заставил себя просить и, подобрав сутану, не долго думая, взобрался на своего мула вне себя от радости, норовя еще по дороге прижаться к даме своего сердца. Охотились долго, а затем повернули к дому дворянина, куда аббат не захотел и войти, пока не отослал всех своих людей вплоть до лакея. Муж притворился рассерженным и стал их удерживать, но, как он ни старался, а мессир аббат упорно стоял на своем, желая сдержать данное обещание и твердя, что воспользуется услугами одних лишь людей дворянина, чем докажет ему свое расположение; но наш любезный любитель дам, — что бы он там ни располагал, — вынужден был столько съесть и выпить за ужином, за уговорами хозяев, что внезапно попросился в постель, куда торжественно был препровожден с факелами, — а комнату ему приготовили чистую, убранную коврами и надушенным бельем, и дама самолично проводила его, как велел муж, дабы еще больше разжечь его. И, как женщина исполнительная, она это проделала весьма усердно и с такими ужимками и заигрываниями, что бедному монаху вино и любовь разом ударили в голову, и он так и рухнул, не глядя куда, — счастье еще, что за спиной у него как раз оказалась готовая постель. Как только бедняга, хватив лишку, на нее свалился, дама, распорядившись запереть все окна, приветливо с ним распрощалась, пожав ему руку и сказав: «Мессир, вы доверились нам, отослав своих слуг, что не пристало при вашем сане, и за это я вам сегодня послужу горничной и сама запру двери, дабы никто не потревожил ваш сон». Аббат, слыша такие речи, прямо-таки раздулся от радости, вообразив, что она берет ключ от двери для того, чтобы как можно незаметней пробраться в его комнату, так что в ожидании услаждения бедной своей плоти чуть не сгорал от безмерной похоти и, вертясь волчком на постели, обнимался с одеялом и тискал подушку, заранее смакуя предстоящие радости и утехи. Тем временем дворянин (который хотел отомстить так, чтобы уж над монахом смеялись до самой смерти) позвал и подкупил тяжелым кошельком одну старуху лет восьмидесяти, блиставшую всеми прелестями этого возраста, и, хорошенько подпоив ее, чтобы разогреть внутри, разодел ее в ночные наряды своей жены — чепец, сорочку и тафтяную накидку, а сверх того надушил и размалевал, как старую куртизанку в Риме. И ближе к утру (в час, назначенный дамой) он затрубил в рог, созвал своих людей, собак и отправился на охоту, поручив жене довершить дело. Преподобный отец, заслышав шум, насторожился и принял подобающую позу, чтобы встретить даму, — а та (как только отбыл муж) подходит к комнате, тихонько отворяет дверь и подводит к кровати старуху, весьма польщенную оказанными почестями. И в таком приятном расположении укладывается та в постель, рядышком с аббатом, который, пылая бешеной страстью и уже не помышляя о поцелуях и прочих нежностях, немедленно набрасывается на нее и так разогревает старушку своею любовью, что и рассказывать о том не хочется, — а то как бы вам аппетит не отбить. Дворянин же, сделав вид, что едет на охоту, на самом деле отправился в аббатство (которое было неподалеку) и попросил приора[253], его помощника и двух-трех наиболее уважаемых монахов навестить их аббата, занемогшего в эту ночь. Монахи, сочтя, что их аббат уже помер, и надеясь на поживу, незамедлительно отправились к дворянину, а тот повел их прямо в покои преподобного отца, который только-только начал переводить дух после ночной работы. Окна внезапно были распахнуты, альков раздернут, и взорам присутствующих предстали преподобный и старуха — так близко один к другой, что при взгляде на них сразу приходили на ум Вулкан и Венера[254], даром что эта Венера была сморщена больше, чем сапог Целестинца[255]. Если уж монахи были удивлены, то что говорить о преподобном отце, — он и вовсе остолбенел. Дворянин же, видя, как все ошарашены, и сдержав смех, обратился к аббату: «Я вас прошу, мессир, в другой раз, когда вам захочется позабавиться любовью, выбирайте себе дам в другом месте, да и помоложе». Бедному аббату, посрамленному и осмеянному, не осталось ничего другого, как бежать из дома чересчур солоно хлебавши, и употребить остатки своей страсти на распевание молитв в аббатстве.
Уважаемые дамы! Когда бы все виновные в подобном грехе понесли такое наказание, то наши старухи не сидели бы без дела. Весьма ошибочно мнение, что человека должно судить по одежке, — нет, судят его по добродетелям и праведной жизни, одежде сопутствующим, а они не украсят нас, если не будет на то милости господней, осенившей вышеописанную даму, которая, к стыду и позору того, кто хотел ее обесчестить, восторжествовала благодаря своей добродетельности.
Приступая к сему труду, я обещал держаться рамок нашего времени, ибо мы ныне отнюдь не испытываем недостатка в событиях трагических; и все же, частью из опасения задеть самолюбие тех, кого мне вовсе не хотелось бы рассердить, частью ради достоинств истории, которая пришла мне на память, — ибо она поистине заслуживает внимания славного французского дворянства из-за редкостных и замечательных подробностей, в ней содержащихся, — я позволяю себе отклониться от текущего столетия, покидаю пределы отечества и соседних государств и устремляю взор на историю королевства Датского. История эта может служить образцом и примером и доставить удовольствие французскому читателю, а ведь именно ему я тщусь угодить, именно для его пользы и блага осматриваю каждый цветок в садах поэзии, с надеждой извлечь хоть каплю чистого и сладкого нектара, дабы заслужить у соотечественников одобрение моим трудам. Рвения моего нисколько не охлаждает равнодушие наших неблагодарных времен, когда люди, отдающие свой труд на общую пользу, всеми забыты и оставлены без всякого вознаграждения, хотя своим усердием делают честь Франции и снискивают ей высокую славу. Впрочем, нередко виновны в этом сами они, а не сильные мира, занятые другими, на первый взгляд более важными делами. Про себя же могу сказать, что вполне доволен своей жизнью; лучшей наградой мне служат удовольствие и свободная игра мыслей, сопутствующие моим занятиям; к тому же меня любит за верную службу французская знать; пользуясь благосклонностью образованных господ, которым я воздаю заслуженные почести, я не обойден и уважением простых людей; хотя их суждениями нельзя руководствоваться всецело, ибо они недостаточны для увековечения славного имени, все же могу почесть себя счастливым: немного найдется французов, которые погнушались бы читать мои книги. Напротив, многие ими восхищаются. Правда, немало у меня и завистников, которые возводят поклепы на мои писания[257]; но и им я по-своему благодарен, так как они вынуждают меня удвоить старания, чем я снискиваю еще больше славы и почета, чем имел прежде. Вот самая великая моя радость и самое лучшее богатство моих сундуков! По мне, это куда приятнее, чем владеть всеми сокровищами Азии, но оставаться безвестным.
Однако вернемся к нашей истории и начнем издалека. Надобно вам знать, что задолго до той поры, когда датчане приняли веру Христову[258] и сподобились святого крещения, они были диким и свирепым народом, а короли их отличались жестокостью, не ведали ни клятвы, ни верности и то и дело сбрасывали один другого с престола, нанося друг другу обиду и урон, отнимая богатства, доброе имя, а чаще всего и самую жизнь; они даже выкупа за пленных не назначали, а приносили их в жертву беспощадной мести, ибо таковы были их души и обычаи. Если же попадался среди них добрый король или другой властитель, желавший следовать велению сердца и поступать добродетельно и учтиво, за что его любили подданные (ибо добродетель мила даже пороку), то зависть и злоба соседних вождей не унимались, покуда они не очищали землю от слишком человеколюбивого государя.
Так вот король Дании Рорик, умиротворив мятежных князей и прогнав с датской земли свевов и славян, разделил свое королевство на провинции и поставил во главе каждой особых правителей, которые позднее (как было и во Франции) получили титулы герцогов, маркизов и графов. Правителями Ютландии (ныне эта местность называется обычно Дитмаршен, а расположена она на Кимврийском Херсонесе[259], на узкой полоске земли, которая вдается глубоко в море и северным своим концом смотрит на берег Норвегии) он поставил двух сеньоров, сыновей Гервендила, прежде княжившего в Ютландии, людей большой отваги, по имени Хорввендил и Фангон. Надо вам знать, что в те времена у датчан высочайшим почетом награждались те из воителей, которые владели искусством пиратства и морского разбоя и совершали набеги на владения соседей, опустошая их берега. Самую же громкую хвалу и славу заслуживал тот, кто разорял наиболее отдаленные побережья и острова. Сильнейшим в таковых делах считался Хорввендил; имя его гремело среди всех пиратов, разбойничавших на море и грабивших гавани Северной Европы. Счастье Хорввендила не давало покоя королю Норвегии по имени Коллеру; он не мог стерпеть, что Хорввендил превзошел его воинской доблестью и затмил завоеванную им в морских набегах славу. Честь имени, больше чем жажда наживы, побуждала этих царственных варваров губить друг друга; они даже не помышляли о том, что ведь и сами могут погибнуть от руки какого-нибудь смельчака. Честолюбивый король норвежцев вызвал на поединок Хорввендила, и тот принял его вызов, но с условием: побежденный лишится всех своих богатств, находящихся на кораблях, а победитель предаст его прах земле со всеми подобающими почестями, ибо уделом побежденного будет смерть. К чему долго толковать? Король — хоть он был крепок телом, отважен душой и искусен в бою — потерпел поражение и был убит датчанином. Хорввендил, в точности исполнив уговор, велел насыпать над его могилой высокий погребальный холм, соответственно его королевскому сану, как принято было по обычаям и суевериям того века, после чего забрал себе все богатства норвежской короны и предал смерти сестру покойного короля, храбрую воительницу, а потом разгромил и разграбил все северное побережье Норвегии вплоть до Северных островов. Он вернулся из похода с несметными богатствами и новым ореолом славы и тотчас же отправил своему королю и сеньору Рорику львиную долю добычи, дабы снискать его благоволение и завоевать место среди приближенных. Рорик, весьма довольный подношением и тем, что столь славный воин охотно признаёт себя его вассалом, оказал ему и почет и дружбу, а сверх того и особенную милость, отдав за него свою дочь Герутту, в которую Хорввендил был влюблен. Более того, в знак особого отличия он сам отвез невесту к жениху в Ютландию, где они сыграли свадьбу по старинному обычаю. Чтобы не затягивать повествование, скажу сразу, что от этого брака и родился Гамлет, историю которого я хочу вам рассказать и которому посвящена эта повесть.
Фангон, соправитель Хорввендила, был завистлив. Досада на брата точила его сердце за добытую в воинских делах славу, а пуще того глупая ревность к королевской дружбе и милости; он опасался, как бы не лишиться своей доли власти над вверенной им обоим провинцией; а вернее сказать, ему захотелось стать нераздельным ее властителем. Но для этого надо было устранить Хорввендила. И потому он решил, как это впоследствии и осуществилось, умертвить своего брата.
Этьен Делон (1518–1583?), французский художник
Риторика.
Аллегорическая фигура из серии «Основные науки».
Гравюра резцом.
Фангон[260] совершил злодейство без особого труда, ибо никому и в голову не приходило заподозрить его в подобном умысле; все считали, что узы дружбы и кровного родства не могли породить иных чувств, кроме добрых и почтительных. Но, как я уже сказал, жажда власти перешагнет и через братскую кровь, и через дружбу, и через веления совести, ибо не считается с законами и не боится бога, если вообще тот, кто без всяких на то прав захватывает чужое достояние, имеет понятие о боге. Жажда власти — вот поистине хитрый и коварный советчик! Ведь надо было заранее подумать о том, как поступит королева, узнав об участи своего супруга, и не постарается ли она уберечь сына от верной смерти! И вот Фангон, тайно подкупив нескольких приближенных короля и заручившись их поддержкой, однажды за пиршественным столом набросился на своего брата и умертвил его столь же вероломно, сколь хитро, сумев затем обелить себя в глазах подданных и найти оправдание своему отвратительному злодейству. Ибо прежде чем поднять на короля кровавую и братоубийственную руку, он осквернил ложе своего брата, совершив насилие над супругой того, чью честь должен был бы защищать. Он совершил мерзость. Правду говорят, что один порок влечет за собой другие, и если человек предался одному позорному греху, то уже не остановится перед новыми, еще более гнусными преступлениями. Однако Фангон прибег к небывалой хитрости и обману, прикрыв свою дерзость и злобу маской добродетели: он заявил, что поступил так, якобы повинуясь чистым и приязненным чувствам, какие питал к невестке, и покарал своего брата за злой умысел. Этим убийца привлек на свою сторону народ и нашел оправдание у дворянства. Дело в том, что королева Герутта была самой милостивой и любезной дамой во всех северных странах; ни разу в жизни она не обидела никого из своих подданных — ни простого звания, ни из придворных господ; и поэтому подлый прелюбодей и убийца оклеветал убитого короля, обвинив его в намерении лишить жизни свою жену Герутту: он выдумал, будто застал короля в тот миг, когда тот заносил над нею нож; вынужденный вступиться за королеву, он нечаянно, вовсе того не желая, убил брата, пытаясь отразить удары, грозившие ни в чем не повинной государыне. Нашлись ложные свидетели, подтвердившие эту клевету, — разумеется из числа тех же отступников, которых он подбил на соучастие в заговоре. Словом, вместо того чтобы предать его суду как братоубийцу и кровосмесителя, придворные одобрили его поступки и льстили ему в его новой счастливой доле. Лжесвидетелей объявили цветом дворянства, клеветников окружили почестями; тех же, кто, вспоминая доблесть покойного короля, хотел привлечь разбойников к ответу, никто не желал и слушать. Эта безнаказанность привела к тому, что Фангон вконец обнаглел и задумал сочетаться узами брака с королевой, которой при жизни славного Хорввендила всячески вредил. Он запятнал себя тройным пороком, отяготил свою душу тройным грехом: кровосмесительным прелюбодеянием, мошенничеством и братоубийством. А несчастная государыня, которой некогда выпала на долю честь стать супругой одного из достойнейших и мудрейших государей Северной Европы, допустила себя до такой низости, как измена мужу. Более того: она вступила в брак с убийцей, дав повод подозревать, что она тоже замешана в убийстве и участвовала в заговоре, чтобы на свободе предаться прелюбодеянию.
Есть ли на свете более позорное зрелище, чем высокородная дама, забывшая о приличии? Королева Герутта, которую все так высоко чтили за добродетель и любезные манеры, которую так нежно лелеял ее супруг, — эта самая женщина, едва преклонив слух к речам злодея Фангона, забыла все — и свое место среди знатнейших, и долг честной жены по отношению к богом данному мужу. Не хочу хулить весь женский пол, ибо немало есть женщин, служащих ему украшением, и не буду нападать на всех из-за провинности некоторых. Скажу одно: мужчины должны либо чураться женского вероломства, либо иметь достаточно твердости, чтобы спокойно его переносить и не жаловаться столь горестно и громко, ибо виной всему собственная их глупость. Если женщины в самом деле столь коварны, как о них рассказывают, и столь своенравны, как они сами об этом кричат, — то не глупо ли вверяться их ласкам и не позорно ли домогаться их любви?
Когда королева Герутта дошла до столь глубокого падения, Гамлет понял, что жизнь его в опасности; он был покинут собственной матерью, заброшен всеми и не сомневался, что Фангон не станет долго терпеть и уготовит ему участь Хорввендила. Тиран не мог не знать, что по достижении совершенных лет Гамлет непременно будет мстить за отца; и вот, чтобы обмануть злодея, принц прикинулся безумным и так хитро и ловко играл свою роль, что стал словно бы вовсе помешанный; под прикрытием безумия он утаил свои замыслы, уберег свое благополучие и жизнь от ловушек и западней, подстроенных тираном. В этом он пошел по стопам одного знатного юноши-римлянина, который тоже выдавал себя за сумасшедшего, за что и получил прозвище «Брут».[261] Принц Гамлет взял себе в пример его приемы и мудрость.
Бывая в покоях королевы Герутты, больше озабоченной удовольствиями своего любовника, чем мыслями о мести за мужа или о возвращении престола сыну, принц являлся туда одетый крайне неопрятно: он постоянно копался в мусоре и кухонных отбросах, вымазывал лицо уличной грязью, шатался по городу, точно юродивый, выкрикивая бессмысленные и безумные слова, и каждый его шаг, каждый жест свидетельствовал о полной утрате разума и смысла; он был посмешищем у кавалеров и легкомысленных пажей из свиты его дяди-отчима.
Но Гамлет уже тогда брал их на заметку и готовился обрушить на изменников такую месть, чтобы память о ней запечатлелась в веках. Вот поистине признак большого ума и стойкости у столь юного принца: несмотря на почти непреодолимые препятствия, в унижении, заброшенности и общем презрении суметь подготовить себе путь к лучшему будущему и впоследствии стать одним из счастливейших монархов своего времени. Недаром даже самые рассудительные и осторожные люди, как бы умно они ни поступали, не могут сравниться славой умнейших с Брутом, хотя он вел себя как неизлечимый безумец. Ведь причина этого притворного безумия была весьма разумной и проистекала из зрелого размышления, имея целью сохранить добро и уберечь самую жизнь от ярости горделивого тирана, а потом собраться с силами, прогнать Тарквиния[262] и освободить народ, склонившийся под игом тяжкого и постыдного рабства.
Как Брут, так и Гамлет, — а к этим двоим можно присоединить и царя Давида, который притворялся безумным[263], чтобы обмануть палестинских царьков и уцелеть, — показывают пример всем тем, кто обижен каким-либо могущественным властелином, но недостаточно силен, чтобы уберечься от преследований, а тем паче отомстить за обиду. Разумеется, говоря об обиде на знатного человека, я не имею в виду природного сеньора, ибо на природного сеньора нам не пристало роптать, тем более затевать против него козни или злоумышлять на его жизнь.
Кто хочет следовать примеру принца Гамлета, должен и словом и делом угождать своему врагу, чтобы его обмануть. Надо хвалить его поступки, всячески показывать ему свое уважение, то есть делать противоположное тому, что носишь в сердце; а ведь это и значит валять дурака и строить из себя сумасшедшего, ибо ты вынужден таиться и целовать руку того, кого желал бы видеть на дне могилы, чтобы никогда больше не повстречаться с ним на земле. Правда, это не совсем вяжется с обязанностями христианина, коему должно быть чуждо желчное озлобление и мстительные чувства.
Итак, искусно играя неисправимого безумца, Гамлет позволял себе при этом весьма многозначительные поступки и говорил такие речи, что человек проницательный мог бы догадаться, что за ними что-то кроется. Так, однажды принц сидел у очага и строгал ножом палки, заостряя их конец на манер кинжального лезвия. Кто-то спросил его с улыбкой, на что ему эти колышки и зачем он их столько настрогал.
— Я готовлю, — отвечал принц, — стальные копья и острые дротики, чтобы отомстить убийцам моего отца.
Глупцы, как я уже говорил выше, объясняли себе такие речи потерей разума; но люди умные и обладавшие чутьем заподозрили истину и начали догадываться, что под маской сумасшествия таится великая хитрость, которая может обернуться бедой для их господина. Они говорили королю, что под своим диким и бедным обличьем принц скрывает дальновидный умысел, что он прячет острый ум под притворной личиной, и советовали Фангону во что бы то ни стало сорвать эту маску и вывести принца на чистую воду. И они придумали самое подходящее для этого средство: оставить молодого человека в укромном уголке наедине с красивой женщиной, чтобы она улестила и околдовала его своими ласками. Ведь природа юноши, тем более сытого и здорового, так склонна к плотским радостям, так рьяно упивается всем истинно красивым, что тягу эту нельзя превозмочь или даже ослабить ни хитростью, ни осторожностью, ни подозрением. И потому, по их расчетам, в решительный миг принц поддастся тайному зову любострастия, уступит могуществу плотских вожделений и выдаст себя.
Было назначено несколько придворных, которым поручили увлечь принца в какое-нибудь уединенное место в лесу и оставить там наедине с выбранной для этого красавицей, дабы ввергнуть в скверну ее поцелуев и объятий. Такие приемы нередко применяются и в наше время, цель их не столько проверить, владеют ли знатные своими чувствами, сколько отнять у них силу, добродетель и разум через этих кровососных пиявок и адских Ламий[264], которых поставляют своим господам их слуги, а лучше сказать — служители разврата. Бедный принц был в большой опасности и непременно попался бы в ловушку, если бы не один дворянин, который еще при жизни Хорввендила воспитывался вместе с Гамлетом; человек этот память о хлебе дружбы предпочел верности всемогущему тирану, желавшему заманить сына в ту же западню, в которой погубил отца. Этот дворянин вошел в число придворных, взявших на себя злое дело, но сделал это не для того, чтобы расставлять принцу силки, а с иной, тайной целью: предупредить его об опасности, ибо видел, что малейший проблеск разума будет для него губителен. Окольными путями он дал понять Гамлету, какая опасность его подстерегает, если он поддастся на ласки и прельстительные ужимки девицы, подосланной отчимом. Принц был весьма неприятно поражен таким открытием и не хотел ему верить, ибо чары красотки сильно на него подействовали. Но девушка сама подтвердила, что тут приготовлена западня, ибо любила Гамлета с детства и была бы весьма опечалена, если бы с ним приключилась беда, хотя горько ей было отказаться от объятий и любви того, кого она любила больше жизни. Таким образом, принц обманул придворных. Девица утверждала, что он к ней и пальцем не прикоснулся, он же говорил обратное, и сумасшествие его стало очевидно для всех, ибо что иное прикажете думать о человеке с таким слабым мозгом, что он не способен понимать происходящее.
Один из приближенных Фангона, подозревавший о коварных замыслах мнимого безумца, твердил королю, что столь тонкий притворщик, способный играть помешанного, не попадется в обычную западню, которую нетрудно заметить; надо измыслить другое средство, более умное и хитрое, подсунуть такую приманку, чтобы юнец не смог удержаться и раскрыл бы себя. И он предложил прекрасный способ поймать Гамлета в ловушку, чтобы он запутался в разостланных сетях и выдал свои тайные мысли. Пусть (сказал он) король Фангон объявит, что отправляется в дальнюю дорогу по важному делу, а Гамлета тем временем оставят наедине с королевой в ее покоях; тут же, неведомо для них, спрячется кто-нибудь из придворных, подслушает их беседу и узнает, в какой заговор пожелает втянуть свою мать этот слабоумный хитрец и обманщик. Ведь король сам должен понимать, что если в голове у молодого сеньора есть хоть искра разума и понятия, то он откроется в этом своей матери и доверит тайные замыслы и намерения той, что носила его в своем чреве и кормила своей грудью.
Придворный этот сам же и вызвался быть шпионом и соглядатаем, дабы не причислили его к той породе советчиков, которые, плохо радея о пользе своего государя, отказываются быть исполнителями собственных советов. Королю весьма понравилась эта затея, как единственное верное средство излечить принца от его безумия. И вот, изготовившись якобы к долгому путешествию, он выехал из замка и отправился на охоту. Приближенный же его прокрался в покои королевы и спрятался за суконным пологом, прежде чем принц уединился в комнате со своей матерью. Но Гамлет был хитер и предусмотрителен и опасался выдать себя, неосторожно заведя с королевой серьезный разговор. И потому, войдя в комнату, он на первых порах продолжал свои глупые выходки: закукарекал, захлопал руками, точно петух крыльями, и вскочил обеими ногами на край полога. Он тотчас почувствовал, что там что-то спрятано, и, не долго думая, сунул туда свой меч по самую рукоять; затем, вытащив на свет полумертвого человека, добил его, рассек на куски, отдал сварить и вареное мясо бросил в широкий сток для нечистот, на съедение свиньям. Итак, обнаружив западню и покарав того, кто ее придумал, он снова вернулся к королеве. Та же горевала и плакала, видя, что все пропало: как ни была она грешна, но ее убивала мысль, что единородный сын ее стал общим посмешищем и каждый попрекает его слабоумием, и за дело, — ведь ей самой только что довелось увидеть одну из его безумных выходок. Совесть ее мучила: она корила себя за кровосмесительную страсть и боялась, что бог наказал ее болезнью сына за то, что она вступила в связь с тираном, убийцей ее супруга, домогающимся теперь смерти племянника. Во всем этом она винила свою женскую слабость, чрезмерную склонность женщин к плотским соблазнам, которые помрачают их разум, так что они не предвидят пагубных последствий своего легкомыслия и непостоянства. Ради минутного удовольствия они обрекают себя на вечное раскаяние, а потом проклинают тот час, когда скоропреходящее желание затмило им очи, понудив забыть достоинство; и вот что получилось, когда дама столь высокого ранга позволила себе презреть священный пример добродетели и чести, завещанный ей прежними государынями. Она вспоминала, каких похвал и почестей удостаивали датчане Ринду, дочь короля Рофера, самую целомудренную женщину своего времени, которая не желала и слышать о браке с каким-либо принцем или рыцарем, превосходя стыдливостью всех знатных дам своего королевства, как она превосходила их красотой, любезностью и кротким нравом. И пока королева Герутта так убивалась, в комнату вновь вошел Гамлет, еще раз осмотрел все углы спальни, не скрывая недоверия не только к придворным, но и к самой королеве; убедившись, что, кроме них двоих, в комнате никого нет, он с умом и выдержкой повел такую речь.
РЕЧЬ ГАМЛЕТА, ОБРАЩЕННАЯ К КОРОЛЕВЕ ГЕРУТТЕ
Как назвать предательство матери — о, презреннейшая из всех женщин, покорившихся грязной воле прелюбодея, — которая своей фальшивой кротостью покрывает самое злое дело и самое гнусное преступление, какое только дано замыслить и совершить человеку? Могу ли я доверять вам, если вы, точно похотливая блудница, презрев приличие, гонитесь с раскрытыми объятиями за негодяем и самозванцем, умертвившим моего отца? Как можете вы предаваться кровосмесительным ласкам вора, осквернившего ложе вашего супруга? Ради него вы позорно забыли отца вашего несчастного сына, который всеми заброшен и погибнет, если бог не вызволит его из рабства, недостойного его звания и благородной крови, текущей в его жилах, и славного имени дедов и прадедов. Где это видано, чтобы королева и дочь короля, уподобясь самке лесного зверя или дикой кобылице, отдавалась тому, кто победил ее прежнего супруга? Зачем вы идете за презренным негодяем, отнявшим жизнь у славного мужа, с которым никогда не сравнится этот грабитель, укравший у датчан их честь и славу! Дания уничтожена, обессилена и опозорена, с тех пор как светоч рыцарства пал от руки жестокого и подлого труса. Я не признаю своего с ним родства, отказываюсь считать его своим дядей, а вас любимой матерью, ибо вы позволили злодею пролить кровь, соединявшую нас нерасторжимыми узами; мало того, вступили в брак со злейшим врагом и убийцей моего отца, чего не допускает честь и что невозможно без вашего согласия на его убиение.
О королева Герутта! Только сука готова совокупляться с кем попало и вступать в брак со многими зараз. Что, как не низменная похоть, вытравило из вашего сердца память о доблестях и заслугах славного короля, моего отца, а вашего супруга! Что, как не разнузданная страсть, побудило дочь Рорика обнимать блудника Фангона, презрев память Хорввендила? Разве это допустимо? Разве он заслужил, чтобы родной брат предательски убил его, а жена подло изменила, — та самая жена, которую он так любил, ради которой некогда завоевал все богатства Норвегии и победил ее лучших воинов, чтобы тем умножить достояние Рорика и сделать Герутту супругой самого храброго государя Европы? Прилично ли женщине, тем более королеве, — которая должна служить примером простоты, любезности, дружелюбия и участливости, — бросить свое дитя на произвол судьбы, отдать в кровавые руки обманщика, вора и убийцы? Даже дикие звери так не поступают! Львы, тигры, ягуары и леопарды защищают своих детенышей; хищные птицы — клювом, когтями, крыльями — отбивают своего птенца у врагов, задумавших его украсть. А вы покинули меня и отдали на смерть, вместо того чтобы взять под свою защиту. Это ли не предательство: зная свирепость тирана, его намерения, его ненависть к отпрыску и живому портрету убитого брата, даже не позаботиться укрыть свое дитя в Швеции, или в Норвегии, или отдать его на милость англичан? Все лучше, чем оставить его здесь, добычей бесстыдного прелюбодея! Не обижайтесь, государыня, прошу вас, если в своем отчаянии я говорю с вами грубо и не оказываю должного уважения; надо ли удивляться, что я перехожу всякие границы учтивости, если вы меня покинули и перечеркнули память о покойном короле, моем батюшке. Подумайте сами, в какой я беде, какая горькая участь выпала мне на долю, куда завели меня ваше неразумие и легкомыслие! Ведь я вынужден прикидываться сумасшедшим и вести себя как юродивый, чтобы спасти свою жизнь! Не больше ли мне пристало учиться воинскому искусству и водить в бой дружину, чтобы все узнали во мне сына славного короля Хорввендила? Не попусту, не без причины я разговариваю и веду себя как помешанный; не напрасно стараюсь, чтобы меня считали дурачком и умалишенным. Понимаю же я, что кто не погнушался убить родного брата, — ибо привык к убийству и рвется к власти, и некому предостеречь его против злодеяния и душегубства, — тот не постыдится столь же безжалостно умертвить дитя, рожденное от крови и плоти убитого брата. И потому лучше мне прослыть слабоумным, чем выказать разум, дарованный мне природой; его светлое, святое сияние я должен прятать под покровом безумия, как солнце прячет свои лучи за благодетельной тучей в знойную пору лета. Маска юродивого нужна мне, чтобы под нею скрыть мои смелые замыслы, а кривлянья помешанного — чтобы уцелеть ради чести Дании и ради памяти покойного короля, моего отца. Ибо местью полно мое сердце, и если я не умру завтра, то отомщу так, что меня надолго запомнят люди этой земли. Но надо выждать, покуда не придет мой час и не приведет с собой средство и случай: я не могу торопить время и рисковать, что делу моему придет конец раньше, чем я приступлю к его исполнению. Против клятвопреступника, изверга и вора позволительно употреблять самые небывалые козни и обманы, на какие только способно человеческое хитроумие. Сила не на моей стороне; значит, хитрость, притворство и тайна должны лечь на другую чашу весов. Впрочем, скажу так, государыня: не горюйте, что я сумасшедший; лучше плачьте и кайтесь в своем грехе и проливайте слезы по доброй славе, некогда красившей имя королевы Герутты. Пусть душу вашу угрызают не чужие изъяны, а собственные ваши пороки и безрассудства. В заключение прошу вас и заклинаю всем, что есть дорогого в жизни, не открывать ни королю, ни кому другому нашего разговора; дозвольте мне довести до конца мое дело, а я надеюсь, что счастье будет мне сопутствовать.
Хотя речи эти глубоко уязвили королеву, ибо Гамлет затронул ее больное место, она простила ему суровые и злые упреки: превыше досады была ее радость, что сын вполне разумен и здрав умом и обещает достичь многого в дальнейшем. Она и боялась глядеть ему в глаза, сознавая свою вину, и в то же время руки ее сами тянулись обнять его в благодарность за справедливый выговор; речи его так глубоко на нее повлияли, что она разом потушила в своем сердце пламя плотских вожделений, привязавших ее к Фангону, и воскресила в себе память о доблестном супруге, и сокрушилась по нем в душе своей, увидя живой образ его ума и достоинства в их сыне, наследнике высоких помыслов отца. Сраженная сими благородными чувствами, она долго глядела на Гамлета, словно забывшись в созерцании, а потом залилась слезами и заключила его в объятия, как и следует любящей и добродетельной матери. Затем она сказала так:
— Я сама знаю, сын мой, что причинила тебе много зла, согласившись на брак с Фангоном, жестоким тираном и убийцей твоего отца, моего истинного супруга. Но как мало было у меня средств противиться ему! Двор изменил мне и покойному королю. Кому из придворных могла я ввериться, если все они пошли за Фангоном? Каких насилий не употребил бы он, если бы я восстала против союза с ним? Подумай об этом, вместо того чтобы поносить меня за неверность и распутство, да еще несправедливо подозревать в том, что Герутта злоумышляла на жизнь короля! Клянусь могуществом всесильных богов: если бы я могла противиться узурпатору, если бы всей моей крови и всей моей жизни достало, чтобы спасти супруга и короля, я бы сделала это от чистого сердца, как потом не раз делала, чтобы защитить тебя. Если тебя убьют, я не стану жить и дня. Но разум твой ясен, и, значит, есть надежда на спасение и возмездие. Но, друг мой, мой любезный сын, если тебе дорога жизнь, если тебе дорога память отца, если ты хочешь быть добрым со своей недостойной матерью, умоляю тебя: будь осторожен, не спеши, не горячись; иди к цели медленно и осмотрительно. Ты сам видишь: среди придворных едва ли найдется хоть один, кому ты мог бы довериться, как и среди моих фрейлин ни одна не сохранит тайны, а сразу же откроет ее твоему врагу. А он хоть и делает вид, будто любит меня, чтобы иметь право на мое ложе, но на самом деле не доверяет мне и боится — из-за тебя. Он не так прост, чтобы верить в твое неизлечимое слабоумие. Если ты совершишь хотя бы один разумный, недурашливый поступок — даже скрытно и в тайне, — он сразу об этом узнает. Боюсь, как бы злые духи не уведомили его о нашем с тобой разговоре. Такая нам во всем незадача, так жестоко преследует нас злая судьба; возможно, и смерть сегодняшнего придворного не пройдет нам даром. Я скажу, что ничего не знаю; твой светлый ум, твои замыслы останутся нашей тайной. Молю богов, сын мой, чтобы они отечески направляли твои шаги, внушали тебе мудрые решения, споспешествовали твоим намерениям, а мои глаза увидели бы, как ты вернешь себе свое достояние и корону, похищенную тираном, и дали мне порадоваться твоему счастью и погордиться отвагой, с какой ты отомстил убийце и его сообщникам.
— Государыня, — отвечал Гамлет, — я верю вам и не стану более вмешиваться в ваши дела. Но прошу вас, ради собственной вашей чести, не бояться этого блудника и хищного пса, ибо я его убью, даже если все злые духи ада станут на его охрану. Не помогут ему и царедворцы; я избавлю от них землю. Они последуют за ним на тот свет, как следовали за ним в заговоре на моего отца, — злодеи, сообщники предательства и убийства! По правде и совести, те, кто изменнически убил своего государя, должны погибнуть столь же оскорбительной и жестокой, но более заслуженной смертью. Пусть заплатят с лихвой за измену. Вы знаете, государыня, что Гофер, ваш дед, отец славного короля Рорика, победив Гимона, приказал сжечь его живьем за то, что этот изверг предал казни через сожжение Гевара, своего сеньора, захватившего ночью, изменой. Каждому известно, что предатели и клятвопреступники не заслуживают честного, прямодушного обращения. Договор с убийцей — не более чем тонкая паутина, а обещанное ему — не в счет. И потому, когда я расправлюсь с Фангоном, это не будет ни предательством, ни клятвопреступлением, ибо он мне не король и не сеньор; напротив, я накажу его именно за то, что он скверный вассал, вероломно поднявший руку на своего законного государя. И если слава есть плата за добродетель, а почет — награда за службу законному государю, то почему всеобщее порицание и позорная казнь не должны клеймить тех, кто осмелился поднять руку на священную особу государей, коих боги призвали себе в друзья и соратники, помазав их на царство по образу и подобию небожителей? Слава и честь венчают добродетельного; они даются в награду за постоянство, чуждаются низких, ускользают от трусливых, бегут от подлых; и потому либо я найду себе достославный конец, либо с оружием в руках, увенчанный торжеством и победой, отниму жизнь у того, кто отнимает ее у меня и гасит лучи доблести, доставшейся мне в удел вместе с кровью и священной памятью предков. Да и чего стоит жизнь, если стыд и бесчестие, словно палачи, беспрестанно мучают наш разум, а страх обуздывает горделивые стремления и уводит прочь от возвышенных мыслей о людской хвале и бессмертной славе? Я знаю: только глупец станет рвать недозрелый плод и тянуться к недоступному. Но я буду действовать разумно и надеюсь на свою счастливую звезду, указывавшую доселе мне путь. Нет, я не умру, не отомстив моему врагу. Он сам себя погубит, сам подскажет, как совершить то, до чего я бы не додумался.
В это время явился Фангон, якобы вернувшись из путешествия, и первым делом спросил о придворном, который взялся подслушать разговор принца с королевой, чтобы уличить Гамлета в здравом уме. Тиран был весьма удивлен, что его соглядатай исчез без следа, и спросил помешанного Гамлета, не знает ли он, где тот находится. Принц не был лжецом; за все время своего притворного безумия он не сказал ни слова неправды. Как человек благородный и ненавистник лжи, он ответил самозванцу, что его приближенный нашел себе конец в отхожем месте, утонул в нечистотах, и пробавляющиеся на помойке свиньи давно его сожрали.
Легче было поверить чему угодно, только не этому странному убийству, совершенному Гамлетом. Однако сомнения грызли Фангона; ему и раньше сдавалось, что юродивый сыграет с ним когда-нибудь скверную шутку, и он давно убрал бы его со своей дороги, если бы не страх прогневить деда его, Рорика, и оскорбить королеву, мать этого шута, ибо она любила и жалела своего сына, хоть и тяжко ей было видеть его слабоумие.
Ища средства избавиться от докучного пасынка, Фангон решил прибегнуть к помощи чужих людей. Выбор его пал на короля Англии. Пусть, решил он, англичанин станет убийцей притворной невинности. Фангон предпочитал, чтобы пятно пало на его друга, а не на него самого. Он велел Гамлету плыть в Англию, а в письме к королю Английскому просил очистить землю от идиота-племянника. Когда Гамлет узнал, что его отправляют к англичанину, в Великобританию, он сразу догадался об истинном смысле этой поездки. Он переговорил с королевой, просил ее согласиться на его отъезд, ни в коем случае не возражать, а, напротив, всячески выказывать удовлетворение: ведь ее избавят от урода-сына, хоть и любимого, но терзавшего ей сердце жалким и отвратительным своим состоянием. Он умолял также королеву после его отъезда украсить коврами дворцовый зал, прибив их к стенам, и сохранить те колышки, которые он в свое время заострил и про которые говорил, что это копья, коими он пронзит убийц; и, наконец, он просил еще свою мать по истечении года устроить по нем пышные поминки, а ее уверил, что к этому сроку она вновь его увидит, да таким, что возрадуется материнское сердце.
В Англию с ним отправляли двух верных приспешников Фангона. У них-то и хранились письма, вырезанные на деревянных табличках, где было обозначено, что владетелю Англии следует умертвить Гамлета. Но хитрый принц Датский заглянул в эти таблички, пока спутники его спали; он узнал о коварном умысле своего дяди и уразумел всю жестокость придворных, везших его на бойню. Он выскреб нанесенные на деревянную дощечку письмена и вместо них нацарапал и вырезал другой приказ англичанину: повесить и удавить его спутников. Но, не довольствуясь тем, что обратил на них казнь, которую они готовили ему, он еще присовокупил, что Фангон весьма желал бы видеть дочь островитянина супругой принца Датского.
Пристав к берегам Великобритании, посланцы Дании явились к королю и вручили ему королевские грамоты. Ознакомившись с их содержанием, англичанин скрыл свои чувства и положил выждать удобного случая, чтобы исполнить распоряжение Фангона; а тем временем принимал датское посольство весьма радушно и даже оказал ему честь пригласить к своему столу; впрочем, в те времена короли еще не были столь щекотливы, как нынче, не так дорого расценивали свою аудиенцию и куда охотнее являлись глазам подданных. Нынешние монархи, и даже мелкие царьки и просто сеньоры стали так же недоступны, как в древности владыки Персии или как нынешний царь Эфиопии: про него говорят, что он не разрешает никому даже смотреть на свое лицо и для этой причины закрывают его обычно вуалью.
Когда посланцы Дании сидели за столом и весело ужинали в обществе англичан, предусмотрительный Гамлет, хоть и веселился вместе с остальными, но не пожелал прикоснуться ни к яствам, ни к напиткам, что подавались к королевскому столу. Сотрапезники очень этому дивились — почему молодой иностранный гость не соблазняется вкусной едой и сладкими винами и отодвигает все, точно грязное, дурно пахнущее и плохо приготовленное? Король до времени молчал, велел проводить гостей в отведенные им покои, а одному из своих верных слуг приказал спрятаться там и потом доложить, о чем разговаривали иностранцы, укладываясь спать.
Как только приезжие устроились на ночлег, а прислуживавшие им англичане вышли, спутники Гамлета не преминули спросить, почему он пренебрег угощением и не пожелал отдать честь гостеприимству английского короля, принявшего их с таким почетом и любезностью. Они указывали также принцу, что он кругом не прав и нанес ущерб королю Фангону: ведь получилось, будто посланцы Дании боятся быть отравленными за столом у столь славного и почтенного монарха, как английский король. Но принц, ничего не делавший без причины, поразил их следующим ответом: «Неужто вы полагаете, что я буду есть хлеб, пропитанный человеческой кровью, загрязню себе глотку ржавым железом и стану жевать мясо, от которого несет гнилой человечиной и падалью, давным-давно выброшенной на помойку? И могу ли я почитать короля, который глядит глазами раба, и королеву, лишенную всякого величия и совершившую три поступка, приличных только самой простой бабе и простительных разве горничной, но никоим образом не знатной даме столь высокого ранга?» И к этому он добавил много других обидных и язвительных замечаний, не только о короле и королеве, но и о других господах, присутствовавших на пиру в честь посольства из Дании. Гамлет говорил при этом чистую правду, как вы узнаете из дальнейшего. Дело в том, что в те давние времена все северные страны были подвластны Сатане и там водилось великое множество колдунов. Всякий встречный и поперечный владел тайнами ведовства; да и поныне Готия[265] и Биормия[266] так и кишат греховодниками, умеющими многое такое, что запрещено христианской верой. И вы легко в этом убедитесь, прочитав о разных случаях, происходящих в Норвегии и Готии. Так и принц Гамлет еще при жизни своего отца обучался волшебству, коим нечистый дух вводит людей в соблазн; сей искуситель и открывал принцу (конечно, в меру своих сил) истину о прошлом. Не буду сейчас вдаваться в рассуждения о способности человека угадывать сокрытое; возможно, принц Гамлет под воздействием меланхолии сам разгадал все эти тайны и никто ему не подсказывал ответов; недаром многие философы, трактующие о свойствах разума, приписывают способность угадывать будущее людям, которые подвержены действию Сатурна и, в состоянии одержимости, предсказывают многое такое, что потом, придя в себя, сами не могут вспомнить. Об этом пишет и Платон: многие провидцы и вещие поэты, когда остывает нашедший на них пыл, с трудом понимают то, что написали; а между тем, пребывая в пророческом наитии, они так хорошо и ясно все это толкуют, что авторы и другие сведущие в науках и искусствах люди хвалят их речи и тонкие мысли. Посему не стану оспаривать распространенное мнение о том, что в душе, предавшейся наукам, поселяются средние демоны, которые и открывают ей тайны природы и людей. Гораздо менее склонен я верить учениям магов, согласно которым миром управляют всемогущие главные демоны, а волшебники силой заклинаний заставляют их служить себе и могут творить чудеса. И действительно, ведь это чудо, что Гамлет сумел отгадать сокрытое (как оказалось впоследствии, он был во всем прав), если бы не помощь демонов, знающих прошлое. Но мы совершили бы большую ошибку и впали бы в прискорбное заблуждение, если бы признали за ними знание будущего. Достаточно сравнить темные прорицания колдунов с верными, боговдохновенными пророчествами наших великих святых, чтобы понять разницу. Пророки божий — те истинно вкусили небесного знания, и только они могли открывать людям чудесные тайны Творца. Так что напрасно греховодники и путаники приписывают врагу божию и отцу лжи способность ясновидения, напрасно уступают нечистому знание истины о грядущем. И пусть не ссылаются на Саула, вопрошавшего о будущем прорицательницу[267]. Хотя мы находим этот пример в Писании и смысл его — осуждение злого человека, все же и этого довода недостаточно: сами колдуны признают, что могут предсказывать не всё и не всегда, а лишь в тех случаях, когда им явлены некие внешние знаки, якобы наводящие на догадку о будущих событиях. Все это весьма туманно и не идет дальше простых предположений — и на большее никакие кудесники не способны. А коль скоро предсказания их опираются лишь на шаткую основу догадки и не подтверждаются ничем, кроме случайных и запоздалых совпадений, и если истолкование сих знаков совершенно произвольно — то человеку рассудительному, а тем паче доброму христианину стыдно придавать значение этому вздору и верить глупым чернокнижным писаниям.
Что же до мелкого колдовства и магии, то в их существование вполне можно верить. История полна рассказов о кудесниках, и даже священная книга Библия упоминает о колдовстве и запрещает к нему прибегать.[268]
То же было и у язычников: императоры Рима издавали законы против колдунов[269]. Сам Магомет, нечестивец и друг Сатаны, с помощью коего он вопреки закону забрал в свои руки чуть ли не весь Восток, устанавливал суровые наказания тем, кто предавался недозволенному и вредоносному чародейству. Однако оставим колдунов и вернемся к Гамлету, обученному обманным чарам, согласно обычаям своей земли. Услышав ответ принца, спутники строго осудили его за безумные речи — ибо что, как не безумие, побуждает хулить хорошее и отвергать необходимое. К тому же принц, как они говорили, совершил грубую неучтивость, произнося поносные слова о такой значительной особе, как король Английский, и позоря королеву Англии — одну из самых могущественных и влиятельных государынь на всех ближних островах. Наконец, они пригрозили, что накажут его, как требует столь неслыханное поведение. Но принц не отступался от своих мнимобезумных речей и смеялся над их наставлениями, утверждая, что во всем поступал похвально и говорил одну лишь правду. Когда короля Английского уведомили обо всем этом, он рассудил, что двусмысленные речи принца Гамлета свидетельствуют либо о безнадежном сумасшествии, либо о редкостном уме, иначе он не мог бы так уверенно и быстро отвечать на вопросы о его поведении. И чтобы доискаться до истины, он призвал к себе пекаря, выпекавшего хлеб для королевского стола, и спросил, в каком месте жали пшеницу для дворцовой пекарни, нет ли там поблизости следов битвы или сражения и не впиталась ли в почву человеческая кровь. На что королю было доложено, что неподалеку от той полоски находится поле, сплошь усеянное костями воинов, убитых некогда в жестокой схватке, что видно по количеству останков; а так как почва была по этой причине тучной и хлеб хорошо родился, то здесь и высевали ежегодно отборное зерно для королевской пекарни. Король убедился, что принц говорил правду; тогда он спросил, чем откармливали кабанов, мясо которых подавалось к столу, и узнал, что однажды кабаны эти вырвались из свинарника и сожрали останки одного вора, казненного за свои проделки. Король еще более удивился и пожелал узнать, из какого водоема брали воду, на которой варили пиво, поданное к столу; затем он велел раскопать поглубже русло указанного ручья, и его люди нашли там ржавые мечи и другое оружие, придававшее напитку неприятный привкус. Вы подумаете, пожалуй, что я вам рассказываю одну из сказок про Мерлина[270], о котором выдумывают, будто он умел говорить, когда ему еще не исполнилось года; но вдумайтесь во все, что я сказал выше, и вы согласитесь, что угадать такие скрытые вещи возможно, хотя не исключено, что Сатана подсказывал юнцу его ответы; впрочем, тут речь идет о вещах вполне естественных и обычных, о том, что было прежде, но отнюдь не о провидении будущего.
Узнав такие чудеса, король возгорелся любопытством узнать, почему датчанин говорил, что английский король глядит, как раб; он, впрочем, предвидел, что ему поставят в укор плебейскую кровь и скажут, что в рождении его не участвовал никакой знатный сеньор. Желая выяснить этот щекотливый вопрос заранее, он обратился к своей матушке; отведя ее тайно в уединенный покой и тщательно заперши дверь, он просил и честью заклинал ее открыть, кому он обязан своим появлением на свет. Вдовствующая королева, уверенная, что никто ничего не знает о ее былых любовных шашнях, поклялась, что один лишь покойный король мог похвалиться честью и счастьем наслаждаться ее объятиями. Но король теперь уже не сомневался в справедливости всех суждений принца Датского. Он пригрозил старой королеве, что так или иначе, не добром так силой, заставит ее открыть то, в чем она не желает признаться; и в ответ услышал, что однажды, отдавшись рабу, она сделала его отцом короля Великобритании. Сколь уязвлен и сконфужен был король — предоставляю судить всем тем, кто привык считать себя выше других и, полагаясь на незапятнанную славу своего дома и семейства, бесстрашно доискивается того, чего вовсе не желал бы услышать. Однако, скрыв досаду и втайне кипя от гнева, он положил лучше не срамиться, не выставлять на позор свою мать и оставить ее грехи безнаказанными, лишь бы не вызвать презрение у своих подданных; они, пожалуй, сбросят его с престола, не желая терпеть бастарда на троне своей прекрасной страны.
Как ни досадно было королю узнать о своем бесчестии, он воздал должное проницательности и уму молодого принца, посетил его лично в отведенных ему покоях и спросил, что означали слова о трех недостатках королевы, более приличествующих рабыне или служанке, нежели знатной даме и к тому же великой государыне. Видимо, этому королю мало досталось: узнав о своем незаконном рождении и выслушав обидные намеки на преданно любимую мать, он и теперь пожелал услышать то, что было ему горше собственного позора, а именно, что королева, его супруга — дочь горничной, что и видно по некоторым ее глупым выходкам, кои свидетельствуют не только о низком происхождении, но и о дурном воспитании, полученном у отца и матери, ибо она недалеко ушла от своей родительницы, доныне состоящей где-то в услужении. Король был так восхищен молодым человеком и так ясно увидел в нем нечто большее, чем бывает даровано другим людям, что решил отдать за него свою дочь, соответственно написанному на дощечках, подделанных Гамлетом, а обоих приспешников короля Фангона велел на другой же день схватить, дабы исполнить волю царственного собрата. Гамлет же, хотя все это входило в его расчеты и хотя англичанин не мог бы доставить ему большего удовольствия, сделал вид, будто возмущен и опечален, и грозил местью за такое оскорбление. Чтобы задобрить его, англичанин подарил ему много золота. Принц распорядился это золото расплавить и влить в полые деревянные дубинки, о назначении коих вы узнаете из дальнейшего. И эти дубины с золотой начинкой были единственным даром, увезенным принцем в Данию. С ними он и отправился на родную сторону по истечении года, упросив короля, своего будущего тестя, отпустить его ненадолго и пообещав вернуться в скором времени, чтобы сыграть свадьбу с английской принцессой.
Вступив во дворец, где справляли по нем поминки, принц вошел в пиршественную залу, к немалому удивлению сотрапезников, уверенных, что он давно умер; почти все радовались его смерти, зная, как доволен Фангон столь угодной ему утратой, и лишь немногие втайне горевали, не в силах забыть былую славу Дании и покойного короля Хорввендила, его памятные победы и все, что означало его имя. Эти люди возликовали при виде принца Гамлета, ибо на сей раз молва оказалась ложной и тиран еще не окончательно восторжествовал над истинным наследником ютского трона, а боги, может статься, вернут принцу разум, на благо его родной земли.
Когда прошло первое оцепенение, в зале поднялся шум и смех; гости, собравшиеся на поминки по живом человеке, посмеивались друг над другом за то, что так легко дались в обман. Они глумливо допрашивали принца, почему он вернулся из долгого странствия столь же безумным, как был, и куда девал двух спутников, сопровождавших его в Британию. Принц показал им дубинки, начиненные золотом, и сказал, что получил их от английского короля в виде выкупа за жизнь этих господ. «Вот вам мои спутники: вот один, а вот другой».
Многие из тех, кто уже и прежде догадывался о тайных мыслях сего пилигрима, поняли, что он сыграл со своими провожатыми злую шутку и вверг их самих в яму, которую они вырыли для него. Опасаясь подобной же участи, они поскорее покинули дворец, и правильно сделали, — такое уж было настроение у принца в день его поминок; день этот оказался последним для всех, кто радовался его беде. Ведь пировавшие думали только об одном: как бы наесться до отвала; нежданное появление Гамлета они сочли новым предлогом для обжорства и питья, тем более что сам принц начал им подносить яства и вина, точно стольник или виночерпий, и внимательно смотрел, чтобы кубки ни минуты не пустовали, и так употчевал свое дворянство, что господа эти, захмелев от вина и осоловев от еды, тут же повалились под стол; неумеренное пьянство — обычный порок немцев и всех вообще северных народов. Когда Гамлет увидел, что пришло время нанести удар, расквитаться с супостатами и бросить навсегда повадки слабоумного, он не стал терять времени даром: по всей зале валялись, словно свиные туши, тела хмельных гостей; одни храпели, другие возились в собственной блевотине, ибо их рвало от непомерного количества выпитого вина. Тогда принц набросил на них ковер, висевший вокруг стен, прибил его гвоздями к деревянному полу, а углы закрепил теми заточенными и обожженными кольями, о которых упоминалось выше. Пьяные гости оказались так плотно прижаты к полу, что, сколько ни барахтались, не могли выбраться из-под ковра. И тогда Гамлет поджег королевский дворец с четырех углов. Ни один из бывших в зале не ушел живой. Все они искупили свой грех в очистительном огне. Пламя высушило избыток влаги от выпитого ими вина, и они умерли в неумолимом жару костра. Внезапно поумневший принц, покончив с ними и зная, что дядя его, не досидев до конца пира, удалился в свои покои, пошел в королевскую опочивальню, находившуюся в дальнем конце замка. Войдя туда, он схватил меч братоубийцы, а вместо него положил свой, ибо заметил, что во время застолья слуги что-то делали с его мечом. Оказалось — они заклинили его намертво в ножнах. Затем, обратясь к Фангону, он сказал:
— Я удивляюсь, бесчестный король, как ты можешь спать, когда дворец охвачен пожаром и в пламени погибли все твои прихвостни, исполнители придуманных тобой жестокостей и мерзких бесчинств. Странно мне и то, что ты спокоен, видя перед собой Гамлета, вооруженного кольями, которые он так давно и задолго навострил, а ныне готов рассчитаться с тобой за гнусную измену моему отцу и сеньору!
Вот когда Фангон наконец убедился в лукавстве своего племянника! Он слышал разумную речь, а над головой его сверкал клинок, занесенный для удара. Король мигом вскочил с кровати и схватился за оружие, — но вместо его меча там висел меч Гамлета, вбитый намертво в ножны прислужниками Фангона по собственному его приказу; и пока он напрасно дергал за рукоять, Гамлет изо всех сил ударил его лезвием по шее, так что голова покатилась на пол, и сказал:
— Вот заслуженная плата негодяям вроде тебя; им по справедливости полагается окаянная смерть. Ступай в ад, и не забудь рассказать своему брату, безжалостно убитому тобой, что тебя прислал к нему его сын. Пусть бедная тень утешится среди вечно блаженных и не числит за мной долга за пролитую злодеем родную кровь, ибо ради этого я презрел узы родства, связывающие меня с тобой.
Да, поистине принц Гамлет был человеком отважным и мужественным. Достоин вечной хвалы тот, кто сумел под личиной хитроумного безумия и мудрого помешательства обмануть своей притворной глупостью стольких умников и хитрецов. Он не только уберег себя от козней и ловушек тирана, но измыслил новую, дотоле не слыханную кару и отомстил убийце своего родителя через много лет после преступления. Столь мудрая осмотрительность в соединении со смелостью и постоянством повергают людей рассудительных в колебания, ибо они не знают, чем более восхищаться: упорством ли и мужеством молодого человека или мудрой предусмотрительностью, какие он пустил в ход, чтобы привести в исполнение так давно задуманное возмездие. Если бывает вообще справедливая месть, то нет сомнения: любовь и жалость к отцу, несправедливо лишенному жизни, освобождают мстителя от осуждения за коварную хитрость. Возьмем историю Давида, царя святого и праведного, кроткого, учтивого, простого сердцем; но и он, умирая, завещал сыну своему и наследнику трона Соломону не дать умереть своей смертью некоему человеку, оскорбившему его[271]. И не подумайте, что царь Давид на пороге могилы, готовясь предстать перед высшим Судией, так уж заботился о мести; но он хотел дать урок грядущим поколениям, чтобы они знали: если задета честь венценосца, то кара за это не может считаться жестокостью и заслуживать порицания; напротив, она достохвальна и требует поощрения и награды.
Будь это неверно, ни знаменитые цари Иудеи, ни другие, более поздние властители не стали бы преследовать тех, кто оскорбил их отцов. Сам бог внушил им таковую обязанность. Об этом свидетельствуют и законы афинян, воздвигавших почетные статуи героям, которые отомстили за унижение и вред, причиненный республике, и смело предавали казни тиранов, пытавшихся нарушить благополучие граждан.
Совершив столь славную месть, принц Датский не решился сразу и прямо объявить народу о своем поступке и положил действовать хитрее и не спеша и постепенно разъяснить подданным причины, побудившие его на такие действия. Итак, окружив себя людьми, сохранявшими верность памяти его покойного отца, он стал ждать, что предпримут граждане, когда узнают о столь внезапных и устрашающих переменах. Жители близлежащих городов видели ночью столбы пламени над дворцом и наутро прислали ходоков узнать, что случилось. Обнаружив на месте дворца груду головешек, среди которых лежали обугленные трупы, горожане остолбенели. Даже стены не сохранились, весь дворец сгорел дотла. Каков же был ужас гонцов, когда они увидели окровавленные останки короля. Туловище лежало в одном месте, голова откатилась дальше. Некоторые возгорелись гневом, еще не зная, на кого; другие проливали слезы при виде столь горестного зрелища; третьи втайне радовались, не смея в том признаться; четвертые ужасались совершенным душегубством и оплакивали страшную смерть своего властелина. Но большинство граждан помнили об убиении короля Хорввендила и видели в случившемся справедливый суд богов, павший на надменную голову тирана. Вот сколь противоречивы были чувства, обуревавшие толпу. Никто не знал, чего ждать, все словно оцепенели, не решаясь выразить свои чувства, ибо каждый дрожал за свою жизнь, каждый опасался соседа, подозревая, что тот, быть может, сочувствует совершенному кровопролитию.
Видя, что народ в страхе молчит, а знатные не восстают и все хотят лишь узнать причину ужасной беды, Гамлет решил не медлить. Выйдя вперед в сопровождении своей свиты, он обратился к датчанам с такой речью.
ВОЗЗВАНИЕ ГАМЛЕТА К ДАТЧАНАМ
Если есть среди вас, господа, те, кто помнит злодейское убийство могучего короля Хорввендила, пусть спокойно перетерпят тяжкое и ужасное зрелище нынешнего бедствия. В вас живет уважение к верности, вы дорожите узами родства, почитаете оскорбленную память отцов — значит, не вам удивляться тому, что случилось. Пусть не отвращает вас вид окровавленных тел и страшных разрушений, гибель людей и дворцовых покоев. Ибо рука, свершившая сей праведный суд, не могла удовольствоваться меньшим; ничего другого ей не оставалось, как разорить тут все дотла, не щадя ни живых душ, ни бездушных предметов, ибо небеса повелели ей навеки запечатлеть в памяти народной сию справедливую месть.
Я вижу, господа, — и рад уважать вашу искреннюю преданность монарху, — что вас печалит вид изуродованного тела вашего короля Фангона; вам горестно видеть обезглавленным того, кто был правителем вашей земли; но прошу припомнить, что останки эти принадлежат не законному государю, а душегубцу, тирану, гнусному братоубийце. О датчане, куда отвратительнее и ужаснее было зрелище гибели вашего короля Хорввендила от руки родного брата! Да что брата! Скорее гнуснейшего из палачей, каких носила земля. Вы же своими глазами видели зарубленного Хорввендила; со слезами и вздохами вы предали земле его изувеченное тело, исколотое и изрезанное ножами. И кто сомневается (а вы убедились в том на собственном опыте), что, покусившись на законного короля, тиран покусится и на законные права его подданных, на старинные свободы датских граждан? Одна и та же рука растерзала короля и в тот же миг отняла у вас свободу и древние вольности. Какой же безумец выберет низменное рабство, если ему дана радость вкусить свободу, возвращенную без опасностей и кровопролития? Где тот помешанный, что предпочтет тиранию Фангона кротости и доброте воскресшего Хорввендила? Если правда, что самые суровые сердца смягчаются милостивым и мягким обхождением и становятся уступчивей, а жестокое правление делает подданных злыми и мятежными, то как же и вам не видеть доброты одного и не сравнивать ее с жестокостью другого, столь же грубого, наглого и свирепого, сколь тот был мягок, любезен и приветлив!
Вспомните, датчане, вспомните, как милостив был Хорввендил, как праведно он царствовал, как заботливо, отечески правил вами — и, я уверен, самый черствый из вас очнется и признает, что у него отняли справедливого короля, доброго отца, приветливого сеньора и посадили на трон братоубийцу, упразднившего закон, осквернившего древние установления, презревшего наследие предков и опозорившего злодействами честное имя датчан, на чью выю он набросил ярмо рабства, отменив свободы и законы, которые насаждал и свято блюл Хорввендил. Неужто вы опечалены, что пришел конец бедам и что злодей, обременивший свою совесть столь тяжкими грехами, расплатился сегодня с лихвой и за братоубийство и за обиды, чинимые сыну Хорввендила, которого он лишил всех прав, а Данию — законного престолонаследника, заменив его чужаком и вором и обратив в безгласных рабов тех, кого мой отец избавил от рабства и нищеты? Где найдешь человека настолько неразумного, чтобы равнять благодеяния с обидами, пользу с вредом, добро со злом? Воистину, глупо и безрассудно князьям и воителям рисковать своей жизнью ради блага народа, если вместо награды народ будет платить им ненавистью и мятежом. Зачем стал бы Гофер воевать с тираном Бальдером, если бы свевы[272] и датчане, вместо благодарности, изгнали бы его, а законным монархом признали бы сына того самого злодея, который замыслил их погибель? Где найдешь столь неразумного и нерассудительного человека, что горевал бы при виде наказанной измены и искупленного злодейства? Кто и когда печалился о казни душегуба, терзавшего невинных? Кто ропщет на справедливое возмездие, постигшее узурпатора и тирана, кровопийцу и злого пса?
Я вижу, вы слушаете со вниманием, вы удивлены, вы хотите знать, кто же ваш избавитель. Вы смущены, ибо не ведаете, кого вам благодарить за избавление от тирана, за истребление логова, где он творил свои черные дела, обратив дворец датских королей в притон всех воров и изменников королевства. Так смотрите. Вот он перед вами — тот, кто совершил столь необходимое очищение. Это я, господа, это я; признаюсь, я отомстил за обиду, нанесенную моему отцу и сеньору, за рабство и закабаление его государства, ибо я истинный наследник королевского престола и ваш законный король. Я один исполнил долг, который был и вашим долгом; я один совершил подвиг, в котором по справедливости вам следовало быть мне помощниками. Да будет так. Я верю в вашу преданность покойному Хорввендилу; верю, что память о его доблестном правлении не изгладилась из ваших сердец; если бы я призвал вас на помощь, вы бы не отказали в поддержке и средствах вашему природному сеньору. Но я хотел сам, собственными руками совершить суд. Я полагал, что это доброе дело — покарать злодея, не ставя под угрозу жизнь своих друзей и честных граждан; я не желал подставлять под топор палача ваши головы и предпочитал единолично нести бремя долга, ибо сознавал, что мне одному оно по силам. Я не хотел подвергнуть опасности чужую жизнь и испортить ненужной гласностью замысел, который ныне так счастливо претворил в жизнь. Я обратил в пепел изменников-царедворцев, сообщников тирана, но еще не предал огню останки Фангона. Вы сами должны назначить ему достойную кару. Вот перед вами его мертвое тело, эта гнусная падаль, и раз при жизни он не дался вам в руки, раз вы не смогли выместить ваш гнев на живом злодее, — покарайте останки того, кто жирел за ваш счет и лил кровь ваших братьев и родичей. Смелей же, друзья, сложите костер для короля-узурпатора, предайте пламени презренное тело, спалите в огне похотливые члены и развейте по ветру пепел этого врага людей, а потом размечите на все стороны света искры костра, дабы ни серебряная урна, ни хрустальный кубок, ни честная могила не дали последнего приюта праху столь мерзкого злодея. Пусть на земле не останется следа от братоубийцы, пусть ни единая частица этой плоти не осквернит датскую землю, чтобы сопредельные страны не заразились его мерзостью, а наша Дания очистилась бы от смрада преступления. Я исполнил свой долг, вручив вам убитого злодея. Довершите же начатое, скрепите своей рукой то, что входило в обязанность вашей службы. Так и следует воздавать царям-извергам, так хоронят тиранов, братоубийц и захватчиков чужого трона и ложа. Кто отнял свободу у своей родины, тому родная земля отказывает в последнем пристанище. О добрые мои друзья, все вы знаете, сколь великое зло я претерпел, какие изведал муки, какое познал поношение с тех пор, как умер мой истинный король и господин, ибо все это вы видели своими глазами и понимали умом, когда сам я, несмышленыш, еще неспособен был осознать всю безмерность нанесенного мне оскорбления. Зачем же я стану рассказывать вам об этом? Какая польза от такой исповеди, коли вы сами все видели и знали и от гнева и горя кусали себе пальцы, видя мою беду; и проклинали злую судьбу, так жестоко гнавшую королевское дитя, хотя, правду сказать, ни один из вас даже глазом не моргнул. Вы знали, что отчим искал моей головы и не раз пытался привести свой замысел в исполнение, что я был брошен на произвол судьбы королевой, моей матерью, осмеян друзьями, презрен подданными. Доныне я влачил полные скорби дни, лицо мое не просыхало от слез, каждый миг моей жизни был отравлен страхом и подозрением, и я ежеминутно ждал, что острый меч покончит разом и с жизнью моей, и с моими горестями. Сколько раз, бродя по замку в образе безумца, я слышал, как вы сокрушались о моей участи, втайне сострадая обездоленному принцу, за которого некому вступиться; некому отомстить за убийство его отца, покарать кровосмесителя-дядю, отчима-убийцу. Но ваше сострадание вливало в меня новые силы; ваши пени и сетования открывали мне честность вашего духа, ибо вы скорбели о бедах своего принца и запечатлели в сердце жажду справедливости и мести за смерть того, кто заслуживал долгой и счастливой жизни.
Есть ли на свете столь черствое сердце, столь суровый, холодный и беспощадный ум, которые бы не смягчились при воспоминании о перенесенных мною обидах, страданиях, тревогах и не пожалели бы ребенка-сироту, покинутого всеми до одного? Есть ли глаза, настолько сухие и забывшие о слезах, чтобы они не увлажнились при виде несчастного принца, униженного в собственном доме, преданного своей матерью, ненавидимого деспотом-дядей и столь безжалостно гонимого, что даже простой народ не смеет открыто плакать о его участи? О господа, вы не откажете в сочувствии тому, кого в детские годы сами пестовали и кормили своими руками; не верю, что сердце ваше глухо к моим детским страданиям. Я говорю с вами, потому что вы невиновны в измене и не запятнали ни рук своих, ни мыслей кровью доблестного Хорввендила. Будьте милосердны к королеве, вашей госпоже, а моей любезной матери, терпевшей насилие от тирана, и радуйтесь, что ныне исчез и уничтожен виновник ее позора, негодяй, вынудивший ее покинуть собственное дитя, более того — ласкать убийцу любимого супруга. Он загрязнил ее двойным клеймом: бесчестия и кровосмешения. Он разрушил ее дом и погубил семью. Вот почему, господа, я прикидывался слабоумным и скрывал свои замыслы под личиной сумасшествия; в этой теплице выращивал я свою мудрость и осторожность, чтобы дождаться дня, когда созреет плод моей мести. А о том, насколько я преуспел и достиг ли цели, вы можете судить сами. И в этом, и во всем другом, что касается до государственных дел и интересов, я буду полагаться на ваши мудрые суждения и советы и обещаю следовать им неуклонно. Отныне вы сами затопчете в землю последние искры пламени, спалившего моего отца, и предадите позорному забвению прах негодяя, обесчестившего супругу им же убитого брата и изменившего своему монарху, совершившего предательское нападение на своего государя и противозаконно поработившего всю страну и вас, ее честных граждан. Укравши у вас свободу, он не остановился перед братоубийством и кровосмешением. Ненавистное миру чудовище! Прямой ваш долг — защищать и оберегать Гамлета, вдохновителя и исполнителя справедливого возмездия. Я же радею о своей чести и вашей доброй славе и во имя их решился на дерзновенный шаг, надеясь на вас, отцы мои и покровители, верные защитники правого дела. Я знал, что, сочувствуя принцу Гамлету, вы вернете ему и достояние отцов, и законное их наследие. Я очистил мою родину от позора, я затушил огонь, пожиравший ваши богатства, я смыл пятно, грязнившее имя королевы, я покончил с тираном и тиранией, перехитрил самого ловкого хитреца и положил конец его зверствам и бесчинствам. Я скорбел об обиде, нанесенной разом и моему любимому отцу, и моей любимой родине, и потому истребил деспота, помыкавшего вами так, как не прилично помыкать храбрыми воинами, победителями отважнейших военачальников земли.
Но коли так поступаю я с вами, то и вы по справедливости должны отплатить мне тем же за радость и добро, сотворенные мною для вас и вашего потомства. Воздав должное моей мудрой осторожности, вы изберете меня королем Дании, если я, по вашему мнению, того достоин. Я ваш освободитель, наследник империи моих предков, ничем не посрамивший их доброй славы. Я не злодей, не насильник, не братоубийца; я в жизни своей не причинил вреда никому, кроме негодяев, как законный сын и преемник короля, справедливо мстящий за преступление, страшней и отвратительней которого нет. Не кому иному, как мне, вы обязаны возвращением свободы и отменой власти, столь долго вас угнетавшей. Я растоптал иго тирании, я сверг захватчика с престола и отнял скипетр у недостойного, употреблявшего во зло священное право королей. Ваше дело — вознаградить того, кто заслуживает награды; вы сами знаете, чем платят за такие заслуги; награда в ваших руках, вас я прошу заплатить как должно за доблесть и победу.
Речь молодого принца так глубоко взволновала датчан и так безраздельно открыла для него сердца знати, что одни плакали от сострадания, другие от радости, видя, что принц не только разумен, но и на редкость умен. Забыв печали, все они единодушно избрали его королем Ютландии и Херсонеса, составлявших в совокупности территорию нынешней Дании. После торжественной коронации, приняв присягу подданных и вассалов, Гамлет отправился в Англию за своей невестой. Он торопился сообщить будущему тестю об одержанной победе. Но тут король Англии едва не сделал того, что не удалось Фангону, несмотря на все ухищрения.
Едва высадившись на британском берегу, Гамлет поспешил уведомить англичан о том, какими средствами он вернул себе утраченный престол. Узнав о смерти Фангона, английский король пришел в крайнее замешательство. Два противоположных чувства раздирали его: дело в том, что в давние времена, будучи товарищами по оружию, они с Фангоном взаимно поклялись в верности и договорились, что если один из них будет убит, то другой возьмет на себя кровную месть и не успокоится, пока не истребит убийцу. Давши такую клятву, король варваров-англичан обязан был предать смерти Гамлета. Фангон, хоть и друг, был уже мертв; убийца же, ходивший еще по земле, оказался его зятем, супругом его дочери, и это заглушало в сердце англичанина мстительное чувство. Но в конечном счете долг чести и верность клятве одержали верх. Король принял решение убить своего зятя. Однако, как мы увидим, эта затея привела к собственной его гибели и разграблению всего острова разгневанным и ожесточившимся королем датчан. Я сознательно опускаю описание этой битвы, ибо оно уведет нас в сторону от повествования; к тому же мне не хочется злоупотреблять вашим вниманием. Расскажу вам только, каков был конец доблестного и мудрого короля Гамлета. Расквитавшись с полчищами врагов, ускользнув из стольких хитрых западней, он вдруг оказался игрушкой в руках судьбы и живым уроком для всех властителей, которые слишком полагаются на свою счастливую звезду, забывая, что мирское благополучие изменчиво и преходяще.
Король Английский сам видел, что расправиться с зятем, королем датчан, будет нелегко. Не желая также преступать законы гостеприимства, он решил отдать дело отомщения за Фангона в чужие руки: пусть кто-нибудь другой исполнит старую клятву, дабы королю Англии не пришлось обагрить руки в крови собственного зятя и осквернить свое жилище, предательски умертвив гостя.
Читатель, пожалуй, скажет: да этот ваш Гамлет прямо второй Геркулес, посылаемый Эвристеем по наущению Юноны[273] в разные концы света на верную смерть, чтобы там ему и голову сложить; или же уподобит его Беллерофонту, отправленному к Иобату на погибель[274], либо — оставим старые басни древних — Урии[275], обреченному Давидом в жертву вражеской ярости.
Дело в том, что английский король незадолго до того похоронил свою супругу; и хоть на деле он вовсе не помышлял о новом браке, но упросил будущего зятя совершить путешествие в Шотландию, наговорив ему тьму лестных слов о его уме и проницательности; мол, трудно было бы найти более подходящего человека для трудного посольства, чем Гамлет, самый хитрый и догадливый человек на свете, способный довести до успешного завершения любое дело. А состояло это дело в сватовстве. Гамлета посылали сватом к королеве Шотландии, девице гордого нрава, презиравшей всех женихов и не считавшей ни одного достойным себя. Сколько принцев ни являлось к ней свататься, ни один не сносил головы. Но такова уж была счастливая звезда датского властителя, что Герметруда (так звали королеву Шотландии), прослышав о приезде Гамлета и узнав о цели его посольства, забыла высокомерное презрение к мужчинам, смягчила свой непреклонный нрав и решила взять себе в мужья самого Гамлета, о котором ей было известно, что это самый мудрый и смелый принц, о каком ей доводилось слышать. И она положила отнять его у английской принцессы, ибо одну себя считала подходящей для него супругой. И вот эта амазонка, не знавшая любви и презиравшая Купидона, добровольно принесла гордыню в жертву своим женским желаниям.
Когда датчанин прибыл, она прочла врученные им письма седобородого англичанина и, смеясь над глупыми вожделениями старца, чья кровь уже давно остыла, не сводила глаз с молодого и пригожего Адониса[276] северных широт, радуясь, что ей попалась такая славная добыча и заранее предвкушая удачную охоту.
Эта дева, чью гордость не могли победить ни красота, ни любезность, ни отвага, ни богатство других принцев и королей, рыцарей и вельмож, ныне сдалась без боя, покоренная одною лишь молвой о хитрости датчанина; но, зная, что он женат на английской принцессе, она повела такую речь:
— Могла ли я ждать от богов и Фортуны столь прекрасного дара, как счастье лицезреть в своих владениях самого безупречного рыцаря северных стран! Ибо король Дании славен и почтен у всех народов, и соседних и дальних, за свою доблесть, и мудрость, и удачливость во всех делах. Отныне я в неоплатном долгу у английского короля — хотя в его намерения не входило ни мое, ни ваше благо — за то, что он оказал мне честь и удовольствие прислать столь знаменитого человека для переговоров о браке между ним, уже старым и немощным, и к тому же заклятым врагом всего моего рода, и мною; а какова я, видит каждый. Невеста вроде меня отнюдь не может желать брака с человеком, о котором вы сами говорите, что он сын раба. Но никак не пойму и другого: зачем сын Хорввендила и внук Рорика, — тот самый, что своим мудрым слабоумием и разумным помешательством победил могучего и хитроумного Фангона и отнял у врага свой престол и во всем был разумен и основателен, — зачем он уронил себя, вступив в союз с женщиной низменного происхождения? Пусть она дочь короля, все равно; плебейская кровь непременно даст себя знать, и все увидят, каковы на деле старинные добродетели и благородство ее рода.
Вам ли, сударь мой, не знать, что невесту выбирают не за преходящую красу, а руководствуясь доброй славой, древностью рода, прославившего себя благомыслием и ни разу не изменившего доброму имени прародителей? Красивое лицо — ничто, если благородство духа не украшает и не увенчивает тленного телесного совершенства, которое столь хрупко, что может исчезнуть от любой, самой ничтожной, случайности. Не следует забывать, что погоня за красотой многих ввела в обман: точно цепкие шипы, красота впивается в душу, увлекая неосторожного в бездну гибели, позора и унижения. Нет, одна я достойна быть вашей супругой, ибо я королевского рода и знатностью могу потягаться с первыми властительницами Европы, не уступая им ни благородством крови, ни могущественной родней, ни богатством. Я не только сама королева, но и любому, кто разделит со мною ложе, могу по праву присвоить титул короля Шотландии и вместе с ласками и поцелуями подарить знаменитое королевство и великую страну.
Судите же сами, государь, как высоко я ценю ваше расположение! Если доныне я одним взмахом меча прогоняла всякого, кто осмеливался мечтать о браке со мной, то вам я готова отдать и мои поцелуи, и объятия, и скипетр, и корону. Какой мужчина, если он не сотворен из камня, откажется от столь завидного дара, как Герметруда и королевство Шотландское в придачу? Примите его, любезный король, возьмите за себя королеву, которая с любовью печется о вашем благе и может дать вам больше радостей за один день, чем эта скучная англичанка за целую жизнь. Хотя, несмотря на свою низменную, плебейскую кровь, она превосходит меня красотой, но такому венценосцу, как вы, приличнее выбрать благородную и знатную Герметруду, а не красавицу плебейку, вышедшую неведомо из каких низов.
Нетрудно понять, что датчанин счел эти доводы весьма вескими; ведь разговор коснулся тайного порока, им самим обнаруженного; не прощал он своему тестю и коварства, ибо тот вероломно послал его в Шотландию на смерть; и, наконец, польщенный ласками, поцелуями и сладкими речами королевы, женщины молодой и вовсе не безобразной, Гамлет, хотя и не скоро сдался на ее уговоры и не сразу забыл свою жену, но соблазн получить корону Шотландии и тем самым открыть себе путь к престолу всей Великобритании превозмог. Он обручился с Герметрудой и увез ее с собой ко двору английского короля, чем еще больше разжег в душе того стремление искать его смерти. И он бы наверняка погиб, если бы не первая жена его, английская принцесса, которая больше заботилась о благополучии своего неверного мужа, чем о жизни родителя. Она предупредила Гамлета о подстерегавшей его опасности и сказала так:
— Для меня не тайна, сударь, что прелести женщины бесстыдной и наглой, а потому сладострастной, больше влекут чувства молодых мужчин, чем стыдливые поцелуи законной и целомудренной супруги. Я не могу считать справедливым, что вы с таким пренебрежением, без всякой моей вины, покинули меня, вашу жену, и предпочли союз с особой, которая когда-нибудь доведет вас до беды. И хотя понятная каждому ревность и справедливое негодование освобождают меня от обязанности заботиться о вашем благе, — как и вы не заботитесь о моем, хотя я ничем не заслужила подобного обхождения, — но милосердие и сострадание к мужу сильнее в моем сердце, чем обида, хотя мне больно видеть, что мое место заняла наложница и что мой законный супруг у всех на глазах целует постороннюю женщину. Это оскорбление, и великое. Многие знатные дамы в отместку за измену казнили смертью своих мужей; но, как ни велика моя обида, она не помешает мне открыть вам глаза на готовящийся против вас заговор; прошу вас, будьте осмотрительны, ибо враги задумали лишить вас жизни, а если вы умрете, то я вас не переживу. Многие узы связывают меня с вами нерасторжимо. Но главная причина, побуждающая меня заботиться о вашем благополучии, — это дитя, которое зачато вами и уже шевелится у меня под сердцем. Ради вашего сына вы должны отбросить любовные химеры и думать обо мне, а не о вашей любовнице. Я же обещаю любить ее из уважения к вам и удовольствуюсь тем, что наш сын будет ее ненавидеть и презирать за то зло, которое она причинила его матери. Никакие душевные бури, никакие обиды не в силах погасить пламя чистой любви, отдавшей вам мое сердце. Ничто не заставит меня забыть чувства, побудившие вас просить моей руки. Ни ухищрения той, что украла у меня ваше сердце, ни гнев моего отца — ничто не помешает мне охранять вас от ложного гостеприимства, столь же притворного, как безумие, коим вы некогда обманули козни и злоумышления вашего дяди Фангона, когда гибель вашу, казалось, ничто не могло предотвратить.
Если бы не это предупреждение, Гамлету пришел бы конец, а заодно и всему шотландскому войску, прибывшему с ним. Английский король, с изъявлениями самой искренней дружбы, устроил своему зятю пир по случаю свадьбы с его новой дамой и при этом приготовил такую хитрую западню, что гостю пришлось бы крепко поплясать на этом балу. Но предупрежденный Гамлет пошел на пир в кольчуге, скрытой под одеждой, повелев так же поступить и всем своим людям. Лишь благодаря этому он уцелел, отделавшись легкими ранениями. Разыгралось кровавое побоище, упоминавшееся выше, в котором король Английский сложил голову, после чего все его государство было разграблено и разорено датчанами и варварами с островов.
Победитель Гамлет собрался в возвратный путь на родину, с богатой добычей и в сопровождении обеих своих жен. В пути до него дошла весть о том, что Виглер, его дядя и родной сын Рорика, отняв королевскую казну у сестры своей Герутты, сел на датский престол. При этом он утверждал, что Хорввендил якобы получил Ютландию лишь во временное управление, настоящим же королем ее остается он, Виглер, и что теперь он может передать страну под начало любому лицу по своему усмотрению.
Гамлет, не желая ссориться с сыном того, кто положил начало величию и славе всего их рода, умилостивил Виглера такими богатыми и пышными дарами, что тот почел себя удовлетворенным и увел свое войско с земель Герутты и ее сына. Но в скором времени Виглер пожелал править всеми своими владениями единовластно, особенно после завоевания Скании[277] и Зиаландии[278]. Весьма поощряла его в этих намерениях и Герметруда, безмерно любимая жена Гамлета: вступив в тайный сговор с Виглером, она обещала стать его супругой, если он избавит ее от теперешнего мужа. Виглер послал Гамлету вызов и пошел на него войной. Добрый и разумный король датчан, жалея свой народ, предпочел бы избежать войны; но отказом от борьбы он запятнал бы бесчестьем свое доброе имя. Война же грозила гибелью. Опасение за свою жизнь боролось в его душе с требованиями чести. Но, вспомнив, что до сих пор никакие угрозы не могли поколебать его мужества и стойкости, он предпочел пойти на гибель, нежели лишиться бессмертной славы, сопутствующей смелым воинам. Жизнь без чести настолько же ниже геройской смерти, насколько слава выше прозрения и безвестности. Но доблестный государь заплатил слишком дорогую цену за слепое доверие к жене своей Герметруде и чрезмерную к ней любовь и за то, что нисколько не раскаивался в оскорблении, которое нанес своей первой супруге. А между тем именно это послужило причиной его несчастья. Он же ни за что бы не поверил, что обожаемая сверх всякой меры жена так подло его предаст; он ни разу даже не вспомнил пророческих слов англичанки, предсказавшей, что поцелуи этой женщины доведут его до беды, ибо они отняли у него главное его оружие — разум и осмотрительность, коими он прославился во всех странах Северного моря и в обеих Германиях[279]. Только одно и печалило этого короля, влюбленного в свою жену: неизбежная разлука с ней, его кумиром, когда настанет конец. Он хотел либо умереть одновременно с нею, либо заранее найти ей другого мужа, который будет заботиться о ней и любить ее так же сильно, как он. Но неверная уже сама позаботилась о новой свадьбе и вовсе не нуждалась в его помощи. Видя печаль Гамлета ввиду предстоящей разлуки, она лицемерно ободряла его и торопила начать роковую битву, клятвенно обещая, что последует за ним до конца и разделит его жребий, ждет ли его победа или поражение. Он, дескать, сам увидит, сколь безмерно превосходит она в любви постылую англичанку; жалка и презренна женщина, которая боится идти на смерть вместе со своим мужем. Послушать ее, вы бы подумали, что перед вами супруга царя Митридата[280] или Зенобия[281], царица Пальмиры, — так она красиво рассуждала об этих высоких материях и похвалялась своей верностью и постоянством. Но когда дошло до дела, все увидели, что то были пустые слова: какой же легкомысленной оказалась та самая дева Шотландии, которая с мечом в руках оберегала свое целомудрие, прежде чем впервые узнала поцелуи супруга! Не успел Гамлет выступить в поход, как она снеслась с Виглером. Когда кончился бой, в котором несчастный датчанин был убит, Герметруда с останками своего мужа сдалась на милость захватчика, а тот, весьма довольный столь внезапными и лестными переменами, дал приказ, не теряя времени, справить свадьбу, купленную ценой крови и богатств Хорввендилова сына.
Что бы ни говорила и ни думала женщина, достаточно самой незначительной превратности в ее судьбе, чтобы все изменилось и преобразилось в ее мыслях. Нет у нее чувств, которых не изгладило бы время: самые ничтожные пустяки, легко побеждаемые мужским постоянством, способны поколебать и даже разрушить до основания неустойчивую верность изменчивого женского естества, не знающего ни твердости, ни постоянства. Женщина любит обещать, но не любит исполнять обещанное и не может сдержать слово, ибо так создана, что не ставит никакого предела своим желаниям; каждый миг ее увлекают новые обольщения, она тянется ко все новым соблазнам и так же скоро отворачивается от них. Во всем она взбалмошна, причудлива и неблагодарна, сколько ей ни делай добра и как ей ни служи.
Сам вижу, что уклонился в сторону от моей истории, порицая весь женский пол. Но пороки Герметруды вынудили меня сказать больше, чем я хотел; я невольно последовал за автором, у которого вычитал эту историю. Сам того не желая, я пошел по проложенной им колее, так все это приятно и простодушно у него изложено. Да и есть в сих обвинениях большая правда: ведь мы знаем, что несчастный король Датский погиб в сражении с Виглером. Таков был конец Гамлета, сына Хорввендила, государя Ютландии. Если бы он был столь же удачлив, сколь одарен от природы, никакой грек или римлянин не сравнился бы с ним доблестью и блеском ума. Несчастье преследовало его по пятам, но он снова и снова побеждал злую судьбу усилием воли и постоянством и оставил нам пример величия духа и мужества, достойного самых великих государей. В бедствиях он укреплял себя надеждой, когда не было для надежды никакого места; он был достоин восхищения, и только одно-единственное пятно омрачало блеск его редкостных достоинств. А дело в том, что самая большая победа человека — это победа над собственными страстями, умение обуздывать вихри чувств, поднятых всякого рода обольщениями. Как бы ни был человек могуч и мудр, но если его одолевают плотские вожделения, он непременно унизит свое достоинство; однажды вперив взор в лицо красавицы, он станет безумно и постыдно гоняться за женщинами. Таким пороком страдал Самсон — сей Геркулес древних евреев. Мудрейший из судей, он утратил весь свой ум, как только пошел по этой дорожке. Да и в наше время немало знаменитых, разумных, доблестных и славных мужей потеряли эти великие достоинства, увлекшись женской красотой.
Но вы, любезный читатель, не должны уподобляться пауку, который питается гнилью и именно ее выискивает в садовых цветах и плодах; ведь в том же саду живет пчела, которая собирает мед, умея находить нектар в ароматных и свежих цветках. Так и добродетельный человек: пусть он читает про жизнь блудника, пьяницы, душегуба, вора и кровопийцы — ведь он делает это не для того, чтобы им подражать и осквернять сими пороками свою душу, но для того, чтобы чуждаться блуда, бежать от обжорства и пьянства, следовать стезей скромности, сдержанности и благонравия.
Таким и был Гамлет из моей истории: где другие обжирались на пирах и напивались допьяна, он никогда не предавался хмелю. Где другие жадно нагромождали сокровища, он считал истинным богатством одну лишь добродетель и только ее соглашался накапливать. Он сравнялся с теми, кого почитал богами, — ибо еще не знал света евангельского откровения. Как мы видим, и среди варваров и язычников, не ведавших истинного слова божия, было немало людей, которых сама природа вела по пути добродетели. Нет народа, как бы он ни был свиреп и дик, который не любил бы добра и не искал бы похвалы за достойные дела, а добрая слава во все времена была наградой за доблесть и праведную жизнь. Я люблю пересказывать разные случаи из истории народов, не знавших крещения, дабы доблести варваров помогали нам совершенствовать наши собственные добродетели; видя, как великодушны, мудры, предусмотрительны и стойки были они, постараемся, — нет, не подражать им, ибо подражание не многого стоит, но превзойти их, подобно тому как наша святая вера превосходит их суеверия, а век наш и чище, и умнее, и прекраснее, чем те времена, когда им довелось жить и запечатлеть в веках свою доблесть.
Надо вам знать, что этот самый мэтр Никола взял в жены даму, которой отсутствие бороды не внушило никаких опасений; а ведь мужчина без бороды — что музыкант без рожка, — дуди не дуди, а толку — чуть!
Впрочем, как только он принялся заниматься с нею любовью, тут же и выяснилось, что всадникам вроде него на лошадку не взобраться! Вышедши замуж эдаким образом и уразумев, что к чему, она посчитала себя обделенной — и была права: ей, можно сказать, вручили кошелек, а внутри-то было пусто. Ее так называемый муженек в дверь-то ломился рьяно, да запоры были для него чересчур крепки. Он же мерил жену на свой аршин и полагал, что раз уж он взял на себя столь тяжкий труд, то нечего и ей нос от него воротить, — пусть разделит с ним работу, тем паче, что в работе этой он находил не так уж много вкуса.
Протерпев, елико возможно, потуги и посулы супруга, дама, распаленная его авансами, взяла да и завела себе любовника, и уж он-то полностью заменил ей мессира Никола, которого сколько ни тряси, все равно ничего путного не вытрясешь. Так вот, для того, чтобы восполнить недостачу, она и завела знакомство, сеньор доктор, с одним, э-э… ну, да вы его не знаете. Этот ее милый оказался весьма прытким, и два месяца спустя добронравная дама убедилась, что она с прибылью, — то-то было слез да огорчений, — только не со стороны мэтра Никола, который от радости раздулся, как жаба. Спустя девять лун пришла пора собирать урожай с посева — и дама разрешилась от бремени красивой девочкой. Узнав об этом, все только руками развели: «Чудеса, да и только!» — а с течением времени люди стали поговаривать, что мэтр Никола тут, собственно, dominus non sunt[284] и что ежели хорошенько обмозговать дельце, то выходит, что его женушкой пользовался не он один. Некоторые особенно злобствовали, видя, как адвоката обводят вокруг пальца, и весьма резонно ему доказали, что сия монетка — не из его мошны. И подобными доводами так его настропалили, что едва его жена оправилась от родов, как он начал дурно с нею обращаться, осыпать попреками и чуть было не выгнал из дому. Родители ее бросились на защиту и сумели уладить дело настолько, что мэтр Никола приутих и сменил гнев на милость, однако, когда девочке пошел тринадцатый год, он решил раз и навсегда от нее откреститься и не давать ей приданого, с каковой целью и заявил жене, что он не признаёт девочку своею дочерью и посему не видать ей ни лиара[285] из его состояния. Вот и представьте себе печаль и злополучие женщины, очутившейся в таком положении. У мэтра Никола с его безволосой физиономией на ту пору явилась мысль подышать деревенским воздухом; он отправил за собою и свое семейство, думая, что вдали от города все как-нибудь образуется; но ничуть не бывало! Его жена держала довольно смазливую горничную, с которой мэтр Никола как-то попытался взимать недоимки, задержанные ему супругой, но тут кто-то некстати помешал ему на полдороге. Горничная пожаловалась хозяйке на бесчестье, которое хотели ей учинить, и просила ее заступиться.
— Напротив, — ответила та, — соглашайся на все, что он от тебя хочет; я потом выдам тебя замуж за моего лакея и свадьбу тебе справлю честь честью, если ты поведешь дело так, как я тебе укажу, и поддашься моему мужу, — да не бойся ничего, с ним ты, как была, так и останешься девицей.
Затем она позвала своего лакея и так его разохотила всякими обещаниями и посулами, что он не успокоился до тех пор, пока не опрокинул горничную. И так уж он постарался, что вскорости начало ее во все стороны разносить. Мэтр Никола, который также пригубил от этой чарки, забыл и думать о своей жене, — а та, распознав беременность, берет горничную в оборот и, вытянув из нее правду, заверяет, что, хоть она и побранит ее, но слово сдержит — при одном условии: пусть та объявит мэтра Никола отцом ребенка. Горничная ей это торжественно обещает. Заручившись ее клятвой, хозяйка принимается весьма ловко за дело. Однажды, улучив момент, когда ее супруг пошел прогуляться за лье от дома, она позвала трех или четырех соседок и давай им плакаться, какую скверную и подлую штуку сыграла с нею ее горничная; зовут ту, хозяйка на нее накидывается и бранит на все корки, крича, что сквернавка устроила в ее доме бордель. Поняв ее замысел, плутовка-горничная охотно созналась во всех грехах и, бросившись на колени, стала молить свою хозяйку о прощении, но от той так дешево не отделаешься — не говоря уж о том, что ей хотелось посмаковать грешок, вся штука была в том, чтобы заставить хозяина признать ребенка. Итак, хозяйка налегла покрепче на горничную, подхватившую столь странную водянку, и та в конце концов — вдоволь поломавшись и нарыдавшись — объявила, что ребенком ее наградил хозяин — Никола Мерин.
— Да ты лжешь, подлая! — кричит ей хозяйка. — У него не может быть детей, с чего бы это они у него взялись?!
Горничная, однако, упорно стояла на своем. Тогда, чтобы вконец заморочить свидетелей, хозяйка притворилась, что она вне себя от гнева и негодования и хочет прибить ослушницу. Словом, когда мэтр Никола переступил порог своего дома, он застал там полный кавардак, — горничную в растерзанном виде, а супругу свою в таком раже, что она и говорить не могла.
— Да что тут у вас стряслось?
Тут-то хозяйка и раскрыла рот, и от мэтра Никола только клочья полетели:
— Ах ты, подлый кастрат! Ты все ныл, что никак с женой не сладишь, — хорошо же ты доказал это на моей горничной! Родной дочери хлеба пожалел, а на стороне байстрюков приживаешь?!
Женины подружки также на него насели, и тут уж языкам работа нашлась! Бедняга от бабьей трескотни так ошалел, что, и будь он взавправду мужчиной, он бы от одного визга евнухом стал.
Сперва он решил прикинуться дурачком и принял было невинный вид, но горничная представила такие доказательства дела, — как, где и когда, — что бедный наш Мерин совсем затих, прикусил язык и во избежание большего скандала признал, что преступление, в коем его обвиняли, совершил он.
Таким образом, дело было почти слажено, но его жена и тут не успокоилась и довела мужа до того, что он сам стал ее упрашивать выдать горничную за их лакея; и тут, поломавшись для виду, она дала наконец согласие справить свадьбу этих двух плутов, — разумеется, на денежки своего мужа, которого она столь хитроумно вынудила признать ее дочь.
Итак, расскажу вам, монсеньер, как однажды двое молодцов, — а за добрым винцом всяк из нас молодцом! — чесали языки о любовных шашнях и прочих прелестях любви.
Вот один из них, вдосталь позубоскалив, стал хвастать:
— Ты не поверишь — а я не сплю с моей милой, — так уж я ее почитаю. Да клянусь тем, кого святой Михаил сбросил в ад[287], что наедине я к ней так же почтителен, как и при ее муже. А все оттого, что моя милая — сама добродетель!
— Ох, и повезло тебе! — посмеялся его приятель. — Выходит, спите — не спите, а вид покажите. А вот ее муженек-то небось не зевает; ну, а если и он свои силы бережет, так и черт с ним, — значит, он такой же простофиля, как ты!
На что наш кум стал клясться, что, мол, лежи он со своей душенькой в постели и позволь она ему все до конца, — и то ни черт, ни дьявол не заставит его пробить брешь в воротах этой крепости.
— А я ставлю десять экю, — это второй говорит, — что тебе не устоять; вот деньги, я их вручаю этому господину (который, при сем присутствуя, нежданно-негаданно оказался владельцем двадцати экю, не зная, что он должен с ними сделать, — ему лишь велено было отдать их тому, на кого они оба ему укажут).
Надо вам знать, что муж добродетельной дамы был в недельной отлучке, а сама она пылала весьма нежными чувствами к своему куму, который — что греха таить — зело падок был на сладкое. Вот спорщики явились к ней и рассказали о пари. Поначалу она было заартачилась и прогнала их, сказав, что боится, не узнал бы муж. Но, как говорится, соскучилась бочка без затычки, да к тому же наша кумушка польстилась на десять экю, что были ей обещаны в том случае, если она не даст куманьку сыграть вхолостую. Все бы хорошо, да вот беда: она хорошо знала скаредность своего дружка, — он ни за что на свете не согласился бы упустить денежки, когда они плывут к нему в карман. Поэтому перед тем, как сыграть партию, она ему объявила, что, коли он сделает с нею дело, она клянется отдать ему свои десять экю — так что пусть на любовь не скупится, он об этом не пожалеет.
Что ж, все условия обговорили, ударили по рукам — и в назначенный день укладывают нашего кума в постель кумы, а уж она заранее позаботилась о том, чтобы все ее тесемки, пряжки да застежки вовремя и быстро расстегнулись, когда настанет момент гостя впустить. Но хитрый кум приготовился на свой лад: надел исподнее попрочней да еще подбитое тремя или четырьмя подкладками, а своего косаря-коротышку увязал так, что, вздумай тот покосить травку на лужку у кумы, ему пришлось бы перед тем три или четыре крепких веревки одолевать.
Половину ночи проводят они так и сяк, нельзя сказать, чтобы с большим толком, и, разумеется, хозяйка постели совсем не прочь была взрезать тесемки на исподнем своего милого; кончилось тем, что она таки их потихоньку распутала. Как только развязанный работяга почуял себя на воле — пошла тут работа, — помчался он стрелой, вертясь и взбрыкивая и весь остаток ночи только и делал, что сновал туда-сюда. На следующее утро наша кумушка оказалась столь нескромной, что побежала хвастаться своей победой перед закладчиком, который счел, что спас свои десять экю и заработал еще десять для нее. Наш наездник, однако, этому воспротивился категорически и не дал закладчику забрать эти деньги. Дело грозило обернуться к худшему и кончилось бы весьма скверно, если бы рогатый супруг не решил его самолично по-иному. На следующий день после вышеописанной скачки, когда спорящие стороны совсем было передрались, прибыл муж, к которому, поскольку он был законник, и обратился любовник в присутствии его жены и противной стороны.
— Монсеньер, — сказал он ему, — я в большом затруднении из-за судебного процесса, которым мне грозят. Я изложу вам сейчас дело, как оно есть. У меня был жеребец весьма горячего нрава, и однажды, опасаясь, как бы он не натворил бед, я его привязал к дереву. Явилась хозяйка соседнего луга и отвязала его, — вслед за чем мой жеребец вытоптал у нее всю траву. С меня хотят взыскать убытки, и мне хотелось бы знать, обязан ли я их платить.
Муж — честь ему и хвала — осудил ту, что распутала жеребца, так что дело обернулось отнюдь не в пользу его ловкачки-жены. Ex his[288], мой дворянин, позвольте мне утверждать следующее: во-первых, мужчины куда целомудренней женщин, а во-вторых, эти последние столь болтливы, что, и согрешив с мужчиной, не способны о том умолчать. Не разболтай наша кумушка о вынужденном подвиге своего кавалера, ничего бы она на этом не потеряла, а свою честь спасла и никто бы о ее падении не узнал.
Известно ведь: кто в грехах не кается — тому и отпускается.
Лишь от нас одних и зависит — укоротить или удлинить послеполуденные наши беседы, подобно тому как поступают с путлищем или как брат Жан Почни Бутылку обходился со своим требником ad propositum;[290] первым делом я хочу вам доказать, что борода более чем необходима, ибо лишь она позволяет различать, разделять и распознавать мужчин от женщин. И в самом деле, когда я вижу гладкий подбородок, я затрудняюсь сказать, кто передо мною, — уж не женщина ли, переодетая мужчиной. Да что говорить, стоит только припомнить некоторые истории — и вы сами убедитесь, что выбритые подбородки немалую роль сыграли в этой женско-мужской путанице. Но так как некоторых из вас истории сии могли бы задеть за живое и оттого вы сделали бы вид, что никогда ни о чем подобном не слыхивали, я берусь освежить вашу memento[291] рассказом о проделке одного цирюльника с неким весьма богатым и знатным дворянином, который — даром что старый хрыч, а в свои какие-нибудь семьдесят семь лет ухитрился заполучить в жены молоденькую девицу лет шестнадцати — семнадцати, красивую по всем статьям. Не прошло и двух недель, как молодая стала находить супружеский рацион чересчур тощим. Муж, засадив в клетку столь красивую пташку и зная, что ублажать ее чаще ему не по силам, решил, что береженого бог бережет, и, дабы избежать путешествия в страну рогоносцев, куда, он боялся, жена его заставит проехаться, предпочел убраться от греха в деревню, чем весьма раздосадовал молодую свою супругу, которой что деревня, что монастырь — один черт. Супруг уже и так принуждал ее к такому суровому посту, что не снился самому ревностному святоше во всей вселенной, а теперь и вовсе лишил ее всякого общества. Увидав ее в такой беде, одна весьма сведущая в любовных делах посредница обещала раздобыть ей другого наездника, — из молодых, да раннего, которого проще простого было бы ввести в дом: стоило только выдать его за кузину. Условившись о дне, часе и прочих обстоятельствах, наш цирюльник не замедлил явиться к своей кузине in habitu praestituto[292], и она его приняла с таким радушием, какое только возможно. Обе кузины отправились к добряку-мужу, который, со своей стороны, показал себя весьма гостеприимным хозяином. Ухватки этой новоиспеченной кузины были таковы, что никто не заподозрил бы в ней мужчину, если бы не слишком громкий и хриплый голос, который ее отнюдь не красил. Дабы предупредить всяческие подозрения, жена спешит сообщить мужу, что кузина ее простужена.
— Да, поверите ли, — подхватила кузеноподобная кузина, — это со мной случилось совсем недавно, на помолвке монсеньера де Сенекура: мне там пришлось столько плясать, что меня так и бросало из жара в холод. Однако теперь мне полегчало, и коли, не дай бог, опять охрипну, я уж вылечусь благодаря вашему гостеприимству.
Тем временем приготовлялся ужин, и кузины заговаривали зубы мужу, которого хлебом не корми, а подай веселую компанию. Между прочими разговорами, которые жена вела с новоизготовленной кузиной, вдруг и спрашивает она с усмешкою:
— А что, кузина, вы все так же боязливы? Раньше вы были куда какая трусиха!
— Ах, боже мой! — отвечала новоявленная родственница. — Да еще больше, чем прежде, — так, что каждую ночь моя кормилица ложится подле меня!
— Нет, нет, кузиночка, — успокоил ее муж, — не бойтесь ничего, в эту ночь моя жена составит вам компанию.
Трудно сказать, которая из двух кузин больше порадовалась таким речам. После ужина развлеклись еще беседою, вслед за чем пришло время укладываться спать. Гостья попрощалась со старым добряком, и он наказал жене лечь вместе с кузиной. Столь приятный приказ отнюдь не нуждался в повторении, и ему охотно подчинились. Ночь пролетела в ласках, которые убедили молодую даму, что ее муженьку куда как далеко до иных молодчиков позадиристей. Утром она просыпается веселая (ей хорошенько умяли ее сальце) и идет распорядиться по хозяйству, что заведено было ее мужем, любившим поспать подольше.
Молодой наездник всю ночь не занимался ничем, кроме как носился взад-вперед по лужку своей кузины, отчего весьма устал и выбился из сил, и к утру, решив отдохнуть, заспался до девяти часов. Горничные вошли в спальню, где подремывала эта прекрасная наездница, каковая, по причине жары вся разметавшись, выставила напоказ свой мужской признак.
— Ага, — воскликнула старая служанка, — так вот та дудочка, под которую пляшут кузены с кузинами! Стало быть, вам, мой дружок, захотелось к нам на лужок?! Ну, как бы не так! — И с молодым красавчиком тут же поступлено было, как он того и заслужил вместе со своей красоткой кузиной, et meruere bene[293].
Все вышерассказанное должно вас убедить, что борода весьма полезна и способна воспрепятствовать недоразумениям и конфузии, кои непременно приключались бы по недостатку сего признака, каковой с первого же взгляда о мужественности свидетельствует весьма ясно.
Герцог. Доктор.
Герцог. Вот уже две недели я жалуюсь на горечь во рту и не получаю от вас никакой помощи. А между тем вас считают лучшим медиком во всей Кастилии.
Доктор. С позволения вашей милости, я действительно изрядный медик; а уж чего не умею — тому не вразумил господь.
Герцог. Вы меня не поняли. Я не это хотел сказать.
Доктор. Что же вы хотели сказать, ваша милость?
Герцог. Медицина — это озорство; вы лучший озорник в Кастилии, следовательно — лучший лекарь.
Доктор. Чем не силлогизм? Я и то удивился, что столь горькие уста произносят столь сладкие речи. Вот где разрешение загадки Самсона, нашедшего медовые соты в пасти убитого им льва[295].
Герцог. Именно; поистине, я убит, и после господа бога — вы мой главный убийца.
Доктор. Вы меня тоже не поняли, ваша милость. Я не это хотел сказать.
Герцог. Что же?
Доктор. Вы не лев, а я не Самсон. Просто я подумал, что стоит вам чуточку прихворнуть, как вы преисполняетесь горечи, и ничего от вас не услышишь, кроме горьких жалоб да горьких истин. Спросите вашего майордома и всех слуг.
Герцог. Если бы я в свое время кромсал и пожирал живьем ваших собратьев[296], вы бы не сомневались, что я лев; но я сижу тут с вами, точно ручной, и поэтому вам кажется, что я ягненок?
Доктор. Это как будет угодно вашей милости. Его преосвященство кардинал Толедский дозволил не отвечать на такие вопросы.
Герцог. Не понял. Но вернемся к моей разлившейся желчи. Она отравляет горечью мой рот, проступает желтизной на моем лице, а вы не делаете ровным счетом ничего, чтобы выгнать ее вон.
Доктор. Какой смысл опорожнять мех, если его тотчас наполняют вновь?
Герцог. Вы считаете меня горьким пьяницей?
Доктор. О, что вы, сеньор. Во всей Кастилии не найдешь такого врага излишних возлияний.
Герцог. В чем же дело?
Доктор. Ваша милость, сами знаете, что мы уже совсем было вылечили вас от всех недугов, как вдруг вы устроили невиданный карнавальный пир; все, что хранилось в ваших погребах, и все, что имеется на белом свете, появилось к вашему столу — за исключением медиков. В тот вечер было съедено и выпито столько, что ночью вы едва не отправились к праотцам. Если бы ваш домашний врач и я не ухитрились вызвать у вас рвоту и из вашей опочивальни не вынесли бы четыре полных лохани всякой всячины — дичи, форели и прочей снеди, вы бы и двух часов не протянули. И все равно, когда сеньор заболел — врачи виноваты, а когда выздоровел, врачей не благодарят: ведь бог помог.
Герцог. А вы, стало быть, это отрицаете?
Доктор. Разумеется, нет. Всякому известно: бог ниспосылает здоровье и жизнь, а также болезнь и смерть. Недаром сказано: «Ego occidam, et ego vivere faciam; percutiam et ego sanabo»[297]. Но если вы возлагаете на врачей вину за болезни, коими господь карает вас за грехи, то почему не хотите благодарить врачей за исцеление, которое господь дает через их посредство? И зачем же в таком случае ищете от короля награды за одержанную на войне победу? Ведь победу даровал бог!
Герцог. Признаюсь, в этом есть доля истины. Но вы, значит, полагаете, что тот ночной припадок случился со мной из-за обильного ужина?
Доктор. Не полагаю, а твердо знаю, ибо видел своими глазами. А о том, что человек сам видел, говорят: «он это знает», а не «он верит».
Герцог. Вот и попали пальцем в небо. Правильно сказывает пословица: «Больше понимает умный в своих делах, чем дурак в чужих». Да будет вам известно: тот приступ случился со мной из-за лунной четверти и ни от чего другого.
Доктор. В ту ночь не было лунной четверти, а был десятый день новолуния.
Герцог. Ну, значит, полторы лунных четверти.
Доктор. Коли на то пошло, незачем четвертовать луну, а лучше сразу разрезать ее на двадцать девять ломтей, по ломтю на каждый день. Тогда можно есть и пить, сколько душа просит, а схватит желудок, скажем: виноват не пир, а лунный ломоть. Нет, сеньор мой, я готов согласиться с чем угодно, но только не с этим. От ваших речей до истины слишком много миль перегону.
Герцог. Сколько же, к примеру?
Доктор. Сколько от луны до винного погреба.
Герцог. Да, расстояние немалое! Где имение, где вода. Но, черт вас побери, рассмешили вы меня. Значит, вы отрицаете, что лунные фазы оказывают на меня сильное действие?
Доктор. Я отрицаю, что они оказывают то действие, о котором вы говорите. Разве вы бы дожили до ваших лет, перенеся шесть тысяч лунных четвертей и восьмушек?
Герцог. Право, доктор, все вы хромаете в вопросах веры.
Доктор. За других не отвечаю; а за себя могу засвидетельствовать вашей милости, что отвергаю не веру, а ложные поверья, остатки язычества; господь бог не велел в них верить, а, напротив, говорил: «А signis coeli nolite timere quae gentes timent»[298]. Вот почему я не придаю значения подобным вздорным выдумкам, а твердо верю лишь тому, чему верить есть причина и основание. И если бы собственная ваша вера была достаточно тверда, вы бы чувствовали всю невозможность поверить в небылицы, ибо не может быть противоречия между истинной верой и здравым смыслом.
Герцог. Я верую во единого Бога и святую Троицу.
Доктор. Я тоже.
Герцог. Неправда.
Доктор. Почему?
Герцог. Не думаю, чтобы вы верили в три ипостаси Божий так же твердо, как я.
Доктор. Почему же вы так думаете?
Герцог. Одна из них сообщила мне об этом.
Доктор. Которая из трех?
Герцог. Дух святой.
Доктор. Когда?
Герцог. Когда явился в виде огненного столба над славным городом Кордовой.
Доктор. Отвечать опять же не велит упомянутое его преосвященство кардинал Толедский. Впрочем, могу передать ему ответ через вас, по секрету.
Герцог. Шепните мне на ухо.
Доктор. Охотно. (Шу-шу-шу.)
Герцог. Все понятно. Вы продолжаете упорствовать в своих заблуждениях?
Доктор. Нет, сеньор.
Герцог. Зачем же их повторять?
Доктор. Да к слову пришлось.
Герцог. Дайте же что-нибудь от горечи во рту! Убей вас господь! Вам бы только всех перезлословить да перебалагурить!
Доктор. Исполняйте мои предписания, ваша милость, и горечь во рту пройдет. А что касается балагурства, жаль, что я не могу сказать вам того же, что сказал доктору Торрельясу в присутствии его величества.
Герцог. Что же вы ему сказали?
Доктор. Не знаю, известно ли вашей милости, какой остолоп этот доктор и как завидует лейб-медику королевы?
Герцог. Это мне известно.
Доктор. Мне он тоже завидует, потому что король любит со мной поговорить. Однажды, когда я рассмешил короля своими рассказами о дамах, Торрельяс не стерпел и сказал следующее: «Я, сударь мой, врач и знаток своего дела; я размышляю о науках, а шутками и прибаутками пренебрегаю, ибо это занятие для балагуров». Король, всерьез обидевшись, — конечно, за меня, — мигнул мне. Я повернулся к Торрельясу и сказал: «Научите же меня, как стать дурнем, раз вы такой знаток этого дела, и я уже не смогу раздражать вас своим балагурством». Все так и покатились со смеху, а он до того сконфузился, что выбежал опрометью вон. Но, повторяю, вашей милости я не могу сказать ничего подобного, потому что вы умеете ответить шуткой на шутку; впрочем, замечу другое: хоть я и сам за словом в карман не полезу, а все же лучшие мои остроты почерпнул в вашем доме, от сыновей вашей милости, а также от их батюшки, ибо здесь можно пройти самую лучшую школу по этой части.
Герцог. Вы прошли ее не в моем доме, а в преисподней у Сатаны.
Доктор. Если меня обучил зубоскальству сам Вельзевул, князь тьмы, то кто обучил ему ваших сыновей? Когда я впервые вошел в этот дом, я им и в подметки не годился.
Герцог. Все вы друг друга стоите. Но оставим это, и назначьте мне какое-нибудь средство от горечи; у меня во рту такой вкус, что полынная настойка, которой вы меня так усердно потчуете, кажется мне сладкой.
Доктор. Я сейчас же пойду к аптекарю и выпишу все лекарства, какие нужно.
Герцог. Только, пожалуйста, никаких микстур, слабительных и кровопусканий.
Доктор. Опять двадцать пять.
Герцог. Что вы сказали?
Доктор. Как же я вас вылечу, если мне запрещается применять лечение?
Герцог. Что?! Вы ничего не знаете, кроме микстур, слабительного и кровопусканий?
Доктор. Портной тоже ничего другого не знает, как только разрезать да сшивать. Пусть-ка сошьет вам камзол, ничего не разрезая и не сшивая. И золотых дел мастера, и все другие ремесленники делают одно и то же: что-то отделяют и что-то соединяют. Прикажите плотникам построить деревянный дом так, чтобы ничего не распиливать и ничего не сколачивать, — они вам в лицо засмеются. То же и медики: мы можем только удалять вредное и давать полезное. Если всем мастеровым это разрешается, почему же медикам нельзя?
Герцог. Так вот что я вам скажу: если в медицине нет ничего другого, то вы ловко устроились.
Доктор. Почему?
Герцог. Потому что вы умеете то же, что холодный сапожник, а беретесь ставить клистиры и давать рвотное, точно лейб-медик королевы. Чего вам не хватает, чтобы стать лейб-медиком королевы?
Доктор. Я не намерен сравнивать себя ни с кем другим; но есть большая разница — дать слабительное и рвотное в соответствии с предписанием науки или дать их некстати. Бывает нужно пустить больному кровь в первый же день болезни, чтобы воспаление не разошлось по всем венам: промедлишь неделю — и пациент либо умрет, либо потом четыре кровопускания не окажут такого действия, как одно, сделанное своевременно, а от этого болезнь загоняется внутрь, и бог не дает исцеления. В других же случаях нельзя пускать кровь раньше чем на восьмой или десятый день, потому что напор желчи слишком силен, и если мы выпустим хотя бы немного крови, желчь заполнит пустоты, и болезнь примет тяжелое течение со всеми печальными последствиями; а если воздержимся от кровопускания, то давление крови уравновесит напор желчи. В подобных положениях больному надо дать быстродействующее слабительное, а в случае воспаления желчного пузыря охлаждать кровь, ибо она разгорячена и может свернуться, наполнившись вредными соками. То же и с очищением кишечника; во всем нужно знать меру, всему свое время. Хороший врач и разумно выбранное слабительное помогут лучше, чем скверный врач и негодное слабительное; так хороший стрелок чаще попадает в мишень, чем плохой, даже если сделает меньше выстрелов.
Герцог. А вы, стало быть, считаете себя хорошим врачом?
Доктор. Из уважения к вашей милости следует ответить «да». А то люди скажут, что, заболев и ища исцеления, вы зовете скверного лекаря, а не зовете хорошего, чтобы не пришлось дорого платить.
Герцог. Все отлично знают, что я поступаю так не из скупости, а потому что не верю в медицину и считаю самого скверного лекаря меньшим злом, чем знаменитого; знаменитость является к вам с важным видом, распоряжается, командует и требует послушания. Когда же зовешь такого лекаря, как вы, всякий понимает, что его советы не стоит слушать, тем более исполнять, а это уже само по себе большое облегчение.
Доктор. Благодарение богу, наконец вы высказали свои заветные мысли. Умные речи и слушать приятно. А почему хихикают эти юнцы, чему радуются? Видно, батюшкины поучения пришлись им по вкусу?
Герцог. Однако довольно балагурства. Вернемся к моей болезни. Что нам делать с этой горечью во рту, но только чтобы без лекарств?
Доктор. Это балагурство, вслед за господом богом, дарует вашей милости веселье и жизнь, ибо на нем вы вскормлены, это воздух родины. А что до горечи во рту, пусть вам дают каждое утро и каждый вечер по кисло-сладкому гранату, а перед едой — не очень кислый апельсин с сахаром; на ужин огородный цикорий и салат с уксусом и сахаром или латук с той же приправой. Главное же — не пейте вина, а то вы до него слишком уж охочи.
Герцог. Нашел-таки, чем уязвить! Но я вас прощаю за то, что вы выписали эти лекарства, приятные и разумные. Не удивлюсь, если мы тут сделаем из вас хорошего медика. Мой домашний врач узнал в нашем доме куда больше полезных сведений по медицине, чем в Саламанке[299], да еще обучился астрологии.
Доктор. А я от себя прибавлю, что и математике. Давеча он сетовал, что не может жить в Толедо и есть свежие сардины, потому что на сардины и на красноперку его тянет прямо-таки, как беременную бабу. Я ему и говорю: «Ради этого не стоит ездить в Толедо, путь неблизкий. А лучше съездить в Сьюдад-Реаль, где сколько угодно живой рыбы». Он спрашивает, когда там бывает сезон красноперки, а я ему: «С конца мая до дня святого Якова[300], потому что они охотницы до вишен, а как отойдут вишни, так и красноперки собираются восвояси». А он: «Значит, придется мне удрать от герцога, моего сеньора, на это время. Поем досыта красноперки в Сьюдад-Реале — и домой».
Герцог. И все это ваши выдумки.
Доктор. Если не верите, спросите вот у этих господ, они сами слышали.
Герцог. Какой только бес приносит вам на хвосте всю эту чепуху? Однако вот что: из какой посудины лучше пить? Я чувствую, что начинается жар.
Доктор. Из какой хотите. Пить вам, а не мне.
Герцог. Я хочу из того кувшина, потому что в нем как-то меньше пьется, а жажда утоляется лучше; но вы говорили, что из кувшинов пить вредно, потому что много лишнего воздуха попадает в желудок.
Доктор. Я этого не говорил; таково народное поверье, за которым многие медики плетутся, как стадо овец за бараном-вожаком — благо на шее бубенчик звенит.
Герцог. А вы что об этом думаете?
Доктор. Что кувшин не только не впускает воздух в рот, а, напротив, вбирает в себя воздух изо рта.
Герцог. Объясните. Хорошо, если бы это была правда.
Доктор. Это очень просто, даже видно на глаз: когда из сосуда выливается вода, в него должен войти воздух, чтобы заполнить пустоту, а так как встречное движение воды и воздуха проходит через узкое горлышко, то воздух пробивается через толщу воды, и мы слышим булькание. Когда ваша милость станете пить из стеклянного графина, приглядитесь — и вы увидите, что пузырьки воздуха занимают место воды; они окажутся внутри сосуда, и ни один не выйдет наружу; а поскольку отверстие графина находится у вас во рту, то ясно, что эти пузырьки воздуха берутся из вашей ротовой полости и из других полостей вашего тела, выходят оттуда и заполняют пустоты в сосуде; и поэтому, когда вы пьете из графина, вам иногда не хватает дыхания: ведь воздух выходит из легких и остается в графине.
Герцог. Право, вот гораздо более здравая философия, чем давешние россказни про красноперок.
Доктор. Эта философия вызывает кое у кого возражения. Говорят, что у человека, пьющего из кувшина или бочонка, после питья всегда бывает отрыжка, а это значит, что в желудок попал лишний воздух.
Герцог. И что же можно на это ответить?
Доктор. Я не обязан отвечать на всякие благоглупости, потому что мои утверждения основаны на наблюдениях и показаниях чувств, а отрицать видимое глазом — значит идти против истины. Особенно хорошо видно, как вода и воздух меняются местами, когда у стеклянного сосуда длинный носик, закрученный в основании спиралью. Тогда при вытекании воды воздух входит в сосуд в виде как бы пузыря, окруженного прозрачной пленкой, и мы видим, как этот пузырь занимает место, освободившееся от воды. А если у кого бывает отрыжка, пусть сам выясняет, какая тому причина; моих доводов этим поколебать нельзя.
Герцог. Вполне с вами согласен. Скажу больше: у меня никогда не бывает отрыжки после питья из моих любимых кувшинчиков. Но вы должны настаивать на своем мнении и спорить с теми, кто не желает исповедовать истину.
Доктор. Скажу одно: как бы мы ни пили, даже очень медленно всасывая воду, воздух из желудка все равно должен выйти; но это может происходить заметно, а может происходить незаметно. Причина в том, что когда мы пьем мелкими глотками, то вода поступает в желудок постепенно, и воздух, чье место она занимает, тоже выходит постепенно. Когда же мы разом опоражниваем сосуд и пьем большими глотками, то происходит иное: верхняя часть желудка узкая, у некоторых это совсем тонкая трубка, и, когда вода поступает сразу в большом количестве, ее не пускает внутрь воздух, заполняющий желудок, а воздух не может выйти в рот, так как его не пускает вода. И тогда желудок должен растянуться, чтобы вместить и воду и воздух, и остается на некоторое время в таком расширенном виде. Нечто сходное имеет место, когда вы хотите сразу влить в бочку много воды: вода не идет, ибо ее не пускает находящийся в бочке воздух, а воздух не выходит, ибо его не пускает вода, закрывающая ему выход. Но если лить воду в бочку тонкой струей, то воздуху оставляется отверстие для выхода, а воде для входа. То же и с желудком. Когда вода и воздух оказываются одновременно в желудке, то силой своего давления она выталкивает воздух, да и желудок, непомерно растянутый, выбрасывает его наружу, — и вот вам отрыжка. Если же пить маленькими глотками, то воздух выйдет тихо, без всякого шума.
Герцог. Прекрасное объяснение. Впрочем, и без него было очевидно, что вы совершенно правы. Я намерен вас наградить, как и прежде награждал, — больше за разумные мысли, чем за доброе врачеванье.
Доктор. Чтоб вы были так здоровы, как вы меня награждали в прошлом и наградите в будущем.
Герцог. Что это вы бормочете себе под нос?
Доктор. Я говорю: дай вам бог здоровья за прежние и будущие награды.
Герцог. Это можно было и вслух сказать.
Доктор. Я счел более приличным шепнуть свою благодарность богу на ухо, чтобы не вынуждать вас слушать льстивые благодарения нищих.
Герцог. А почему эта господа смеются?
Доктор. Сеньор, они молоды; что ни скажешь, им все смешно. Некоторые даже уговаривают меня хорошенько запоминать наши с вами беседы, а потом записывать и дарить им на память.
Герцог. Когда мне можно будет попить?
Доктор. Часа через три, когда жар достигнет наивысшей точки.
Герцог. Не лучше ли напиться сейчас, когда высшей точки достигла жажда?
Доктор. По мне, так хоть бы вы уже вчера выпили эту воду.
Герцог. Вот ваше милосердие! Ни капли любви ни к богу, ни к ближнему.
Доктор. Напротив. Я оставил обычное милосердие далеко позади.
Герцог. Как так?
Доктор. Мне уже мало любить ближнего, как самого себя; я люблю его, как он сам себя любит.
Герцог. Да, за словом в карман вы не полезете. Так чем же нам занять время, пока мне не позволят напиться?
Доктор. Чем угодно вашей милости; только спать вам нельзя.
Герцог. Расскажите, как вы ставили клистир графу Бенавенте.
Доктор. Дело было так. Граф страдал желтой лихорадкой в очень тяжелой форме, а при его крутом нраве к нему во время приступов лучше было и близко не подходить. У изголовья его кровати всегда стоял наготове арбалет, заряженный стрелой с круглой накладкой, и если, бывало, кто-нибудь из пажей ему не угодит, он приказывал мальчишке стать спиной к кровати и прикрыть задницу шелковой подушечкой, — графиня специально распорядилась поплотней набивать эти подушечки шерстью, а то многие пажи потерпели увечье от стрельбы; граф палил прямо в подушку, паж издавал вопль и подпрыгивал, точно олень. Графу эта забава так нравилась, что он досадовал, когда не случалось никаких провинностей. В один из таких грозных дней, находясь в опочивальне у графа в обществе его супруги и настоятеля монастыря святого Франциска, я собрался с духом и сказал: «Сеньор, уже шесть дней, как у вашей милости нет стула; в кишечнике у вас содержится двенадцать трапез, не считая ядовитых соков, коих тоже скопилось немало; жар с каждым часом сильней. Так продолжатся не может, это вредно и опасно для вашего здоровья». Он спрашивает: «Что же вам нужно?» Я отвечаю; «Мне нужно, чтобы ваша милость позволили поставить вам клистир». Он говорит: «Поставьте его себе за мое здоровье; я заплачу», — да таким тоном, что я почел за благо потихоньку уйти подальше от греха: с него станется, что он приведет угрозу в исполнение. Между тем графиня и монахи приступили к нему с мольбами и уговорами и так долго и горячо упрашивали, что он согласился, велел позвать меня и сказал: «Извольте, чтобы доставить удовольствие сеньору настоятелю и вам, я разрешаю поставить мне клистир. Но вот мои условия: во-первых, наконечник должен быть серебряный и совершенно новый; я человек чистоплотный и брезгаю наконечниками, бывшими в употреблении. Во-вторых, клистир мне будет ставить сеньора Мария Родригес, бывшая дуэнья Мартина Соуза; пусть надушится графиниными духами и наденет ее черный бархатный корсаж с желтыми лентами. В-третьих, я встану на четвереньки, по-собачьи, а в изножий кровати прошу поместить два факела на поставцах, чтобы означенная дама потом не говорила, что ей было плохо видно». Я ответил: «Все будет исполнено, как угодно вашей милости. Завтра с утра, в праздничный день, мы будем здесь со своим снаряжением».
На следующее утро, сеньор, являемся мы к нему со всей артиллерией. Предстояло ставить клистир небывалого объема, учитывая, что больше он не дастся. Увидя нас, граф сказал: «Входите, входите, разрази вас всех гром, вместе с отцом настоятелем и его бабушкой. Подойдите поближе, свет моих очей, сеньора Мария Родригес». И он становится на четвереньки, как обещал, — зрелище, словами не описуемое, ибо это надо было видеть, — а позади него зажигают факелы. Многие поскорее выскочили в приемную, чтобы не лопнуть от смеха. Граф же говорит: «Всмотритесь получше, Мария. Все ли видно, что надо?» Она отвечает: «Да, сеньор, и даже то, чего не надо». И вот она начинает вводить наконечник, а так как серебро обладает свойством быстро нагреваться и сильно обжигает, то граф подпрыгивает на всех четырех ногах с криком: «О-о, чтоб тебя, старая ведьма! Сует мне в зад раскаленный вертел! Ослепла, чертова кукла? Или я тебе куропатка?!» Она запричитала: «Ах, сеньор, какое несчастье! Простите меня, ваша милость, я не ожидала, что наконечник так нагреется; вода в самый раз». А граф говорит: «Ну, ладно, суйте опять, пусть доктор не говорит, что я сам виноват». Сиделка опять взялась за дело, но не успела надавить на пузырь, как он прорвался, и грязная жидкость залила графу и ноги, и все вокруг. Кровать обратилась в зловонную лужу, так что и вспомнить противно. Мария Родригес, видя такую беду, втянула голову в плечи и обратилась в бегство, сама не своя. Я ждал в приемной и, увидя ее, спросил, все ли сделано, но она пробежала мимо, рвя на себе волосы. «Тут оставаться нельзя», — подумал я и пошел на чердак, что на самом верху дозорной башни. Было мне там не лучше, чем в аду: тьма кромешная, смрад и угрызения совести: ведь я не знал, что случилось. А если граф почему-либо скончался и меня обвинят в отравительстве? И пажи, и первый лакей — все разбежались кто куда. Графиня, услышав набат, собрала приближенных дам, удалилась в свои покои и стала на молитву. Все это совершилось в мгновение окна. Граф даже не знал, что остался один. Он спросил сиделку, кончила ли она свое дело. Она же была в это время в городе, в подвале, и прибежала туда такая обезумевшая и растрепанная, что люди думали — с ума сошла.
Не получив ответа, граф протянул назад руку, чтобы обтереться простыней, и угодил пальцами в лужу, так что чуть не умер от отвращения, и, чтобы не коснуться чего-нибудь запачканной рукой, поднял ее вверх и оказался на трех ногах.
Вообразите, ваша милость, какой вид он имел — с задранной рубахой, весь в грязи, на трех конечностях и с поднятой ввысь четвертой, точно рыцарь с переломанным копьем, а рядом два горящих факела. Бедняга начинает звать на помощь, кличет всех пажей поименно, вознося клятвенные обещания, что не причинит им больше никакого зла; все тщетно, ибо дом обратился в пустыню. Граф потом рассказывал, что в этот тяжелый час на него нашло раздумье о прежних грехах и лютованиях, и он понял, что покинут всеми за злой и тяжелый нрав. С полчаса он горько плакал, обещая быть впредь милостивым и снисходительным. Наконец старый ключник заглянул к нему в дверь из передней. С этим ключником граф любил поговорить, забавляясь его грубой деревенской речью. Старик, испуганный видом опустевшего дома, пробрался в покои графа и заглянул в опочивальню. Волосы у него, как он потом рассказывал, встали дыбом на голове, когда он увидел это привидение с двумя факелами, и в великом страхе он пустился наутек. Но граф, не сводивший глаз с двери, заметил его и стал громко звать; насилу остановил старика. Повинуясь барскому голосу, тот вошел в опочивальню, а граф, плача, сказал: «Ключник, видишь, что со мной случилось!» На что ключник ответил: «Да уж чего хуже, ваша милость! Стыдобушка; тьфу». Смех разобрал графа, и он попросил: «Иди сюда и вытри мне руку краем простыни», — да, словно невзначай, мазнул его этой рукой по губам. Старика затошнило, он стал тереть рот простыней, бормоча: «С неумытой бабой целоваться и то лучше». Пока он вытирал графу руку, тот спросил: «Почему ты пустился бежать? Что такое тебе померещилось?» Ключник говорит: «Мне померещилось, что бесы тащат вашу милость в преисподнюю, а на вашу задницу подумал — это самая преисподняя и есть, точно как показывали в день тела господня[301]; да еще факелы слепят, — ну, думаю, это из пекла пламень бьет». Граф говорит: «Да я же тебя звал. Почему ты не шел?» — а он говорит: «Я думал, это воют дедушка вашей милости, дон Алонсо: один здешний парень как-то ночью видел, как покойный сеньор жарились на костре в башне с цепями и выли дурным голосом. Да ты, ваша милость, срам-то прикрой, что так стоять?» Граф приказал: «Вытри мне руку, старый мошенник, а потом и все остальное, чтобы я мог хоть боком прилечь на кровать». Ключник снял простыни, накрыл графа краем одеяла, подошел было к нему поближе, но тут же отвернулся и зашагал прочь. «Куда, старый плут?!» — прикрикнул граф, а тот: «Пойду покличу баб со свинарника, тут самая ихняя работа, а мне невмоготу, не знаю, как и подступиться». — «Старый ты негодяй! — закричал граф. — Делай, что тебе велят, и не умничай!» Тот стоит, смотрит на него и давится от смеха. «Что, я опять на что-то похож?» — сердито спрашивает граф. Ключник в ответ: «Да, порука в том святая Катерина, — на опоросившуюся свинью».
Граф мне затем подробно пересказал разговор со стариком, но я всего не запомнил.
Герцог. Право, доктор, никогда еще меня так не трясло от лихорадки, как теперь протрясло от смеха. Чем же все это кончилось?
Доктор. Граф велел ключнику звать на подмогу, клялся и божился, что впредь будет терпеливым и покладистым со своими слугами, и обещание исполнил. Все мы пришли на зов, и вы не поверите, сколько тут было принесено и вынесено чистых и грязных тазов, сколько вылито розовой воды, лаванды и мускуса. Кровать со всем убранством была пожалована Марии Родригес в награду за быстрый бег от дворца до того подвала у рехидора, где она отсиживалась до самого вечера. Потом появилась и сама графиня; много тут было смеха и веселых рассказов. Ночью у графа сильно схватило живот. Думали, он простудился, пока стоял на трех ногах, ничем не прикрытый. Затем его многократно прослабило, и с тех пор лихорадку как рукой сняло.
Герцог. Эти господа просили вас записывать для них ваши беседы со мной, а я попрошу записать сегодняшний рассказ: отошлю его королю, пусть почитают вслух в присутствии графа. Вот будет комедия!
Доктор. Боюсь, в письменном виде эта история потеряет всю свою прелесть. Уже и слышать ее — совсем не то, что видеть. Но если вашей милости угодно, я попробую.
Герцог. Доктор, поступайте ко мне на службу. Я назначу вам ту же плату, что король, а у меня вам будет куда спокойней, чем при дворе.
Доктор. Я, сеньор, служу его величеству не ради жалованья, а ради того, что исходит от короля и помимо казны. Но пока я состою при дворе, вы можете располагать мною безвозмездно; ведь ничто не удалит вас от особы короля, кроме смерти.
Герцог. А я как раз думаю удалиться в свои земли, ибо знаю на опыте, что при дворе нельзя избежать пристрастий, зависти, треволнений, обманов и разочарований, а каждого из этих грехов в отдельности довольно, чтобы угодить в лапы к нечистому. И раз бог послал мне эту болезнь, чтобы я позаботился о себе, то не лучше ли мне замкнуться в четырех стенах и в уединении подумать о своей грешной душе и о своем больном теле. Нет короля лучше Бога; с ним ничто не разлучит, ниже смерть.
Доктор. Вот поистине речь, достойная такого человека, как вы, ваша милость. Дай бог, чтобы я научился так говорить и так поступать.
Герцог. Кого же из врачей мне пригласить с собой? Нужно такого, чтобы ему можно было доверять.
Доктор. Надо сообразить. Я уведомлю вашу милость, когда найду кого-нибудь подходящего.
Герцог. Один ваш коллега не прочь поступить ко мне на службу; все говорят, что это прекрасный медик; к сожалению, он ужасно глуп и ни о чем, кроме медицины, не может говорить.
Доктор. Это две вещи несовместимые. Если он хороший врач, то не может быть глупым человеком, а если глуп, то не может быть хорошим врачом.
Герцог. Люди обычно держатся иного мнения и считают: раз один медик глуп, вся медицина — дело тупоумное.
Доктор. Всякое дело, даже самое простое, требует разума и соображения. Пол подметать или печку топить — и то нельзя без разума. Возьмите портного или серебряных дел мастера, — разве вам все равно, кому вы отдаете исполнить заказ, умному человеку или олуху? Что же говорить о враче, все искусство коего не в книгах, а в умении здраво рассуждать. Если человек туп и не разбирается в том, чему учился с пеленок и на родном языке, где же ему уразуметь науки, которым его начинают обучать только с юности, да еще на латыни? Если бы вы могли вообразить, ваша милость, сколь бесконечно разнообразие организмов у людей и как различно действуют на них несчетные особенности воздуха, пищи, целебных трав, и корешков, и всего прочего, чего медицинская наука не может предусмотреть, а может только подсказать ясному уму, способному отбросить вредное и выбрать полезное, вы бы сами поняли, что глупый человек ни за что, даже по счастливой случайности, не угадает верное средство. Вы скажете, что у глупого человека бывает хорошая память и он может вызубрить много текстов. Это верно; но от этого не станешь хорошим врачом. Ваша милость помнит множество молитв и может повторить их наизусть без участия разума; но если вас перебьют, вы потеряете нить и не сможете продолжать. Отсюда вывод: хотя память и помощница разуму, но бывает и чистая память, без разума. Немало таких лекарей, которые повторят вам наизусть целые страницы, а как дойдет до дела, не сумеют правильно назначить больному настой ячменя или настой чечевицы. Так что уж поверьте мне, ваша милость, не приглашайте в домашние врачи глупого человека, потому что глупый человек запустит болезнь, а в момент кризиса совершит ошибку и убьет.
Герцог. Верю вам, доктор, и последую вашему совету. А теперь, если время принимать лекарство, то пусть оно вгонит меня в жар, пусть убьет меня — я все равно обещаю слушаться.
Рассказывают, что во времена инфанта дона Фернандо[303], взявшего Антекеру, жил некий кабальеро по имени Родриго де Нарваэс, славный своей доблестью и ратными делами. Сражаясь с маврами, свершил он немало подвигов, особливо же достойны вечной памяти деяния его в походе и войне противу крепости Антекеры; да только у нас в Испании так мало ценят отвагу (ибо тут она дело привычное и обыкновенное), что, сколько бы ты ни отличился, нам все кажется мало; не то бывало у римлян и греков, которые человека, один-единственный раз в жизни отважившегося пойти на смерть, делали в своих творениях бессмертным и превозносили до небес. Итак, упомянутый кабальеро, служа своей вере и своему государю, свершил столько славных дел, что, когда ту крепость взяли, он назначен был ее алькайдом[304], дабы воин, с такой отвагою ее добывавший, столь же доблестно ее защищал. И еще поставили его алькайдом Алоры, так что на его руках были обе крепости, и он находился то в одной, то в другой, но всегда там, где в нем была надобность. Более всего времени проводил он в Алоре, и было при нем пятьдесят воинов, все идальго на жалованье у короля, дабы охраняли и защищали крепость; число их никогда не уменьшалось, как число бессмертных дружинников царя Дария, который, в случае гибели одного из воинов, заменял его другим. Все они твердо и неколебимо верили в доблесть своего военачальника, и никакое предприятие не казалось им трудным, — непрестанно учиняли они вылазки на врагов или сами отбивались от наскоков, а как из всех стычек выходили победителями, что приносило им и честь и прибыток, то каждый был изрядно богат. И вот однажды вечером, в пору на редкость спокойную, алькайд к концу ужина молвил всем таковые слова:
— По моему рассуждению, благородные друзья мои и братья, ничто так не пробуждает храбрость в сердце человека, как постоянное упражнение на ратном поле, — тут и опыт приобретаешь во владении своим оружием, и страшиться перестаешь вражеского. Ходить за примерами далеко не надо — вы сами лучший тому пример. Говорю я это к тому, что вот прошло уже много дней, а мы ничего не свершили во славу нашего имени; худая молва пошла бы обо мне и о моей службе, кабы я, имея под началом столь доблестных воинов, столь отважную дружину, терял время попусту. Ночь стоит ясная, тихая, самая для нас подходящая, и мне хотелось бы — коль вам это угодно — напомнить нашим врагам, что защитники Алоры не дремлют. Я высказал свое желание, поступайте, как найдете нужным.
Воины отвечали — пусть приказывает, они все пойдут за ним. И алькайд, отобрав девять человек, велел им вооружиться; и, вооружившись, они выехали из крепости через потайную дверь, дабы не производить шума и оставить крепость надежно защищенной. И, продвигаясь вперед по дороге, достигли места, где она разделялась на две.
— Пожалуй, коль поедем мы все по одной дороге, — сказал алькайд, — может статься, что дичь окажется вовсе на другой. Пусть пятеро едут по этой, а я с остальными четырьмя двинусь по той; если ж один из отрядов наткнется на неприятеля, которого самим не одолеть, пусть затрубят в рог, и другой отряд придет на подмогу.
Вот едут вперед пятеро воинов, беседуют о том, о сем, и вдруг один из них говорит:
— Стойте, друзья, либо я ошибся, либо приближается враг.
Укрылись они в зарослях, что тянулись вдоль дороги, и вскоре услышали шум; приглядевшись, увидели они, что по той самой дороге, по которой ехали они, едет красавец мавр на гнедом коне, — статен собою, лицом пригож и на коне сидит молодец молодцом. Одет он был в алый кафтан и такого же цвета камчатный бурнус, весь расшитый серебром и золотом. Правая рука высовывалась из-под бурнуса, — на рукаве виднелось вышитое изображение красавицы, и держал он в этой руке копье с раздвоенным наконечником. Был при нем круглый кожаный щит да ятаган, а много раз накрученный тунисский тюрбан служил голове и украшением и защитой. Итак, мавр ехал потихоньку с самым мирным видом и распевал песенку, которую сочинил в воспоминание о нежной своей любви, со следующими словами:
Родился я в Гранаде,
А подрастал в Картаме,
Влюбился же в Коине,
Поблизости Алоры.
Искусство певца было невелико, но пел он с превеликим удовольствием, а как сердце его было преисполнено любви, то каждое слово выпевал он с большим чувством. Испанцы от изумления едва не дали ему проехать мимо, но вовремя спохватились и выскочили наперерез. Увидев неприятелей, мавр грозно приосанился и стал ждать, что они предпримут. Тут четверо из пяти отъехали в сторону, а один напал на него, но мавр оказался более искусным бойцом и ловким ударом копья свалил испанца и его коня наземь. Тогда на него разом напали трое из четверых, ибо он показался им очень силен, — стало быть, против мавра теперь было уже трое христиан, каждый из которых справился бы с десятью маврами, а тут все они вместе не могли одолеть одного. Однако пришлось ему худо, копье у него сломалось, а испанцы все больше его теснили; тогда он, делая вид, будто хочет спастись бегством, пришпорил коня и поворотил на повергнутого им воина; словно птица, спорхнул он на миг с седла, схватил копье испанца, снова повернулся лицом к неприятелям, которые, думая, что он намерен бежать, следовали за ним, и так славно стал орудовать копьем, что невдолге двое из трех оказались на земле. Остававшийся в стороне понял, что без подмоги не обойтись, протрубил в рог и поспешил на выручку товарищам. Тут завязалась жаркая схватка, испанцам обидно было, что один воин так долго против них держится, а мавру приходилось спасать нечто большее, чем свою жизнь. Но вот один из испанцев ударил его копьем в ляжку — не прийдись удар наискосок, копье пронзило бы мавра насквозь. Видя, что ранен, он рассвирепел и нанес врагу такой сильный удар, что тот, тяжко раненный, повалился вместе со своим конем.
Родриго де Нарваэс, услыхав звуки рога, догадался, что воины его в беде, и помчался со своим отрядом к ним; конь его резвей был, чем у прочих четырех, он первым поспел на место сражения и изумился, видя силу и ловкость мавра, — из пяти испанцев четверо лежали на земле, да и пятый уже еле-еле держался.
— Сразись со мною, мавр, — молвил дон Родриго, — и, коль ты меня победишь, обещаю отпустить тебя с миром.
И начался тут меж ними ожесточенный поединок, но как алькайд был со свежими силами, а мавр и его конь были ранены, дон Родриго сумел крепко прижать мавра, тот уже с трудом сопротивлялся; с отчаяния, что в этом бою ему, видимо, суждено лишиться жизни и ее радостей, мавр со страшной силой ударил Родриго де Нарваэса, и, не отрази тот щитом своим копье, был бы ему конец.
Но удар был отражен, алькайд снова насел на мавра, ранил его в руку, затем, подъехав вплотную, обхватил за пояс, вытащил из седла и бросил наземь.
— Рыцарь, — молвил алькайд, наступая на него, — признай себя побежденным, не то я тебя убью.
— Ты можешь меня убить, — отвечал мавр, — ибо я в твоей власти, но победить меня может лишь тот, кем я уже сражен.
Алькайд не обратил внимания на таинственный смысл слов этих, но с присущим ему великодушием помог мавру подняться, ибо тот совсем ослабел от раны, нанесенной испанцем в ляжку, и от другой раны, в руку, хотя обе были неопасны, — к тому же дали себя знать усталость и падение. Взяв у своих воинов платки, алькайд перевязал мавру раны, подсадил его на коня одного из испанцев, ибо собственный конь мавра был ранен, и все они повернули обратно в Алору.
Едучи по дороге и рассуждая о великой ловкости и отваге мавра, испанцы услышали, как он издал глубокий вздох и произнес несколько слов по-арабски, которых не понял никто. Родриго де Нарваэс любовался его статной фигурой и прекрасным телосложением, припоминая, как храбро он сражался, и подумалось алькайду, что столь великая печаль в человеке столь могучего духа не могла иметь причиною только поражение в бою. Желая узнать, в чем тут дело, алькайд сказал:
— Не забывайте, рыцарь, что пленник, который в плену падает духом, рискует лишиться права на свободу. Не забывайте и то, что на войне рыцарям суждено и выигрывать и проигрывать, ибо в большинстве случаев дело решает Фортуна, и я полагаю малодушием, когда воин, удивлявший нас отвагой, ныне удивляет нас унынием. Ежели вы вздыхаете от боли, причиняемой ранами, знайте, мы едем туда, где вас будут заботливо лечить; ежели вас огорчает, что вы в плену, подумайте, что таковым превратностям войны подвержены все, кто в ней подвизается. А ежели у вас какая-то иная и тайная причина для скорби, откройтесь мне, клянусь вам честью идальго сделать все, что смогу, дабы ее устранить.
— Как ваше имя, рыцарь, — молвил мавр, приподняв доселе низко опущенную голову, — что вы с таким участием относитесь к моему горю?
— Меня зовут Родриго де Нарваэс, — ответствовал испанец, — я алькайд Антекеры и Алоры.
Тогда мавр, обернув к нему слегка повеселевшее лицо, сказал:
— В таком случае, я беру назад часть моих жалоб на Фортуну; хотя была она ко мне враждебна, однако ж отдала в вашу власть; правда, я вижу вас ныне впервые, но много наслышан о вашей доблести и сам изведал силу руки вашей; и затем, чтобы вы не думали, будто вздыхаю я от боли, причиняемой ранами, а также затем, что вижу в вас человека, которому можно доверить любую тайну, велите воинам отъехать подальше, и я вам скажу два слова.
Алькайд приказал воинам отъехать, и, когда они остались вдвоем, мавр, испустив тяжкий вздох, сказал:
— Родриго де Нарваэс, достославный алькайд Алоры, слушай со вниманием мои слова и рассуди, довольно ли ударов нанесла мне судьба, чтобы сокрушить сердце пленника. Зовусь я Абиндарраэс Юный, в отличие от моего дяди, брата моего отца, носящего такое же имя. Я из рода гранадских Абенсеррахов, о которых ты, верно, слыхал не раз, и хотя довольно было бы и нынешней неудачи, все ж поведаю тебе историю всех своих злосчастий.
Был в Гранаде знатный род, носивший имя Абенсеррахи, — цвет всего королевства, ибо рыцари из этого рода мужественной своей красотой, учтивым обхождением, приятностью нрава и доблестью превосходили всех прочих; Абенсеррахов весьма ценили король и все дворяне, любили и восхваляли простые люди. Из любой стычки с врагом выходили они победителями, во всех рыцарских забавах отличались удалью. Они придумывали и наряды и украшения, так что можно сказать, в делах мирных, как и в делах военных, они задавали тон во всем королевстве. Молва гласит: еще не бывало скупого, иль трусливого, иль злобного Абенсерраха; того не считали Абенсеррахом, кто не служил даме, и не была истинной дамой та, которой не служил Абенсеррах. Но Фортуна, враждебная их счастью, задумала низвергнуть их с высот преуспеяния. Послушай, как это произошло. Король Гранады, вняв лживому навету, нанес двум рыцарям из этого рода, причем самым достойным, тяжкое и несправедливое оскорбление; затем стали говорить, — хоть я этому не верю, — будто эти двое и по их наущению еще десять их родичей сговорились в отместку за оскорбление убить короля и меж собою разделить королевство. Заговор их — действительный или мнимый — был раскрыт, и король, дабы не вызвать смуты в королевстве, где их так любили, велел всех перерезать в одну ночь, ибо, вздумай он помедлить с этим несправедливым решением, осуществить его у короля уже недостало бы власти. Родные предлагали королю большой выкуп за их жизнь, но он и слушать не захотел. Когда же народ узнал, что все Абенсеррахи умерщвлены, поднялся великий плач: их оплакивали отцы, давшие им жизнь, и матери, родившие их; оплакивали дамы, которым они служили, и рыцари, которым они были друзьями; весь простой народ стенал и вопил так громко, словно в город вошел неприятель, — право, когда бы можно было купить их жизни ценою слез, не погибли бы Абенсеррахи столь жалкой смертью. Видишь, какой конец уготован был столь знаменитому роду, столь доблестным рыцарям! Подумай, как медлит Фортуна возвысить человека и как быстро его низвергает! Как долго растет дерево и как быстро его бросают в костер! Как трудно построить дом и как легко он сгорает! Да, многим могла бы послужить уроком гибель этих несчастных, столь безвинно убитых и всенародно опозоренных, хотя род их был силен и славен и еще недавно пользовался милостью этого же самого короля! Дома их разрушили, имения отобрали, имя их ославили во всем королевстве, объявив изменниками. После злополучного сего происшествия ни одному Абенсерраху уже нельзя было жить в Гранаде, кроме моего отца и одного дяди, которых признали невиновными в преступлении, но поставили условием, чтобы сыновей отсылали они на воспитание из города без права возвратиться, а дочерей отдавали замуж за пределы королевства.
Родриго де Нарваэс, слушая, с какой горячностью мавр рассказывает о своем несчастье, молвил:
— Слов нет, рыцарь, рассказ ваш удивителен, и несправедливость, причиненная Абенсеррахам, беспримерна, ибо нельзя поверить, что они, если были таковы, какими вы их изобразили, могли совершить предательство.
— Все, что я говорю, правда, — сказал тот, — послушайте дальше, и вы узнаете, что с тех пор все мы, Абенсеррахи, обречены быть несчастными. Когда мать произвела меня на свет, отец, исполняя веление короля, послал меня в Картаму к тамошнему алькайду, с которым был в большой дружбе. У алькайда была дочь, почти моя ровесница, которую он любил пуще жизни своей, ибо была она не только единственной и красавицей, но вдобавок рождение ее стоило жизни матери. Эта девушка и я с раннего детства считали друг друга братом и сестрой, ибо так называли нас все вокруг; не припомню часа, когда бы мы были врозь, — вместе нас учили, вместе мы гуляли, ели и пили. Одинаковые привычки, естественно, породили привязанность, которая росла с возрастом. Вспоминаю, как однажды в час сьесты я вошел в рощу, называемую Жасминной, и увидел там ее, — она сидела у источника и украшала цветами прелестную свою головку; я был пленен ее красотой, она показалась мне нимфой Салмакидой, и я сказал себе: «Счастлив будет возлюбленный этой прекрасной богини!» О, как тяжко было мне сознавать, что она моя сестра! Не раздумывая боле, я направился к ней, а она, завидев меня, пошла навстречу с раскрытыми объятьями и, усадив меня рядом с собою, молвила:
— Брат, почему ты оставил меня так надолго одну?
— Я уже давно ищу тебя, госпожа моя, — отвечал я, — никто не мог мне сказать, где ты, пока не подсказало сердце. Но скажи мне, прошу, какие у тебя доказательства, что мы брат и сестра?
— Только одно, — сказала она, — великая моя любовь к тебе и то, что все нас так называют.
— А не будь мы братом и сестрой, — сказал я, — любила бы ты меня так же сильно?
— Как ты не понимаешь, — сказала она, — ведь тогда бы мой отец не разрешал нам бывать всегда вместе и без посторонних!
— Ну, раз у меня отняли бы тогда эту радость, — сказал я, — лучше уж не расставаться мне со своим горем.
Прелестное личико ее зарделось, и она спросила:
— Но что ты теряешь от того, что мы брат и сестра?
— Теряю жизнь, теряю тебя, — сказал я.
— Не понимаю, — сказала она, — мне, напротив, кажется, что именно то, что мы брат и сестра, обязывает нас всегда любить друг друга.
— Меня к этому обязывает только твоя красота, а родство наше порой даже расхолаживает!
И, смущенный тем, что высказал, я опустил глаза и увидел в водах ручья ее отражение, там она была как живая: куда бы я ни повернул голову, всюду находил ее образ, но самый доподлинный был в моем сердце. И я говорил себе — больше никому я не мог бы в этом признаться: «А вот утопись я сейчас в этом ручье, где я вижу свою госпожу, сколь оправданней была бы моя смерть, чем смерть Нарцисса![305] О, ежели бы она меня любила так, как я люблю ее, кто был бы счастливей меня! О, ежели бы судьба дозволила нам всегда быть вместе, сколь радостной была бы вся моя жизнь!»
Размышляя так, я встал, подошел к кустам жасмина, окаймлявшим источник, и, переплетая его цветы с ветками мирта, сделал красивый венок, надел его себе на голову и возвратился к ней, увенчанный и побежденный.
Она взглянула на меня, казалось, нежней, чем обычно, и, сняв с меня венок, надела на свою голову. В этот миг она показалась мне прекрасней Венеры, когда та явилась на суд Париса. Обернувшись ко мне лицом, она сказала:
— Ну, что ты теперь скажешь обо мне, Абиндарраэс?
— Скажу, — отвечал я, — что ты только что покорила мир и тебя венчали его королевой и владычицей.
— Будь это так, брат, — сказала она, поднимаясь и беря меня за руку, — ты бы ничего от этого не потерял.
Не отвечая, я последовал за ней, мы вышли из рощи. Так, не зная правды, жили мы довольно долго, пока, наконец, любовь, дабы отомстить нам, не раскрыла окружавшего нас обмана, — чем больше мы приходили в возраст, тем яснее становилось обоим, что мы — не брат и сестра. Не знаю, что почувствовала она, впервые узнав об этом; я же отродясь не испытал большего счастья, хотя впоследствии дорого за него заплатил. В тот миг, когда мы в этом уверились, прежняя наша чистая и здоровая любовь стала замутняться и вскоре превратилась в мучительный недуг, который продлится до самой нашей смерти. Ведь тут не было первых движений чувства, которых можно избежать; началом этой любви были наслаждение и радость, основанные на невинной привязанности; а потому недуг не развивался постепенно, но сразу обрушился на нас со всею силой. Вся моя радость давно была только в ней, и душа моя была точным слепком с ее души. Все, чего я не находил в ней, мнилось мне и ненужным, и бесполезным, и уродливым. Все мои помыслы были только о ней. В эту пору, находясь вместе, мы вели себя уже по-иному: я глядел на нее украдкой, боясь, что она это заметит, я ревновал ее даже к солнцу, касавшемуся ее своими лучами. Ее присутствие причиняло мне муку, а в ее отсутствие сердце мое изнывало. И во всем этом, полагаю, она не оставалась в долгу и платила мне той же монетой. Но Фортуна, завидуя нашей нежной любви, предприняла лишить нас сих радостей, а как — о том ты сейчас услышишь.
Король Гранады[306], желая повысить в чине алькайда Картамы, послал ему приказ немедля покинуть эту крепость и отправиться в Коин, тот самый пограничный с вами город, а меня оставить в Картаме на попечении алькайда, который его сменит. Как узнали мы сию новость, злосчастную для моей госпожи и для меня, судите сами, коль были вы когда-нибудь влюблены, что должны были мы почувствовать. Встретившись в укромном месте, мы оплакивали нашу грядущую разлуку. Я называл ее госпожой своей, душой своей, единственной своей радостью и прочими нежными именами, которым научила меня любовь.
— Когда красота твоя будет вдали от меня, вспомнишь ли ты хоть изредка своего раба? — вопрошал я, но слезы и вздохи прерывали мою речь. Пытаясь сказать еще что-нибудь, я бормотал бессвязные слова, коих уж не припомню, ибо госпожа моя унесла с собой и мою память. А она, как горько она печалилась, хотя мне все казалось мало! Нежные ее речи и ныне звучат в моих ушах. Наконец, опасаясь, что нас могут услышать, мы стали прощаться со слезами и стонами, оставив друг другу в залог страстный поцелуй со вздохом, рвавшимся из самого сердца.
Видя, что горе мое беспредельно и что я бледен, как мертвец, она сказала:
— Абиндарраэс, при одной мысли о разлуке душа моя рвется вон из тела; знаю, с тобою творится то же, а посему желаю я быть твоей до самой смерти — тебе принадлежат мое сердце, моя жизнь, моя честь и все мое достояние; в подтверждение сего я, как прибуду в Коин, куда ныне еду с отцом моим, постараюсь найти удобное время, когда отец будет в отлучке или болен (чего я, увы, даже желаю), и извещу тебя — ты приедешь ко мне, и я отдам тебе то единственное, что принадлежит мне, отдам как своему супругу, ведь иного не допустит ни твое благородство, ни мое естество, а все прочее уже давно принадлежит тебе.
Эти слова чуть успокоили мое сердце, и я облобызал ее руки за обещанную милость.
На другой день они уехали, я же чувствовал себя, как путник, когда средь непроходимых, страшных гор он видит, что солнце закатилось; жестокая тоска взяла меня, и тщетно пытался я разогнать ее. Я глядел на окна, у которых госпожа моя, бывало, стояла, на воды, в которых она умывалась, на горницу, где спала, на сад, где почивала во время сьесты. Я проходил по всем дорогам, где ходила она, и всюду обретал лишь образ своей тоски. Впрочем, надежда, поданная обещанием вызвать меня, поддерживала меня, поддерживала мой дух и отчасти умеряла муки, но порою казалось мне, что слишком долго приходится ждать, и оттого страдал я еще сильнее и даже думал, что уж лучше не было бы никакой надежды, — ведь отчаяние мучит, лишь покуда не уверишься, что надежды нет, а надежда — покуда не осуществится желаемое.
И вот судьба определила, чтобы этим утром госпожа моя исполнила свое слово, прислав за мною доверенную служанку, — отец, вызванный королем, уехал в Гранаду, с тем чтобы невдолге возвратиться. Воскрешенный радостной сей вестью, я собрался в путь; выждав наступления ночи, чтобы отъезд мой не был замечен, я надел платье, в котором вы меня видите, дабы ознаменовать пред моей госпожой ликование сердца моего; клянусь, я был уверен, что и сотня рыцарей не смогла бы меня одолеть, раз со мною была моя госпожа; если же ты меня победил, то не силой своею, — это было бы невозможно, — но лишь оттого, что злая моя судьба или воля небес определили: не бывать моему блаженству. Итак, выслушав мою повесть, рассуди сам, чего я лишился и каково мое горе. Ехал я из Картамы в Коин, путь недальний — хотя нетерпение делало его долгим, — был я самым гордым Абенсеррахом в мире, я спешил на зов моей госпожи, повидаться с моей госпожой, насладиться моей госпожой, жениться на моей госпоже. И вот я ранен, я побежден, я в плену, и горше всего для меня то, что срок и случай для моего блаженства истекает этой ночью. Дозволь же мне, о христианин, искать утешения во вздохах и не почитай их малодушием; еще большим малодушием было бы, кабы я бесчувственно переносил свой жестокий удел.
Удивительная история мавра возбудила в Родриго де Нарваэсе изумление и сострадание; рассудив, что вредней всего в таком деле промедление, он молвил:
— Абиндарраэс, я хочу тебе доказать, что мое великодушие сильней твоей злой судьбы[307]; коль обещаешь честью рыцаря вернуться в плен по истечении трех дней, даю тебе свободу, продолжай свой путь, — жаль мне было бы помешать столь благому делу.
Услыхав это, мавр от радости готов был кинуться к его ногам и сказал:
— Родриго де Нарваэс, ежели вы вправду это сделаете, поступок ваш явит миру невиданное благородство души, а мне возвратит жизнь. Требуйте от меня любую поруку в том, что условие ваше будет исполнено.
Алькайд подозвал своих воинов и сказал им:
— Сеньоры, примите от меня поруку за этого пленника, я объявляю себя поручителем в его возвращении.
Воины отвечали, что на то его воля; тогда алькайд, взявши обеими руками правую руку мавра, молвил:
— Обещаете ли вы мне честью рыцаря возвратиться в мою крепость Алору и сдаться мне в плен по истечении трех дней?
— Обещаю, — ответствовал мавр.
— Так ступайте же в добрый час, а буде понадобится моя помощь или что другое, я все для вас сделаю.
Со словами горячей благодарности мавр поспешно повернул на дорогу в Коин. А Родриго де Нарваэс и его рыцари, толкуя о храбрости и отменной учтивости мавра, возвратились в Алору.
Мчась во весь опор, Абенсеррах не замедлил прибыть в Коин. Подъехал он, как ему велели, прямо к крепости, отыскал в ней указанные ему ворота и, остановив коня, стал осматриваться вокруг— нет ли чего, грозящего опасностью; но все было спокойно, и он постучался острием копья в ворота, — то был условный знак для дуэньи. Она же и отворила ворота со словами:
— Что вас задержало, господин мой? Ваше опоздание заставило нас сильно тревожиться. Моя госпожа давно вас ждет, прошу спешиться и взойти к ней.
Мавр соскочил с коня, завел его в надежно укрытое местечко и оставил там копье, щит и ятаган; затем дуэнья повела его за руку, наказав идти как можно тише, чтобы не услышали люди в замке; они взошли по лестнице в покои прекрасной Харифы — так звалась его дама. Заслышав еще издали его шаги, она вышла с раскрытыми объятьями ему навстречу, они поцеловались, не говоря ни слова от чрезмерной радости.
Неизвестный испанский художник XV в. Севилья. 1499 г.
Черпают воду.
Гравюра на дереве.
— Почему вы задержались, господин мой? — сказала дама. — Ваше промедление повергло меня в сильную тревогу и страх.
— Госпожа моя, — отвечал он, — вы сами знаете, что причиной тут не могла быть моя нерадивость, но, увы, не всегда все происходит так, как мы, люди, того желаем.
Она взяла его за руку, повела в потаенную горницу и, сев там на ложе, молвила:
— Я хотела бы, Абиндарраэс, показать вам, как верны своему слову пленницы любви; с того дня, когда я вручила вам как залог свое сердце, я все искала способа отобрать его обратно; ныне я велела вам явиться сюда, в мой замок, дабы вы стали моим пленником, как я сама — пленница ваша, и дабы, назвав своим супругом, объявить вас господином надо мною и над имуществом отца моего, хотя понимаю, что это будет ему сильно не по сердцу, — ведь он, не зная так хорошо, как я, вашу доблесть и благородство, хотел бы найти мне более богатого мужа, для меня же вы и мое счастье — величайшее в мире богатство.
С этими словами она опустила голову, слегка смущенная тем, что говорила слишком откровенно. Мавр заключил ее в объятья и стал осыпать поцелуями ее руки, благодаря за милость.
— Госпожа моя, — молвил он, — за столь великое счастье, что вы мне дарите, я не могу вам дать ничего, что не принадлежало бы вам ранее вместе с моим сердцем. Вручаю его вам в знак того, что признаю вас госпожой своей и супругой.
И они позвали дуэнью и обручились. Свершив обряд, они легли в постель, и от новых, неизведанных радостей еще сильней разгорелось пламя в их сердцах. С ликованием дарили они друг другу любовные ласки и слова, которые легче вообразить, нежели описать. Но вот мавр впал в глубокую задумчивость и, обуреваемый своими мыслями, горестно вздохнул. Возмущенная столь тяжкой для своей красы и любви обидой, дама со всей пылкостью страсти повернула возлюбленного к себе и молвила:
— Что это значит, Абиндарраэс? Похоже на то, что моя радость причиняет тебе печаль? Я слышу, ты вздыхаешь, ворочаешься с боку на бок, но ведь если я — все твое благо и счастье, как ты мне говорил, тогда по ком ты вздыхаешь? А если не так, зачем ты меня обманывал? Коль нашел ты во мне какой-либо изъян, подумай о великой моей любви, ее станет, чтобы возместить многие изъяны; а коль ты служить другой даме, скажи, кто она, чтобы и я могла ей служить; ежели есть у тебя иная тайная печаль, мне неведомая, открой ее, и я либо умру, либо избавлю тебя от нее.
Абенсеррах, устыдясь своего проступка, подумал, что ежели он не признается во всем, то возбудит сильное подозрение, и с глубоким вздохом сказал:
— Госпожа моя, не люби я вас больше себя самого, не скорбел бы я так сильно; горе, меня одолевшее, я сносил стойко, пока касалось оно одного меня, но теперь, когда оно заставляет расстаться с вами, нет у меня сил его перенести. Поверьте, причина моих вздохов не в недостатке, а в избытке преданности вам, и, дабы не томить вас неведением, открою вам все, как оно есть.
И он рассказал ей о том, что с ним приключилось, а под конец молвил:
— Итак, госпожа, вы видите, что ваш пленник — он же и пленник алькайда Алоры; и не плен тяготит меня, ибо вы приучили мое сердце к терпению, но то, что без вас жизнь для меня горше самой смерти.
— Не печалься, Абиндарраэс, — сказала ему с нежной улыбкой дама, — я обещаю найти способ выкупить тебя, ведь для меня это еще важней; я знаю, что, ежели рыцарь дает слово возвратиться в плен, он, прислав выкуп, какой от него потребуют, не нарушит слова. Назначьте сами любую сумму — ключи от казны моего отца хранятся у меня, и я готова отдать их вам, пошлите денег столько, сколько найдете нужным. Родриго де Нарваэс — истинный рыцарь, он уже дал вам один раз свободу, когда вы ему доверили наше дело, и это обязывает его выказать еще большее великодушие. Думаю, он удовольствуется выкупом, — ведь, заполучив вас в свою власть, он все равно будет требовать того же.
— Я вижу, госпожа моя, — отвечал Абиндарраэс, — что великая ваша любовь мешает вам подать добрый совет. Нет, ни за что не совершу я столь дурного поступка, — ведь ежели я, едучи на свидание с вами и принадлежа себе одному, был обязан сдержать слово[308], то ныне, когда принадлежу вам, я обязан вдвойне. Я возвращусь в Алору и отдамся во власть ее алькайда, а после того, как я исполню свой долг, пусть уж он делает, что ему заблагорассудится.
— Да не попустит господь, — молвила Харифа, — чтобы вы отправились в плен, а я осталась здесь, на свободе; я не я, ежели отпущу вас одного, и любовь к вам, и страх перед отцом, мною оскорбленным, равно велят мне поступить так, а не иначе.
Заплакав от счастья, мавр обнял ее и сказал:
— Милостям вашим, госпожа моя, нет предела, делайте все, что захотите, ибо и я хочу того же.
Так они и порешили и, собрав все необходимое, на другое утро пустились в путь, причем дама ехала с прикрытым лицом, чтобы ее не узнали. Едут они, беседуя о разных разностях, и встречают на дороге старого человека. Дама спросила его, куда он направляется.
— Иду я в Алору, — ответил старик, — есть у меня дела к тамошнему алькайду; поверьте, такого почтенного и великодушного рыцаря я в жизни не видывал.
Очень было приятно Харифе это слышать, и она подумала, что ежели все восхваляют великодушие алькайда, то и для нее с любимым оно найдется, когда они так в нем нуждаются. И, обернувшись к путнику, она спросила:
— Скажи-ка, добрый человек, слыхал ли ты о каком-либо особенно славном деянии этого рыцаря?
— Слыхал о многих, — отвечал старик, — но расскажу вам только об одном, по которому вы представите себе все прочие. Рыцарь сей был сперва алькайдом Антекеры; живя там, он долгое время был влюблен в некую прекрасную даму и делал ей всевозможные приятности, о которых долго рассказывать, она же, хоть и знала доблесть сего рыцаря, любила своего мужа и на искательства влюбленного не отвечала. Случилось так, что в один летний день дама и ее муж вышли после обеда в сад подле своего дома; у мужа на руке был ястреб, он спустил его на стайку птиц, те, спасаясь, спрятались в кустах ежевики, но хитрый ястреб, изловчась, стал доставать их оттуда лапой и многих поубивал. Рыцарь дал ему за то лакомый кусок и, обернувшись к жене, сказал: «Что скажете, сеньора? Не правда ли, хитер ястреб? Загнал птиц в куст и убил их там. Так знайте же, когда алькайд Алоры сражается с маврами, он вот так же преследует их и так же убивает». Она, прикинувшись, будто не знает, о ком речь, спросила, кто этот алькайд. «Самый храбрый и доблестный рыцарь из всех, кого я доныне знал», — отвечал муж и стал говорить о нем весьма хвалебные слова, так что даму разобрала досада, и она сказала себе: «Как? Даже мужчины влюблены в этого рыцаря, а я его не люблю, хотя он меня любит! Клянусь, всякий меня оправдает, ежели я ему уступлю, раз мой муж сам признал его право на любовь». Несколько дней спустя муж куда-то отлучился из города, и дама, не в силах сдержать свою страсть, послала служанку за влюбленным рыцарем. Родриго де Нарваэс едва не сошел с ума от счастья, хотя не сразу в него поверил, вспоминая, как сурово дама с ним обходилась. Но, как бы ни было, в назначенный час он, таясь ото всех, пришел на свидание к даме, которая ждала его в укромном месте; она же только теперь поняла, как дурно поступает и как стыдно добиваться любви того, кто прежде сам ее добивался. Думала она и о том, что все ведь в конце концов всплывает наружу, страшилась непостоянства мужчин и мести оскорбленного супруга; но эти тревоги, как обычно бывает, лишь вносили в ее душу еще большее смятение; посему, отогнав их прочь, она встретила рыцаря ласково и провела его в свою горницу, где они весьма приятно стали беседовать. «Сеньор Родриго де Нарваэс, — сказала наконец дама, — отныне и впредь я — ваша, теперь ничего уже не останется моего, что не принадлежало бы вам; и за это благодарите не меня, ибо весь ваш пыл и все старания, притворные или искренние, мало чем помогли вам, но благодарите моего мужа, который наговорил мне о вас таких лестных слов, что сердце мое воспламенилось, и вы это видите сами». Затем она пересказала беседу со своим мужем и в заключение повторила: «Право же, сеньор, мужу моему вы обязаны больше, нежели он вам». Больно ударили по сердцу Родриго де Нарваэса эти слова, он почувствовал стыд и раскаяние, что причиняет зло человеку, который говорил о нем столько хорошего. Отстранившись от дамы, он сказал: «Сеньора, я вас очень люблю и буду любить впредь, однако да не попустит господь, чтобы я человеку, столь горячо меня восхвалявшему, нанес жестокую обиду. Нет, с нынешнего дня я, напротив, буду печься о чести вашего супруга, как о своей собственной, ибо ничем иным не могу лучше заплатить ему за добрые обо мне слова». И, не долго думая, он удалился. Пришлось даме остаться ни с чем, и я полагаю, сеньора, что рыцарь оказал тут величайшую доблесть, ибо победил свою собственную страсть.
С удивлением выслушали Абенсеррах и его дама этот рассказ, и мавр, расточая похвалы, сказал, что большего великодушия он не встречал в мужчине.
— Клянусь богом, — сказала дама, — я бы не желала иметь столь доблестного воздыхателя, да он, наверное, не слишком был влюблен, раз так быстро удалился и забота о чести мужа оказалась сильней, нежели красота жены.
И еще сделала она множество остроумных замечаний, но тут они подъехали к крепости. Ворота стояли отпертыми, ибо стражу известили обо всем происшедшем; один из стражей побежал звать алькайда.
— Сеньор, — сказал он, — к нам в крепость явился мавр, которого ты победил, и с ним красивая дама.
Алькайд вмиг догадался, кто это может быть, и немедля сошел вниз. Абенсеррах, взяв свою супругу за руку, приблизился к нему и молвил:
— Родриго де Нарваэс, смотри, хорошо ли сдержал я свое слово, — я обещал тебе привести одного пленника, а привел двух, и один из них способен взять в плен еще многих. Вот моя госпожа, суди сам, была ли у меня причина печалиться, и прими нас как своих слуг, ибо я вверяю тебе мою госпожу и мою честь.
Родриго де Нарваэс был очень рад видеть их обоих.
— Не знаю, — сказал он даме, — кто из вас больше обязан другому, но я премного обязан вам обоим. Входите и отдыхайте — вы в своем доме и отныне считайте его вашим навсегда, как и его хозяина.
Они отправились в отведенный им покой и, немного отдохнув, сели за стол подкрепиться с дороги.
— Что с вашими ранами, сеньор? — спросил Абенсерраха алькайд.
— Кажется мне, сеньор, с дороги они воспалились, немного болят.
— Что это значит, господин мой? — с сильной тревогой спросила прекрасная Харифа. — Вы ранены, а я этого не знаю?
— Госпожа моя, кто страдал от ран, нанесенных вами, тому все прочие раны — ничто. Сказать по правде, в той ночной стычке я получил две небольшие раны — езда верхом и то, что их не лечили, теперь, наверно, сказывается.
— Полагаю, — молвил алькайд, — что вам следует лечь, а я пришлю к вам здешнего цирюльника.
Прекрасная Харифа в большом волнении помогла мавру раздеться, вскоре явился лекарь, осмотрел раны и, сказав, что это пустяк, приложил мазь, от которой боль прекратилась, и через три дня мавр был здоров.
И вот однажды, к концу обеда, Абенсеррах сказал:
— Родриго де Нарваэс, как умный человек, ты по нашему появлению здесь наверняка догадался обо всем остальном, и я надеюсь, что ты сумеешь помочь нам уладить наше столь запутанное дело. Эта дама — прекрасная Харифа, та, о которой я тебе уже говорил, что она моя госпожа и супруга; от страха, что оскорбила отца, она не пожелала остаться в Койне, и страх этот до сих пор ее терзает. Я знаю, что, хотя ты христианин, наш король тебя любит за доблесть; молю тебя, попроси короля убедить ее отца простить нам, что мы так поступили втайне от него, — раз уж Фортуна повела нас по этому пути.
— Утешьтесь, — молвил алькайд, — обещаю вам сделать все, что в моих силах.
И, взяв бумагу и чернила, он написал королю письмо, в котором говорилось следующее:
ПИСЬМО РОДРИГО ДЕ НАРВАЭСА, АЛЬКАЙДА АЛОРЫ. К КОРОЛЮ ГРАНАДЫ
«Великий и всемогущий король Гранады! Я, Родриго де Нарваэс, алькайд Алоры и твой слуга, целую твои королевские руки и имею тебе сказать, что Абиндарраэс Юный из рода Абенсеррахов, родившийся в Гранаде и воспитывавшийся в Картаме под опекой тамошнего алькайда, влюбился в его дочь, прекрасную Харифу; когда в знак благоволения к алькайду ты перевел его в Коин, влюбленные, дабы закрепить свой союз, тайно обручились; улучив время, когда отец, ныне у тебя пребывающий, уехал, юноша по призыву своей возлюбленной направился в его замок; на пути он повстречался со мною, и в стычке, в которой он выказал весьма изрядную храбрость, я взял его в плен; но он, поведав мне свою историю, возбудил во мне участие, и я дал ему свободу на два дня. Он отправился на свидание со своей нареченной, — так в эту свою поездку он потерял свободу и приобрел супругу. Она же, узнав, что Абенсеррах должен возвратиться в плен, приехала с ним вместе, и ныне оба они в моей власти. Молю тебя, да не оскорбит твой слух имя Абенсеррах! Я знаю, он и отец его невиновны в заговоре, составленном противу твоей королевской особы, о чем свидетельствует то, что они остались живы. Молю твое королевское величество, да станет спасение этих несчастных равно твоим и моим делом: я откажусь от выкупа и отпущу обоих безвозмездно, ты же только заставь ее отца простить их и принять милостиво. Сие деяние будет достойно тебя и подтвердит мою неизменную веру в твое великодушие».
Написав письмо, алькайд послал его с оруженосцем; тот вскоре предстал пред королем и вручил письмо. Король, узнав, от кого оно, весьма обрадовался, ибо из всех христиан только этого и любил за доблесть и учтивый нрав. Прочитал король письмо, обернулся к стоявшему рядом алькайду Коина и, отведя его в сторону, молвил:
— Прочти это письмо, оно прислано алькайдом Алоры. Тот, прочитав, пришел в сильное смятение.
— Не огорчайся, — сказал ему король. — Понимаю, все это для тебя неприятно, но знай, чего бы ни попросил алькайд Алоры, я все для него сделаю. А посему приказываю тебе немедля отправиться в Алору, простить своих детей и увезти их домой, а я в награду обещаю и тебе и им свою милость.
Хоть в душе и обидно было мавру, но, поняв, что приказ короля придется исполнить, он со спокойным лицом ответил, что повинуется воле его королевского величества. Без промедления отправился он в Алору, где уже обо всем было известно со слов оруженосца, и был принят алькайдом с великой радостью и весельем.
Весьма смущенные, предстали пред мавром его дочь и Абенсеррах и поцеловали ему руку. Он же встретил их весьма приветливо и сказал:
— Не будем поминать о прошлом — что было, то было. Прощаю вам, что поженились без моего согласия, ибо вижу, что ты, дочь моя, нашла себе лучшего мужа, нежели мог бы найти я.
Алькайд устроил в их честь празднества, которые продолжались несколько дней, и как-то вечером, когда все они, сидя в саду, кончали ужинать, сказал:
— Я от души рад, что дело сие доведено до счастливого завершения не без моего участия, и весьма горжусь этим. Объявляю вам, что честь иметь вас своими пленниками все эти дни я почитаю достаточным выкупом и освобождаю вас. Отныне вы, сеньор Абиндарраэс, вольны распоряжаться собою.
Оба поцеловали ему руку за такую милость и на другой день уехали из крепости, и алькайд часть пути провожал их.
По приезде в Коин настали для них дни, когда они могли спокойно и без опасений наслаждаться столь желанным для них счастьем. Но вот отец сказал им:
— Дети мои, ныне, когда вы с моего согласия стали хозяевами над моим достоянием, справедливость требует отблагодарить Родриго де Нарваэса за благодеяние, вам оказанное. Ежели он поступил с вами столь великодушно, он из-за этого не должен терять выкупа, но, напротив, заслуживает еще большего. Даю вам шесть тысяч двойных цехинов, пошлите ему эти деньги и впредь считайте его своим другом, хотя вы различной веры[309].
Абиндарраэс поцеловал тестю руку, взял деньги и, присовокупив к ним четырех отличных скакунов, да четыре копья с золотыми наконечниками и рукоятками, да четыре круглых щита, послал их алькайду Алоры с таким письмом:
ПИСЬМО АБЕНСЕРРАХА АБИНДАРРАЭСА К АЛЬКАЙДУ АЛОРЫ
«Ежели ты, Родриго де Нарваэс, полагаешь, что, дав мне свободу покинуть твой замок и вернуться домой, ты и впрямь отпустил меня на волю, ты заблуждаешься: освободив мое тело, ты полонил сердце. Добрые дела — узилища для благородных сердец, и ежели ради чести и доброй славы ты имеешь обыкновение творить добро тем, кого мог бы погубить, то я, следуя примеру своих предков и не желая посрамить доблестную кровь Абенсеррахов, а, напротив, желая всю пролитую ими собрать и влить в мои жилы, обязан отблагодарить тебя и служить тебе. Прими же вместе с малым сим даром мою великую любовь и любовь моей Харифы, столь чистую и верную, что мне она только в радость».
Алькайд был весьма доволен богатством и красотою даров; с радостью принял он коней, копья и щиты и написал прекрасной Харифе такое письмо.
ПИСЬМО АЛЬКАЙДА АЛОРЫ К ПРЕКРАСНОЙ ХАРИФЕ
«Прекрасная Харифа! Не пожелал Абиндарраэс, чтобы пребывание его у меня в плену доставило мне истинное торжество и радость, состоящие в том, чтобы прощать и творить добро. Верьте, мне в сем краю еще ни разу не случалось совершить столь благородное дело, я хотел бы им насладиться вполне и готов даже отлить в память о нем статую для моих детей и потомков. Коней и оружие я принимаю, дабы лучше защищать вашего супруга от врагов, но, ежели он, посылая мне золото, выказал щедрость рыцаря, я, приняв это золото, выкажу алчность торговца. Итак, прошу вас принять эти деньги от меня в уплату за милость, которую вы доставили мне, дав возможность служить вам в моем замке. Кроме того, сеньора, в моем обыкновении не грабить дам, но им служить и угождать».
И с тем отослал дублоны обратно. Прекрасная Харифа, получив их, сказала:
— Кто надеется победить Родриго де Нарваэса в бою и в учтивости, тот, клянусь, надеется напрасно.
Так все остались весьма довольны и друг другу благодарны, и завязалась меж ними тесная дружба, которая длилась до конца их дней.
Антиоха дочь, на гóре,
Аполлоний сватать стал;
Много бедствий испытал
Он на суше и на море.
У Антиоха[311], короля Антиохии, оставшегося вдовцом, была дочь по имени Сафирея, девица столь дивной красы, что слава о ее пригожестве и прелести гремела по всем тем краям. Было известно, что она унаследует после отца престол, и королю не давали покоя всякие королевичи да князья, домогавшиеся ее руки, а как ему это было в тягость, то он, дабы отвадить назойливых искателей, повесил над входом в свой дворец таблицу с загадкой, гласившей:
ЗАГАДКА
Кто я? Имея, не имею
И, не поднявшись, низко пал;
Я, во грехе живя, тучнею;
Куда нельзя мне, вхож я стал.
Было объявлено, что ежели кто эту загадку разгадает, то, какого бы он ни был звания, король отдаст ему свою дочь в жены, а ежели не разгадает, то будет обезглавлен, и по этой причине никто больше не осмеливался просить руки королевны, и так прошло много времени, покуда князь Аполлоний, владыка провинции Тир, славившийся остротою ума, не додумался до смысла загадки. В Сафирею же он был без памяти влюблен и потому явился к королю Антиоху, дабы объявить разгадку. Уединившись с королем, он сказал:
— Это ты, король, имеешь разум, ибо ты человек, и не имеешь его, ибо по-скотски блудишь со своей дочерью[312]; стало быть, это ты живешь во грехе и вхож туда, куда тебе входить нельзя.
Король был изумлен проницательностью Аполлония, по нисколько не смутился и молвил:
— Ты, Аполлоний, достоин смерти, ибо угадал неверно, но ради того, чтобы ты не счел меня жестоким, и ради сана твоего даю тебе месяц сроку, дабы ты лучше подумал.
Аполлоний понял, что дело худо, и поспешно отплыл обратно в Тир, а Антиох, давши ему отсрочку, тут же пожалел об этом и со страху, как бы его, Антиоха, грех не стал известен миру, приказал слуге своему Талиарху вместе с другими злодеями отправиться вслед за Аполлонием и любым способом его погубить. Аполлоний же успел за это время добраться до своего княжества и, не сомневаясь, что верно угадал загадку короля Антиоха, но что тот не захотел сдержать слова и дать ему в жены свою дочь Сафирею, которую он так сильно любил и желал, распорядился погрузить на корабль большой запас пшеницы, да деньги, да драгоценности и второпях, тайно отплыл ночью в море с некоторыми своими приближенными и слугами.
Как узнали жители Тира о его внезапном отъезде и о том, что причиною был отказ короля Антиоха дать Аполлонию в жены свою дочь, они сильно опечалились и в знак всеобщей скорби запретили устраивать в городе увеселения и развлечения. Так что из любви к своему князю все обитатели города пребывали в унынии и тревоге.
Талиарх, прибыв в Тир и сойдя на берег, увидел, что весь город в трауре, и спросил у встретившегося ему юноши, что тут случилось.
— Разве ты, друг, не знаешь, — отвечал ему юноша, — что все мы скорбим, ибо не ведаем, жив или мертв князь наш Аполлоний. С той поры, как вернулся он из Антиохии, никто его больше не видел.
Весьма обрадованный такой вестью, Талиарх со своими подручными возвратился на корабль. И, явившись к королю Антиоху, доложил ему, как обстоит дело. Тотчас же приказал король оповестить по всему королевству, что, ежели кто доставит ему князя Аполлония живым, тот получит в награду пять тысяч марок золота, а ежели мертвым либо его голову — полторы тысячи.
Тем временем князь Аполлоний, странствуя по морю в поисках счастья, причалил к берегам провинции, именуемой Тарс. Сошел он с корабля и отправился прогуляться по городу, одетый купцом, и тут — хотя был он в простом платье — его узнал сенатор того города Гелиат, который прежде был вассалом Аполлония.
Гелиат окликнул его по имени, но Аполлоний не отозвался; тогда Гелиат окликнул его вдругорядь и сказал:
— Князь Аполлоний, отчего ты пренебрегаешь человеком, который может тебе пригодиться? Верно говорю тебе: кабы ты знал то, что знаю о тебе я, так выслушал бы меня да еще поблагодарил бы сердечно.
— Прошу тебя, друг мой, — отвечал ему на это Аполлоний, — и заклинаю честью, скажи мне, не таясь, все, что обо мне знаешь.
— Знаю я то, — молвил Гелиат, — что король Антиох приказал оповестить по всем своим землям, что, ежели кто доставит тебя живым, тому даст он пять тысяч марок золота, а кто принесет твою голову — тому полторы тысячи.
— Вот как! — сказал Аполлоний. — И ты намерен получить эту награду?
— Упаси бог, — отвечал Гелиат, — чтобы я так подло предал того, кому некогда служил как своему господину! Об одном тебя прошу: покинь Тарс как можно скорее, — хоть город наш никому не подвластен, однако ж не угодить королю Антиоху мы побоимся, ибо не раз принимали от него разные милости.
— Что ж, — отвечал на это Аполлоний, — коли так, я прошу тебя только об одной услуге: приюти меня тайно на несколько дней в своем доме, от странствий по морю я сильно утомился.
Гелиат испугался и, не зная, как бы уклониться от исполнения такой просьбы, сказал:
— Мой дом и все, что в нем есть, к твоим услугам, князь, да только, видишь ли, какая беда: мы тут помираем с голоду, не хватило в нашем городе пшеницы, всего на три дня осталось. Как же мне, не имея хлеба, оказать тебе достойный прием?
— Тем лучше, — молвил Аполлоний. — Тебе надо радоваться и благодарить бога, что он в такую пору привел меня в ваш край. Знай, я везу на своем корабле сто тысяч фанег[313] пшеницы и готов всю ее здесь выгрузить, ежели властям Тарса будет угодно сохранить тайну и приютить меня в своем городе.
Услыхав это, Гелиат с великой радостью и весельем сердечным припал к его стопам, желая их облобызать, но Аполлоний воспротивился и поднял его с земли. Тогда Гелиат попросил гостя идти прямо с ним в сенат, где прочие сенаторы ждали его, чтобы держать совет о голоде. Пусть, мол, Аполлоний объявит им свою просьбу и сообщит, сколь драгоценный дар привез для здешнего народа.
Оба предстали перед сенаторами, и Гелиат весьма секретно объявил им, что это князь Аполлоний и что, коли согласны они тайно приютить его в своем городе, то он предлагает им сто тысяч фанег пшеницы, привезенных на его корабле, и продаст ее по той же цене, что сам покупал, — по четыре реала за фанегу. Очень обрадовались сенаторы столь щедрому предложению и ответили, что весьма довольны и обещают не только приютить гостя, но, коль понадобится, отдать за него и жизнь свою и достояние. Аполлоний распорядился выгрузить пшеницу и пожелал самолично, как простой купец, всю ее распродать народу. Кто мог уплатить, платил; кто не мог, тому он верил в долг, а бедным земледельцам давал еще и на семена, с тем чтобы вернули, когда снимут урожай. Видя столь великое милосердие и щедрость, соединенные в одном человеке, сенаторы постановили воздвигнуть ему статую из позолоченного мрамора: в одной руке статуя держала пук колосьев, в другой — монеты, как бы сыпля их из пригоршни, и на подножье была высечена надпись:
НАДПИСЬ
Он город Тарс от глада спас;
Хоть человек обличьем он,
Не зря зовется Аполлон.
Прошло некоторое время, и сенаторы, видя, какую любовь и уважение снискал Аполлоний в народе, встревожились, как бы гость не захватил их землю, да к тому же как бы не дошло до короля Антиоха, что они оказали гостеприимство его врагу, и порешили они поставить Аполлония главным корабленачальником и капитаном над флотом их города числом в тридцать галер. Когда Аполлония известили об этом, он сильно обрадовался, ибо полагал, что на море будет в большей безопасности.
Плавая по морю со своими тридцатью галерами, Аполлоний совершил множество славных подвигов — все корсары трепетали его, а жители Тарса весьма почитали; Фортуна, однако ж, была ему враждебна, — случилась на море великая буря, и погиб весь его флот, кроме одной галеры, которая и возвратилась в Тарс с вестью о великом бедствии и утрате; капитанская же галера потерпела крушение у берегов Пентаполитании[314], и все люди, бывшие на ней, утонули, спасся один только Аполлоний; ухватясь за доску, он выбрался на берег, весь промокший. Сел он на берегу и предался размышлениям о том, сколь жестоко преследует его Фортуна; тут подошел к нему рыбак и спросил, какого он роду-племени и какая добрая звезда привела его в эту провинцию.
— Знай, брат, — отвечал Аполлоний, — что родом я из Тира и плыл на одной из галер тарсийского флота, все наши галеры затонули, я же, ухватясь за доску, спасся от гибели — и вот я весь тут.
Рыбак поглядел, что человек, видно, не простого звания и хорошего воспитания, и позвал его к себе домой, предложив свое платье, пока не высохнет промокшая одежда. Аполлоний, поблагодарив за доброту, пошел с рыбаком, и тот несколько дней продержал его у себя, уговаривая заняться рыбацким промыслом, — на пропитание, мол, заработает. Аполлоний же отвечал, что это ему по званию не подобает, и просил рыбака указать дорогу в город, — пойдет, мол, он туда искать счастья. Увидал рыбак, что решение его твердо, вывел Аполлония на дорогу в город Пентаполитанию и, дав ему с собой немного денег, сказал:
— Гляди, друг, доверяй только добрым людям и пуще всего береги свои уши, а ежели одолеет тебя нужда, возвращайся в мою убогую хижину. Добрым своим именем клянусь, я тебя в беде не оставлю, хотя сам беден.
Слыша такие сердечные слова, Аполлоний обнял рыбака, поблагодарил за добрый совет и простился с ним, а когда вошел в город, то увидал глашатая, который громко выкликал:
— Эй, люди! Слушайте меня, все чужестранцы, кто в службе проворен и во всяких упражнениях да играх искусен! Собирайтесь поскорей у королевских бань, ибо король нынче изволит мыться!
Аполлоний, прибавив шагу, направился следом за глашатаем, вошел в бани и там, присмотревшись к ухваткам банщика, принялся весьма ловко и проворно ему помогать. Банщик видит — человек услужливый, с виду приятный, и спрашивает, какого он роду-племени. Аполлоний ответил, что он из Тира и у себя на родине был банщиком. Тут прибыл король со всеми своими рыцарями, беседа на том кончилась, а когда банщик стал мыть короля, то, чтобы испытать уменье новичка, сказал:
— Эй, злосчастный Мореход, подсоби-ка мне!
Вот король помылся, а по обычаю той земли особ королевского рода натирали после мытья всякими маслами да благовониями. Аполлоний попросил банщика дозволить ему исполнить эту работу. Тот согласился, и Аполлоний сделал все так ловко и умело, что король остался весьма доволен.
Помывшись, король и все его рыцари[315] расположились на большом, высоко огороженном ристалище, и король повелел, чтобы созванные глашатаем чужестранцы явились пред его очи; желая позабавиться, как то было у него в обычае, он назначил в награду четыре дорогих самоцвета для тех, кто окажется искусней в прыжках, танцах, борьбе и метании палок. Все испытали свои силы в этих четырех упражнениях, но никто не превзошел Аполлония, и король приказал вручить ему все четыре награды. Возвратившись во дворец, где были накрыты столы для ужина, король, беседуя со своими рыцарями, молвил:
— Клянусь вам честью, друзья мои, этот человек, что нынче мыл меня в бане, так угодил мне, как за всю мою жизнь пи один из слуг моих, да и на ристалище силу и ловкость он выказал отменные. Не знает ли часом кто из вас, какого он роду-племени и как его имя?
Королю ответили, что знают о нем только одно, — зовут его Мореход.
— Так приведите ко мне этого Морехода, — молвил король. Пошли, привели Аполлония во дворец, но только предстать перед королем он ни за что не хотел, стыдясь своей убогой одежды. Королю тотчас об этом доложили, и он приказал дать Аполлонию богатое платье. Когда Аполлоний явился к королю и приветствовал его с подобающим почтением, король усадил его за стол супротив своего стола и велел подносить ему те же яства, какие сам ел. Глядя на драгоценную золотую и серебряную посуду на королевском столе, Аполлоний сидел с печальным лицом.
— Посмотрите на этого Морехода, — сказал королю дворецкий, — ишь с какой завистью глядит он на золото и серебро вашего величества.
— Очень неправильно ты судишь, — отвечал король на такие неразумные слова, — скорее всего причина его печали в том, что он когда-то сам жил в довольстве, как то показывает величавая его наружность.
Ужин закончился, убрали скатерти, и король, пригласив Аполлония за свой стол, попросил его открыть свое имя и звание. На что Аполлоний с глубоким вздохом отвечал:
Знай, меня забыл весь мир,
Что когда-то меня славил.
Имя в море я оставил,
Сан и славу в граде Тир.
— Право, друг, — сказал король, — что-то я не возьму в толк, не скажешь ли поясней?
Но тут в залу вошла королевна Сильвания, дочь короля, редкостная красавица, а как в той земле было заведено обычаем целовать в лицо короля, а потом тех, кто сидит с ним рядом, подошла она поцеловать и Аполлония; видит, человек ей незнакомый, сидит сильно опечаленный.
— Отец мой и государь, — сказала она королю, — узнайте, ежели возможно, кто этот молодой чужестранец, которого вы приняли с таким почетом, и почему он такой грустный.
— О сладчайшая и любезнейшая дочь моя, знай, что этого юношу зовут Мореход; нынче он славно послужил мне в банях, и я за то пригласил его на ужин. Прошу тебя, присядь с нами и, чтобы развеселить его, спой и сыграй на своей кифаре. Сильвания охотно повиновалась отцу и запела:
СОНЕТ
Не укоряй Фортуну непрестанно[316],
Когда высок ты духом, Мореход!
Ведь град ее ударов иль щедрот
Не сыплется на смертных постоянно.
То вознесет, то сокрушит нежданно,
Ее причуд причину кто поймет?
Глупец один тягаться с ней дерзнет,
Права иль нет, доискиваться странно.
Но с жалобой одной ты мог бы в суд
Пойти, и, верь, законным иск сочтут.
Фортуну ты спроси с веселым ликом
И, как мудрец, в смирении великом:
Зачем давно не оказался тут,
Где счастие и мир скитальца ждут!
Когда Сильвания кончила петь и играть, все выразили восторг и восхищение ее изящным и искусным пением и игрою, только Аполлоний не промолвил ни единого слова ей в похвалу, и король ему сказал:
— Что это значит, Мореход? Не понимаю тебя — все в один голос хвалят пение и игру моей дочери, а ты своим молчанием как будто ее осуждаешь?
— Великодушный король, — отвечал Аполлоний, — раз ты вынуждаешь меня сказать, что я думаю, изволь: дочь твоя сделала в искусстве музыки только первые шаги, но совершенства еще не достигла.
— Тогда, Мореход, — сказал король, — прошу тебя из любви ко мне, возьми кифару в свои руки и сыграй, чтобы все мы насладились тем совершенством, о котором ты говоришь.
Хотя и против воли, повиновался Аполлоний приказу короля и пропел под звуки кифары ответ на песню королевны Сильвании в таких словах:
ОКТАВА
О дева милая, сулит твой нежный взгляд
И милость, и любовь, и к горю состраданье,
Печальна ты моей печалью, и стократ
При взгляде на тебя сильней мое терзанье.
Пусть радости лучи вновь лик твой озарят,
Ведь мне лишь одному природа в наказанье
Сплела в созвездии, лиющем грозный свет,
Утраты, беды, скорбь — удел мой с юных лет.
Вот закончил Аполлоний играть и петь; изящество и нежность его музыки, остроумие и непринужденность стихов, которые он столь кстати пропел в ответ, поразили и восхитили короля и рыцарей, но всего более — королевну Сильванию, покорив и пленив ее сердце.
— Дражайший и любимый государь мой и отец, — молвила она, — ежели ты, как говорил не раз, желаешь осчастливить меня милостью своей и исполнить любую мою просьбу, прошу тебя теперь явить свою доброту и дать мне этого Морехода в учители, дабы я переняла его совершенство в игре и пении.
Отец исполнил ее желание и приказал выдать Мореходу сто тысяч дукатов, чтобы он приоделся и обзавелся всем, что подобает наставнику королевской дочери; отведены были ему также роскошные покои и назначена полдюжина слуг. На уроках королевна Сильвания и ее учитель Аполлоний вели беседы только о музыке, ибо королевна свою пылкую любовь затаила глубоко в душе. Но вот однажды она попросила Аполлония не отказать ей в великой милости и открыть, какого он происхождения, — по облику его и осанке видно, что рода он не простого. Тронутый жаркой просьбой королевны и многими милостями, которые она ему расточала, Аполлоний пообещал сказать свое имя и звание, ежели она поклянется сохранить тайну. Королевна поклялась, и он сказал, что он — князь Аполлоний, и в подробности поведал о постигших его несчастиях, а заключил тем, что ныне почитает себя счастливцем, ибо удостоен покровительства самого короля. Речи эти утешили королевну чрезвычайно, любовь еще сильней охватила и одолела все ее естество, а так как страсть эту она не могла — или из целомудрия не хотела — открыть, то тяжко захворала. Множество лекарей смотрело больную, но никто не угадал причину недуга, и отец королевны был в великом горе.
Об эту пору явились в столицу три весьма знатных князя, все трое с одинаковым намерением просить руки королевны Сильвании. Согласившись между собой, во избежание раздоров, предоставить ей самой решить и указать, кого из трех она выберет себе супругом, они просьбу свою изложили письменно и подали королю, а тот, призвав Аполлония, сказал:
— Возьми, Мореход, сию грамоту с просьбой трех князей, что прибыли в мою столицу, и покажи ее возлюбленной дочери моей и твоей ученице — пусть назначит и напишет собственноручно, кого из трех она выбирает супругом.
Когда грамота была вручена королевне, она прочитала ее без наималейшего смущения и, после того как ее учитель Аполлоний удалился, начертала следующее:
«Больше всех я люблю и желаю видеть своим супругом князя Аполлония, а посему молю вас, отец мой и государь, ежели хотите спасти жизнь дочери вашей, отдать меня ему в жены».
Прошло несколько дней, Аполлоний попросил у королевны грамоту, чтобы узнать решение, но она отвечала, что не даст ее никому на свете, кроме как своему отцу. И вот пришел король в покой дочери, узнал ее волю и, дивясь названному ею имени, молвил:
— Что это значит, дочь моя? Не пойму я, что это за князь Аполлоний, которого ты выбрала себе в супруги.
— Ах, — со страстным вздохом отвечала королевна. — Кто же иной это может быть, как не мой любимый, ненаглядный учитель, которого все вы зовете Мореходом?
— Теперь я узнал и понял твой недуг, дочь моя, — молвил король. — Утешься и не печалься; ежели все так и есть, как ты говоришь, то ради его доблести и добродетели, молва о коих давно дошла до нас и распространилась по всему нашему королевству, я тут же даю согласие сделать его своим зятем и твоим мужем.
С этим обещанием он оставил дочь, а трем князьям, что просили ее руки, дал такой ответ: королевна Сильвания сейчас больна, потому она не может решить, кого из них выбрать своим супругом, и на том просят не прогневаться. Князья выслушали ответ и отправились восвояси.
Все еще тревожась о здоровье дочери, король в большой тайне призвал Аполлония и сказал:
— Мореход, прошу тебя и заклинаю верой в господа бога и честью рыцаря, ответь, истинно ли ты — князь Аполлоний?
— Слыша такое заклятье, — отвечал князь, — не могу не сказать вашему величеству правду. Да, я — он самый, повелевайте и распоряжайтесь мною.
— Повеление мое, — сказал король, — всего лишь одно: я прошу тебя жениться на моей дочери, ибо таково ее желание и мое также, ежели ты не против.
Аполлоний поблагодарил за столь великую честь и хотел было стать на колени, чтобы поцеловать королю руку, но король, не позволив ему опуститься на колени, заключил его в свои объятья, благословил и поздравил, а затем поспешил к дочери известить ее, что она просватана. Заветное желание королевны исполнилось, через несколько дней она, поправившись, встала с постели, и начались приготовления к пышной и торжественной свадьбе. Вечером накануне бракосочетания князь Аполлоний задумал отправиться в бани с такой же блестящей и веселой свитой, как то было в обычае у короля, его тестя. Помывшись, Аполлоний наполнил банщику об их знакомстве, намереваясь отблагодарить за счастье, через него достигнутое. Банщик сразу его узнал и бросился к его ногам, прося явить свою милость; Аполлоний тут же назначил его своим камергером, а жену — камер-фрейлиной королевны Сильвании и пожаловал им на обзаведение двадцать тысяч дукатов.
Настал день свадьбы, отпраздновали ее на славу — столы ломились от яств, был устроен большой бал для дам и маскарад, все честь по чести, как подобает на свадьбе особ королевской крови. Но вот беда — на пиру была украдена драгоценная золотая и серебряная посуда; сколько ни искали, ни допрашивали, вора не нашли. А был им некий ловкач корсар, который, прихватив посуду, поспешил на свое судно, и подвозил его с берега тот самый рыбак, что когда-то приютил князя Аполлония, — корсар солгал рыбаку, будто он ювелир, привозил, мол, посуду князю Аполлонию, да тот не дал ему настоящую цену, вот он и возвращается домой. Денег расплатиться с рыбаком у корсара не нашлось, и он дал ему серебряную чашу. Добрый рыбак, по честности своей и простоте душевной, всему поверил, взял чашу и, с радостью и весельем возвратись домой, отдал ее на сохранение жене.
Прошло несколько лет, князь Аполлоний жил да поживал со своей любезной и дорогой супругой Сильванией, и вот почувствовала она себя в тягости; радостную сию весть она сообщила отцу и попросила, чтобы ее супруга Аполлония признали наследником короля Пентаполитании. Король согласился, коронация была отпразднована весьма торжественно и пышно, три дня подряд жгли потешные огни и веселились, а к концу празднеств показался в порту корабль, и с него сошли послы из королевства Антиохии и из Тира; в роскошных одеждах, торжественной процессией, они проследовали во дворец, и, простершись ниц перед королем Аполлонием, как велел этикет и требовал его сан, послы Антиохии изложили свое дело:
— Понеже короля Антиоха постигла кара господня и поразила его насмерть молния небесная, а дочь его королевна Сафирея от великого горя после того прожила только шесть дней, однако успела она за этот срок душу свою от грехов очистить и завещание составить, — назначив своим наследником и преемником тебя, князь Аполлоний, ради любви, которую ты выказал к ней, подвергнув опасности свою жизнь, когда разгадал загадку. Каковое завещание было признано и одобрено знатными людьми, и они порешили послать к тебе сие посольство, дабы ты, ежели тебе угодно, как только сможешь скоро явился к нам и принял власть над королевством ради сохранения в нем мира.
Вот закончили свою речь антиохийские послы, тогда заговорили тирские:
— Понеже после кончины короля Антиоха Талиарх, пытавшийся захватить власть, был разбит и знатными людьми изгнан из Антиохии, однако же, увлекши за собой мятежную толпу и овладев стоявшими в порту судами, направился в Тир и, застав там народ в смуте по причине отсутствия твоей королевской особы, захватил большую часть страны и, изгнав из столицы беззащитных и беспомощных жителей, стал полным владыкою твоего княжества Тир, то по сим причинам удрученные и изгнанные с родины злосчастные твои подданные, зная, что ты пребываешь в Пентаполитании, шлют к тебе сие посольство с мольбою подумать, сколь пагубно для них твое нежелание возвратиться на свой престол и спасти свой народ.
Выслушав оба посольства, король Аполлоний велел тем и другим подняться с полу и обнял их всех по очереди, говоря с лицом скорбным и милостивым, что все уладится; затем он приказал отвести послам лучшие покои, сам же отправился доложить королю, своему тестю, что намерен занять престол Антиохии и вернуть себе Тир. Король ответствовал, что одобряет его решение и советует тщательно подготовить все, что требуется для такого предприятия. Получив столь великодушный ответ, Аполлоний немедля распорядился, чтобы все пригодные для войны суда, галеры и барки были в течение месяца собраны в порту Пентаполитании.
Об эту пору рыбак, имея нужду в деньгах, пришел в город с полученной от вора чашей. Показал он ее ювелиру в надежде продать, но все уже были предуведомлены — рыбака схватили, повели к судье и, хоть он сказал там всю правду, приговорили к пятистам ударам плетью, отсечению ушей и заточению в тюрьму, чтобы затем послать на галеру. Но тут тюрьму как раз посетил король Аполлоний, желая освободить кое-каких осужденных по его приговору узников и учинить смотр тем, кого отобрали для галер; узников провели перед ним, среди них был рыбак, и Аполлоний, узнав его, спросил, почему он в тюрьме. Рыбак рассказал все, как было, и взмолился о пощаде: чтобы не секли его и не отрубили ушей.
— Просьба твоя законна, — отвечал король Аполлоний. — Когда-то ты наставлял меня, чтобы я берег свои уши, теперь ты вправе просить меня, чтобы я сберег твои.
По этим словам рыбак признал его, бросился на колени, стал лобызать руки, а король велел его освободить и назначил капитаном и начальником королевской галеры.
Прошло несколько месяцев, в порту был собран флот в девяносто судов с шестью тысячами воинов. Король Аполлоний был весьма доволен и рад, что удалось снарядить столь могучий и грозный флот. Да вот только досаждала ему супруга: всенепременно хотела она отправиться вместе с ним. А как он всеми способами отговаривался, ссылаясь на ее беременность, пошла она к отцу, — пусть государь изволит приказать ее мужу не гневаться и взять ее с собою; ей известно, что Аполлоний сперва поплывет в королевство Антиохию, дабы короноваться и принять присягу в верности, и она сможет там остаться, покамест он будет отвоевывать Тир. Когда приказал сам тесть, Аполлонию пришлось повиноваться; он велел изготовить для королевы, своей супруги, драгоценную золотую корону, роскошно убрать и обставить для нее отдельный корабль и чтобы было там все припасено на случай, ежели роды начнутся в море; даже повивальную бабку взяли и кормилицу, жену рыбака, которая как раз кормила свое дитя.
И вот взошли на корабли король Аполлоний, и его супруга, и послы, и капитаны, и ратные люди; и король Аполлоний, простясь со своим тестем, пустился в плаванье при попутном ветре. Двадцать дней шли они в открытом море, и вдруг Фортуна прогневалась — поднялась свирепая буря, разбросала все суда в разные концы, а королева от волнения и страха тут же на море разрешилась прежде времени, на седьмом месяце, дочкой; роды были неблагополучные, родильница впала в такое глубокое забытье, что все на корабле сочли ее мертвой и, не помня себя от горя, предались рыданиям и скорби. Наконец яростная и губительная Фортуна утихомирилась, снова собралась вместе вся армада, не пропало ни одно судно, и королю Аполлонию сообщили, какое несчастье постигло его супругу. Немедля перешел он на ее корабль и, увидев жену бездыханную, разодрал на себе одежды и, обнимая ее, сказал:
— О любимая и дражайшая супруга моя! Сколь злополучной и краткой была наша разлука! Тщетно отговаривал я вас от этого горестного и скорбного для меня путешествия — вы потеряли жизнь, а я счастье и покой!
Бывшие с ним гранды утешали его, как могли, а капитан корабля посоветовал, чтобы его величество распорядился не мешкая бросить тело королевы, раз уж она мертва, в море, — а то как бы снова не началось волнение и не подвергся опасности флот. Король, найдя совет разумным, приказал соорудить для королевы гроб и надежно его просмолить. Положили ее туда в роскошных одеждах, с золотой короной на голове, и король приказал еще: на тот случай, ежели гроб прибьет к берегу, чтобы на него обратили внимание, сделать в нем против лица покойницы двойную решетку, на которую он положил тысячу золотых дукатов и свинцовую пластинку с надписью: «Кто найдет сие тело, пусть возьмет себе в награду пятьсот дукатов, а остальные употребит на погребение тела со всеми почестями и пышностью, подобающими королеве».
Опустили гроб в море, и поплыл он по воле волн морских, и принесли они его в провинцию Эфес; а там как раз несколько лекарей из города вышли на берег поискать целебных трав и заметили, что к берегу прибило гроб. Подошли они поближе, вытащили гроб из воды и, увидав сквозь решетку столь дивное богатство, весьма изумились. Решили они отнести гроб в женский монастырь[317], что был неподалеку. Принесли, оторвали крышку, прочли надпись на пластинке, и тут самый опытный и знающий из лекарей, пощупав пульс, понял, что женщина вовсе не мертва. Он распорядился поскорее вынуть ее из гроба и уложить на ковер, затем поставили рядом с нею жаровни с углями, чтобы жилы ее согрелись и наполнились кровью, дающей силу жизненным духам. Как скоро все это исполнили, лекарь велел переложить женщину на мягкую постель и снять с нее роскошные одежды; голую, как мать родила, принялся он натирать ее разогретыми мазями, целебными маслами и благовониями. Прошло немного времени, и к королеве стала возвращаться жизнь — она приоткрыла глаза, огляделась вокруг и, обращаясь к растиравшему ее лекарю, молвила:
— Отвечай, дерзкий, кто позволил тебе прикасаться к моей царственной особе? Ты достоин самой жестокой казни!
— Напротив, ваше величество, — отвечал лекарь, — я достоин благодарности, ибо возвратил вашему королевскому величеству жизнь.
Тут настоятельница и монахини, стоявшие у ложа, принялись ее успокаивать, дали поесть разных яств, которые были загодя наготовлены, и поведали, каким образом нашли ее лекари на берегу морском, да показали пластинку, чтобы королева прочла надпись. Тотчас она велела отсчитать лекарям пятьсот дукатов, а остальные деньги пожаловала монастырю и распорядилась спрятать и хранить ее роскошное платье и королевскую корону, ибо решила она, коль монахини не будут возражать, остаться здесь и жить, как они, до тех пор, покуда богу не будет угодно открыть супругу ее местопребывание. Волю ее монахини исполнили, от души благодаря за намерение остаться в их обители, и сказали, что будут почитать ее своей госпожой и покровительницей монастыря.
Между тем король Аполлоний продолжал свой путь и вскоре стал на якорь в порту Тарса; не желая пышной встречи, он не объявил о своем приезде и в большой тайне препоручил Гелиату, свою дочь на воспитание, оставив при ней кормилицу, жену рыбака, и много денег и драгоценностей, чтобы девочку учили грамоте и музыке, а имя ей дал Политания; после этого он возвратился на корабль и в считанные дни достиг Антиохии, где ему, разумеется, как новому владыке и повелителю королевства устроили торжественную и праздничную встречу. Затем состоялась коронация, и Аполлонию передали все достояние и казну короля Антиоха и королевны Сафиреи. И пришлось ему пробыть в Антиохии двенадцать лет, покамест он управился со всеми делами, — вершил правосудие, осматривал крепости и наводил порядок в государстве, приумножая в то же время свое войско, собирая корабли да галеры, чтобы пойти по морю и по суше отвоевывать Тир.
А пока Аполлоний всем этим занимался, Политания подрастала; ходила она в простой одежде, и смотрела за ней кормилица, честнейшая и добрейшая женщина во всем Тарсе. Девочка поражала всех своей сметливостью на уроках грамоты и музыки, которым обучалась вместе с Лусиной, дочерью Гелиата, в присутствии его жены Дионисии. И поскольку обе девочки воспитывались вместе, все в городе полагали, что они сестры, и сами они так думали. Кормилица все дожидалась вестей от короля Аполлония и, когда прошло уже столько лет, вообразила, что он умер, и от одной этой мысли тяжко занемогла. Видит она, что смерть близка, и призвала она к себе Политанию, чтобы благословить ее и проститься. Поцеловав девочку в щеку раз и другой, она, заливаясь слезами, молвила:
— Слушай внимательно мои слова, любезная дочь моя Политания, и сохрани их в сердце своем. Скажи, как ты думаешь, кто твои отец и мать?
— Кто же мой отец, — отвечала девочка, — как не Гелиат, и мать, как не Дионисия, которых я до нынешнего дня слушалась и почитала?
— Ах, дочка, все это не так, — с глубоким вздохом сказала кормилица. — Знай, твой отец — король Аполлоний, а мать — Сильвания, дочь короля Пентаполитании, почему и дали тебе такое имя. Мать твоя, родив тебя, умерла на корабле, и положили ее в гроб со многими драгоценностями и бросили в море, а отец твой по пути остановился здесь, а затем направился с огромным флотом отвоевывать свое княжество Тир, и тому минуло уже целых двенадцать лет; нас же с тобою он поручил почтенному сенатору Гелиату, под чьим кровом мы жили до нынешнего дня. Все это я открываю тебе, дочь моя, чтобы ты знала, какого высокого ты рода, и помнила: ежели после смерти моей приключится с тобой какая беда, ежели кто вздумает унизить тебя или оскорбить, бегом беги на площадь, где стоит дивная статуя из позолоченного мрамора, — то изображение отца твоего, поставленное сенаторами сего города за оказанную его жителям помощь. Ты обними статую и кричи: «Слушайте, люди, я — дочь того, кого изображает эта статуя!» Тогда здешние граждане, помня благодеяние твоего отца, все непременно окажут тебе защиту.
Договорив последнее слово, кормилица отдала богу душу. Политания пролила реки слез из лазурных своих очей, покойницу похоронили с почестями, могилу богато украсили, и Политания каждый день посещала ее, принося дары и пожертвования.
Красота девочки, приятность ее нрава и речей снискали похвалы некоторых знатных горожанок, а Лусину не так любили, отчего Дионисия воспылала против Политании злобой столь ярой, что не знала покоя ни днем, ни ночью, все думала, как бы ее извести. И вот надумала она такое: когда Гелиат однажды отлучился из города, позвала она утром одного из своих рабов по имени Удавка, завела его в свою спальню и сказала:
— Слушай, Удавка, как пойдешь с Политанией на могилу ее кормилицы, будете вы проходить по мосту, и ежели ты там толкнешь ее посильней, чтоб она свалилась в реку и утонула, даю слово и клянусь отпустить тебя на волю.
Раб обещал исполнить приказ и ушел. Лусина же еще не вставала и, хотя мать и раб беседовали шепотом, слышала весь разговор; потихоньку поднявшись, она побежала к Политании, которую крепко любила, и все рассказала подруге, умоляя не выдавать, кто ей этот сговор открыл, и не выходить из дому, коли хочет сохранить жизнь. Поняла Политания по рассказу Лусины, что Дионисия ее ненавидит и что ничего хорошего ждать ей не приходится, и решила воспользоваться советом кормилицы. Выйдя из дому вместе с рабом, она, когда по пути к мосту они оказались на площади и поравнялись со статуей ее отца, обняла статую и закричала:
— О почтенные граждане, знайте, что я дочь того, кого изображает эта статуя, и что меня безвинно хотят погубить лютой смертью, коль вы не защитите!
Слыша такие речи, сбежалась толпа людей, проживавших на той площади, подошел и некий сенатор по имени Теофил. Видя, что раб убегает прочь, он велел его схватить, а когда раба привели, спросил у Политании:
— Скажи мне, девица, кого изображает эта статуя и почему ты столь дерзко утверждаешь, будто это статуя твоего отца?
— Это статуя короля Аполлония, — отвечала она, — и я, несомненно, его дочь, и по милости божией я узнала, что руками вот этого раба, вами схваченного, меня хотели погубить.
Повели ее к сенаторам, там изложили дело, и раб во всем сознался; затем послали за Гелиатом, и он подтвердил, что это дочь короля Аполлония, который поручил девочку ему, когда заходил со своим флотом в их порт; что ж до преступного намерения раба, он, Гелиат, ничего не ведает. Раб тоже подтвердил, что Гелиат ни о чем не знал, все замыслила его жена Дионисия: она подговорила погубить Политанию и за то обещала ему, рабу, свободу. Выслушав обе стороны, сенаторы постановили дать рабу сто смертельных ударов плетью, а Дионисию изгнать из города на шесть лет; Политанию же отдали под опеку Теофилу, дабы он содержал ее, как подобает королевской дочери.
Поселилась Политания в доме Теофила, и там влюбился в нее один из его сыновей по имени Серафим; любовь свою он затаил в душе, так как, зная о высоком сане девицы, не питал ни малейшей надежды добиться ответной любви. Но дерзость подсказала ему план, для юной Политании гибельный. Была у Теофила на морском побережье усадьба с хозяйственными постройками и жилым домом, однажды надумали он и его жена, чтобы развлечь и развеселить Политанию, отправиться туда со всеми домочадцами. Когда прибыли они к морю, Серафим сговорился со своими приятелями рыбаками, чтобы они, надев маски, пробрались на усадьбу его отца и похитили Политанию. Задумано — сделано, девушку схватили и потащили на заранее приготовленный баркас; то на веслах, то под парусами похитители, не щадя сил, спешили к заранее намеченному острову, но по пути встретили два корсарских одномачтовика, и пришлось им вступить в бой, чтобы не быть захваченными в плен. Дрались отчаянно, Серафим и оба его дружка были убиты и брошены в море, осталась в живых одна Политания. Видя красоту девушки, корсары стали яростно спорить, кому первому достанется насладиться ее прелестью, но Политания столь жалостно рыдала и молила о пощаде, говоря, что дала богу обет целомудрия, что даже корсары смягчились. Тронутые ее слезами и желая к тому же прекратить раздоры, решили они уступить мольбам пленницы и продать ее в рабство; с таковым намерением направили они свои суда в город Эфес.
Теофил, огорченный и разгневанный дерзостью похитителей, выкравших Политанию прямо с его усадьбы, искал и допытывался, не зная покоя, кто могли быть эти бесстыжие злодеи. Нашлись люди, сказавшие ему, что все это неслыханное дело задумал и исполнил его сын Серафим. Рассвирепев еще пуще, Теофил обратился за поддержкой и помощью к другим сенаторам, в море были посланы суда и баркасы, чтобы схватить преступников и доставить в Тарс, а сам Теофил с большим конным отрядом поскакал вдоль по берегу. Вскоре они наткнулись на выброшенные волнами, покрытые ранами трупы двух рыбаков, а еще подале увидели тело Серафима; посланные же в море суда обнаружили баркас, плывший без людей и без весел. Немало все дивились и гадали, что тут приключилось, и наконец остановились на том, что, видимо, трое друзей с кем-то сражались и были в бою изранены и убиты. Политанию тщетно искали еще несколько дней, а затем, решив, что она тоже погибла, как и ее похитители, соорудили, по воле и желанию всего народа, мраморный склеп со входом, обращенным к статуе короля Аполлония, и статую Политании, тоже мраморную; девушка, совсем как живая, словно выходила из склепа и тянулась обнять отца, а надпись гласила:
Пусть Политания мертва,
Ее судьба, и смерть, и слава
Век в нашей памяти жива.
Корсары, став на якорь в Эфесе, принялись выгружать все, что привезли на продажу; вывели на берег и Политанию и наказали посреднику продать ее в рабство тому, кто больше заплатит. Красота девицы восхитила алчного Ления-сводника, хозяина публичного дома, и он купил ее, чтобы она, как все женщины его дома, доставляла ему прибыль. Итак, Политания была продана в рабство Лению, он привел ее в свой дом, но тут она, узнав, для какой цели и надобности ее купили, кинулась ему в ноги и, обливаясь горючими слезами, стала умолять, чтобы он, ради господа бога, сжалился над нею, — ведь она девица и дала обет целомудрия, как же он хочет поместить ее в столь презренном и непотребном доме, пусть спросит справедливого совета у своей совести и пусть сочтет, сколько она, его рабыня, могла бы выручить за день сим грязным ремеслом, и она обязуется эти деньги заработать другими, добродетельными, способами, ежели он купит ей гитару и бубен и прикажет сшить ей пеструю кофту и шаровары, какие носят бродячие певцы. Слезы ее смягчили Ления, он велел сшить ей кофту и шаровары и купил инструменты, которые она просила. Голос у Политании был приятный, играла она с величайшим искусством, и вскоре весь город был ею пленен и очарован, рыцари и знатные горожане прозвали ее Бродяжкой; деньги, назначенные Лением, она приносила исправно.
Меж тем прошло уже четырнадцать или пятнадцать лет с тех пор, как король Аполлоний воцарился в Антиохии и освободил свое княжество Тир от власти Талиарха; в Тире, покарав мятежников, оставил он вице-королем своего камергера, — как мы уже говорили, этот сан был пожалован банщику[318], — сам же, снарядив суда и галеры, пустился в обратный путь к Антиохии, причалил к ее берегам, был там встречен с почетом и назначил вице-королем рыбака, пообещав прислать к нему его жену, оставшуюся в Тарсе кормилицу Политании.
Затем Аполлоний покинул Антиохию и прибыл со своим флотом в Тарс, где сенаторы устроили ему истинно королевскую встречу; прежде чем он успел осведомиться о своей дочери, явились к нему вечером самые именитые сенаторы в траурных одеждах, и Теофил, чуть не плача, поведал о кончине кормилицы и о злополучной гибели его дочери Политании и своего сына Серафима. Весть эта повергла короля Аполлония в скорбь чрезвычайную, на короне своей он поклялся до конца дней не брить бороды и не стричь волос и ногтей, не носить золота и шелка и не слушать ничего увеселительного. Сенаторов же попросил, дабы сердце его успокоилось, показать ему склеп дочери. Когда его туда привели, он, обняв статую дочери своей Политании, изваянную из мрамора и стоявшую рядом с его статуей, принялся оплакивать ее с такими горестными возгласами, что слушать их — сердце разрывалось. Сколько его ни утешали, заперся он в темном покое, приказав сшить себе и слугам своим траурные одежды и весь свой корабль обить черной тканью, а немного дней спустя отплыл в Пентаполитанию. Долго ли, коротко ли плыли, как поднялся супротивный ветер, который вынудил весь флот пристать к эфесскому берегу. Дело было ночью, и с моря было видно, что на городских стенах ярко горят праздничные огни, и слышался звон колоколов и веселая музыка; когда спросили у оказавшегося на берегу тамошнего моряка, что за причина столь великого веселья, тот ответил, что такое празднество справляют каждый год в честь дня рождения их князя Палимеда. Услыхав об этом, король Аполлоний тотчас удалился в самый темный уголок на корабле, дав разрешение всем своим капитанам и матросам сойти в добрый час на берег и повеселиться, только слугам своим велел остаться при нем и строго-настрого, под страхом смерти, наказал не сметь к нему заходить, пока сам не позовет.
Тем временем моряк с берега, испугавшись при виде столь огромного флота, побежал известить князя Палимеда, и тот, вообразив, что нагрянули враги и разорители, поднял тревогу, приказал всем своим воинам приготовиться к бою и выслал лазутчиков: лазутчики вскоре ему донесли, что прибыл не кто другой, как король Аполлоний, вынужденный супротивным ветром причалить к их берегу со всем своим флотом, и что опасаться нечего. Поутру капитаны короля Аполлония сошли на берег, князь Палимед вышел их встречать со всевозможными почестями и попросил быть в этот день его гостями. Любезное приглашение капитаны приняли с надлежащей учтивостью, и вечером все собрались у князя Палимеда на роскошный пир. Прослышав о пире, поспешила туда и Бродяжка; игрой своей и пеньем она восхитила всех и заработала в тот вечер больше двухсот дукатов — столько надавали ей все эти капитаны. Когда убрали скатерти, князь Палимед спросил у гостей, какова причина скорби их короля Аполлония; капитаны подробно все рассказали и стали просить, чтобы князь самолично изволил взойти на корабль, — быть может, ему удастся немного рассеять скорбь короля. Палимед изъявил согласие, но, перед тем как пойти, велел в одну ночь изготовить Бродяжке богатое платье из шелка с золотым шитьем такого покроя, как у бродячих певцов, да припасти всяческих яств для роскошного ужина. В сопровождении капитанов и знатнейших особ города князь явился на берег, все взошли на корабли и галеры, чтобы осмотреть их, а князь Палимед с тремя ближними дворянами поднялся на корабль короля Аполлония. Навстречу ему выбежали слуги и спросили, кто он и чего желает.
— Знайте, друзья, — отвечал Палимед, — что я князь Палимед, повелитель города Эфеса, а желаю я, чтобы вы пошли к королю вашему Аполлонию и доложили, что я прибыл сюда поцеловать его руку.
— Его руку, государь? — спросил у него один из слуг. — Да это будет стоить нам головы.
— Почему? — спросил Палимед.
— Потому, государь, что он предупредил нас: первый, мол, кто войдет к нему без зова, будет казнен.
— Тогда пусть казнят меня, — сказал князь Палимед и отодвинул занавес на дверях.
Но король Аполлоний уже услыхал, что кто-то идет, и спросил:
— Кому это жизнь надоела? Кто смеет нарушать мое уединение без моего зова?
— Тот, кто целует твои королевские руки, — отвечал князь Палимед, — и молит всемогущего бога, да утешит он тебя. Я — князь Эфеса.
Тут король Аполлоний поднялся с кресел и с величайшей учтивостью усадил гостя с собою рядом. Побеседовали они о том, о сем, и наконец князь стал настоятельно просить короля сойти на берег и откушать у него во дворце, — ужин, мол, готов и столы накрыты. Король Аполлоний начал было отказываться, ссылаясь на то, что поклялся своей короной не ступать на сушу, пока не приедет в Пентаполитанию.
— Ежели так, — возразил князь, — ваше величество может оказать мне эту милость, не нарушая клятвы, — я попотчую вас ужином здесь, на корабле, и от этого вашему величеству уж никак нельзя отказаться.
Перед таким сердечным радушием не мог король устоять и согласился. Князь, простившись с ним, поспешил на берег и распорядился доставить ужин со всею посудой на корабль да предупредить Бродяжку, чтобы к концу ужина она вошла с пеньем какой-либо утешительной песенки, подходящей для короля в его скорби, и чтобы сказали ей — коль сумеет она развеселить гостя, он, князь, обещает освободить ее из рабства. Все было приготовлено, и с наступлением вечера король Аполлоний и князь Палимед уселись за стол; яства им подносили княжеские слуги и эфесские дворяне столь чинно и торжественно, что король хоть и не повеселел, но был изумлен и тронут. Когда подавали последнюю перемену, вошла Бродяжка со своим серебряным бубном и под звон бубна спела песню, предназначенную для короля Аполлония.
ПЕСНЯ
Пусть душа возвеселится
Вопреки судьбине злой!
Знай, когда не ждешь, порой
Горе в радость обратится.
Грудь твою гнетет кручина,
Глядь, блеснул вдруг счастья свет,
А блаженства сладкий бред
Часто горестей причина.
Что с тобой ни приключится,
Ты хвалу Творцу воспой!
Знай, когда не ждешь, порой
Горе в радость обратится.
Столь приятна и утешительна была эта песня для короля Аполлония, что, посветлев лицом, приказал он дать певице сто эскудо и спросил, какого она звания, где родилась и чем живет. Тогда Бродяжка положила бубен и, взяв в руки гитару, ответила на его вопросы следующим романсом.
РОМАНС
На земле меня носила[319]
Мать, а родила на море
И от злополучных родов
Душу богу отдала.
Бедную в парче, в короне,
Как пристало королеве,
Положили в гроб, и тихо
Гроб волна вдаль понесла.
В Тарс отец отвез малютку
И семье друзей давнишних
Передал на воспитанье,
Беспечально я росла;
Нянюшку отец оставил,
Чтоб меня оберегала,
Гелиат добро внушал мне
И учил чуждаться зла.
Мне четырнадцать минуло —
Возраст нежный и цветущий,—
Как, меня оставив в горе,
С горя няня умерла.
Гелиатову супругу
Дионисью грызла злоба,
Что я дочь ее родную
Красотою превзошла.
И, призвав раба, коварно
Погубить меня велела,
Но я к статуе припала
И тем жизнь свою спасла.
Статую отцу во славу
Тарс поставил благодарный.
Под опекой Теофила
Новый дом я обрела.
Но Фортуна, свирепея,
Не хотела дать покоя:
Я Амура стала жертвой.
Хоть пред ним светлей стекла.
Теофила сын влюбленный,
Серафим, пылая страстью
Безнадежной, ибо дочкой
Королевской я слыла,
Умыкнуть меня задумал,
И, когда гуляла в роще,
Потащили меня в лодку,—
Тщетно помощь я звала.
В море взяли нас корсары,
Похитителей убили,
Поплыла пустая лодка
Без ветрил и без весла.
А меня, в Эфес доставив,
Продали корсары в рабство.
Не скупился Лений-сводник,
Хоть цена и не мала.
Лений ныне мой хозяин,
Мой всевластный повелитель,
Чтобы честь спасти, я выкуп
Каждый день ему несла.
Если ж денег не достану,
Не уйти мне от бесчестья,
В доме гнусном жить заставят,
Чтобы девкой я была.
О король великодушный,
Все тебе я рассказала,
Ныне знаешь достоверно,
Кто я, где и как жила.
Помоги ж, чтоб из вертепа
Девой чистой я ушла!
С величайшим волнением слушал король Аполлоний этот романс; слезы выступили на его глазах от радости, когда он начал догадываться, что Бродяжка — его дочь. Едва она умолкла, король спросил, какое она носит имя, и, услыхав, что зовут ее Политания, поднялся с раскрытыми объятиями и, целуя ее, молвил:
— Да, несомненно, ты — дочь моя Политания, которую я полагал погибшей.
Девушка с глубоким смирением упала перед ним на колени и поцеловала ему руку, а он благословил ее и попросил князя Палимеда, чтобы тот поскорей вернулся в город и приказал сшить его дочери парчовое платье и приготовить драгоценные украшения; он, король, желает, чтобы эту ночь Политания провела на корабле, но обещает утром сойти вместе с нею на берег и прогуляться по городу, раз господь ниспослал ему столь великое счастье и он снова обрел дочь. Сердечно радуясь, князь возвратился в город, приказал к утру сшить платье, приготовить драгоценности и белого иноходца для Политании да могучего коня в роскошной сбруе для короля Аполлония, а кроме того, велел позвать Ления-сводника, намереваясь уплатить ему ту сумму, какую Лений отдал за Бродяжку; но Лений наотрез отказался ее отпустить, и разгневанный князь распорядился бросить его в темницу.
И вот когда поутру король Аполлоний и его дочь Политания, оба в роскошных одеждах, сошли на берег, грянул залп из всех пушек[320], что были на кораблях, — казалось, земля вот-вот разверзнется, — а когда королевна на белом иноходце и король на своем коне направились к городу, затрубили трубы, загремели барабаны. О, как весело было слушать эту музыку и глядеть на нарядных рыцарей и капитанов да на празднично разодетых горожан, сбежавшихся полюбоваться на Бродяжку в сиянии славы и величия!
Весть о том, что Бродяжка оказалась дочерью короля Аполлония, быстро разнеслась в народе и вскоре дошла и до монастыря, где жила королева Сильвания. Обрадовалась королева и, взойдя в сопровождении всех монахинь на хоры, возблагодарила бога за сохранение жизни ее дочери и супругу, и все пропели «Te Deum laudamus»[321]. Посоветовавшись со старейшими мудрыми сестрами, королева послала к князю Палимеду некоего весьма ученого и почтенного человека, дабы просил он князя оказать честь их обители и привезти к ним короля Аполлония и его дочь Политанию, — хотят, мол, и монахини увидеть воочию сие чудо господне. Явился посол во дворец и, улучив удобное время, когда князь вставал из-за стола, передал ему просьбу благочестивых монахинь.
Князь, найдя их желание достохвальным, дал слово, что постарается вместе со своими гостями посетить святую обитель нынче же вечером после захода солнца. Обрадованные доброй вестью, монахини решили, что королеве не след выходить навстречу своему супругу, но лучше уединиться в келье и, одетой в тот самый роскошный наряд, в котором ее положили в гроб, ждать там, пока настоятельница не придет за ней. Так все и сделали. Прибыли в монастырь король Аполлоний, королевна Политания и князь Палимед с многочисленной свитой; монахини вышли их встретить и попросили, чтобы вовнутрь обители прошли только они трое, без свиты, дабы не слишком нарушать строгий монастырский устав.
Просьбу сестер уважили, те с горячим радушием провели гостей в красиво обставленную и убранную горницу, где монахини поздравили короля Аполлония с обретением дочери и стали ее целовать да обнимать, приговаривая, что на ней, видно, лежит милость господня. Немного спустя вынесли три подноса — два с отборными яствами, а на третьем лежала свинцовая пластинка, найденная в гробу королевы. Подносы с едой подали князю и королевне, а с пластинкой — королю Аполлонию. Взглянув на пластинку и взяв ее в руки, король со слезами на глазах молвил:
— Лучшего угощения вы не могли бы мне поднести, достопочтенные сестры! Хотя немалую скорбь причинили вы мне, показав сию пластинку, но верьте — я весьма утешен, узнав, что тело моей жены покоится здесь. Прошу вас показать мне ее могилу.
Тут настоятельница поднялась и сказала:
— Мы готовы во всем служить и угождать вашему королевскому величеству, только извольте чуточку подождать.
И, зайдя в келью, где в роскошном уборе сидела королева, настоятельница повела ее пред очи короля. Как увидал король свою жену, так, не помня себя, вскочил с места и кинулся ее обнимать.
— О сладчайшая и любимая супруга моя! — воскликнул он. — Ужели возможно, радость моя, что это вы, которую я считал мертвой?
— Да, это я, — отвечала королева, — я, которую бог в бесконечном милосердии своем привел в святую сию обитель и снова возвратил вам.
Королевна Политания, услыхав, что это ее мать, бросилась перед королевой на колени и стала целовать ей руки, а королева, преисполнясь радости, обнимала ее.
Князь Палимед понял, что сейчас самая подходящая минута высказать желание, которое он уже много дней скрытно и тайно носил в сердце: преклонив колена перед королем Аполлонием, он попросил выдать за него Политанию. Король дал согласие и назначил дочери в приданое княжество Тир да королевство Антиохию с условием, чтобы монахиням в течение десяти лет посылали каждый год тысячу дукатов в благодарность за их службу и радушный прием, оказанный королеве, его супруге, а королева подарила монахиням корону со своего чела и распрощалась с ними со всеми, целуя их и заливаясь слезами. Как стали усаживаться на лошадей, слуги и капитаны короля Аполлония, глядя на появившуюся с ним прекрасную даму и сомневаясь, кто бы это мог быть, стали говорить:
— Не королева ли это? Похоже, что она.
Одни говорили — не она; другие — точно она. Но, слыша ее ласковую, приветливую речь и видя, что сам король подвел ее за руку и подсадил на иноходца королевны, все поняли, что это королева, и немало тем были изумлены. Король и князь Палимед, усадивший королевну Политанию на круп своего коня, помчались во дворец, и пошло там веселье да ликованье, — слуги один за другим подходили преклонить колена перед королевой и приложиться к ее руке, а она, поднимая их с полу, целовала каждого и нежно благодарила.
Прошло несколько дней, закончились приготовления к свадьбе князя Палимеда и королевны Политании, и сыграли ее с истинно королевской пышностью: был устроен великолепный бал, все танцевали до упаду и веселились, и маскарад был и турниры. До сидевшего в темнице Лепия-сводника дошел слух, что его рабыня Бродяжка оказалась дочерью короля Аполлония и вышла замуж за его князя и повелителя, и надумал он в эти радостные дни подать прошение королевне Политании, чтобы она вымолила ему помилование у князя, своего супруга, и чтобы выпустили его на волю. Так он и сделал: прошение было вручено королевне Политании, она сжалилась над Лением и упросила мужа освободить его, да еще заплатить ему вдвое против той цены, которую он за нее дал корсарам, да прибавить те двести дукатов, что ей отсыпали капитаны, да еще сотню, что дал ей на корабле отец, — ибо по справедливости все это принадлежало Лению, поскольку тогда она была его рабыней. Привели к ней Ления, он упал на колени и поцеловал ей руку за столь великую милость.
Неизвестный испанский художник XV в. Барселона. 1493 г.
Беседа.
Из книги «Темница любви».
Гравюра на дереве.
Закончилось свадебное празднество, и король Аполлоний решил отправиться со своей супругой, королевой Сильванией, и всем своим флотом посетить короля, своего тестя, который был уже весьма обременен годами и устал повелевать и управлять королевством. Горько вздыхая и проливая отцовские слезы, простился король Аполлоний со своим зятем, князем Палимедом, и с королевной Политанией, дочерью своей, а те в сопровождении всех рыцарей Эфеса проводили его в порт. Как всходили на корабли, загремели тут пушки и взвились флаги в знак ликования, что вернулась королева, которую полагали усопшей. Корабли невдолге прибыли в Пентаполитанию, там вышел им навстречу король с великой радостью, что снова видит своего зятя, короля Аполлония, и любимую свою дочь, которых не видел уже двадцать лет. И от чрезмерной радости он занемог и умер. И остался король Аполлоний владыкой и повелителем всей Пентаполитании. А мы остались весьма довольны тем, что прочитали в занимательной сей истории.
В постоялом дворе Молинильо, расположенном на окраине знаменитых Алькудийских полей, по дороге из Кастилии в Андалусию, в один жаркий летний день случайно сошлись два подростка лет четырнадцати — пятнадцати; ни одному из них нельзя было дать больше семнадцати; несмотря на свой молодцеватый вид, оба были в лохмотьях, оборванные и потрепанные. Плащей у них не было вовсе; штаны были из холста, а чулки из собственной кожи. Правда, одеяние это скрашивала обувь: на одном были изношенные и протоптанные сандалии, а на другом — башмаки, хотя и узорные, но без подошв, так что они служили скорее ножными колодками, чем башмаками. Один из мальчиков был в зеленом охотничьем берете, другой — в широкополой шляпе с низкой тульей и без ленты. У одного была закинута за плечо и завязана спереди вощеная рубаха цвета верблюжьей шерсти, другой шел без всякой клади, хотя на груди у него виднелся большой ком, который, как потом выяснилось, оказался так называемым валлонским воротником, густо-прегусто засаленным и до того поношенным, что обратился в одну бахрому. В воротнике были завернуты истрепанные овальные карты; от употребления углы карт износились, и для сохранности пришлось их обрезать, отчего и получили они свою нынешнюю форму. Лица мальчиков были обожжены солнцем, ногти с черной каймой, руки очень нечистые. Один из них был вооружен тесаком, другой — ножом с желтым черенком, так называемым мясницким. Оба мальчика вышли провести сьесту под навес или галерею, какие обыкновенно устраивают перед постоялыми дворами, сели друг против друга, и тот, кто казался постарше, спросил у младшего:
— Откуда вы родом, благородный сеньор, и куда держите путь?
— Родины своей, сеньор кабальеро, — ответил другой, — я не знаю; не знаю также, куда и путь держу.
— По правде сказать, — возразил старший, — не похоже на то, чтобы вы, ваша милость, упали с неба, а этот постоялый двор — не такое место, чтобы располагаться здесь надолго; так что волей-неволей придется следовать дальше.
— Совершенно верно, — ответил младший, — и тем не менее все, что я вам сказал, — сущая правда. Родина моя для меня не родина, так как дома у меня нет никого, кроме отца, не признающего меня сыном, да мачехи, которая обращается со мною, как с пасынком; сейчас я бреду куда глаза глядят и остановлюсь только там, где отыщу человека, который даст мне необходимые средства для моей горемычной жизни.
— А знаете ли вы, ваша милость, какое-нибудь ремесло? — спросил старший.
Младший ответил:
— Нет у меня никакого ремесла, кроме умения бегать как заяц, прыгать как серна, да еще очень ловко резать ножницами.
— Все это очень хорошо и даже выгодно, — сказал старший, — так как всегда найдется на свете ризничий, который отдаст вам приношения ко дню всех святых, лишь бы вы ему нарезали к страстному четвергу бумажных розеток для монумента.
— Нет, я вырезываю иначе, — ответил младший. — Мой отец — божьей милостью портной и гамашник; он научил меня кроить гетры, которые, как вы сами хорошо знаете, представляют собою особые чулки с подъемом, называемые обыкновенно «полайнас». Я крою их так хорошо, что, право, мог бы сдать экзамен на мастера, если бы не злая судьба, которая держит меня в неизвестности.
— Еще и не такие напасти случаются с хорошими людьми, — ответил старший. — Не раз мне доводилось слышать, что редкие способности чаще всего пропадают даром. Однако вы еще в таком возрасте, что успеете исправить свою судьбу. Впрочем, если я не ошибаюсь и если глаз меня не обманывает, ваша милость обладает другими скрытыми талантами, но, видно, не желает их выказывать.
— Да, обладаю, — согласился младший, — но они не для широкой огласки, как вы сами это отлично заметили.
На это старший ответил:
— В таком случае могу вам сказать, что лучшего человека для сбережения тайны вряд ли вы где еще сыщете, и, чтобы обязать вас открыть свою душу и быть со мною откровенным, я начну с того, что открою вам сначала свою. Мне сдается, что не без тайного умысла свела нас здесь судьба, и вполне возможно, что мы с вами до последнего дня нашей жизни останемся настоящими друзьями. Я, сеньор идальго, уроженец Фуэнфриды, селения, известного и прославленного именитыми путешественниками, которые через него постоянно проходят. Имя мое — Педро Ринкон; мой отец — видная персона, ибо служит делу крестовых походов: я хочу сказать, что он разносчик панских булл, или булдыга, как выражается простонародье. Одно время я помогал ему в этом занятии и изучил его так, что наиболее опытному человеку не дал бы себя превзойти в продаже булл. Но однажды, увлекшись деньгами, получаемыми за буллы, гораздо больше, чем самыми буллами, я сжал в объятиях мешок и доставил его и самого себя в Мадрид, и там по милости разных удовольствий, которые всегда можно получить в столице, я в несколько дней так его выпотрошил, что он весь покрылся у меня складками, как платок у новобрачного. Владелец денег поспешил мне вслед — меня арестовали; особенной поддержки у меня не было, но судьи, посмотрев на мою юность, удовольствовались приказом привязать меня к столбу и эдак… согнать плетями с моих плеч несколько мух, а затем изгнать меня на четыре года из столицы. Набравшись терпения и выгнув спину, я подчинился необходимости, снес наказание, а потом с такой быстротой отправился в изгнание, что не успел даже подыскать себе осла или лошади. Из своих пожитков я захватил все, что мог и что показалось мне особенно нужным; захватил, между прочим, и эти карты (тут он вытащил из своего воротника карты, о которых уже было сказано выше); ими я зарабатывал себе на жизнь, играя в «двадцать одно» во всех гостиницах и постоялых дворах, сколько их наберется от Мадрида до этого места. И хотя, как вы видите, карты эти засаленные и потрепанные, но они наделены чудесной силой для того, кто умеет ими пользоваться: стоит только снять — и снизу окажется туз, который сразу выходит в козыри и дает одиннадцать; пусть только предложат сыграть в «двадцать одно», как, имея туза на руках, ты сохраняешь все деньги в кармане. А если вы хоть немного играете в «двадцать одно», вы поймете, какое это преимущество, если наверняка знаешь, что в первой карте получаешь туза. Кроме того, у повара одного посланника я обучился кое-каким уловкам для игры в «пятки» и в «банк», который иначе называется еще «андавова», и выходит, что я могу стать маэстро до части игры в карты, совершенно так же, как вы можете сдать экзамен по кройке гамаш. Таким образом, я с голода не умру, потому что в любой усадьбе всегда найдется человек, желающий сыграть в картишки. Сейчас мы можем проверить это на опыте. Расставим силки и посмотрим, не попадутся ли в них какие-нибудь пташки, вроде находящихся тут погонщиков мулов. Мы будем с вами играть в «двадцать одно», как будто и вправду, а если кто захочет быть в нашей игре третьим, то быть ему первым, кто расстанется со своим капиталом.
— В добрый час! — ответил другой. — Вы, ваша милость, оказали мне большую честь, рассказав мне про свою жизнь; этим вы заставляете и меня открыть вам свое прошлое, которое в общих чертах сводится к следующему. Я родился в богоспасаемом селении, расположенном между Саламанкой и Медина-дель-Кампо. Мой отец — портной — обучил меня своему ремеслу, а благодаря своим способностям я быстро перешел от этой работы к отрезыванию кошельков. Мне наскучила бедная деревенская жизнь и дурное обращение мачехи; покинув родное село, я отправился в Толедо промышлять ремеслом, в котором я творил чудеса, ибо ни разу еще к токе не подвешивали такой ладанки и никто еще так не прятал своего кошелька, чтобы их не прощупали мои пальцы и не обрезали мои ножницы даже тогда, когда вещи эти сторожились глазами Аргуса. За четыре месяца пребывания в этом городе меня ни разу не приперли к стене, ни разу меня не накрыли и не обнаружили полицейские, а также ни разу не донес на меня ни один человек; правда, около недели тому назад какой-то криводушный сыщик дал знать о моих ловкачествах коррехидору, который заинтересовался было моими талантами и захотел меня увидеть; но я, по свойственной мне скромности, не люблю иметь дело со столь важными лицами и поэтому постарался избежать встречи с коррехидором, покинув город с такой поспешностью, что не успел раздобыть себе ни лошади, ни денег, ни обратной кареты или хотя бы только телеги.
— Оставим эти шутки, — заметил Ринкон, — ведь мы с вами уже познакомились: к чему нам важничанье и похвальба? Сознаемся чистосердечно, что сейчас у нас нет ни денег, ни пары башмаков.
— Да будет так! — ответил Дьего Кортадо (ибо так называл себя младший мальчик). — А если наша дружба, как вы, сеньор Ринкон, изволили сами заметить, должна быть вечной, то положим ей начало святым и прекрасным обрядом.
Тут Дьего Кортадо встал и обнялся с Ринконом нежно и крепко, а затем они принялись играть в «двадцать одно», пользуясь упомянутыми уже выше картами весьма чистой работы, но довольно-таки засаленными и вероломными, причем после нескольких партий Кортадо так же хорошо снимал туза, как и его учитель.
В это время один из погонщиков мулов вышел на галерею подышать свежим воздухом и изъявил желание войти третьим в игру. Его охотно приняли и менее чем в полчаса обставили на двенадцать реалов и двадцать два мараведиса, что поразило беднягу, как двенадцать ударов копьем и двадцать две тысячи несчастий. Погонщик мулов хотел было отнять у мальчиков свои деньги, думая, что они по молодости лет не сумеют их отстоять. Но мальчики, схватившись один за тесак, другой за нож с желтым черенком, поставили его в столь затруднительное положение, что, если бы не выбежавшие товарищи, погонщику, без сомнения, пришлось бы плохо.
Как раз в это время по дороге случайно проезжало несколько всадников, которые собирались провести сьесту на постоялом дворе Алькальде, в полумиле дальше; заметив ссору погонщика с мальчиками, всадники их умиротворили и предложили юнцам ехать вместе, если только целью их путешествия была Севилья.
— Туда-то мы и направляемся, — сказал Ринкон, — и постараемся услужить вашим милостям всем, что от нас потребуется.
И, не долго думая, мальчики одним прыжком очутились перед мулами и отправились со всадниками, оставив погонщика мулов обиженным и разгневанным, а хозяйку постоялого двора в изумлении от ловкого обхождения обоих плутов, разговор которых она незаметно для них подслушала. Когда хозяйка сообщила погонщику, что карты мальчиков, как она слышала, были крапленые, погонщик стал рвать себе бороду и пожелал было ехать вслед за ними на постоялый двор, чтобы получить обратно свое достояние, так как усмотрел величайшее оскорбление и унижение в том, что два мальчугана провели такого великовозрастного мужчину, как он. Товарищи его удержали и посоветовали не ездить, чтобы, по крайней мере, не разглашать своей оплошности и глупости, причем привели ему разные доводы, которые, правда, его не утешили, но заставили все же остаться.
Тем временем Кортадо и Ринкон с таким рвением принялись услуживать путешественникам, что те большую часть пути везли их на крестце своих мулов; и хотя мальчикам не один раз представлялся случай пощупать баулы своих господ, они им не воспользовались, не желая терять приятной возможности попасть в Севилью, куда им очень хотелось добраться. Тем не менее, когда при вечернем благовесте стали они въезжать в город через Таможенные ворота, Кортадо — во время осмотра вещей и уплаты пошлины — не удержался и вспорол баул или, вернее, дорожную сумку, которую вез на крупе своего мула француз, входивший в число путешественников; он нанес своим желтым ножом такую широкую и глубокую рану сумке, что внутренности ее сразу выстудили наружу, а потом ловко извлек оттуда две отличные рубашки, солнечные часы и памятную книжку — вещи, не доставившие мальчикам особенного удовольствия. Приятели рассудили, что, поскольку француз держал свою сумку неотлучно при себе, она была наполнена не такими пустяковыми предметами, как те, которые им достались, а потому решили было пощупать ее вторично, но не привели этого в исполнение, полагая, что путешественники, пожалуй, уже спохватились и позаботились спрятать в надельное место все остальное.
Еще до совершения кражи мальчики простились со своими хозяевами и кормильцами. На следующий день они продали рубашки на рынке, находящемся за воротами Ареналь, и выручили за них двенадцать реалов. Покончив с этим, они отправились осматривать город и подивились величине и великолепию собора, а также большому стечению портовых рабочих, собравшихся по случаю гружения флота. На реке стояло шесть галер, и, глядя на них, мальчики загрустили и даже содрогнулись при мысли о том дне, когда в наказание за преступления их заставят переехать сюда навсегда. Им сразу бросилось в глаза множество мальчиков-носильщиков, которые там расхаживали. У одного из них они спросили про его ремесло: не очень ли оно трудно и много ли дает дохода. Мальчуган-астуриец, которому они задали вопрос, ответил, что занятие это спокойное и налога за него платить не надо; что иной раз он выручает по пять или шесть реалов в день, на которые ест, пьет и веселится как король, так что и хозяина ему искать не надо, и поручительств представлять не приходится, и всегда он знает, что пообедает в любой час, когда захочет, потому что он во всякое время может получить еду даже в самой захудалой харчевне города, а тут их немало и все они хорошие.
Оба друга не без удовольствия выслушали рассказ астурийца, ремесло которого не показалось им плохим, ибо, на их взгляд, оно, обеспечивая свободный вход во все дома, было словно создано для того, чтобы дать им возможность безопасно и тайно заниматься своим делом при доставке на место порученных им кладей и вещей. В ту же минуту они порешили закупить все принадлежности, необходимые носильщику, работа которого не требовала сдачи предварительного испытания. Они спросили астурийца, что им следует купить, и получили ответ, что каждому нужно приобрести небольшой мешок, чистый и новый, и три плетеные корзинки, две побольше и одну маленькую; в корзины полагается класть мясо, рыбу и фрукты, а в мешок — хлеб. Астуриец свел их туда, где эти вещи продаются, и они приобрели все на деньги, вырученные от продажи пожитков француза. Через два часа они имели такой вид, что могли бы получить звание мастера своего нового ремесла, — так ловко были прилажены корзинки и хорошо подвешены мешки. Их вожатый указал им места, где следовало стоять: по утрам около Мясного ряда и на площади Сан-Сальвадор; в постные дни — около Рыбного ряда и на площади Костанилья; после полудня — на берегу реки, по четвергам — на Ярмарке.
Мальчики твердо выучили наизусть весь этот урок и на следующий день с раннего утра выстроились на площади Сан-Сальвадор. Едва они пришли, как их окружили другие носильщики, которые по свежим мешкам и корзинам узнали в них новичков. Им задали тысячу вопросов, на которые они ответили умно и вежливо. В это время к ним подошел какой-то человек, похожий на студента, и солдат; оба, видимо, соблазнились чистотою корзинок обоих новичков. Человек, походивший на студента, кликнул Кортадо, а солдат — Ринкона.
— Ну, бог в помощь! — сказали мальчики.
— С вашей легкой руки начать бы работать, — проговорил Ринкон. — Я, ваша милость, вышел в первый раз.
На это солдат ответил:
— Начало не плохо, потому что я в выигрыше, влюблен и хочу устроить пирушку приятельницам моей возлюбленной.
— В таком случае валите на меня сколько угодно, так как есть у меня достаточно усердия и сил, чтобы снести на себе всю эту площадь. А если потребуется помощь в стряпне, я сделаю это весьма охотно.
Солдату пришлась по сердцу приветливость мальчика, и он сказал, что в случае желания его поступить на службу он поможет ему оставить это низкое занятие. Ринкон ответил, что он только сегодня начал заниматься новым делом, а потому не хочет бросать его слишком скоро, не узнав предварительно его плохих и хороших сторон; если же оно его не удовлетворит, то он дает слово, что охотнее пойдет на службу к солдату, чем к канонику.
Солдат посмеялся, основательно нагрузил носильщика и указал ему дом своей дамы, для того чтобы он его знал на будущее время и чтобы освободить себя тем самым от необходимости сопровождать мальчика при следующей посылке. Ринкон пообещал быть честным и добросовестным, получил от солдата три куарто и в ту же минуту вернулся на площадь, чтобы не потерять нового случая; такого рода старательности обучил его все тот же астуриец, не позабывший еще упомянуть, что при доставке мелкой рыбы, вроде сардинок, не возбраняется взять себе несколько штук на пробу, хотя бы в таком количестве, сколько нужно для пропитания на день. Однако это следует производить ловко и осмотрительно, дабы не лишиться доверия, которое для носильщика важнее всего.
Как ни быстро вернулся обратно Ринкон, он застал уже Кортадо на прежнем месте. Кортадо подошел к Ринкону и осведомился, как его дела. Ринкон разжал руку и показал три куарто. Кортадо засунул руку за пазуху, вытащил туго набитый кошелек, столь старый, что он совсем уже утратил запах амбры, и сказал:
— Вот этим кошельком да еще двумя куарто рассчитался со мной его преподобие господин студент. На всякий случай, Ринкон, кошелек вы оставьте у себя.
Едва только кошелек был незаметно передан, как вдруг прибежал студент, весь в поту и до смерти перепуганный. Увидев Кортадо, студент спросил, не видел ли он случайно потерянного кошелька с такими-то приметами, в котором было пятнадцать дукатов золотом, три двойных реала и несколько мараведисов, умоляя Кортадо сознаться, что он стащил кошелек в то время, как они вдвоем ходили за покупками. На это Кортадо с необыкновенным самообладанием, ничуть не изменившись в лице, ответил:
— Вот что я могу сказать о вашем кошельке: если вы, ваша милость, положили его в надежное место, потеряться он никак не мог.
— В том-то и дело, черт бы меня подрал, — воскликнул студент, — что я, несомненно, положил кошелек в ненадежное место; потому-то его у меня и украли!
— То же самое и я говорю, — заметил Кортадо. — Однако все на свете поправимо, кроме смерти, а сейчас для вашей милости первое и главное средство — терпение, потому что «из ничего люди выходят»[323], «день на день не приходится», а «где потеряешь, там и выиграешь». Пройдет время, и человек, стащивший ваш кошелек, раскается и вернет вам его обратно, да еще надушенным.
— Ну, на духах я не очень настаиваю, — заметил студент. А Кортадо продолжал трещать:
— Кроме того, существуют на свете папские отлучения за кражу и наша собственная настойчивость, которая всего достигает; и, по правде сказать, не хотел бы я быть на месте похитителя вашего кошелька: ведь вы, ваша милость, состоите, кажется, в священном сане, а если так, то выходит, что я совершил бы в данном случае страшное кровосмешение или, вернее, святотатство!
— Да как же не святотатство! — воскликнул пригорюнившийся студент. — Хоть я и не священник, а ризничий женского монастыря, а все же деньги, бывшие в кошельке, — это треть капелланского дохода, собранного мною по поручению моего приятеля священника; деньги эти святые и благословенные.
— Ну, тогда этот хлеб впрок вору не пойдет, — ответил на это Ринкон, — завидовать ему не приходится; придет день Страшного суда, всех тогда выведут на чистую воду; узнаем мы тогда этого христопродавца, этого наглеца, посмевшего взять, похитить и смешать с грязью треть капелланского дохода! А скажите мне, ради бога, сеньор ризничий, сколько это приносит в год?
— Шлюхина выродка это приносит!.. Стану я сейчас разговаривать с вами о доходе! — ответил почти что вскипевший ризничий. — Если вы, братец, что-нибудь знаете, так говорите, а если нет, так проваливайте с богом, потому что я пойду объявить о краже через глашатая.
— Пожалуй, это будет неплохо, — сказал Кортадо, — постарайтесь, однако, не забыть примет кошелька и точной суммы находившихся в нем денег, потому что, если вы ошибетесь хоть на полушку, — никогда он у вас не объявится, вот вам и весь мой сказ.
— Бояться мне нечего, — ответил ризничий, — сумму эту я помню лучше, чем счет колокольного звона, а потому не ошибусь ни на йоту.
Тут ризничий вынул из кармана кружевной платок, чтобы стереть им пот, капавший у него с лица, как из крана змеевика, в котором перегоняют воду. Едва только Кортадо увидел платок, как тотчас же решил им завладеть. Когда ризничий ушел, Кортадо отправился за ним следом, догнал его на Соборной площади, окликнул и отозвал в сторону. Тут он начал рассказывать ему всякие пустяки и понес такие турусы на колесах относительно пропажи и отыскания кошелька, всячески обнадеживая своего собеседника и не договаривая до конца начатых фраз, что бедняга ризничий заслушался и ошалел окончательно, а так как он не понимал слов своего собеседника, то все время просил его по два и по три раза повторять то же самое. Кортадо внимательно смотрел ему в лицо, не спуская с него глаз, а ризничий точно так же глядел на Кортадо, ловя каждое его слово. Такого рода искусный прием сделал то, что Кортадо довел свое дело до конца и весьма ловко вытащил у него платок из кармана, а на прощание попросил, чтобы ризничий после полудня повидался с ним на этом самом месте; у него, мол, есть подозрение, что кошелек украден одним мальчиком, тоже носильщиком и его однолеткой, который был слегка вороват, и при этом Кортадо пообещал рано или поздно выяснить, в чем тут дело.
Это несколько утешило ризничего; он распрощался с Кортадо, а тот возвратился обратно к Ринкону, который стоял неподалеку и все это наблюдал; чуть-чуть подальше находился еще один носильщик, который видел все, что произошло, равно как и то, что Кортадо передал Ринкону платок. Он подошел и сказал:
— Скажите мне, господа кавалеры, не из полупочтенных ли будут ваши милости?
— Мы не понимаем, вашего вопроса, господин кавалер, — ответил Ринкон.
— А ну-ка, почешите темя, сеньоры мурсияне![324] — продолжал тот.
— Мы вам не из Мурсии, да и не из Тевы тоже, — сказал Кортадо. — Если вам что-нибудь нужно, — говорите, а если нет, так ступайте с богом.
— Ах, вы не понимаете? Так я вам это растолкую и даже в рот серебряной ложечкой положу. Я хочу спросить, сеньоры мои, не из воров ли будут ваши милости? Впрочем, сам не знаю, к чему мне об этом спрашивать: ведь мне и так известно, что вы воры. Но скажите, как же это вы не побывали на таможне сеньора Мониподьо?
— А что, в ваших краях воры платят налоги? — спросил Ринкон.
— Налогов не платят, — ответил носильщик, — но зато, во всяком случае, записываются у сеньора Мониподьо, который является их отцом, учителем и защитником. Поэтому я советую вам сходить со мною на поклон к сеньору Мониподьо, а без его указки и думать не смейте воровать, иначе это обойдется вам не дешево.
— Я полагал, — ответил ему Кортадо, — что воровство есть свободное звание, не знающее ни податей, ни налогов, а если кого и притянут к уплате, то платят всем телом, а поручителями выступают и шея и плечи. Но коль скоро выходит так, что в каждой деревне живут по-своему, подчинимся вашему обычаю, который, надо думать, наимудрейший из всех, ибо Севилья — лучший город в мире. Итак, ведите нас туда, где находится кабальеро, о котором вы говорите. Я уже догадался из ваших слов, что он человек весьма почтенный, благородный и, кроме того, знаток своего дела.
— Это он-то почтенный, это он-то знаток и мастер своего дела?! — воскликнул носильщик. — Да он у нас такой, что за все четыре года, что он состоит нашим отцом и начальником, только четверо из наших угодили на перекладину, человек тридцать попали к заплечным, да еще около шестидесяти двух сели на плавучие доски.
— По правде сказать, сеньор, — заметил Ринкон, — мы столько же смыслим в этих словах, как в искусстве летать по воздуху.
— Ну, пойдем, — сказал носильщик, — а но дороге я вам объясню эти слова и еще некоторые другие, которые вам необходимо знать как свои пять пальцев.
И затем он стал им объяснять и толковать разные слова из числа тех, которые воры называют «херманеско» или «хермания», и беседа вышла довольно длинная, потому что путь у них был не короткий; на ходу Ринкон спросил у своего вожатого:
— А может быть, и вы, ваша милость, тоже из воров?
— Да, — ответил тот, — я вор и делом своим служу богу и добрым людям, но я еще не очень опытный и отбываю пока что год послушничества.
— В первый раз слышу, что бывают на свете воры, которые служат богу и добрым людям! — вставил Кортадо, на что их юный спутник ему заметил:
— Сеньор, углубляться в богословие — не мое дело, но я все-таки знаю, что каждый из нас своим трудом может восхвалить господа, особливо же при том уставе, который Мониподьо ввел для всех своих приемышей.
— Какое же может быть сомнение, — сказал Ринкон, — в том, хорош ли или свят этот устав, если он заставляет воров служить богу!
— Он до того свят и хорош, — продолжал собеседник, — что для нашего дела лучше и не надо. Мониподьо постановил, чтобы часть украденного мы отчисляли на масло для лампады одной высокочтимой в нашем городе иконы. И поистине великие последствия имело для нас это доброе дело. Не так давно одного
— Все это одна красота, — молвил Кортадо, — но скажите мне, ваша милость, вы, может быть, помимо прочего налагаете еще на себя возмещения или пени?
— О возмещении, конечно, говорить не приходится, — возразил носильщик, — это дело невозможное, потому что каждая краденая вещь делится на множество частей и каждый член или участник братства получает свою часть, так что вор, совершивший кражу, ничего возвратить не может; а кроме того, никто и не побуждает нас к такому усердию, потому что мы никогда не исповедуемся, а если нас отлучают от церкви, то мы никогда об этом не знаем, так как ходим в церковь не в те дни, когда читаются отлучения, а все больше в дни всеобщего отпущения грехов, принимая в расчет добычу, которая бывает при большом стечении народа.
— И, не делая ничего, кроме этого, — осведомился Кортадо, — все вы считаете свою жизнь святой и хорошей?
— А что же в ней плохого? — спросил носильщик. — Разве не хуже быть еретиком, ренегатом, убить отца своего и мать или, наконец, быть
— Вы, ваша честь, хотели, должно быть, сказать
— Вот именно — содомитом, — подтвердил носильщик.
— Конечно, плохо, — сказал Кортадо, — но поскольку судьбе нашей было угодно, чтобы мы определились в ваше братство, то давайте прибавим шагу, потому что я умираю от желания повидать сеньора Мониподьо, о котором рассказывают такие чудеса.
— Ваше желание вскоре исполнится, — ответил носильщик, — потому что дом виден уже отсюда. Вы пока постойте у дверей, я схожу узнать, свободен ли сейчас Мониподьо, потому что как раз в это время он обычно принимает.
— В час добрый! — сказал Ринкон.
Забежав на несколько шагов вперед, носильщик юркнул в дом, не только не роскошный, а просто-напросто захудалый; мальчики стали дожидаться у дверей. Вскоре их провожатый вышел и пригласил их войти; он велел им подождать на крошечном дворе, который был вымощен кирпичом и так чисто вымыт и выскоблен, что казалось, будто его смазали кармином самого лучшего качества. С одной стороны стояла скамейка о трех ножках, с другой — кувшин с отбитым носом, покрытый сверху крышкой, такой же неблагополучной, как и кувшин; чуть-чуть подальше лежала камышовая циновка, а посредине дворика стоял горшок (или, как говорится в Севилье, —
Мальчики, ожидая выхода сеньора Мониподьо, внимательно рассматривали обстановку дома. Видя, что хозяин запаздывает, Ринкон рискнул пройти в нижнюю комнату — одну из двух, выходивших на двор, и увидел там две рапиры и два пробковых щита, висевших на четырех гвоздиках, большой ларь без всякой покрышки и три камышовых циновки, разостланных на полу. К стене напротив было приклеено изображение богоматери, очень плохо награвированное; пониже его висела плетеная корзинка, а в стену был вделан беленький тазик, из чего Ринкон заключил, что корзинка служила кошелем для сбора приношений, а тазик предназначался для святой воды; так оно на самом деле и было.
Тем временем в дом вошли два молодых человека лет двадцати, одетые как студенты, а немного погодя — двое носильщиков и один слепец; не говоря ни слова друг другу, они стали прохаживаться по двору. Через несколько минут появились два старика в байковых плащах, с очками на носу, которые придавали им весьма почтенный и достойный уважения вид; у каждого в руках были четки из маленьких погремушек. Следом за ними показалась старуха в длинном платье, которая молча прошла в комнату, захватила там святой воды, с большим благоговением опустилась на колени перед иконой и после долгого промежутка времени, поцеловав перед этим три раза землю и воздев столько же раз очи и руки к небу, поднялась, опустила в корзину милостыню и тоже присоединилась к ожидавшим. Вскоре на дворе собралось человек четырнадцать в самых разнообразных одеждах и самых разнообразных званий. Последними вошли два бравых, щеголеватых и длинноусых молодца в широкополых шляпах, валлонских воротниках, цветных чулках с замысловатыми подвязками, со шпагами длиннее установленной меры, причем у каждого был вместо кинжала пистолет, а кроме того, щит, подвешенный к поясу. Войдя, они уставились на Ринкона и Кортадо как на лиц посторонних, которых они не знали, подошли к ним и спросили, состоят ли они членами братства. Ринкон ответил, что да и что мы, мол, покорные слуги ваших милостей.
Между тем настала минута, когда появился наконец сеньор Мониподьо, весьма нетерпеливо поджидавшийся и очень радостно встреченный всем этим почтенным обществом.
Это был человек лет сорока пяти — сорока шести, высокого роста, лицом смуглый, со сросшимися бровями, с черной, очень густой бородой и глубоко посаженными глазами.
Он вышел в рубашке, сквозь прорезь которой виднелся целый лес: столько у него было волос на груди. На нем был накинут большой плащ, доходивший почти до ступней, обутых в башмаки с продавленными задками; ноги были покрыты широкими полотняными шароварами по самую щиколотку, голову украшала бандитская шляпа с высокой тульей и широкими полями. На перевязи, проходившей по спине и груди, висела широкая, короткая шпага, вроде тех, что бывают помечены клеймом «собачки»; руки у него были короткие и волосатые, пальцы толстые, ногти огромные и крючковатые; ног нельзя было рассмотреть из-за одежды, но ступни казались просто страшными, такие они были широкие и с такими громадными костяшками. Одним словом, у него был вид косолапого и безобразного варвара. Вместе с ним показался провожатый обоих мальчиков, который взял их за руку и представил сеньору Мониподьо со словами:
— Это те добрые ребята, о которых я говорил вашей милости, сеньор Мониподьо; благоволите сделать им испытание, и вы увидите, что они достойны вступить в нашу общину.
— С превеликим удовольствием, — ответил Мониподьо.
Я забыл упомянуть, что при появлении Мониподьо все ожидавшие его тотчас отвесили ему низкий поклон, за исключением обоих молодцов, которые, едва приподняв шляпы, продолжали прохаживаться по одной стороне двора, а по другой стороне стал ходить Мониподьо, задавший новичкам вопрос относительно рода их занятий, родины и родителей.
На это Ринкон ответил:
— Род занятий наш ясен уже из того, что мы явились сейчас к вашей милости; что касается родины, то я не считаю нужным ее называть, равно как и родителей: ведь дело сейчас идет не об установлении родословной на предмет получения какого-нибудь почетного звания.
Мониподьо ответил так:
— Вы, сын мой, совершенно правы. Совсем не глупо скрывать подобные вещи, ибо если судьба сложится не так, как бы хотелось, не следует, чтобы в судебных книгах, за подписью секретаря, значилось: такой-то, мол, сын такого-то, уроженец такой-то местности, в такой-то день повешен, наказан плетью или еще что-нибудь в этом роде, столь же оскорбительное для всякого нежного уха; а поэтому, повторяю еще раз, весьма полезно бывает умолчать о своей родине, скрыть своих родителей и переменить собственное имя. Но между нами не должно быть никаких тайн, и только для первого раза я хочу узнать ваши имена.
Ринкон назвал себя; то же самое сделал Кортадо. — Итак, на будущее время, — ответил Мониподьо, — я хочу и такова моя воля, чтобы вы, Ринкон, назывались Ринконете, а вы, Кортадо, — Кортадильо[325], потому что эти прозвания подходят как нельзя лучше к вашему возрасту и нашим обычаям; они-то и предписывают нам узнавать имена родителей членов нашего братства, так как мы имеем обыкновение ежегодно совершать особые мессы за упокой наших покойников и благодетелей и отчисляем для оплаты священника особую
— Поистине, — сказал Ринконете, который отныне уже был окрещен этим именем, — установление это достойно глубокого и светлого ума, которым, как мы слышали, вы, сеньор Мониподьо, обладаете. Однако родители наши еще здравствуют, если же мы их переживем, то немедленно сообщим об этом вашему богоспасаемому и искупительному братству, дабы души покойных сподобились либо чистильщика, либо метельщика или же этой дрызны (о которой вы, ваша милость, говорили), с приличествующими в таких случаях помпой и аппаратом, если только не лучше будет с попом и братом, как вы это тоже в своих словах отметили.
— Так ему и быть надлежит, пропади я на этом месте, — заключил Мониподьо и, подозвав вожатого наших мальчиков, сказал ему:
— Послушай, Ганчуэло, часовые на местах?
— Точно так, — ответил вожатый, имя которого было Ганчуэло, — трое часовых глядят в оба, и поэтому, бояться нечего: врасплох нас не застанут.
— Однако вернемся к делу, — сказал Мониподьо. — Я хотел, дети мои, познакомиться с вашими знаниями и определить вам должность и занятия, соответствующие природным влечениям и способностям.
— Я, — ответил Ринконете, — смыслю кое-что в науке Вилана[327], умею делать накладку; набил глаз на крапинки; передергиваю одной, двумя, четырьмя и восемью; не провороню тебе ни начеса, ни бородавки, ни клычка, в волчью пасть попадаю, как к себе домой; третьего играю, что твой третейский судья, и даже самому обстрелянному вставлю перо прежде, чем он успеет попросить в долг два реала.
— Это пустяки, — сказал Мониподьо. — Все это старая труха, столь известная, что нет новичка, который бы ее не знал; она может провести только такого простака, который после полуночи, можно сказать, сам на нож просится. Однако поживем — увидим. При такой подготовке достаточно будет полдюжины уроков, а там, даст бог, выйдет из вас отличный работник, а может быть, даже мастер.
— Рад буду угодить вашей милости и сеньорам сочленам, — ответил Ринконете.
— А каковы ваши познания, Кортадильо? — спросил Мониподьо.
— Мне известно, — ответил Кортадильо, — искусство, которое называется «два вложи, пять тяни»; я умею еще ловко и чисто отрезать кошелек.
— А еще что? — спросил Мониподьо.
— К стыду своему, больше ничего, — ответил Кортадильо.
— Не печальтесь, сын мой, — сказал Мониподьо, — вы достигли гавани, где вы не утонете; вы попали в школу, откуда вас не выпустят, не обучив предварительно всему, что вам подобает узнать… А как обстоит у вас дело в отношении мужества, дети мои?
— Совсем не как-нибудь, а очень даже хорошо, — проговорил Ринконете. — Мы достаточно храбры, чтобы рискнуть на любое предприятие, имеющее отношение к нашему ремеслу и званию.
— Прекрасно, — сказал Мониподьо. — Однако мне бы хотелось, чтобы вы в случае нужды сумели выдержать полдюжины «страстей», не разжав губ и не проронив ни единого слова.
— Мы уже здесь узнали, сеньор Мониподьо, — сказал Кортадильо, — что такое «страсти», и ничего не испугаемся; не так уж мы глупы, чтобы не понять, что за язык расплачивается шея. Не малую милость оказал господь бог нашему брату,
— Довольно, разговаривать больше не о чем! — воскликнул вдруг Мониподьо. — Один этот ответ убеждает, обязывает, заставляет и принуждает меня немедленно же принять вас в число полноправных членов братства и освободить от года послушничества.
— И я того же мнения, — сказал один из молодцов.
Этот отзыв был единогласно поддержан присутствующими, которые слышали эту беседу и попросили Мониподьо сегодня же разрешить обоим мальчикам пользоваться льготами братства, так как Ринконете и Кортадильо вполне того заслужили своей приятной наружностью и разумными речами. Мониподьо ответил, что не откажет им в этом удовольствии и сейчас же дарует все льготы; он подчеркнул, однако, что юноши должны их очень ценить, потому что права они получают следующие: не платить половину дохода с первой кражи; в течение всего года быть свободными от послушнических обязанностей, иначе говоря, от доставки в тюрьму или дома терпимости передач, посылаемых кому-либо из старшей братии; дуть чистого «турка»[328]; устраивать пирушки, не спрашивая разрешения начальника; с первого же дня иметь долю полноправного члена при разделе добра, награбленного старшими, и многие другие преимущества, которые новички приняли как великую честь и за которые, кроме того, искренне поблагодарили в самых учтивых выражениях.
В это время прибежал, запыхавшись, какой-то малый и сказал:
— Сюда идет дозорный альгуасил! Он один, без спутников!
— Не волнуйтесь, — сказал Мониподьо, — это наш друг; он никогда не приходит, чтобы делать нам неприятности. Успокойтесь, я выйду с ним поговорить.
Присутствующие стали успокаиваться, а то все было порядком струхнули. Мониподьо вышел за дверь, увидел альгуасила, поговорил с ним немного, потом вернулся обратно и спросил:
— Кому была поручена сегодня площадь Сан-Сальвадор?
— Мне, — ответил Ганчуэло.
— В таком случае, — спросил Мониподьо, — почему до сих пор не представлен амбровый кошелек, который утром подгрифили на площади вместе с пятнадцатью золотыми эскудо, двумя двойными реалами и несколькими куарто?
— Правда, — сказал Ганчуэло, — кошелек сегодня пропал, но я его не брал и не могу понять, кто его стибрил.
— Я не позволю себя обманывать! — крикнул Мониподьо. — Кошелек должен быть возвращен, потому что его просит наш друг альгуасил, который делает нам в год тысячи одолжений!
Юноша стал клясться, что он ничего не знает о кошельке. Мониподьо распалялся гневом, и когда он заговорил, то глаза его, казалось, метали пламень:
— Никто не смеет шутить даже с самыми мелкими правилами нашего братства, а не то поплатится жизнью!.. Кошелек должен быть предъявлен! Если кто его укрывает, не желая платить налога, я ему выделю его долю, а остальное добавлю из своего кармана, ибо альгуасил должен быть удовлетворен во что бы то ни стало.
Юноша стал снова клясться и поминать черта, уверяя, что он не брал кошелька и никогда его не видел. Слова эти еще пуще разожгли неистовство Мониподьо и взволновали все собрание, усмотревшее тут нарушение устава и добрых правил.
Когда ссора и волнение не в меру разрослись, Ринконете решил, что лучше будет уважить и успокоить свое начальство, готовое лопнуть от бешенства; посоветовавшись со своим другом Кортадильо и получив его согласие, он вынул из кармана кошелек ризничего и сказал:
— Прекратите спор, господа. Вот кошелек, в котором столько денег, сколько было обозначено альгуасилом. Сегодня мой приятель Кортадильо украл его вместе с платочком, который он стащил у этого же самого человека.
Кортадильо тотчас вынул платок и предъявил его. Мониподьо посмотрел на вещи и сказал:
— Кортадильо Добрый[329] (это прозвание и титул мы закрепим за тобой на будущее время) удержит в свою пользу платок, причем я беру на себя наградить его за оказанную услугу, а кошелек мы отдадим альгуасилу, потому что он принадлежит его родичу ризничему, и таким образом исполним пословицу, гласящую: «Он тебе — целую курицу, а ты его куриной ножкой отблагодари».
Этот добрый альгуасил в один день покрывает столько наших грехов, что мы и в сто дней столько добра ему не сделаем.
Все присутствующие единогласно одобрили благородство обоих новичков и заодно решение и приговор своего начальника, который пошел вручить кошелек альгуасилу. Кортадильо окрестили с тех пор прозвищем Добрый и приравняли ни больше ни меньше, как к Алонсо Пересу де Гусману
Мониподьо возвратился назад в сопровождении двух девиц с нарумяненными щеками, размалеванными губами и сильно набеленною грудью; они были в коротких саржевых плащах и держались с необыкновенной развязностью и бесстыдством. Ринконете и Кортадильо, на основании этих красноречивых признаков, сразу смекнули, что перед ними женщины из дома терпимости, — так оно действительно и было. Едва они успели войти, как одна из них бросилась с распростертыми объятиями к Чикизнаке, а другая — к Маниферро (так звали двух упомянутых выше молодцов, причем кличка Маниферро объяснялась тем, что у ее обладателя одна рука была железная, так как настоящую ему отрубили по приговору суда). Кавалеры весело обняли своих дам и осведомились, не найдется ли у них, чем промочить глотку.
— Для моего-то героя да не найдется! — ответила одна из них, по имени Ганансьоса.[330] — Твой слуга Сильватильо вскоре доставит сюда бельевую корзину, наполненную чем бог послал.
И действительно, в ту же минуту вошел мальчик с корзиной, прикрытой простыней.
Все обрадовались приходу Сильвато, а Мониподьо немедленно распорядился принести и растянуть посредине двора одну из камышовых циновок, находившихся в комнате. Затем он велел всем усесться в кружок, чтобы за угощением удобнее было толковать о своих делах. В это время старуха, давече молившаяся перед иконой, сказала:
— Сыне Мониподьо, мне сейчас не до пиршества, потому что уже два дня я страдаю головокружениями, которые сводят меня с ума, а кроме того, еще до полудня я должна сходить помолиться и поставить свечечки богоматери и святому распятию в церкви святого Августина, — а потому не задержат меня тут ни снег, ни буйный ветер. Пришла я к вам потому, что прошлого ночью Репегадо и Сентопьес принесли ко мне корзину побольше, чем ваша, полнехонькую белья, и вот вам святой крест, была она еще с подзолом, потому что они и убрать его не успели: пот катил с них градом, запыхались так, что смотреть было жалко, а лица такие мокрые, хоть выжми, — никак иначе не скажешь, как ангелочки… Рассказали они мне, что бегут сейчас выслеживать одного скотовода, только что взвесившего на весах баранов в мясной лавке, и хотят приласкать его огромного кота, набитого реалами[331]. Белья они не вынимали и не считали его, положившись на мою честность. И пусть так исполнятся мои желания и пусть мы так же верно ускользнем от руки правосудия, как верно то, что я и не дотронулась до корзины, которая так же цела и невинна, как если бы она только что родилась!
— Верю всему, матушка, — сказал Мониподьо, — пусть корзина останется у тебя, а ночью я зайду к тебе посмотреть, что она в себе заключает, и каждому выделю его долю, рассчитав все честно и точно, как я всегда это делаю.
— Пусть будет так, как вы прикажете, сыне, — ответила старуха. — А так как я уже замешкалась, то дайте мне глоточек вина, если у вас самих найдется, чтобы подкрепить мой совсем ослабевший желудок.
— И еще какого вина мы вам отпустим, мать моя! — воскликнула Эскаланта[332] (так звали подругу Ганансьосы) и, приоткрыв корзину, вытащила оттуда кожаную бутыль величиною с бурдюк, вмещавшую доброе ведро вина, и ковш из древесной коры, куда легко и свободно могло войти до четырех бутылок. Наполнив сосуд вином, Эскаланта передала его богомольной старухе, которая взяла ковш обеими руками, дунула на пену и сказала:
— Ты много налила, дочь моя, но с божьей помощью все преодолеть можно.
Затем, приложив сосуд к губам, она залпом, не переводя дыхания, перелила вино из ковша в живот и сказала:
— Это — Гуадальканаль, и есть в нем, в голубчике, самая капелька гипсу. И да утешит тебя господь, дочь моя, так, как ты меня сейчас утешила! Однако боюсь, как бы оно мне не повредило, потому что я еще не завтракала.
— Не повредит, матушка, — сказал Мониподьо, — это вино двухлетнее.
— Буду надеяться на пречистую деву, — ответила старуха и затем прибавила: — Послушайте, девушки, не дадите ли вы мне одного куарто на свечки, а то заторопилась я к вам с известием о корзине с бельем и впопыхах забыла дома свой кошелек.
— У меня найдется, сеньора Пипота[333] (так звали старуху), — ответила Ганансьоса. — Берите, вот вам два куарто; купите мне, пожалуйста, на один куарто свечку и поставьте ее святому Мигелю, а если хватит на две свечи, то вторую поставьте святому Власу; это — мои заступники. Хотелось бы еще поставить свечку святой сеньоре Лусии, которую я в отношении глаз почитаю, да нет у меня сейчас мелкой монеты; ну, да в другой раз мы со всем управимся.
— Хорошо сделаешь, дочь моя; и смотри, не будь скаредной. Пока жив человек, надо, чтобы он ставил за себя свечки сам, не дожидаясь, что их поставят за него наследники и душеприказчики.
— Хорошо сказано, тетка Пипота! — воскликнула Эскаланта и, сунув руку в кошель, дала от себя старухе еще один куарто, поручив ей поставить две свечки по своему выбору тем святым, которые оказывают больше всего покровительства и милости.
После этого Пипота собралась уходить и сказала:
— Веселитесь, дети, пока не поздно; настанет старость, и будете вы плакать, что пропустили золотые деньки своей молодости, как я теперь о них плачу; да еще помяните меня в ваших молитвах, а я пойду помолиться за себя и за вас, дабы избавил нас бог в нашем опасном промысле от внезапного появления полиции.
С этими словами Пипота удалилась.
Когда старуха ушла, все уселись вокруг циновки; Ганансьоса разостлала вместо скатерти простыню и вынула из корзины сначала пучок редиски и около двух дюжин апельсинов и лимонов, затем большую кастрюлю, наполненную ломтиками жареной трески, вслед за ними показались полголовы фламандского сыра, горшок великолепных оливок, тарелка креветок, целая куча крабов с острой приправой из каперцев, переложенных стручками перца, и три каравая белоснежного гандульского хлеба[334]. Закусывающих собралось человек четырнадцать; все они извлекли ножи с желтыми черенками, за исключением Ринконете, обнажившего свой тесак. Старикам в байковых плащах и носильщику Ганчуэло пришлось распределять вино с помощью упомянутого ковша из древесной коры величиною с улей. Но едва только общество набросилось на апельсины, как все были напуганы сильными ударами в дверь. Мониподьо призвал всех к порядку, удалился в нижнюю комнату, снял со стены щит, взял шпагу и, подойдя к двери, глухим и страшным голосом спросил:
— Кто там?
— Это я, а не кто-нибудь, сеньор Мониподьо; я — Тагарете, часовой, поставленный утром; я прибежал сказать, что сюда идет Хулиана Кариарта[335], простоволосая и в слезах, — по всему видно, что стряслась какая-то беда.
В это время к дому с рыданиями подошла пострадавшая, о которой шла речь. Заметив ее, Мониподьо отворил дверь и приказал Тагарете снова занять свой пост и сообщать свои известия, не подымая гама и шума. Тагарете ответил, что постарается это исполнить. Наконец появилась и Кариарта, девица того же разбора и такого же рода занятий, что и прежние. Волосы ее были растрепаны, лицо распухло; едва ступив на двор, она без сознания повалилась наземь. Ганансьоса и Эскаланта поспешили на помощь: они расстегнули ей платье на груди и увидели, что все тело в кровоподтеках и ссадинах. Брызги холодной воды привели Кариарту в себя.
— Пусть господь бог и король покарают этого смертоубийцу и живодера, — голосила она, — этого трусливого воришку, этого вшивого бродягу, которого я столько раз спасала от виселицы, что у него волос в бороде больше не наберется! О я, несчастная! Посмотрите, ради кого я загубила свою молодость и лучшие годы жизни — ради бессовестного негодяя, неисправимого каторжника!
— Успокойся, Кариарта, — сказал в это время Мониподьо, — не забывай, что тут нахожусь я и что я разберусь в твоем деле. Расскажи нам про свою обиду; и знай, что больше времени уйдет у тебя на рассказ, чем у меня на расправу. Скажи мне, не вышло ли у тебя чего с твоим хахалем? А если что-нибудь вышло и нужна на него управа, тебе достаточно будет слово сказать.
— Какой он хахаль?! — воскликнула Хулиана. — Пусть лучше со мной целый ад хахалится, чем этот «молодец против овец, а против молодца и сам овца». Чтобы я стала с таким хлеб-соль водить и делить с ним свое ложе!.. Пусть прежде шакалы растерзают это тело, которое он разукрасил так, как вы это сейчас увидите.
И, подобрав в одну минуту юбки до самых колен, а то, пожалуй, и немного повыше, она показала, что тело ее было всюду покрыто синяками.
— Вот как, — продолжала Кариарта, — отделал меня изверг Реполидо[336], несмотря на то что обязан мне больше, чем родной матери. Нет, вы послушайте только, за что он меня искалечил! Иной еще подумает, будто я сама дала ему какое-нибудь основание!.. Так нет же, нет! Искалечил он меня так потому, что, продувшись в карты, прислал ко мне своего служку Каврильяса за тридцатью реалами, а я могла дать ему только двадцать четыре, и притом заработанных таким трудом, что терзания и мучения мои сам господь бог во искупление грехов моих примет. И вот в награду за мою учтивость и ласку он, порешив, что я утаила от него часть бывших у меня денег, вывел меня сегодня утром в поле, за Королевский сад, и там, в оливковой роще, раздел меня донага, взял пояс, не подобрав и не сняв с него железа (самого бы его, черта, в кандалы да железо заковать), и так меня отстегал, что я еле жива осталась, — а истину моих слов подтвердят синяки, которые вы все видите.
Тут Кариарта стала опять кричать и требовать правосудия. Мониподьо стал ее защищать, а все остальные бандиты единодушно его поддержали.
Ганансьоса бросилась утешать Кариарту и клялась, что она готова пожертвовать любой драгоценной вещью, лишь бы только у нее с ее дружком случилась такая же история.
— Я хочу, — сказала она, — чтобы ты наконец узнала, сестрица Кариарта (если ты этого еще не знаешь), что милый бьет, — значит, любит, и когда эти паршивцы нас дубасят, стегают и топчут ногами, тогда именно они нас и обожают. Разве это не правда? Скажи по совести, неужели Реполидо по окончании трепки не сказал тебе ни одного ласкового слова?
— Какое там одно! — воскликнула плакавшая. — Он мне сто тысяч ласковых слов наговорил и не пожалел бы пальца своей руки, если бы я сразу вместе с ним пошла домой. Мне даже показалось, что у него слезы из глаз брызнули после того, как он меня выпорол.
— Тут и сомнения быть не может, — заметила Ганансьоса, — ясное дело, он прослезился, когда увидел, что здорово тебя отодрал. Стоит только проштрафиться этим мужчинам, как они сейчас же и раскаиваются, и попомни мое слово: еще прежде чем мы отсюда уйдем, он сам к тебе приплетется смиренной овечкой и будет умолять простить ему прошлое.
— Даю слово, — сказал Мониподьо, — что этот каторжный трус не переступит моего порога, если не принесет публичного покаяния в своем преступлении! Как смел он дотронуться руками до лица и тела Кариарты, которая может поспорить своим блеском и заработком с самою Ганансьосой, стоящей здесь перед вами, а уж это ли, скажите, не похвала?!
— Ах, — воскликнула в ответ Хулиана. — Сеньор Мониподьо, не браните вы его, окаянного. Как бы он ни был плох, а я люблю его от всей глубины сердца; у меня сразу душа на место стала после слов, которые подруга моя Ганансьоса привела в его оправдание; честное слово, я пойду сейчас его разыскивать.
— Вот этого я тебе не посоветую, — возразила Ганансьоса, — ведь он тогда так разойдется и раскуражится, что изрешетит тебя, как фехтовальное чучело. Успокойся, сестрица, погоди немного; попомни мое слово, он сам тебе принесет повинную. А если не придет, то мы напишем ему в письме такие куплеты, что ему солоно придется.
— Вот это отлично! — воскликнула Кариарта. — Я ему тысячу вещей могу написать.
— Если понадобится секретарь, то им буду я, — сказал Мониподьо, — и хоть я не поэт, а вот закатаю рукава да и отмахаю в один присест две тысячи стихов, а если выйдут не хороши, есть у меня один знакомый цирюльник, прекрасный поэт, который нам в любое время наворотит их целую кучу… Ну, давайте кончать начатый нами завтрак, а потом все устроится.
Хулиана с удовольствием подчинилась приказу своего начальника. Все снова накинулись на еду и вскоре заметили, что в корзине осталось только дно, а в бурдюке — одна гуща. Старики пили
— Да это прелесть что такое! — воскликнул Ринконете. — Мне бы тоже хотелось оказаться чем-нибудь полезным для вашего удивительного братства.
— Небо всегда благоприятствует добрым намерениям, — ответил Мониподьо.
Во время этого разговора раздался стук в дверь. Мониподьо вышел посмотреть, кто там: на его отклик стучавший ответил:
— Откройте, сеньор Мониподьо, это я, Реполидо.
Едва Кариарта услышала его голос, как вдруг изо всех сил завыла:
— Не открывайте ему, сеньор Мониподьо; не впускайте этого тарпейского нырка, этого оканьского тигра![339]
Тем не менее Мониподьо открыл дверь, а Кариарта, заметив это, бросилась бежать, укрылась в той комнате, где висели щиты, и, замкнув за собою дверь, стала громко кричать оттуда:
— Уберите прочь эту образину, палача невинных младенцев, пугало кротких голубиц!
Маниферро и Чикизнаке удерживали Реполидо, а он так и рвался войти туда, где находилась Кариарта, и кричал ей со двора:
— Ну ты, обиженная, перестань! Да успокойся ты, ради бога; шла бы ты лучше замуж, вот что!
— Чтобы я шла замуж, прохвост?! — ответила ему Кариарта. — Вот ты на какой струне заиграл! Чего доброго, захочешь, чтобы я за тебя вышла?! Да я скорей за смертный шкелет пойду, чем за тебя!
— Ну ты, глупая, — сказал Реполидо, — пора кончать: время не раннее. Эй, не заносись, видя, что я с тобою кротко и нежно разговариваю, а не то, если гнев мне вскочит в голову, второй раз будет похуже первого. Смирись, смиримся оба, и нечего нам кормить обедами дьявола!
— Не только обедом, ужином бы я его накормила, — вставила Кариарта, — лишь бы он тебя убрал так, чтобы глаза мои тебя больше не видели!
— А что, разве я вам не говорил?! — крикнул Реполидо. — Ну, госпожа Походная Кровать, ей-богу, выходит так, что придется мне заломить цену повыше, а уж какая будет продажа — смотреть не стану!
Тут вмешался Мониподьо.
— В моем присутствии все должно быть в порядке. Кариарта выйдет, но не из-за угроз, а по любви ко мне, и все устроится. Когда милые ссорятся, от примирения бывает только больше радости! Эй, Хулиана! Эй, детка! Эй, милая Кариарта! Из уважения ко мне выдь-ка сюда наружу. Я устрою так, что Реполидо на коленях попросит у тебя прощения.
— Если он это сделает, — сказала Эскаланта, — то мы все будем на его стороне и будем просить Хулиану выйти.
— Если это от меня требуется в знак повиновения и унижения достоинства, — сказал Реполидо, — то я не покорюсь целому полчищу швейцарцев; а если для того, чтобы доставить удовольствие Кариарте, то я не только стану на колени, но даже гвоздь себе в лоб всажу ей на утеху.
На это Чикизнаке и Маниферро засмеялись; Реполидо, порешив, что те над ним издеваются, страшно рассвирепел и произнес с выражением крайнего гнева в голосе:
— Тот, кто станет хихикать или вздумает хихикать по поводу слов, которые мы с Кариартой сказали или еще скажем друг другу, тот подлец и будет, как я уже раньше сказал, подлецом всякий раз, как хихикнет или только вздумает хихикнуть!
Косой и скверный взгляд, которым обменялись Чикизнаке и Маниферро, дал понять Мониподьо, что если он не вмешается, то дело кончится очень плохо, а поэтому он тотчас же стал между ними и сказал:
— Кабальеро, довольно, и никаких страшных слов! Прикусите язык, а так как только что сказанные слова к вам не относятся, то нечего вам принимать их на свой счет.
— Мы и сами вполне уверены в том, — ответил Чикизнаке, — что нам таких рацей никогда не читали и читать не будут, а если кто заберет себе в голову, что читали, так есть у нас в руках такой бубен, что будет чем поиграть!
— И у нас тоже при себе бубен имеется, сеньор Чикизнаке, — возразил Реполидо, — а если понадобится, так и звоночками позвонить сумеем. Я сказал: тот, кто будет надо мной потешаться, — подлец, а если он думает иначе, так, пожалуйста, выйдем отсюда вместе… мужчина сумеет постоять за свое слово, даже если шпага у него короче на целую четверть…
С этими словами Реполидо пошел было к выходной двери. Когда Кариарта, слышавшая все происходившее, поняла, что Реполидо разозлился и уходит, она вышла из комнаты и сказала:
— Не пускайте, держите его, а то он себя покажет! Разве вы не видите, что он рассердился, а уж он такой вояка, что Иуде Макарелу под стать[340]. Вернись сюда, вояка мой всесветный, отрада моих очей!
И, подскочив к Реполидо, она с силою схватила его за плащ; подоспел Мониподьо, и вдвоем они удержали уходившего. Чикизнаке и Маниферро не знали, сердиться им или нет; они сохраняли спокойствие, выжидая, что сделает Реполидо; а тот, поддавшись уговорам Кариарты и Мониподьо, вернулся назад и сказал:
— Друзья никогда не должны сердить своих друзей и смеяться над друзьями, в особенности же тогда, когда они видят, что друзья их сердятся.
— Здесь нет такого друга, — ответил Маниферро, — который хотел бы сердить или высмеивать своего друга, а поскольку мы все друзья, то и пожмем друг другу руки как друзья.
На это Мониподьо, с своей стороны, добавил:
— Все вы, государи мои, говорили сейчас как добрые друзья, а если вы такие друзья, то должны дать друг другу руки как друзья.
Все тотчас это исполнили, а Эскаланта сняла с ноги чапин и начала бить в него, как в бубен; Ганансьоса схватила случайно попавшуюся ей новую пальмовую метлу, и от частых ударов руки по листьям у нее получился глухой и резкий звук, вполне подходивший к звуку чапина. Мониподьо разбил тарелку, сделал себе два черепка, и они быстро-быстро застрекотали у него в пальцах, попадая в такт чапину и метле.
Ринконете и Кортадильо страшно удивились столь неожиданному применению метлы, ибо до сих пор ни разу еще не видели ничего подобного. Маниферро заметил их удивление и сказал:
— Вас удивляет метла? Что же, есть чему подивиться: ведь до такой легкой, удобной и дешевой музыки еще никто в мире не додумался! Честное слово, я недавно слышал от одного студента, что ни Негрофей, который вывел из ада Араус, ни Марион[341], севший на дельфина и прикативший на берег так, словно ехал верхом на наемном муле, ни тот великий музыкант[342], который основал город в сто ворот и столько же калиток, не в силах были додуматься до такой замечательной музыки, чтобы было не трудно научиться, удобно играть и чтобы не требовалось ни ладов, ни колков, ни струн и, само собой разумеется, настройки, а ведь, ей-богу, люди говорят, что изобрел его один кавалер нашего города, который хочет сойти за Гектора по музыкальной части.
— Охотно этому верю, — ответил Реполидо. — Однако послушаем, что нам споют сейчас наши музыканты. Ганансьоса, кажется, сплюнула, а это значит, что она собирается петь.
Так оно и было на самом деле, потому что Мониподьо попросил Ганансьосу спеть несколько сегидилий, которые тогда вошли в моду; однако первой начала Эскаланта, которая высоким переливчатым голосом запела следующее:
Из-за севильянца, рыжего, как бритт,
У меня все сердце пламенем горит.
Ганансьоса подхватила:
А из-за брюнета да зеленой масти
Всякая красотка пропадет от страсти.
Затем Мониподьо стал еще быстрее перебирать своими черепками и продолжал:
Милые бранятся, примирятся вновь;
Чем свирепей склока, тем сильней любовь.
Кариарта не захотела обойти молчанием своей собственной радости, а потому тоже схватила чапин и пустилась в пляс, подпевая:
Не дерись, сердитый, положи-ка плеть,
Сам себя ты хлещешь, если посмотреть.
— Пойте попроще, — сказал в это время Реполидо, — и не поминайте старого, потому что нужды в этом нет никакой; старое уже миновало, перейдем на новую дорожку, да и все тут!
Певцы не скоро бы еще окончили пение, если бы вдруг не послышались частые удары в дверь. Мониподьо поспешно вышел посмотреть, кто там; то был часовой, доложивший, что в конце улицы показался алькальд в сопровождении Тордильо и Серникало — полицейских, соблюдавших нейтралитет. Когда оставшиеся во дворе услышали, в чем дело, то так перепугались, что Кариарта и Эскаланта перепутали свои чапины, Ганансьоса бросила метлу, Мониподьо — черепки, и музыка сменилась тревожным молчанием. Чикизнаке онемел, Реполидо остолбенел, Маниферро замер, и все — кто направо, кто налево — стали забираться на плоские накаты и на крыши, чтобы удрать и выбраться на другую улицу. Неожиданный выстрел из аркебузы или внезапный удар грома не мог бы с большей силой испугать стаю беспечных голубей, чем была испугана и встревожена теплая компания всех этих добрых людей вестью о приближении полицейского алькальда. Оба новичка, Ринконете и Кортадильо, не зная, что делать, остались на месте и ожидали конца этой внезапной бури. Закончилась она появлением часового, сообщившего, что алькальд проследовал дальше, ясно показав, что ничто не вызвало в нем ни малейшего подозрения.
В то время как часовой докладывал обо всем Мониподьо, к дверям приблизился молодой человек, судя по одежде один из так называемых «лоботрясов»; Мониподьо пропустил его в дом и, велев позвать Чикизнаке, Маниферро и Реполидо, остальным приказал не показываться. Так как Ринконете и Кортадильо стояли по-прежнему на дворе, они прослушали весь разговор между Мониподьо и пришедшим гостем, жаловавшимся на небрежное выполнение его просьбы. Мониподьо ответил, что сам ничего не может сказать по этому делу, но что мастер, которому был поручен заказ, — налицо и представит подробный отчет. В это время показался Чикизнаке, и Мониподьо справился у него, покончено ли с заказанной ему раной в четырнадцать стежков.
— Какой раной? — переспросил Чикизнаке. — Не тому ли купцу, что живет на перекрестке?
— Да, да, ему, — подтвердил кабальеро.
— Дело обстоит следующим образом, — отвечал Чикизнаке. — Вчера вечером я поджидал купца у дверей его дома; он пришел еще до молитвы. Подхожу, прикинул глазом лицо, и оказалось, что оно очень маленькое; совершенно невозможно было уместить рану в четырнадцать стежков; и вот, будучи не в состоянии сдержать свое обещание и выполнить данную мне
— Ваша милость, вероятно, хотели сказать инструкцию, — поправил кабальеро.
— Совершенно верно, — согласился Чикизнаке. — Увидев, что на таком непоместительном и крошечном личике никак не уложить намеченное число стежков, не желая терять время даром, я нанес одному из слуг этого купца такую рану, что, по совести сказать, первый сорт!
— Семь стежков раны хозяина, — сказал кабальеро, — я всегда предпочту четырнадцатистежковой ране его слуги. Одним словом, вы не сделали того, что было нужно; впрочем, что тут разговаривать: не такой уж большой расход те тридцать эскудо, которые я вам дал в задаток. Имею честь кланяться, государи мои!
С этими словами кабальеро снял шляпу, повернулся и собрался было уходить, но Мониподьо захватил рукою его пестрый плащ и сказал:
— Не угодно ли будет вашей милости подождать и сдержать свое слово, так же как мы вполне честно и с большой для вас пользой сдержали наше. С вас следует еще двадцать дукатов, и вы не уйдете отсюда, не представив денег или соответствующего залога.
— Так это, по-вашему, сеньор, называется исполнением обещанного, — спросил кабальеро, — ранить слугу, вместо того чтобы ранить хозяина?!
— Нечего сказать, хорошо рассуждаете, сударь! — воскликнул Чикизнаке. — Видно, что вы забыли пословицу: «Кто Бельтрана любит, тот и Бельтранова пса приголубит».
— Но при чем тут эта пословица? — спросил кабальеро.
— Да ведь это почти то же самое, — пояснил Чикизнаке, — что сказать: «Кто Бельтрана не любит, тот и Бельтранова пса не приголубит». Так что Бельтран — это купец; ваша милость — лицо, которое его не любит; слуга купца — это его пес, а когда попадает псу, попадает и Бельтрану; следовательно, обещание наше исполнено и дело кончено; поэтому вам не остается ничего другого, как немедленно и без всяких рассуждений платить.
— Что я и подтверждаю, — прибавил Мониподьо, — все, что вы сейчас сказали, друг Чикизнаке, вертелось у меня на языке. Сеньор кабальеро, нечего вам препираться с вашими слугами и друзьями, последуйте лучше моему совету и немедленно же оплатите работу; а если вам угодно, чтобы хозяину была нанесена другая рана, величиной своей соответствующая размерам его лица, так можете считать, что он уже от нее лечится!
— Если так, — ответил кабальеро, — то я с превеликой охотой и удовольствием уплачу вам за обе раны полностью.
— Сомневаться в этом деле так же странно, как сомневаться в том, что вы христианин, — сказал Мониподьо. — Чикизнаке пропишет вашему купцу такую рану, что, чего доброго, подумаешь, будто она у него природная.
— Имея такую поруку и обещание, — ответил кабальеро, — я оставлю вам эту цепь в виде залога за причитающиеся с меня двадцать дукатов и за те сорок монет, которые я предлагаю за новую рану. Цепь стоит тысячу реалов, но возможно, что я ее вам отдам целиком; мне, пожалуй, очень скоро потребуется еще одна рана в четырнадцать стежков.
При этих словах кабальеро снял с шеи цепь из очень мелких колечек и вручил ее Мониподьо, который по цвету и по весу ясно увидел, что она не поддельная. Мониподьо принял цепь с большим удовольствием и большою любезностью, потому что был человеком весьма и весьма обходительным. Исполнение заказа было поручено Чикизнаке, который взялся покончить с делом в ту же самую ночь. Кабальеро ушел очень довольный, а Мониподьо тотчас же созвал отсутствующих и перетрусивших своих сочленов. Когда все собрались, Мониподьо, расставив их в кружок, вынул из капюшона плаща памятную книжку и передал ее Ринконете, так как сам был неграмотный. Ринконете открыл книжку и на первой странице прочитал следующее:
«Во-первых, купцу, живущему на перекрестке. Цена — пятьдесят эскудо. Тридцать получены сполна. Исполнитель — Чикизнаке».
— Мне кажется, сыне, что ран больше нет, — сказал Мониподьо, — читай дальше и ищи место, где написано:
Ринконете перелистал книгу и увидел, что на следующей странице значилось:
«Трактирщику с площади Альфальфы двенадцать основательных ударов, по эскудо за каждый. Восемь оплачены сполна. Срок исполнения — шесть дней. Исполнитель — Маниферро».
— Этот пункт можно свободно вычеркнуть, — сказал Маниферро, — потому что сегодня ночью я с ним покончу.
— Есть еще что-нибудь, сыне? — спросил Мониподьо.
— Да, — ответил Ринконете, — есть еще запись, гласящая: «Горбатому портному, по имени Сильгеро, шесть основательных ударов согласно просьбе дамы, оставившей в залог ожерелье. Исполнитель — Десмочадо».
— Удивляюсь, — заметил Мониподьо, — почему заказ до сих пор не выполнен. Десмочадо, должно быть, болен, так как прошло два дня сверх положенного срока, а он все еще не приступил к делу.
— Я вчера встретился с Десмочадо, который сказал, что не мог исполнить данного ему поручения, так как горбун по болезни не выходил из дому, — пояснил Маниферро.
— Охотно этому верю, — сказал Мониподьо, — так как считаю Десмочадо отличным работником, и, если бы не это вполне понятное затруднение, он прекрасно управился бы с самым трудным делом… Есть еще что-нибудь, мальчуган?
— Нет, сеньор, — ответил Ринконете.
— Тогда читай дальше, — сказал Мониподьо, — и посмотри, где находится
Ринконете, полистав книжку, нашел на одной из страниц следующее:
«Запись мелких оскорблений, как-то: обливание из горшка, смазывание древесной смолой, прикрепление к воротам рогов или санбенито[343], осмеяние, пугание, подготовка скандалов, мнимые покушения, распространение пасквилей и т. п.».
— А что дальше? — спросил Мониподьо.
— Дальше написано, — прочел Ринконете, — «Вымазать смолой дом…»
— Какой дом, читать не надо; я отлично знаю, где этот дом, — ответил Мониподьо, — я же и исполнитель этой безделки, за которую внесен один эскудо, а всего за нее следует восемь.
— Правильно, — сказал Ринконете, — здесь так и написано; а еще ниже стоит: «Прибить рога…»
— Дома и адреса читать тоже не надо, сказал Мониподьо, — достаточно того, что наносится оскорбление, а разглашать его публично не следует, иначе мы возьмем грех на свою душу. Я, во всяком случае, предпочту прибить сто рогов и столько же санбенито (конечно, получив за работу деньги), чем рассказать об этом один-единственный раз, хотя бы даже своей родной матери.
— Исполнителем назначен, — продолжал Ринконете, — Наригета.
— Дело это уже сделано, и деньги получены, — сказал Мониподьо. — Посмотри, нет ли еще чего; если я не ошибаюсь, там должен быть заказ «напугать», ценою в двадцать эскудо, — половина уплачена; в затее этой участвует все братство, времени дается весь этот месяц; поручение должно быть исполнено на славу и так, чтобы каждая запятая была на своем месте; это будет такая тонкая штука, каких наш город с самых давних пор и по сие время не видывал. Подай сюда книгу, мальчик; я знаю, что там ничего больше нет; знаю я также, что наши дела идут неважно, но недалек тот день, когда у нас работы будет больше, чем мы пожелаем; однако без соизволения божия даже лист не шелохнется на дереве, а потому нам самим никоим образом не следует подбивать людей на мщение, тем более что каждый человек в делах, касающихся его лично, обычно бывает храбр и не хочет платить за работу, которую он может сделать своими руками.
— Правильно, — заметил в ответ Реполидо. — Но скажите, сеньор Мониподьо, какой нам от вас будет приказ: солнце уже высоко, и жара, можно сказать, не шагом плетется.
— Остается распорядиться, — ответил Мониподьо, — чтобы все оставались на прежних местах и не покидали их до воскресенья, когда мы снова соберемся на этом месте и, никого не обижая, разделим все, что у нас наберется. Ринконете и Кортадильо Доброму мы назначим до воскресенья участок, начиная от Золотой Башни по всей заречной части, вплоть до калитки Алькасара, где они смогут заседать и «дергать картишками»; мне известно, что ребята, менее шустрые, чем они, с одной колодой, в которой не хватало к тому же четырех карт, ежедневно выручали свыше двадцати реалов мелочью, не считая серебра. Участок вам покажет Ганчосо, а если вы прихватите еще монастырь святого Себастьяна и храм святого Эльма, то и это ничего, хотя, собственно, никто не должен залезать в чужие владения.
Оба мальчика поцеловали начальнику руку за оказанную милость и обещали исполнять свою работу точно, честно, старательно и осторожно.
Между тем Мониподьо вынул из капюшона плаща сложенную бумагу, на которой были записаны все члены братства, и велел Ринконете внести туда свое имя вместе с именем своего товарища. Но так как чернильницы не оказалось, то Мониподьо отдал бумагу мальчику и велел ему в первой же аптеке вписать туда следующее: «Ринконете и Кортадильо, сочлены; послушничество — не нужно; Ринконете — картежник; Кортадильо — ученик», — а затем поставить год, месяц, число, без указания родителей и родины.
Тут вошел один из двух старых наводчиков и сказал:
— Я пришел сообщить, государи мои, что сегодня у соборной паперти я повстречал Ловильо де Малага, доложившего мне, что он сильно преуспел в своем искусстве и некраплеными картами сможет обыграть самого Сатану; его, видимо, где-то помяли,
Неизвестный испанский художник XV в. Саламанка.1946 г.
Шахматы
Гравюра на дереве
вследствие чего он не явился нынче на поверку и отступил от заведенного порядка, но в воскресенье он явится сюда во что бы то ни стало.
— Мне всегда казалось, — заметил Мониподьо, — что наш Ловильо станет большим докой по своей части, так как у него столь подходящие руки, что лучше не сыщешь, а для того чтобы быть мастером своего дела, хорошие инструменты так же важны, как и природная смекалка, которая помогает усвоить самое искусство.
— В гостинице, что на улице Красильщиков, — прибавил старик, — я повстречал, кроме того, нашего Иудея, переодевшегося в духовное платье. Он поселился там после того, как его известили, что в доме проживают два перуанца[344], которых он решил втянуть в игру, сначала по маленькой, а потом, если можно будет, и по большой. Он сказал еще, что не пропустит воскресного собрания и представит отчет о работе.
— Этот Иудей — тоже тонкая штучка и крупного ума человек. Давненько он ко мне не показывался, и это с его стороны нехорошо. Если он не исправится, я, ей-ей, намылю ему тонзуру, ибо такой же у него священный сан, как и у турецкого султана, а в латыни он смыслит не больше моей родной матери… Есть еще что-нибудь новое?
— Нет, — ответил старик, — по крайней мере, мне ничего не известно.
— Ну, тогда в час добрый! — сказал Мониподьо. — Не угодно ли будет вашим милостям принять эти пустяки? — Тут Мониподьо разделил между присутствующими около сорока реалов. — А в воскресенье все должны быть налицо, потому что добыча поступит к нам полностью!
Все поблагодарили. Реполидо с Кариартой, Эскаланта с Маниферро и Ганансьоса с Чикизнаке еще разок крепко обнялись и условились, что сегодня ночью, после окончания урочных работ, все сойдутся в доме Пипоты (куда для принятия бельевой корзины хотел сходить и Мониподьо), откуда они отправятся выполнять заказ, касавшийся смолы. Мониподьо обнял и благословил Ринконете и Кортадильо, строго-настрого наказав им при прощании во имя общего блага никогда не иметь определенного и постоянного логова. Ганчуэло отправился вместе с ними, чтобы показать отведенные им места, и посоветовал ни в коем случае не пропускать воскресенья, потому что, по его предположениям и домыслам, Мониподьо собирался в этот день прочесть основательную лекцию, касающуюся их ремесла. На этом он с ними простился, а оба приятеля остались в глубоком изумлении от всего ими виденного.
Несмотря на свои юные годы, Ринконете был очень неглуп и обладал некоторыми способностями; к тому же, помогая отцу продавать буллы, он несколько освоился с правильной речью, — вот почему наш юнец помирал со смеху, припоминая выражения, слышанные им в обществе Мониподьо и других сочленов богоспасаемого братства, особенно же такие, как:
Дело было в Мадриде, младшей столице-наследнице[346], которая отделилась от императорского Толедо, просватавшего ее и давшего ей в супруги одного за другим четырех величайших монархов мира — Карла V и трех Филиппов, — и ныне, став самостоятельной, выказывает куда меньше учтивости и покорности, чем должно, ибо, нарушая четвертую заповедь, похищает у нее каждодневно не только жителей, но и власть отца, что столь достоин почтения. Там-то проживали в недавние времена три пригожие, разумные женщины: первая была замужем за казначеем богатого банкира, причем служба отнимала у ее супруга все время, и он приходил домой лишь в полдень, чтобы пообедать, и на ночь, чтобы поспать; муж второй был весьма известный художник, которому слава его кисти доставила работу в одном из самых знаменитых монастырей столицы, и он, расписывая там алтарь, трудился уже месяц с лишком, бывая дома не чаще, чем первый супруг, ибо праздники, когда он волей-неволей делал передышку, уходили на то, чтобы рассеять меланхолию, в которую сосредоточенность, требуемая ремеслом, обычно погружает живописцев; третья из женщин страдала от ревности и преклонных лет своего благоверного, которому перевалило за пятьдесят и у которого не было иного занятия, как терзать ни в чем не повинную бедняжку, а существовали они на изрядный доход с двух домов, стоявших в хорошем месте и приносивших достаточно, чтобы при усердии хлопотуньи хозяйки жить не хуже людей.
Все три женщины были подругами, ибо прежде жили в одном доме, и дружбе этой не мешало, что теперь их дома находились в разных концах города; мужья, следственно, тоже дружили меж собою, так что нередко две женщины заявляли своим владыкам, что идут проведать жену ревнивца; эта бедняжка не смела без мужа ступить за порог и не могла нанести ответный визит, а на праздничные гулянья, в театр или на турниры и игру в арголью[347] ходила только с мужем[348].
Однажды собрались три подружки в доме ревнивца, и жена его стала жаловаться на горькую свою жизнь, на грубые придирки мужа, на ссоры, что бывали у них всякий раз, когда она ходила к мессе, — хоть и на заре и вместе с ним самим, муж ревновал ее даже к кружевам мантильи за то, что касаются ее лица, — а подруги, сочувствуя страдалице, утешали ее. Затем явились мужья; все шестеро сели полдничать и за столом решили, что в день святого Власия — а оставалось до него немного — выйдут на рассвете из дому, чтобы поглядеть на короля, который, говорили, намерен после полудня отправиться в храм Богоматери[349] в Аточе, а как на тот же день приходился кумов четверг[350], то надумали они захватить с собой съестного, чтобы в соседней роще должным образом отметить и этот праздник, который в календаре хоть и не обозначен, но справляется, пожалуй, пышнее пасхи. И немало труда стоило подружкам добиться от глупого ревнивца дозволения, чтобы его жена тоже повеселилась с ними.
Пришел этот день, все славно закусили, потом подруги, усевшись на приятно пригревавшем солнышке, снова слушали бесконечные сетования бедной неудачницы[351], а мужья их тем временем катали шары в другом месте рощи. Вдруг женщины приметили, что неподалеку в кучке мусора что-то блестит, и жена ревнивца сказала:
— Милостивый боже! Что это там сверкает так ярко? Другие две посмотрели в ту сторону, и жена казначея сказала:
— Возможно, это драгоценность, которую потеряла какая-нибудь из дам, что собираются здесь, в роще, в такие дни.
Жена художника подошла поближе, пригляделась и вытащила из мусора перстень с чудесным бриллиантом, ограненным так искусно, что, играя в солнечных лучах, он сам сиял, как солнце. У трех подруг глаза разгорелись от жадности, — ценная находка сулила немалые деньги, — и каждая стала заявлять свои права, утверждая, что по справедливости перстень принадлежит только ей. Первая говорила, что она первая заметила, а потому у нее больше прав владеть им, нежели у остальных двух; вторая утверждала, что именно она угадала, что это сверкает, и потому несправедливо отнимать у нее перстень; третья же возражала подругам, что, поскольку она достала перстень из кучи мусора и на деле доказала то, о чем они лишь строили догадки, ей одной следует владеть перстнем, ибо она больше всех потрудилась.
Спор становился все жарче, и, услышь его мужья, дело, возможно, дошло бы до драки — каждый стал бы отстаивать права своей жены, — но тут жена художника, самая разумная из трех, сказала:
— Послушайте меня, подруги, камешек этот так мал, ценность он представляет, лишь пока цел, а значит, делить его бессмысленно. Самое верное — продать и деньги разделить меж нами тремя, прежде чем мужья о нем проведают, — не то они отнимут законную нашу прибыль или же перессорятся, чтобы владеть перстнем единолично, и он станет яблоком раздора. Но разве кто из нас сможет надежно его сохранить, так чтобы остальным не в обиду было и чтобы мы могли доверять той, которая считает себя единственной полноправной владелицей этой вещицы? Глядите, вон там прогуливается с друзьями граф, мой сосед. Отзовем его в сторону, расскажем о нашем споре и, попросив быть нам судьей, подчинимся его приговору.
— Я согласна, — сказала казначейша, — графа я знаю, человек он разумный, и я уверена, что в этой тяжбе он подтвердит мое право.
— И я не против, — сказала неудачница. — Но как я могу осмелиться заговорить с ним о своем деле на виду у моего ревнивого старика? Граф молод, муж наверняка приревнует, а там и кулаки пойдут в ход.
Так спорили три подруги и все не могли прийти к согласию, как вдруг пронесся слух, что король уже прошел в ворота, и мужья вместе с толпой побежали туда поглазеть. Воспользовавшись случаем, женщины подозвали графа и изложили свою распрю, прося вынести решение до того, как мужья возвратятся и ревнивец будет иметь повод устроить дома жене взбучку. Тут же они вручили графу перстень, чтобы он сам отдал его той, которая, по его мнению, более достойна им владеть.
Граф был человеком тонкого ума и, хотя срок ему дали краткий, сразу ответил:
— На мой взгляд, сеньоры, ни одна из вас не обладает в этом споре столь несомненными правами, чтобы я мог решить его в ее пользу и отрицать права двух других. Однако, раз уж вы доверились мне, я решаю и постановляю, чтобы каждая из вас в течение полутора месяцев сыграла шутку со своим мужем, — разумеется, не в ущерб его чести; той, что выкажет больше изобретательности, мы и отдадим бриллиант, да я еще прибавлю от себя пятьдесят эскудо, а хранителем его покамест буду я. Но вот уже идут ваши благоверные, итак, за дело, а пока прощайте.
Граф ушел. Его благородство было залогом, что перстень в надежных руках, а корыстолюбие подруг убедило их исполнить приговор. Явились мужья. Короткий день близился к концу, солнце уходило на покой, так же поступили и три четы, причем каждая из подруг-спорщиц перебирала в уме всю библиотеку своих плутней, выбирая самую удачную, которая сделает ее победительницей в хитрости и владелицей злополучного бриллианта.
Жадность — столь сильная у женщин, что первая из них ради одного яблока загубила самое драгоценное свойство нашего естества, — не давала покоя жене алчного казначея: добыв через перегонный куб своего коварства квинтэссенцию всевозможных проделок, она сыграла с супругом следующую шутку.
По соседству от них проживал астролог, великий мастер узнавать по числам, что творится в чужих домах, меж тем как в его собственном, пока он сверялся с таблицами, жена его творила новые души, которые, подрастая на его хлебах, звали его «папашей». Сам же астролог питал к жене соседа своего казначея большой интерес и надежды не слишком скромные, хоть и скрытые, стать его помощником в делах супружеских. Хитрая казначейша знала о видах астролога; хотя честью своей она дорожила не меньше, чем престарелый воздыхатель — своей, и до сих пор отвергала его просьбы, но в нынешних обстоятельствах решила воспользоваться случаем и прибегнуть к его науке. Притворившись более покладистой, чем прежде, она сказала астрологу, что для забавной шутки, которою ей хочется повеселить друзей на карнавале, она просит убедить мужа, что тому предстоит через сутки проститься с жизнью и дать отчет богу в том, как дурно он ее прожил. Астролог обещал это сделать, радуясь, что угодит даме, и не стал расспрашивать, зачем ей это нужно. Потом она позвала доброго художника и глупого ревнивца и научила их, как они должны себя вести, чтобы придать вес нелепому предсказанию; их она тоже убедила, что шутка затеяна лишь для того, чтобы повеселиться, как положено в праздничные дни. Астролог же постарался встретить ничего не подозревавшего казначея, когда тот, устав оплачивать векселя, направлялся домой спать.
— Что вы так бледны, сосед? — сказал астролог. — Не хворость ли какая к вам привязалась?
— Благодарение богу, — отвечал тот, — если не говорить о досаде, какую я испытываю из-за того, что нынче пришлось выплатить более шести тысяч реалов в звонкой монете, я в жизни не чувствовал себя лучше!
— Цвет лица вашего, однако, не подтверждает такого радужного настроения, — возразил астролог. — Дайте-ка пощупать ваш пульс.
С тревогой подал ему руку недоумевающий сосед. А хитрый обманщик удивленно округлил брови и с дружеским участием сказал:
— Любезный сосед, когда бы изучение движения небесных светил не принесло мне иных плодов, кроме возможности нынче предостеречь вас о грозящей вам опасности, я считаю, что не зря трудился. Для таких дел и существуют друзья. Не был бы я вашим другом, когда б не предупредил о том, что вас ждет и что менее всего тревожит сейчас ваш ум. Распорядитесь поскорей имуществом вашим и домом или, что еще существенней, душой вашей. Ибо я говорю вам, и это несомненно, что завтра в этот же час вам придется изведать в ином мире, сколь в этом важнее было для вас потратить время на приведение в порядок счетов вашей совести, чем счетных книг вашего хозяина.
С испугом и насмешкою вместе бедный скряга ответил:
— Ежели это предсказание сбудется так же, как то, что вы сделали в прошлом году, — а тогда все получилось как раз наоборот, — значит, меня ожидает жизнь еще более долгая, чем я предполагал.
— Ну что ж, — возразил астролог, — я исполнил долг христианина и друга. Поступайте так, как вам заблагорассудится, а я, по крайней мере, знаю, что в мире ином вы не сможете подать на меня жалобу за то, что я не предупредил вас, хотя мог это сделать.
И, не слушая ответа, зашагал по улице прочь. Охваченный тревогой и сомнением, направился бедняга казначей к своему дому, щупая себе на ходу пульс и разные места тела, в которых мог ожидать приступа внезапного и смертельного недуга. Но все как будто было в должном порядке, а доверие к прорицателю он питал не слишком большое; поэтому, войдя в дом, он жене ничего не сказал, чтоб ее не огорчать, и попросил дать ему ужин; просьбу она тотчас исполнила, догадавшись по его поведению, что начало ее хитрому замыслу положено. Казначей поел немного и без охоты, велел приготовить постель и стал раздеваться, то и дело вздыхая. Прикинувшись любящей и заботливой, алчная бабенка спросила, что с ним, и казначей солгал, что у него-де были неприятности с банкиром, оттого он огорчен. Жена принялась утешать его всякими нежными словами. Затем они легли, но спал муж еще меньше, чем ел, и, хотя оба притворялись спящими, жена заметила, что все складывается как нельзя лучше для исполнения ее видов. Поднялся казначей раньше обычного, лицо его было бледно. Как всегда, отправился он на свою службу; дел в этот день оказалось у него так много, что сходить пообедать домой он не успел, и ему пришлось обедать вместе со своим хозяином-генуэзцем.
Вечером, когда он возвращался домой, на углу улицы, по которой он всегда проходил, его поджидали священник их прихода и другое духовное лицо с двумя-тремя знакомыми; всех их, по наущению казначейши, подговорил художник, сказав, чтобы они, когда казначей будет проходить мимо, сделали вид, будто его не замечают, и завели следующий разговор, так, чтобы он мог их слышать.
— Какая горестная кончина постигла несчастного нашего Лукаса Морено! — сказал священник[352], называя имя казначея.
— И правда, горестная, — отозвался второй священник. — Ни причаститься не успел, ни приготовиться, как должно христианину, и вот этим утром его нашли в постели мертвого, и жена, горячо его любившая, так горюет, что, того и гляди, составит ему компанию!
— А хуже всего то, — сказал третий из кружка, — что астролог, сосед его, уверяет, будто вчера его предупреждал, а он-де над предсказанием посмеялся и, так и не выпутавшись из тенет, в которых увязли все люди подобного ремесла, помер, как скотина.
— Да смилуется господь над его душою! — заметил четвертый. — Вот кому можно посочувствовать! Вдова-то осталась с приданым, что муж наживал, — возможно, нечестным путем, — и теперь вполне может второй раз выйти замуж. Но пойдемте, друзья, спать — холодно становится.
Бедный Лукас Морено кинулся было к ним — узнать, не умер ли в этот день какой-нибудь его тезка. Но они нарочно побыстрей распрощались и разошлись кто куда, а казначей так и остался в смятении, которое вы легко вообразите. Неуверенным шагом поплелся он дальше и на ближайшем к своему дому перекрестке увидал астролога, беседующего с художником. Заметив казначея, астролог сказал, будто продолжая разговор о его кончине:
— Не пожелал, видите ли, мне верить, когда я намедни сказал ему, что через сутки он умрет! Невежды смеются над столь точной наукой, как астрология! А вот глядите, что с ним произошло. В этот час он, я знаю, горько кается, что не поверил мне!
Художник ответил:
— Да, бедняга Лукас Морено был изрядным упрямцем, да и обжорой, кстати. Небось объелся генуэзскими копченостями, и хватила его кондрашка. Да вознесет господь душу его на небеса и утешит скорбящую вдову! Хорошего друга потеряли мы с вами!
Тут уж перепуганный казначей не мог выдержать и, подойдя к ним, сказал:
— Что это значит, сеньоры? Кто это похоронил меня заживо или, приняв мой облик, умер вместо меня? Я-то, слава богу, жив-здоров!
Оба кинулись прочь, притворяясь, будто ужасно испугались, и выкрикивая:
— Иисусе праведный! Иисусе, спаси меня и помилуй! Душа Лукаса Морено бродит неприкаянная! Видно, требует, чтобы употребили на добрые дела его достояние, грехом приобретенное! Заклинаю тебя господом богом, не гонись за мной, но скажи с того места, где стоишь, чего ты хочешь!
И убежали от казначея, а он готов был поколотить их, чтобы узнать правду, — такая вопиющая ложь привела его в ярость.
Не чуя под собою ног, с замирающим сердцем, он подошел к своему дому и увидел ревнивца, — тот, делая вид, будто только что вышел из дома, ждал его, чтобы окончательно свести с ума. Ревнивец сделал шаг ему навстречу, но, поравнявшись, попятился, стал творить крестное знамение да приговаривать:
— Блаженные души чистилища! Не то это призрак, не то покойный Лукас Морено?
— Я Лукас Морено! Только не тот, дружище Сантильяна, — сказал пораженный казначей. — Чего вы креститесь? Скажите на милость, когда это я умер, что вы так переполошились?
И схватил ревнивца за плащ, чтобы он не убежал. Но тот, оставив плащ в руке казначея, вырвался и с криком бросился наутек, крестясь и бормоча:
— Чур меня, нечистый дух! Я Лукасу Морено ничего не должен, кроме шести реалов, что он выиграл у меня как-то в кегли! Quod non penitur non solvitur![353]. Ежели за ними ты пришел, возьми и продай этот плащ, а я никаких счетов с покойниками иметь не желаю!
С такими словами он скрылся из виду, а наш Морено так и застыл на месте — еще немного, и он бы упал без чувств.
— Конечно! Чего тут еще сомневаться! Видно, я и впрямь умер! — повторял он про себя. — Видно, бог послал меня в этот мир в облике духа, чтобы я распорядился своим имуществом и составил завещание! И все-таки, боже милостивый, как же это приключилось? Если я скончался скоропостижно, почему в смертный свой час я не видел дьявола, и никто не позвал меня на суд, и я не могу слова сказать о другом мире? Если же я — душа, а тело мое осталось в гробу, то почему я одет, почему я вижу, слышу, пользуюсь всеми пятью чувствами? А может, я воскрес? Но тогда я должен был увидеть или услышать ангела, повелевшего мне именем бога воскреснуть? Впрочем, откуда мне знать, какие порядки в мире ином? Может статься, у них там не принято разговаривать с писцами, и когда меня снова облекли в прежнюю мою плоть, — мое же ремесло перышком скрипеть, — они погнушались беседовать с кем-то из нашего чернильного племени. Одно понимаю — все от меня бегут и считают, что я умер, даже лучшие друзья, а потому это, наверно, правда. Но опять же, говорят, что смертный час — самый горький, и как это я мог ничего не почувствовать и ничто у меня не болело? Должно быть, внезапная смерть в одну дверь входит, в другую выходит, так что боль даже не успевает сделать свое дело. Однако… Что, если это шутка моих друзей? Пора нынче самая подходящая, и я заметил, что никто из тех, кого я встречал на улицах, не пугался меня, кроме них. Боже правый, неужто я так легко избавлюсь от смерти!
Поглощенный этими безумными мыслями, он подошел к дому, увидел, что дверь заперта, и принялся громко стучать. Ночь стояла холодная, темная; плутовка-жена уже была извещена о всех встречах мужа и должным образом подготовилась. В доме находилась только одна служанка — двух других слуг казначейша послала с выдуманным поручением куда-то за две лиги. Прислуга была хитрая девка, не плоше госпожи; услыхав стук, она окликнула жалобным голосом:
— Кто там?
— Открой, Касильда, это я, — отвечал живой покойник.
— Кто стучится, — продолжала девушка, — в такой час в наш дом, где проживают лишь отчаяние и вдовство?
— Перестань, дуреха, — сказал казначей, — я твой хозяин. Ты что, меня не знаешь? Отвори — идет дождь, и холод стоит такой, что невозможно терпеть.
— Мой хозяин? — переспросила девушка. — О, если бы господу это было угодно! Бедняга уже гниет в земле! Он в тех местах, где его за умение считать назначили, верно, главным казначеем преисподней, — там-то все счета оплачиваются наличными, — ежели только бог не смилостивился над его душой!
Этого бедняга уж не мог стерпеть — столько доказательств его смерти совсем свели- его с ума. Он ударил ногой в дверь, которая, не дожидаясь второго толчка, распахнулась, служанка убежала в дом, крича так же, как и прочие, кого он встречал. На крик вышла жена в одежде скорбной вдовы, изображая на лице испуг. При виде мужа она упала без чувств, простонав: «Иисусе, что я вижу!» Казначей от изумления едва не последовал ее примеру, — теперь он окончательно убедился, что мертв. И все же, тронутый таким проявлением любви, он взял жену на руки, отнес ее в спальню, раздел и уложил в постель; она, разумеется, все слышала, но прикидывалась полумертвой. Служанка же, давясь от смеха и испуская вопли ужаса, заперлась в соседней комнате. Несчастный покойник, не задумываясь, положено ли душам из иного мира принимать пищу, выдвинул ящик конторки и, достав коробку с мармеладом, добавил к нему бисквиты и генуэзский чернослив, которые протолкнул себе в глотку струею доброго вина из меха, после этого он решил, что жизнь на том свете не так уж горестна, раз блуждающие неприкаянные душ могут тешить себя столь живительными яствами. Словом, добрый наш Лукас Морено со всем усердием постарался подкрепить свое изнемогшее сердце наилучшим сердечным снадобьем; от перенесенных волнений он изрядно ослабел и притомился, а потому Ноев бальзам вскоре ударил ему в ноги и в голову, и он, очутившись в блаженных Бахусовых чертогах, кое-как разделся и повалился рядом с женой, которая все еще изображала обморок, борясь со смехом, рвавшимся из ее груди. От усталости и опьянения Лукас наконец захрапел: сон сразил его ударами винных мечей, ибо нет лучшего снотворного, чем то, что добывают в точиле. Проспал казначей до самого утра, и снились ему ад, чистилище и рай. Друзья-насмешники успели наведаться до его пробуждения; узнав от служанки обо всем происшедшем, они похвалили мертвеца за то, что он не поддался горю, по с помощью Бахусова изделия предпочел уснуть мертвецки пьяным.
Рано поутру хитрая казначейша проснулась и увидела, что муж еще спит; тогда она потихоньку встала, надела нарядное платье, а вдовий балахон и лицемерно траурную току велела унести из дому. С веселым лицом она подошла к постели и стала будить мнимого покойника:
— До каких пор намерен ты спать, муженек? Неужто винные пары, затуманившие тебе голову вчера вечером, еще не улетучились?
Она трясла его за руки, дергала за нос, и наконец он, отчаянно зевая, очнулся от сна. Увидав жену, празднично разодетую и улыбающуюся, — не в трауре, не плачущую, как было накануне, — он снова изумился и сказал:
— Полония, где я? Неужели ты тоже вслед за мной умерла и, верная любви, которую питала ко мне на земле и из-за которой ее покинула, явилась сюда, в иной мир, чтобы второй раз отпраздновать нашу свадьбу? Какая болезнь или другая причина побудила тебя расстаться с жизнью? Ибо, клянусь богом, — ежели в этой жизни дозволено божиться, — я-то сам не знаю, как умер и в какие края забросило меня провидение! Выходит, здесь есть кровати и комнаты? Здесь продаются вино и бисквиты? Какой возчик подвез меня к моей конторке? Ведь я вчера вечером взял оттуда вдоволь еды и вина, чтобы скрасить разлуку с тобой и одиночество, которое постигло меня в этих неведомых местах.
— Славные шуточки внушает тебе, муженек, карнавальный день! — отвечала хитрая насмешница. — Что за бредни? Полно шутить, подымайся — банкир уже два раза присылал за тобой.
— Стало быть, я не умер и меня вчера не похоронили? — спросил он.
— Скорее всего, — отвечала она, — ты намедни сам схоронил в себе душу нашего винного меха — он-то вон какой тощий стал, а ты чепуху городишь.
— Ежели можно похоронить душу, любимая моя Полония, — Сказал он, — признаюсь, что вчера вечером я воздал ей все почести; но ведь я сам уже был похоронен, я видел огорченного священника, горюющих друзей наших, плачущую Касильду и тебя в трауре.
— Да перестань же шутить, — возразила жена, — банкир зовет тебя к себе!
— Значит, и здесь они есть? — спросил он. — Да, видно, я иду не по пути спасения, раз мне велят явиться туда, где обитают векселя и проживают мошенники.
— Полно, не бранись, — сказала Полония, — лучше вставай-ка поскорей; послушать тебя, и впрямь подумаешь, что ты говоришь всерьез, а ведь все это сущая чепуха.
— Клянусь господом нашим, жена, — отвечал Лукас Морено, — уже сутки, как я умер, а вот сколько времени прошло с похорон, того я не знаю! Спроси у Касильды, у священника нашего прихода, у нашего друга художника, у Сантильяны-ревнивца, у соседа нашего астролога и, наконец, у себя самой, — вчера ты была вдовой в трауре, а нынче, полагаю, мертва, как и я; если память мне не изменяет, вчера вечером я принес тебя в постель без дыхания и без пульса, — должно быть, ужас при виде меня лишил тебя жизни, а как это случилось, ты не помнишь и потому, очутившись в загробном мире, все никак не можешь поверить.
— Что за глупости, муженек? — сказала она с притворной тревогой. — Разве вчера мы с тобой не легли спать, будучи живыми и здоровыми? Какие это похороны, покойники и загробные миры тебе мерещатся?.. Касильда, позови-ка сюда нашего соседа астролога, — он ведь заодно и лекарь, — пусть скажет, какая хворь напала на доброго моего Лукаса Морено; боюсь, что эти шлюхи, с которыми он якшается, совсем свели его с ума.
Ошеломленный муж не знал, что сказать, не понимал, безумен ли он, мертв или жив, и жена не могла доказать ему, что он — не привидение, вернувшееся на землю, чтобы распорядиться своим имуществом.
Меж тем явились оба помощника по шутке. Полония рассказала им, что с мужем, и они — не без улыбки — стали объяснять ему, что он не только находится в мире земном, но к тому же в Мадриде и у себя дома, а ежели будет упорствовать, то вполне может угодить в дом Нунция[354]. Явился наконец астролог, за которым посылали служанку, и определил, что казначей повредился в уме от своих конторских книг и расчетов; тогда тот, обрадовавшись, что жив, но рассердившись, что его считают сумасшедшим, сказал, обращаясь ко всем:
— Но ежели я воистину не мертв, что означали ваш ужас и заклятья ваши, с которыми вы вчера убежали от меня, сотворив тысячу крестных знамений, — целая процессия кающихся столько не накрестится?
— Вы вчера видели меня? — возразил астролог. — Но это невозможно. Вчера я день-деньской сидел, запершись в своем кабинете, делал вычисления, чтобы обнаружить похитителя драгоценного бриллианта.
— Я-то, во всяком случае, не выходил из монастыря, — сказал художник. — Трудился до одиннадцати вечера.
— И я, — подхватил старик, — тоже вчера носа на улицу не высунул, снаряжал посланца на свою родину, в Монтанью.
— Час от часу не легче! — сказал казначей, уже почти всерьез сойдя с ума. — Разве не вы, сосед, сказали мне позавчера вечером, что, дескать, судя по дурному цвету лица, пульсу и пророчествам ваших чисел, я по прошествии суток непременно умру?
— Я? — удивился астролог. — Да ведь мы с вами не виделись уже дня четыре! Что это вы выдумали? Опомнитесь, друг Лукас Морено, знать, вам этой ночью что-то во сне привиделось!
— Какой же это сон! Все это чистая правда, — воскликнул казначей. — Да если вы мне докажете, что я жив, тогда я на радостях согласен взять на себя расходы в мясопустный вторник!
— Очень будем рады, — ответили все. — А чтобы вы окончательно убедились, одевайтесь поскорее и пойдемте к мессе в нашу приходскую церковь. Все это у вас от разгоряченного воображения.
Недоверчивый покойник послушался. И, чтобы вас не утомить, скажу, что с духовными лицами, толковавшими накануне о его погребении, повторилась та же сцена, что с друзьями. Смеху, шуток было немало, казначей почувствовал, что стерпеть у него не хватит сил, и после знатного угощения, устроенного им по обещанию, друзья уговорили его недельки на две покинуть Мадрид, чтобы уладить какие-то дела банкира, — а тем временем-де история эта будет предана забвению, оно в столице быстро покрывает любые происшествия, даже самые удивительные. Жена казначея условилась со всеми участниками проделки, чтобы они, упаси бог, не проболтались мужу и продолжали убеждать его, будто все ему приснилось, — ей все же было немного боязно, как бы не пришлось поплатиться своими боками.
Тем временем как наш казначей, в отъезде будучи, убеждался на опыте, что жив, а толки о его погребении, состоявшемся во сне, затихали, жена художника тоже не преминула сыграть с мужем шутку, которую задумала, позавидовав удачной проделке подруги. Для этого договорилась она с одним из своих братьев, охотником позабавиться на чужой счет, и в ближайший четверг послала его на рынок Себада купить дверь, — их в этот день выносят там на продажу, — в точности такого размера, как дверь ее дома с парадного хода, изрядно уже обветшавшая и просившая замены. Брат принес дверь украдкой, под покровом темноты. Женщина спрятала ее. чтобы не попалась на глаза художнику, научила братца, что он должен делать, и заперла его еще с двумя друзьями в подвале. Часа два спустя пришел супруг из монастыря, где трудился, оставив там своих учеников растирать краски, — алтарь надо было закончить к пасхе, и приходилось поторапливаться. Мари Перес (так звали алчную жену художника) встретила мужа очень нежно и ласково. Легли они рано, чтобы завтра встать пораньше, и проспали до полуночи, — вернее, спал только ничего не подозревавший муж, а жене-то было не до сна, голова у нее прямо пухла от чудовищных хитросплетений. И вот в полночь коварная женщина принялась громко стонать и вопить:
— Иисусе, умираю! Ох, муженек, пришел мой смертный час! Зовите поскорей духовника, я умираю! — причитала она самым жалобным голосом, как это умеют делать женщины, когда захотят.
Супруг, встревожившись, стал спрашивать, что с ней, но она в ответ только говорила:
— Иисусе! Матерь божия! Я умираю! Исповедь! Причастие! Погибаю!
От криков этих проснулась племянница, жившая у них в доме, и прибежала вместо служанки на помощь, — а она тоже была посвящена в затею. Увидев тетушку в таком состоянии, она с плачем бросилась прикладывать ей согретые полотенца на живот, кормить сухариками, смоченными в вине с корицей, и применять другие снадобья, но боли все не унимались — потому что больная этого не хотела, — и бедняге Моралесу (таково было имя художника), хочешь не хочешь, пришлось, не выспавшись, подняться с постели; зная обычные жалобы своей жены, он решил, что у нее приступ маточных болей, но сама больная и племянница уверяли, что беда случилась из-за съеденного на ужин салата, — слишком-де крепкий уксус да ломоть сыру в придачу уж не первый раз приводят ее на край могилы. Художник побранил жену за невоздержность, а она, едва дыша, отвечала:
— Не время теперь, Моралес, попрекать, когда уже ничем не поможешь. Лучше вели позвать матушку Кастехону, — она знает мои болезни, и только она одна может применить средство, которое прекратит эти ужасные боли, а если и ей не удастся, копайте мне могилу.
— Бедная моя женушка, — молвил удрученный муж. — Кастехона ведь переехала на другой конец города, к воротам Фуэнкарраль, а мы живем в Лавапьес; да еще ночь нынче холодная, зимняя, и, коль слух меня не обманывает, по крыше не то дождь шумит, не то снег. Но если я, несмотря на непогоду, все же отправлюсь, кто поручится, что Кастехона захочет встать и пойти к нам? Помнится, в прошлый раз, когда у тебя был такой приступ, я покупал две унции опийной настойки на горячем изумруде с кожурой половинки апельсина, и мы тебе растирали ею живот. Схожу-ка я за нею в аптеку. Только, бога ради, успокойся и не гони меня в такую даль, — все равно это будет бесполезно, да я еще, пожалуй, такую схвачу простуду, что и у меня начнутся легочные боли почище твоих.
Тут жена во всю мочь заголосила и стала причитать:
— Благословен будь, господи, что дал мне такого доброго муженька! Можно подумать, будто я требую от него невесть какого подвига, — чтобы он, к примеру, когда я помру, лег заживо со мной в могилу, или чтобы вскрыл себе вены на руках, или чтобы отдал хоть паршивую тряпицу! Нет, я всего лишь прошу позвать ко мне старуху Кастехону, так он, упаси бог, боится промочить себе ноги! Да, я знаю, ты хочешь второй раз жениться, при каждом моем стоне сердце у тебя прыгает от радости, потому ты и не желаешь шагу сделать — как бы ненароком не положить конец моим мучениям и твоим надеждам. Ну же, ложись в постель, спи себе спокойно — но знай, если я сейчас умру, то перед смертью заявлю, что ты подсыпал мне сулемы во вчерашний салат.
— Ах, жена, жена, — отвечал муж, — придержи язык; боли в матке — это еще не оправдание для таких поклепов. Гляди, как бы я не взял палку, тогда вместо живота у тебя заболит спина!
— Бить палкой сеньору тетушку? — возмутилась плутовка-племянница. — Чтобы вовек не знала покоя ваша милость и я сама, если прежде не выцарапаю вам глаза вот этими вот ногтями!
Художник набросился на девчонку, стал ее трясти и уж собрался было проучить ремнем, но она вырвалась и убежала, а больная завопила еще громче, стала кричать, что умирает, и требовать священника, лекарку, святое причастие…
— Ох, смерть моя! Подсыпали мне отравы! Иисусе! Нет, болезнь эта не от матки, а от мужа!
Моралес осерчал, но также испугался, как бы не сыграли с ним злую шутку, — не подозревая о том, что без его ведома затеяла жена, — вдруг она и впрямь умрет, пустив слух, что это он ее отправил на тот свет. Не уронить бы в колодец вслед за ведром и веревку! И он принялся успокаивать жену нежными словами и ласками, потом зажег фонарь, без которого в темень и грязь было не пройти, обул сапоги, надел плащ от дождя, натянул на шляпу капюшон и отправился искать матушку Кастехону, на каждом шагу попадая под струи воды, лившиеся с крыш. Доброму Моралесу было известно, что лекарка переселилась на улицу Фуэнкарраль, но дома ее он не знал — и вот впотьмах, хоть глаз выколи, под проливным дождем, как я уже говорил, брел он с улицы Лавапьес на другой конец города, не встречая ни души и кляня супружескую жизнь. Судите сами, мог ли он быстро найти то, что искал и что никому не было нужно; я же, пока он мокнет под дождем, вернусь к нашей больной, страдающей воспалением хитрости, а не живота. Убедившись, что муж-простак ушел, она позвала брата, спрятанного ею в подвале с двумя приятелями; те вмиг сорвали старую входную дверь и приладили новую, к которой уже были приделаны замок и кольцо, — дверь была подобрана точно по размеру и сразу села на петли без малейшего шума. Сверху, на перекладине косяка, прибили табличку, где на белом поле было написано: «Гостиница». После чего жена художника привела ораву живших поблизости друзей с женами, двумя злыми псами, гитарами и кастаньетами, велела из соседнего трактира принести заранее заказанный ужин и вино, и пошло у них веселье с песнями и плясками в честь утопающего старухоискателя, который Кастехону так и не нашел, только попусту стучался в дома и тревожил жителей.
По колено в воде, по горло сытый прогулкою, возвратился наш художник домой. Услыхав за дверью голоса, топот танцующих, шум веселья, он подумал, что ошибся: приподняв фонарь, он посветил себе и увидал новую дверь и вывеску со словом «Гостиница», что поразило его чрезвычайно. Оглядел он улицу, убедился, что это улица Лавапьес. Подошел к ближайшим домам, видит — это дома его соседей. Поглядел на дома напротив — тоже все знакомые. Вернулся он тогда к своему дому и теперь лишь заметил, что дверь недавно поставлена и таблица только что прибита.
— Господи спаси и помилуй! — сказал он, крестясь. — Всего полтора часа, как я ушел из дому, и жена моя тогда была скорее расположена плакать, чем плясать. В доме живем только мы двое да племянница. Дверь, правда, следовало заменить, но когда я уходил, она была та, что всегда. Гостиниц я на этой улице в жизни не видывал, а если б они здесь и появились, то кто мог среди ночи и в такой короткий срок пожаловать моему дому столь высокий чин? Сказать, что я это во сне вижу, нельзя — глаза у меня открыты и уши ясно слышат колдовские звуки. Валить все на вино, когда кругом все залито водой, — понапрасну оскорблять его честь. Итак, что же это может быть?
Он снова стал щупать и разглядывать дверь и таблицу, прислушиваться к музыке и танцам, недоумевая, чем вызвана подобная перемена. Затем схватил кольцо и стал стучать изо всех сил, чуть не разбудил весь околоток, однако танцующие постояльцы не слышали — или не хотели слышать. Он тогда стал колотить еще громче. После того как его продержали изрядный срок под дождем, — так в Галисии вымачивают полотно, — какой-то слуга с горящей свечой в руке и в грязном, рваном колпаке наконец отворил верхнее окно и сказал:
— Мест нет, братец! Ступай себе с богом и перестань шуметь, не то мы коронуем дурака ночным горшком с шестидневной начинкой.
— Не надо мне никакого места, — сказал художник, — я пришел в свой собственный дом и требую, чтобы меня впустили и чтобы тот человек, который теперь здесь за хозяина, сказал мне, кто это успел в полтора часа превратить мой дом в заезжий, хотя деньги за него платил я, Диего де Моралес.
— Скажи «де Налакалес», — отвечал слуга, — ведь это вино в тебе говорит! Знаешь, братец, коль ты так нахлестался, купанье под дождем будет тебе в самый раз! Убирайся, пока цел, и не смей барабанить в дверь, не то напущу барбоса, уж он разукрасит тебя клыками!
И слуга с размаху захлопнул окно. Выпивка и веселье в доме продолжались; бедный художник, кляня весь мир, был уверен, что это какая-то колдунья наслала на него наважденье. С неба все чаще опрокидывались целые кувшины воды и снега, дул северный ветер, освежая разгоряченную голову. Свеча в фонаре кончилась, а с нею — терпенье художника. Снова принявшись колотить дверным кольцом, он услыхал, что в доме откликнулись:
— Эй, парень, дай сюда палку! Спусти-ка наших псов! Выдь на улицу и устрой этому пьянчуге хорошее растиранье спины, чтоб у него мозги прочистились!
Дверь распахнулась, и выскочили две собаки — кабы слуга не придержал их и не загнал обратно, пришлось бы, пожалуй, остолбеневшему художнику всерьез поплакать от этой шутки.
— Чертов бродяга! — сказал слуга. — Что ты не даешь нам покоя своим стуком? Разве не сказано тебе — мест нет?
— Братец, да это ж мой дом! — отвечал художник. — Кой дьявол превратил его в гостиницу, когда еще при жизни моих родителей хозяином его был Диего де Моралес?
— Что ты городишь? — возразил тот. — Какие тут еще дурни марались-замарались?
— Да это я сам, — был ответ, — я, по милости божьей, известный в столице художник, уважаемый в этом околотке и проживающий в этом доме уже больше двадцати лет! Позовите сюда мою жену Мари Перес; если только она не превратилась в хозяйку гостиницы, она выведет меня из этого лабиринта!
— Как это возможно, — продолжал слуга, — когда уже больше шести лет в доме этом гостиница, одна из самых известных всем приезжающим в Мадрид, хозяина ее зовут Педро Карраско, его жену Мари Молино, а я их слуга! Ступай себе с богом! Сердце у меня жалостливое, иначе я вот этой целебной палкой выгнал бы из тебя винную хворь, от которой ты бредишь!
И, вернувшись в дом, он закрыл дверь, а непризнанный хозяин дома, будто громом оглушенный, не знал, что думать, что делать, и наконец побрел в потемках, утопая в грязи, к ревнивцу Сантильяне и постучался в дверь. Хотя было всего четыре часа утра, Сантильяна поднялся и зажег свет, думая, что с другом случилась беда или его избили в драке. Расспросив у художника, что произошло, он поднял жену; та, конечно, знала, какова подоплека этого происшествия, но решила шутку поддержать, и они вместе с мужем стали уверять промокшего художника, что все это колдовство и проказы, которыми святой Мартин — художник был его почитателем — часто развлекается в ненастные ночи. Развели огонь в очаге, чтобы гость согрелся, повесили сушить его платье, почистили сапоги, не переставая осыпать его насмешками, — под дождем и градом ему, пожалуй, легче было, — и уложили в постель, причем он твердил, что рассказывал им чистую правду, а они — что он пришел к ним, как говорится, под мухой.
Когда проказница Мари Перес узнала от своих соглядатаев, что супруг ее, весь мокрый и грязный, удалился, она с помощью гостей поставила старую дверь на прежнее место, сняла вывеску и, нагрузив гостей тем и другим, выпроводила всех, взяв с них слово хранить тайну. Теперь в доме остались только она да племянница, — обе поскорей легли, потому что ноги у них устали от плясок, руки от кастаньет, желудки от обильной еды, губы от смеха. К утру они хорошенько отоспались после ужина и гульбы, и тут явился полупросохший художник вместе со стариком Сантильяной, который, слыша, что Моралес и утром твердит то же, что ночью, готов был поверить художнику и пожелал сам увидеть новоявленное чудо. И вот подошли они к заколдованному дому. Смотрят — дверь старая, никакой вывески нет, в доме тихо, замок заперт. Тогда старик снова принялся подтрунивать над беднягой Моралесом, а тот — огрызаться, клянясь и божась, что говорил чистую правду, что все это козни дьявола, который, видно, задумал сжить его со свету. Они постучались, полуодетая племянница отворила волшебную дверь и, увидав своего дядю, почти отчима, сказала:
— С каким лицом покажетесь вы, сеньор дядюшка, перед своей женой? И что может сказать в оправдание человек, который в полночь оставил ее при смерти, отправился за лекаркой и возвращается в восемь утра без старухи и без тени смущения на лице?
— Когда б ты, Брихида, знала, — отвечал он, — чего я этой ночью насмотрелся благодаря твоей тетке, ты бы не попрекала меня, а пожалела! Завтра же мы уедем из этого дома, этого притона демонов!
Мнимая больная услыхала его голос и, как ошпаренная вскочив с постели в одной нижней юбке, выбежала с криком:
— Ну и муженек у меня, вот как он заботится о здоровье жены! Четырехдневная лихорадка чтоб потрясла тебя, драгоценный Моралес, лучше б ты вовек не возвращался! Не повредила ли тебе вчерашняя стужа? Может, насморк схватил? Да ты вроде отощал после вчерашней грозы! Ну ясно, там недалеко живет благочестивая Марта, небось пригрела тебя! Конечно, ты надеялся, что, придя с Кастехоной, застанешь меня мертвой и сможешь распоряжаться приданым моим и всем имуществом, как тебе в башку взбредет! Чтоб тебе и всем, кто мне зла желает, никогда добра не видать! А ваша милость, сеньор Сантильяна, вы-то зачем пришли с этим негодяем? Ежели мирить нас, так зря потрудились — клянусь памятью моей матери, я сейчас же иду к викарию просить развода! Не желаю ждать, чтоб меня опять угостили салатом с такой едкой солью, которая погубит меня окончательно!.. Подай мне платье, Брихида, накинь на себя плащ, и бежим от этого искателя кумушек…
— Успокойтесь, ваша милость, сеньора Мари Перес, — сказал друг. — Сеньор Моралес нисколько не виноват — виновата какая-то колдунья, которая напускает злые чары, чтобы вас поссорить!
— Хотя тебе, женушка, кажется, — молвил огорченный художник, — что ты вправе жаловаться на меня, выслушай все же мои оправдания и не говори таких слов, — боюсь, у меня не хватит терпения, после этой ночи чудес его почти не осталось!
И он рассказал ей то, что она знала лучше него. Тогда, изображая притворное возмущение, жена сказала:
— Ты что, комедию передо мной ломаешь? Думаешь, нашел дурочку, что, разинув рот, всему поверит? Слыхана ли подобная чепуха, как та, которой ты меня потчуешь? Мой дом — гостиница? Собаки, гульба, пляски и веселье здесь ночью? Добро еще сказал бы — плач, проклятия, вздохи да стоны! Когда бы не помогли мне пол-асумбры святого вина, два миндальных печенья да полдюжины сухариков, от которых боль прошла скорей, чем от мужниных забот, лежать бы мне, бедной, в сырой земле!
— На доброе тебе здоровье, женушка моя! — ответил муж. — Но только смотри, чтобы мое-то здоровье не ухудшилось, если после такой тяжкой ночи ты устроишь мне день ссор! Клянусь всем, чем только можно поклясться, то, что я тебе рассказал, — чистейшая правда! Не иначе как в нашем доме завелись привидения. Надо его продать или сдать внаем, а самим переехать — другого средства не придумаю.
— Ну конечно, привидения, сеньор дядюшка! — вмешалась плутовка Брихида. — Чуть не каждую ночь они меня щиплют, стегают бичом — правда, легонько — и хохочут во все горло.
— Но почему же ты никогда мне не говорила? — спросила притворщица тетка.
— Чтобы ваши милости не подумали, — отвечала Брихида, — что это кто другой, и не было позора мне да вашему дому.
— Довольно! Вы наверняка правы! — сказал Сантильяна. — Теперь остается лишь простить друг другу и в добром согласии встретить великий пост, который начинается завтра.
Так и поступили: околдованный художник затаил подозрение, что в доме водятся призраки, а жена его — надежду, что ее проделка будет награждена вожделенным бриллиантом.
Молодая жена ревнивца, узнав, сколь хитроумны и удачны оказались шутки соперниц, не пала духом. Напротив, она решила одним выстрелом убить двух зайцев — получить награду за свою проделку, это во-первых, а во-вторых, излечить супруга от ревности. И сделала это так.
В те дни приехал в Мадрид ее брат, монах, которого назначили настоятелем одного из монастырей, расположенных в окрестностях столицы и праведной жизнью братии поддерживающих то, что подтачивают пороки. Ревнивый Сантильяна о его приезде не знал; меж тем жена ревнивца и прежде жаловалась брату в письмах, а теперь, с его приездом — в записках и, когда он однажды посетил ее, снова стала сетовать на то, что муж изводит ее своими несносными подозрениями. Кабы не уважение к брату и не боязнь повредить своей доброй славе, — как бывает с женщинами, тягающими мужей по судам и требующими развода, — она-де уже давно рассталась бы с мужем по дозволению викария. Монах, человек разумный, знал от соседей и друзей сварливого старика, что сестра имеет все основания ненавидеть мужа и жаловаться на свою жизнь, и уже давно он старался найти способ образумить ревнивца и, не разрывая узы брака, убедить его, что с такой женой ему бы только жить да радоваться и что беспричинная ревность лишь пробуждает спящего демона. Но сколько добрый монах ни прилагал усилий, ему все не удавалось найти средство против неусыпной подозрительности ревнивца, — она стала привычкой, и, казалось, никакими силами нельзя искоренить этот застарелый порок.
Прежде монах в письмах советовал сестре подумать, как бы это устроить, чтобы, не заявляя о своих горестях судебным властям, и она могла жить спокойно, и муж ее угомонился; сам же он обещал, чего бы то ни стоило, сделать все, что будет в его силах. И вот теперь, когда подоспел случай воспользоваться обещаниями брата и исцелить старого Сантильяну, да кстати заполучить бриллиант, жена ревнивца как-то утром, в первые дни великого поста, когда муж отправился к обедне, послала за почтенным настоятелем. Поплакавшись на свои мучения и печали, она несколько утешилась и сказала, что не видит иного способа выбить у мужа из головы его дурацкую ревность, отравляющую ей жизнь, кроме следующего, который она изложила брату, а вскоре узнаете и вы. Говорила она весьма красноречиво, с присущим женщинам искусством убеждения, — были там и слезы, и вздохи, и восклицания, — а в заключение сказала: ежели брат ей не поможет, то придается либо, добившись развода, положить конец ее мукам, либо — самой ее жизни, подвесив к потолочной балке надежную петлю. Способ, который она предлагала, сулил немало трудностей. Но все перевесили любовь брата, милосердие священнослужителя и желание предотвратить какую-нибудь отчаянную выходку, вполне вероятную при той скорби, какая владела Ипполитой, — так звали жену ревнивца. Брат пообещал выполнить все, о чем она просит; они назначили день, он простился, вернулся в свой монастырь и там изложил это дело своим подопечным. Монахи относились к настоятелю с большой любовью, они поняли, что он многое может сделать для примирения супружеской четы, и не только согласились во всем ему подчиняться, но еще торопили довести дело до конца.
Ободренный их поддержкой, настоятель к назначенному дню послал сестре две унции очень сильного снотворного порошка: приняв его, человек засыпал на четыре-пять часов крепким сном, похожим на смерть, с той лишь разницей, что чувства покидали тело на короткий срок и вскоре возвращались к своим обязанностям. Хитрая Ипполита с радостью встретила посланца и, когда села с мужем ужинать, подсыпала порошок ему в вино, столь лакомое для стариков. За каждым куском муж потчевал жену попреком, с каждым глотком глаза его все больше туманил сон. Не успели еще убрать со стола, как он свалился на пол, точно камень в колодец, — снадобье оказалось забористым, и когда бы сама затейница и служанка не знали, в чем дело, они бы наверняка подумали (и не слишком огорчились), что почтенный Сантильяна навек покинул свою супругу. Старика раздели, уложили в постель и стали ждать отца настоятеля; тот явился, как условились, в девять часов — время не слишком позднее и удобное для такого дела в холодную зимнюю пору. Вместе с двумя монахами он подъехал в карете и, войдя в дом, велел одному из спутников, вооруженному ножницами и бритвой, срезать старику бороду и выбрить на голове монашескую тонзуру. Расторопный цирюльник потрудился на славу, — не смачивая волос, чтобы холодная вода не помешала действию порошка, он живо превратил Сантильяну в почтенного монаха. Волосы у ревнивца были густые и жесткие, под стать нраву; венчик тонзуры получился пышный и благолепный, прямо загляденье, да еще обильно посеребренный сединой. А когда сбрили бороду, жена не могла удержаться от смеха — ее муж превратился из старика в старуху. Надели на него рясу, такую же, как у ее брата, а он ничего не слышал, точно все это проделывали с каким-нибудь графом Партинуплесом[355]; затем втащили его в карету, и настоятель велел Ипполите молить бога, чтобы доброе начало привело к счастливому концу. Привезя старика в свой монастырь, он распорядился освободить келью; Сантильяну раздели догола и уложили на жесткое ложе для кающихся, а рясу повесили рядом на стул и свечу зажженную оставили; затем заперли дверь и отправились спать.
К этому времени забытье ничего не ведавшего послушника длилось уже два часа, и еще два часа провел он, одурманенный сном, после чего действие порошка должно было прекратиться, ибо всего ему было дано владеть человеком в течение четырех часов, а так как начал он действовать в восемь вечера, то к двенадцати срок его истекал.
В полночь, как во всех монастырях заведено, прозвонили к заутрене, а после колокола, будя тех, кому надлежало вставать, загремели трещотки — инструмент, состоящий из выдолбленных дощечек, в которых укреплены железные пластинки; их быстро перебирают, и они ударяют по толстым стержням, производя резкие звуки, неприятные и для тех, кого должны будить и кому знакомы, но совершенно ужасающие, если слышишь впервые эту грохочущую музыку. Так было с отцом Сантильяной — в страхе проснулся он и, думая, что лежит у себя дома, в своей постели, рядом с женой, закричал:
— Иисусе! Что это такое, Ипполита? Дом рушится, что ли? Или это гром гремит, или дьяволы явились по мою душу?
Но так как никто ему не отвечал, он стал ощупью искать рядом свою жену и, не найдя ее, загорелся злобой, вообразив, что теперь-то она уж наверно наставляет ему рога, а грохот поднялся от того, что потолок обрушивается. В ярости соскочил он с постели и завопил:
— Где ты, распутница? Шлюха эдакая, теперь небось не скажешь, что все это старческая подозрительность! Среди ночи сбежала с кровати и из спальни, принимаешь на крыше своего любовника! Потолок честнее тебя, он стал обваливаться, чтобы меня разбудить! Эй, девчонка, подай мне платье! Скорей, шпагу мне, я смою свой позор кровью этих прелюбодеев!
И он бросился искать свою одежду, но вместо нее нашел монашескую рясу. Заметив, что находится в незнакомой келье, и не понимая, как и кто перенес его сюда, Сантильяна совершенно очумел — да и всякий на его месте чувствовал бы себя не лучше. Он не знал, звать ли на помощь или — если он околдован — ждать, пока чары исчезнут; не знал, спит он или бодрствует. Отворил он дверь кельи — а сверху на перекладине лежал череп с костями, — и вдруг ему на голову свалились две берцовые кости и остудили ревнивый пыл ознобом страха, — шутка ли получить такой замогильный подарочек! Сочтя это дурной приметой, Сантильяна взял свечу, чтобы посмотреть, на какую улицу или пустырь выходит заколдованная каморка и куда он попал, но увидел лишь длинный-предлинный коридор со множеством дверей, ведущих в кельи, и с лампой посредине.
— Господи помилуй! Что это? — воскликнул он дрожа и вернулся в келью. — Разве я после вчерашнего ужина не лег спать дома? Кто же перенес меня сюда, кто переменил мою одежду на рясу? Может, я в лазарете? Здание это больше похоже на больницу, чем на жилой дом. Неужто ревность свела меня с ума и меня определили на лечение в толедский дом Нунция? Комнатушка так мала, что смахивает на клетку, а не на человеческое жилье. Не знаю, что и подумать! Последнее, пожалуй, вероятней всего, — если не ошибаюсь, в мозгах у меня уже давно был кавардак от одних только мыслей, как бы сберечь свою честь. Не мудрено, если окажется, что меня уже года два-три лечат здесь, в лазарете, и вот теперь, придя в себя, я воображаю, будто вчера лишь в тишине и уюте сидел у себя дома рядышком с женой. Впрочем, нетрудно узнать, верна ли эта догадка, — ведь сумасшедших и галерников бреют наголо: пощупаю-ка я свою бороду и избавлюсь от страхов.
Сантильяна схватился за подбородок и обнаружил, что у него нет бороды, которую он так холил. Пощупал голову — там венчик, словно его избрали королем ревнивых мужей. Принялся он оплакивать потерю разума, уверенный, что попал в послушники к Нунцию и что ему в насмешку — как это часто делают с безумными — побрили голову таким образом. Однако он утешался мыслью, что, раз он понимает свое положение, стало быть, разум к нему вернулся и его вскоре выпустят из этой треклятой обители. Единственно смущала его ряса, она опровергала его предположения, ибо сумасшедшие, которых он видел в Толедо, носили бурые балахоны, но не монашеское одеяние.
Теряясь в нелепых догадках, стоял он посреди кельи совсем голый; стужа и та не подгоняла его одеться, да он понятия не имел, с какого конца надевают рясу, и не мог разобраться в великом множестве складок, — такого платья он отродясь не нашивал. Тут в келью вошел монах, разносивший огонь братьям, и сказал:
— Почему вы не одеваетесь, отец Брюхан, — вам ведь надо идти к заутрене?
— Кто здесь Брюхан, брат? При чем тут заутрени или вечерни? Что вы меня морочите? — отвечал женатый монах. — Ежели вы сумасшедший, каким был я, и на этом свихнулись, то я, по милости божьей, уже выздоровел и не намерен слушать чепуху. Скажите, где найти управителя, и, пожалуйста, перестаньте меня брюхатить!
— Видно, вы с левой ноги встали, отец Брюхан! — сказал монах. — Оденьтесь, холодно ведь, и знайте — я сейчас пойду звонить второй раз, а отец настоятель в дурном настроении!
С этими словами он вышел, а старик еще больше растерялся.
— Я — Брюхан? — говорил он. — Я — монах и должен идти к заутрене, когда, по-моему, еще и шести часов нет? Это я-то, привыкший рядышком с моей Ипполитой рассуждать о ревности, а не распевать псалмы? Да что ж это такое, блаженные души чистилища? Если я сплю, прекратите этот тягостный дурной сон! А если бодрствую, объясните тайну сию или верните мне разум, которого я, без сомнения, лишился!
Он все стоял в изумлении, не понимая, как ему одеться, и кутаясь от холода в одеяло, когда вошел другой монах и сказал:
— Отец Брюхан, регент хора спрашивает, почему вы не идете к заутрене; в эту неделю очередь петь вашему преподобию.
— Спаси меня, владыка небесный! — воскликнул новоиспеченный монах. — Видно, я все же отец Брюхан, хотя вчера был Сантильяна! Скажи мне, добрый монах, ежели ты монах, — или братец сумасшедший, ежели, как я думаю, мы находимся в доме умалишенных: кто меня поместил сюда? Кто и почему отнял у меня мой дом, мое имущество, мою жену, мое платье и мою бороду? Может, тут бродят Урганда Неуловимая или Артур Чародей[356] и это они заморочили мои мозги?
— Я бежал со всех ног звать его, — сказал хорист, — а он с места не двинется и чепуху мелет! Видно, вчера в трапезной вы, отец Брюхан, изрядно заложили за воротник, ежели до сих пор винные пары не улетучились. Одевайтесь, а если вам трудно, я помогу.
Монах набросил на него рясу, а когда стал завязывать капюшон и стянул потуже, Сантильяна подумал, что это дьявол душит его, и давай кричать:
— Изыди, Сатана! Оставь меня, проклятый дух! Души чистилища! Святая Маргарита, святой Варфоломей, святой Михаил, святые угодники, заступники и милостивцы, спасите меня, не то этот колпачный демон меня задушит!
И, выскользнув из рук монаха, порвав капюшон и оцарапав его самого, ревнивец стремглав кинулся бежать по коридору.
Настоятель и братья, спрятавшись, прислушивались к нелепой ссоре, давясь от смеха, но не смея нарушить уговор и подобавшую в это время тишину. Затем все разом вышли с горящими свечами, приготовленными для хора, и настоятель строго сказал:
— Отец Брюхан, что означает это бесчинство и буйство? Так обойтись с братом, которого я послал позвать вас в хор? Вы подняли руку на особу, принявшую духовный сан и пострижение, и мало того, что не явились на торжественную службу, хотите подвергнуться отлучению? А ну-ка, отхлещите его, одно «Miserere mei»[357] остудит его пыл.
— Что значит — отхлещите? — возмутился вспыльчивый монтанец, — Скотина я, что ли? Я и так уже подхлестнут достаточно и готов защищаться от ваших чар. Адские духи! Глядите, вот крест! Вы надо мной не властны, я старый христианин из Монтаньи, я крещен и помазан елеем! Fugite partes adversae![358] Так он выкрикивал одну глупость за другой, а окружающие корчились от смеха, который распирал им щеки. Но вот настоятель велел служкам связать его и сказал:
— Брат этот сошел с ума, но наказание его образумит!
Тут ревнивца угостили хорошей порцией ремней — и красных полос на спине стало больше, чем кардиналов в Риме. А наказанный орал что было мочи и приговаривал:
— О сеньоры, монахи вы, или черти, или еще кто! Что вам сделал бедный Сантильяна, за что вы обходитесь с ним так жестоко? Если вы люди, сжальтесь над существом вашей же породы — я ведь в жизни мухи не обидел и ни в чем не могу себя винить, кроме того, что ревностью своей изводил жену! Если вы монахи, то прекратите бичевание — я не знаю за собой вины, чтобы так сурово меня карать! Если ж вы демоны, скажите: за какие грехи попустил господь, чтобы вы заживо сдирали с меня шкуру?
Монах, стегавший его, только усердней нахлестывал, приговаривая:
— Опять за свое? Ну, посмотрим, кто из нас двоих быстрей устанет.
— Я уже устал, почтенный отче! — отвечал кающийся по принуждению. — Кровью Христовой заклинаю, сжальтесь надо мной!
— Итак, вы исправитесь впредь?
— Да, да, отче, исправлюсь, только не знаю, в чем, — отвечал Сантильяна.
— Как это не знаете? — возразил монах. — Вот так славный способ признавать свою вину! Нет, дело еще не доведено до конца! Надо малость прибавить!
И продолжал полосовать ему спину.
— Добрейший отче, — завопил Сантильяна, падая ниц, — признаю, что я худший из людей на земле! Только пощадите мое тело, как господь пощадит мою душу! Ей-ей, я исправлюсь!
— Вы знаете, — спросили его, — что вы монах и что для монаха простительные грехи — большее преступление, чем смертный грех для мирянина?
— Да, да, отче, — отвечал Сантильяна, — я монах, хоть и недостойный.
— Вы знаете устав вашего ордена? — продолжали его спрашивать, и он опять ответил:
— Да, отче.
— Какой это устав?
— Какой будет угодно вашему преподобию! Мне-то все едино, я готов вступить и в орден великого Суфия[359].
— Будете вы впредь смиренны и усердны к своей службе, отец Брюхан?
— Буду Брюханом, — отвечал тот, — и всем, что вам заблагорассудится.
— Так поцелуйте же ноги брату, — сказал монах, — которого вы обидели, и просите у него прощения.
— Целую вам ноги, отец мой, — сказал Сантильяна, плача скорее от боли, чем от раскаяния, — и прошу у вас прощения, или черта-дьявола, прошу все, что мне прикажут просить!
Тут уж все монахи не могли удержаться и расхохотались. Настоятель пожурил их, сказав:
— Над чем смеетесь, братья, когда надо оплакивать потерю разума у брата нашего, достойнейшего монаха, пятнадцать лет с величайшим рвением служившего вере в этом монастыре?
— Я служил пятнадцать лет? — говорил себе бедный Сантильяна. — Видано ли подобное колдовство хоть в одном из рыцарских романов, которые лишают разума юношей? Но довольно! Ежели все вокруг говорят, что это правда, стало быть, так оно и есть, хоть я не пойму, как это случилось. Будь это неправда, какой смысл праведным братьям мучить меня и всем твердить одно?
— Пойдемте с нами в хор, — сказал ему шурин, которого он не знал в лицо.
Ревнивец повиновался, себе на горе. Начали петь псалмы, и регент приказал ему вести первый антифон. А он в музыке смыслил столько же, сколько в вышиванье. Но отказаться не посмел из боязни получить новую взбучку и, скрежеща зубами, затянул антифон. Все в хоре покатились со смеху, сам настоятель не мог удержаться и распорядился посадить безобразника в колодки; так просидел он, беснуясь, три дня, — еще немного, и пришлось бы ему проститься не только с мирской жизнью, но и с разумом. Затем колодки сняли, и настоятель приказал ему идти с одним из монахов просить подаяния, как заведено по субботам. Дали ему суму, он безропотно взял ее и пошел покорно, как овца, куда велели[360]. Спутник ревнивца умышленно повел его на улицу, где жила его жена; он узнал дом, встрепенулся и, немного осмелев, сказал себе:
— Клянусь богом, разве это не мой дом? Разве я не женат на Ипполите? Кой черт загнал меня в монастырь, когда я отродясь туда не собирался? Я — муж, я женатый человек!
С этими словами он вошел в дом, увидел жену и, бросившись ее обнимать, воскликнул:
— Драгоценная моя супруга! Небо послало мне кару за то, что я мучил тебя! Меня сделали монахом — как и почему, не знаю сам, но отныне пусть ищут себе других сборщиков подаяния, а я — человек женатый!
— Что за безобразие? — закричала молодая жена. — Эй, соседи, на помощь, этот дерзкий безумец оскорбляет мою честь!
Прибежали его спутник и несколько соседей, не узнавшие Сантильяну, — у него теперь не было длинной бороды, одет он был в необычное платье и так изможден от епитимий, что мог потягаться в худобе с отцами отшельниками. Вытолкали они его взашей, да еще осыпали злыми насмешками.
— Оставьте его, ваши милости, — вмешался его спутник, — и не дивитесь его поступкам: бедняга полгода был помешан, и главный его вывих — говорить каждой встречной женщине, что она — его жена. Держали мы его на цепи, но вот уже два месяца с лишком он как будто здоров, а братьев теперь не хватает, — многие на великий пост отправились в села проповедовать, — поэтому мне, как я ни противился, велели нынче взять его с собой собирать подаяние.
Монаху поверили, несчастного пожалели, и, чем громче он кричал, что он-де муж Ипполиты, тем больше все убеждались в его безумии. Уже и впрямь полубезумного, повели Сантильяну, чуть не связав его, в монастырь. Там его опять наказали плетью и опять посадили в колодки; больше месяца страдал он в этот раз за страдания, причиненные жене, и наконец, как-то в полночь, его разбудил голос, доносившийся с крыши его узилища. Торжественно и громко голос вещал:
Ревнив с Ипполитой
И зол, точно зверь,
Ты стонешь теперь —
В колодки забитый,
С макушкой пробритой.
Не правда ль, мученье —
Твое заточенье?
Но если не впрок
Пришелся урок,
Продолжим ученье!
Трижды повторил эти стихи замогильный голос, и Сантильяна, рыдая и молитвенно сложив руки, самым смиренным тоном ответил:
— Небесный или земной оракул, кто бы ты ни был, забери меня отсюда — обещаю вполне исправиться!
После этого ему дали поужинать, поднесли и вина, которого он не пробовал со дня своего преображения, что было для него самой тяжкой карой. Он выпил вина и заодно — двойную дозу того же порошка, что прежде. Тотчас его сморил сон. За все это время волосы на голове и борода отросли у него порядочно, его постригли, подбрили, как он ходил всегда, потом отвезли в карете домой, и настоятель, он же врачеватель ревности, попрощался с сестрой, надеясь, что, когда муж ее проснется, он будет в полном разуме и нрав его улучшится. Жена положила мирское платье Сантильяны на сундук у изголовья кровати, сама легла рядом, — сон, вызванный порошком, продолжался до рассвета, потому что Сантильяна выпил снадобье в десять часов вечера. Наконец он пробудился, думая, что он — в колодках, как вдруг увидел, что лежит в постели и вокруг темно. Он никак не мог поверить: стал щупать подушки — не из дерева ли они, — и нащупал рядом свою жену. Вообразив, что это злой дух продолжает его искушать, он закричал и стал читать молитвы. Ипполита не спала, ждала, что будет дальше. Но вот она как будто проснулась и говорит:
— Что с тобой, муженек? Что случилось? Неужто у тебя опять приступ колик в печени?
— Кто ты и почему спрашиваешь меня об этом? — со страхом вопросил уже излечившийся ревнивец. — Ах, боли у меня не от печени, а от монашества.
— Но кто же может спать с тобой рядом, — отвечала она, — если не твоя жена Ипполита?
— Иисусе, спаси меня! — воскликнул муж. — Как ты проникла в монастырь, дорогая женушка? Разве ты не знаешь, что тебя отлучат, а если проведает наш старший или настоятель, тебе так исполосуют спину, что она станет как ломоть лососины?
— О каком монастыре ты говоришь, что за шутки, Сантильяна? — отвечала она. — То ли ты еще спишь, то ли рехнулся?
— Выходит, я не был пятнадцать лет монахом, — спросил он, — и не пел антифоны?
— Что-то не пойму я твоих мудреных словечек, — возразила жена. — Вставай, уже полдень, пора тебе идти принести чего-нибудь съестного.
Не помня себя от изумления, Сантильяна пощупал свой подбородок — борода была на месте, и тонзура на голове исчезла. Он приказал открыть окно и увидел, что лежит на своей кровати, в своей спальне и рядом его платье, — ни следа колодок и рясы. Попросил он зеркало и увидел совсем другое лицо, не то, что в прошлые дни глядело на него из зеркала в ризнице. Тут он осенил себя крестным знамением и окончательно уверовал в пророчество оракула-виршеплета. Жена с притворным участием осведомилась о причине его страхов. Он ей все рассказал и заключил тем, что, видно, все это ему пригрезилось ночью во сне и сам бог, видно, велит ему исправиться и быть довольным своей женой, как она и заслуживает. Жена поддержала эту химеру, сказав, что обещала отслужить девять обеден душам чистилища, если ум ее супруга прояснится; но если бы так не случилось, она-де решила броситься в колодец. «Да не допустит этого бог, царица всех Ипполит!» — ответил он и попросил у нее прощения, клянясь впредь не верить даже тому, что увидит собственными глазами. Теперь ей было разрешено выходить из дому, и она с двумя подругами отправилась к графу; каждая превозносила свою проделку, и графу так понравились все три, что он, не желая никого обидеть, сказал:
— К сожалению, сеньоры, бриллиант, который дал всем трем повод блеснуть остроумием, был потерян мною в тот же день, когда его нашли; стоит он двести эскудо, да я еще от себя посулил победительнице пятьдесят. Однако венец и звание хитроумнейших женщин в мире заслужили вы все; поэтому я, хоть и не могу наградить вас по достоинству, даю каждой эту сумму, триста эскудо, полагая, что никогда еще деньги, приобретавшие мне друзей, не были употреблены удачней, и буду счастлив, если мой дом станет вашим домом.
Женщины были в восторге от его щедрости и возвратились домой в дружбе и согласии. Вскоре вернулся из путешествия казначей, совершенно забыв о подстроенной ему шутке; художник продал свой дом и купил другой, чтобы избавиться от проказливых домовых, а Сантильяна был настолько счастлив и надежно излечен от ревности, что отныне прямо-таки обожал свою жену, уверовав, что ее опекают таинственные оракулы.
Автор намерен позабавить читателя шутейными, но приличными побасенками, дозволенными для развлечения людей всякого сословия.
К ЧИТАТЕЛЮ[362]
Мудрый совет и благое поучение завещали нам ученые и святые мужи: перемежать наслаждением и забавою тяготы здешнего мира, этой юдоли скорбей и печали; не столь тяжка ноша и по плечу человеку, если сдобрить жизнь приятной и веселой шуткой. Да, испытаний у нас немало, ибо иным товаром наш век не торгует; а коли так, то необходимо веселье, чтобы облегчить столь тяжкое бремя. К такому заключению привел меня житейский опыт, ибо ход жизни и превратность нашего времени словно долгом почитают омрачать удел человека печалями и горестями, будто не задумываясь, что надо же скрасить земной путь хоть толикой радости; и потому я хочу восполнить оплошность судьбы и дать усталой душе минуту мирного веселья: речь идет о невинных и приятных шутках, коими обменивались пятеро собеседников, люди с образованием и хорошим вкусом. Я назвал эти шутливые разговоры «Беззаботными беседами в часы досуга». Признаюсь, сочинение мое шуточное, но не всякую шутку следует считать бесполезной. Сыщется ли хоть один зритель в театре нынешней жизни, которого не утомило бы зрелище ее меланхолических трагедий и который не пожелал бы в промежутках между горестными актами поглядеть веселую и приличную интермедию? Прими же, разумный читатель, эту безделку, ибо сам знаешь, что в свое время и на своем месте шутка не менее необходима, чем серьезное поучение. Vale[363].
Собеседники: доктор Фабрисио и донья Петронила, его жена; дон Диего и донья Маргарита, его жена, и шут по имени Кастаньеда[364].
Фабрисио находится у себя дома, в городе Бургосе[365], со своей женой доньей Петронилой. Канун карнавала. Фабрисио говорит.
Фабрисио. Думаю, сеньора, вам довелось слышать поговорку: «Cum fueris Romae, romano vivito more».
Донья Петронила. Я латыни не знаю. Но, если не ошибаюсь, и по-нашему говорят: «В чьем крае жить, тот и обычай творить». Но к чему вы вспомнили эту поговорку?
Фабрисио. А к тому, что наступают карнавальные торжества, а они впервые застают меня в Бургосе; вот я и хотел узнать у вас, здешней уроженки, как тут проводят праздник порядочные люди, чтобы и мне приспособиться к вашим обычаям.
Донья Петронила. Что до наших обычаев, сеньор, то я, пряха и рукодельница, охотно опишу вам, как у нас прядут карнавальную кудель и крутят праздничное веретено.
Фабрисио. Отлично. Вы ответили изящно, и я рад, что мы встречаем карнавал в таком прекрасном настроении. Что же нам предпринять, чтобы сегодняшний воскресный вечер прошел в нашем доме весело и приятно? Ведь и понедельник и вторник пойдут по той же колее.
Донья Петронила. Карнавал у нас в Бургосе празднуют по-разному, кто как. Жителей нашего города можно разделить на три сорта: простой люд, горожане достаточные и степенные, и, наконец, знатные молодые кабальеро, народ веселый и ветреный. Но многим жителям в праздник не до праздника: это, во-первых, кондитеры, которые не успевают опоражнивать печи с такой же быстротой, с какой бургосцы набивают свои желудки, ибо на устье одной печи приходится не менее двухсот жующих уст; во-вторых, повара, — эти уже с субботы в трудовом поту; в-третьих, трактирные служанки, которые разливают вино, ибо меркам нет меры; и, наконец, больные, — ведь болезнь не знает ни отдыха, ни сна, и если смерть никому не дает пощады, то и болезнь, ее преддверие, не признает ни будней, ни праздников.
Неизвестный испанский художник XV в. Бургос
Буквица.
Гравюра на дереве.
Однако вернемся к карнавалу. Простой народ, люди улицы, шатаются в эти дни по городу, подстраивая встречным и поперечным смешные, но необидные проказы. Горожане благонравные и степенные ходят друг к другу в гости и ведут веселые беседы; юные же кабальеро, — как того и требуют их зеленые года, не терпящие покоя и домоседства, — устраивают маскарады, с азартом играют, иной раз открыто на площадях, иной раз за закрытой дверью, или придумывают другие забавы, будоража себя и улицы города. А теперь выбирайте развлечение, подходящее нашему имени и званию.
Фабрисио. Все это убого в сравнении с тем, что проделывали мы, воспитанники университетов, где карнавал празднуется куда пышней и веселей, ведь школяры — самый подходящий народ для всяческой гульбы. Но, сообразуясь с теперешним нашим званием, разумнее всего, думаю, пригласить к ужину нашего друга и соседа дона Диего. Лучшего собеседника не найдешь. Прикажите звать его к нам, пока он не уговорился пойти к кому-нибудь другому.
Донья Петронила. Право, видно, что вы не галантный кавалер: ведь мы можем и должны пригласить и его супругу, нашу добрую приятельницу донью Маргариту; вы о ней даже не подумали, на ум вам пришел только дон Диего. И его я приглашу с великим удовольствием; но, если позволите, позовем лучше их обоих. Они такие нежные и любящие супруги, что друг без дружки никуда не пойдут.
Дон Диего. Мир дому сему! Есть кто живой? Найдется ли пристанище для двух приезжих?
Фабрисио. Мест нет, господа. Постояльцев и без вас хватает, а ужина на один зуб.
Донья Петронила. Добро пожаловать, дорогие соседи, ваши милости словно угадали, о чем мы говорили.
Фабрисио. Мы с доньей Петронилой как раз собирались послать звать ваши милости к нам. Но вы спросили, найдется ли место для бесприютных, и мне пришла на память одна история, сжатая, да густая.
Трактирщик из Борсегильи задумал женить сына, и в вечер свадьбы на постоялый двор нахлынуло видимо-невидимо гостей, учуявших, что тут будет весело и сытно. Все комнаты и кровати были заняты, многим не хватило места. Когда все легли спать, в ворота постучался еще один проезжий с просьбой приютить его на ночь. Ему отворили, но сказали, что все постели заняты. Тот все же упросил, чтобы его накормили ужином, присовокупив, что место для ночлега он сам себе найдет: пристроится за деньги в ногах у кого-нибудь из постояльцев. Поужинав, он пошел искать, кто бы пустил его к себе, и первая же комната, куда он вздумал войти, оказалась спальней, где уложили новобрачных. По воле случая приезжий постучался к ним в тот самый миг, когда они, с соизволения нашей пресвятой матери церкви, вступали в свои супружеские права. Потревоженный жених спросил, кто стучит и что надо, и когда ночной гость объяснил, что он бедный путник и ищет, кто бы уступил ему за деньги немного места на кровати, молодой ответил: «Ступай отсюда, друг, здесь места нет, мы и так стиснуты дальше некуда».
Донья Маргарита. Клянусь, господин доктор сегодня в самом карнавальном настроении. Пожалуй, в другое время из столь ученых уст вашу историйку грешно было бы слушать. Но сегодня сойдет; и не то услышим, особенно если придет Кастаньеда, у которого их целый мешок, одна другой забористей.
Дон Диего. Он уж непременно придет, я велел прислать его нынче вечером.
Фабрисио. Господа, пройдемте в гостиную, усядемся вокруг жаровни, а кто не сумеет вставить от себя в разговор что-нибудь веселенькое, не на кресле тому сидеть, а под вьючным седлом.
Дон Диего. Сегодня, стало быть, можно развязать язык. Слова господина доктора напомнили мне историйку того же сорта.
Некая дама весьма не жаловала одного из родственников своего мужа за то, что, бывая у них, он не раз говорил с ней вольно и неуважительно. Однажды, когда у супругов были в гостях знакомые дамы, явился и этот господин; хозяйка встретила его не слишком приветливо, а когда муж приказал подать гостю кресло, сеньора сказала: «Если он будет молчать, пусть ему подадут сиденье; но если намерен говорить, то — седло и уздечку».
Кастаньеда. Ей-богу, здесь кого-то произвели в мула под поклажу: ведь поминают седло и узду.
Дон Диего. А вот и Кастаньеда.
Донья Маргарита. Ты Кастаньеда?
Кастаньеда. Сперва скажите: ужин цел или уже съеден?
Донья Петронила. Съеден.
Кастаньеда. В таком случае, я не Кастаньеда, а солдат-дезертир. Оставайтесь с богом; я пошел.
Фабрисио. Да постой, дурак, не спеши. Мы еще не ужинали.
Кастаньеда. Тогда я Кастаньеда. Знаете про одного картежника?. Проиграв в один вечер все деньги, он пришел к приятелю и спрашивает: «Ты уже спишь?» Тот отвечает: «А что?» — «Если не спишь, дай денег взаймы, я попробую отыграться». — «Ну, тогда я сплю», — ответил тот. Вот и я: если вы уже съели ужин, то я не Кастаньеда.
Дон Диего. Садись с нами. Сегодня у тебя язычок из соли с перцем.
Кастаньеда. Рад, что вы это подметили. Когда поднесете чарочку, глядите, чтоб в вино не попало ни капли воды, а то соль растает, и я онемею.
Дон Диего. Если бы ты побывал сегодня на проповеди у нас в церкви, думать перестал бы о радостной чарочке, услышав, какие громы и молнии метал священник на карнавальные яства и пития.
Кастаньеда. Не знаю, что за проповедь вам читали, а в нашей церкви проповедник сморозил с кафедры такую глупость, какой мне еще не доводилось слышать.
Дон Диего. Не смей так говорить, дуралей; это тебе по собственному твоему невежеству показалось. Ученость господина проповедника тебе не по зубам. А скорее всего ты хочешь сбыть нам какую-нибудь прибаутку собственного изобретения как ошибку проповедника.
Фабрисио. Послушаем. Я тоже могу подкинуть парочку острот о проповедниках.
Кастаньеда. Приводя, уже не помню, по какому случаю, притчу о том, как Иисус Христос выгнал из храма торговцев скотом[366], преподобный отец выразился так: когда господь увидел, что святой храм осквернен торгашами и менялами, он сказал: «Грязные евреи, дьявол вас забери, дом божий вы посмели обратить в скотобойню?» И, взяв несколько веревок, оставшихся на распятии после служб на святой неделе, свил из них бич и разогнал осквернителей.
Фабрисио. Трудно поверить, чтобы духовное лицо могло сказать с кафедры что-либо подобное. Прихожане вечно сочиняют небылицы про своих пастырей.
Донья Маргарита. Не будем сейчас доискиваться, говорил это проповедник или не говорил; нам нужны сейчас не истины, а веселье. Пусть же дон Диего расскажет, что обещал.
Дон Диего. Один проповедник, повествуя о крестном пути Христа, приговаривал: «Видели бы вы, как безжалостно эти изверги терзали нежнейшее тело Искупителя и с какой небесной кротостью он говорил при каждом ударе бича: «Да будет так, во имя господа нашего Иисуса Христа».
Донья Маргарита. Это напоминает мне слова другого пастыря, читавшего проповедь в праздник благовещенья. Обращаясь к женщинам, он поучал нас: «И что же вы думаете, сеньоры прихожанки, за каким занятием застал ангел деву Марию, когда явился к ней с благой вестью? Думаете, может быть, она распевала сарабанды и чаконы, как водится у вашей сестры? Нет! Коленопреклоненная перед святым распятием, она молилась пресвятой матери божией!»
Фабрисио. В одном назидательном поучении о праведном Иове[367], которого никакими искушениями нельзя было заставить произнести хоть слово хулы на господа, говорилось, что, удивленный его стойкостью, Сатана воскликнул: «Господи, твоя воля! Неужели я так и не заставлю этого чертова болвана сказать про бога что-нибудь дельное!»
Донья Петронила. Моя история будет с деревенским привкусом, так как перед самым замужеством мне пришлось пожить в деревне. У одного крестьянина по имени Ордунья[368] пропал осел. Как-то, читая проповедь с кафедры, наш священник говорил о силе любви: что, мол, нет на свете человека, как бы он ни был суров и мужествен, который бы хоть раз в жизни не любил. Тут на середину церкви выходит с гордым видом какой-то мужлан, надутая деревенщина, и говорит: «Глядите все на меня: со мной этого в жисть не бывало, чтоб я в бабу втюрился». Тогда священник, обернувшись к хозяину пропавшей скотины, воскликнул: «Эй, Ордунья! Вот же стоит твой осел!»
Кастаньеда. Клянусь небом, лихо высмеял его священник. Я тоже думаю, что человек, которому любовь никогда не ела печенку, стоит того, чтобы на нем возили воду, — если только он не святой.
Фабрисио. А зачем исключать святых? Если бы им неведома была любовь, — правда, не та, о которой мы сейчас толкуем, то что они были бы за святые? Ведь смысл веры, которая сделала их святыми, — это любовь, любовь к богу и к ближнему.
Кастаньеда, Ну, ну, Фабрисио, остановитесь, черт подери. С какой стати объявлять великий пост на три дня раньше срока? Избавьте от выспренних речей, возносящих к высям созерцания. Сейчас время не виниться и слезы лить, а вино пить. И раз преподобный отец, о котором мы слышали, обозвал ослом мужика за то, что он никогда не влюблялся, давайте уж поговорим о разных случаях ослоназывания. Мне как раз пришла на память одна такая историйка.
В некоем кастильском городе устраивалась коррида. Один бык вырвался из загона и забежал во двор частного дома, где в это время двое господ развлекались игрой в карты. Ища, где бы укрыться, один из них, кавалер ордена Сант-Яго, как был, в мантии и при шпаге, спрятался под стоявшей там телегой; второй, лицо духовное, залез с грехом пополам под вьючное седло. Когда бык скрылся, оба стали подсмеиваться друг над другом. Священник, сидевший под седлом, сказал своему приятелю, укрывшемуся под телегой: как же, мол, тот, воин святого Якова, в командорском облачении и при шпаге на поясе, не постыдился уползти под телегу? На что командор отвечал насмешнику: «Признаюсь, на быка я не пошел. Но пусть я действительно, как говорит ваша милость, испугался, однако забодай бык нас обоих насмерть, то я предстал бы перед господом с легкой душой». — «Почему?» — спросил священник. «А потому, что я явился бы в моем облачении ордена Сант-Яго[369], ваша же милость — облаченной во вьючное седло».
Фабрисио. Сеньор командор дал острый и смешной ответ. Помню, в бытность мою студентом богословия в Саламанкском университете, один тамошний остряк, подшучивая как водится над неким малым, туповатым с виду, да и не только с виду, и показывая на него пальцем, говорил окружающим: «Знайте, господа, что этот сеньор, будучи еще совсем зеленым отроком, любил молиться перед изображением Иисуса Христа, въезжавшего на осле в Иерусалим, и каждый день, стоя на коленях, творил такую молитву:
О, сколь, должно быть, горд осел своей судьбой —
сам бог его седок; подняться можно ль выше?
Господь, молю, яви мне лик могучий свой
и обрати в осла того, что под тобой!
И, говорят, господь его мольбу услышал.
Дон Диего. В последнем стихе немало яда.
Донья Маргарита. Еще больше было в словах одной дамы, сказанных прозой. Ей приглянулся некий кабальеро, не отличавшийся пылкостью чувств и не большой любитель женского пола. Чтобы дать ему удобный случай исполнить ее желания, дама пригласила его позавтракать в загородном доме на другом берегу реки, и, когда пришлось перебираться туда вброд, сеньора попросила кабальеро разуться и перенести ее на плечах. Так он и сделал. Они закусили, прошел весь день, но ожидания дамы не сбылись. На обратном пути они встретили на берегу водовоза с ослом, навьюченным кувшинами, даму посадили на осла, но при переправе край ее платья немного намок в воде. Кабальеро заметил: «Странно, что ваша милость замочили подол, сидя на таком крупном осле; утром я перенес вас на плечах, а платье осталось сухо». На что дама в сердцах отвечала: «Я вижу, что этот осел крупный. Но если давеча мой подол остался невредим, то потому, что ваша милость еще крупнее».
Донья Петронила. Сеньора озлилась не на шутку.
Дон Диего. И не удивительно. Ведь, по правде говоря, это немалая обида: понести издержки давнего желания, накрыть на стол своих намерений, и вдруг в самый час трапезы приглашенный встает и уходит — особенно если гость мужчина, а угощает женщина. Обида еще злей, а конфуз унизительней.
Кастаньеда. Однако пусть дон Диего не воображает, что заговорит нам зубы благонравными рассуждениями. Мы ждем истории, но поближе к теме.
Дон Диего. Умоляю, Кастаньеда, расскажи что-нибудь за меня; ничего подходящего не приходит в голову.
Кастаньеда. Ну уж нет, клянусь спасением души.
Дон Диего. Прошу тебя, Кастаньеда. По дружбе!
Кастаньеда. Никак нельзя; ведь я поклялся спасением души, и если не сдержу клятвы, бог не спасет меня.
Дон Диего. Спасет, спасет тебя бог; он же обещал.
Кастаньеда. Когда это?
Дон Диего. Когда сказал: «Homines et jumenta salvabis, Domine»[370].
Фабрисио. Вы ловко поддели Кастаньеду. Жаль только, что употребили цитату из Писания: ведь это слова священные, а наша беседа шуточная, и лучше бы их сюда не мешать. Извините за поучение. Но ведь всякие писания — моя профессия, и я обязан блюсти их достоинство.
Кастаньеда. А что такое сказал по-латыни дон Диего?
Фабрисио. Это не твоего ума дело. Оставь латынь для тех, кто ее изучал.
Дон Диего. Все же странно, почему ты не понял моих слов? Ваш брат жонглер всегда рад взять у латинистов какой-нибудь «quid», невесть каким дураком выдуманный[371].
Кастаньеда. Что такое «квид», я не знаю, а выдумали его вы сами.
Дон Диего. Ну ладно, плут, мы квиты. Я обругал тебя ослом, а ты меня дураком.
Донья Маргарита. То же сделал, и весьма остроумно, один кабальеро, к которому пришел с визитом другой. Когда он стал учтиво приглашать гостя занять лучшее кресло и самое почетное место в гостиной, тот, не дожидаясь повторного приглашения, уселся в кресло со словами: «Что ж, сяду; лучше быть дураком, чем упрямцем». На что хозяин ответил: «Ваша милость так умны, что всегда выбираете лучшее».
Дон Диего. Не менее забавно обозвал дураком одного господина небезызвестный Кольменарес.
Фабрисио. А кто этот остряк Кольменарес?
Дон Диего. Богатый трактирщик, живший в нашем городе, человек веселый и большой острослов.
Тамошний рехидор, о котором поговаривали, что его деды и прадеды не были крещены, настоятельно требовал от Кольменареса, чтобы тот перебрался со своим трактиром в другую часть рода. Кольменарес сказал ему: «Ей-богу, ваша милость, вы воздвигли такое гонение на мой трактир, словно здесь вино водой кропят; поверьте, оно с этой стороны так же безупречно, как весь ваш почтенный род». Видя, что трактирщик задет за живое и настроен воинственно, рехидор решил умиротворить его кроткой речью и возразил: «Поймите меня, сеньор; ведь мы, высшие по рангу, вынуждены налегать всей тяжестью на остальных; поясню свою мысль: самые весомые предметы в городе — медные колокола на соборе, и помещены они выше всех крыш. Так и мы, старейшины, находимся выше прочих жителей и давим на них своей тяжестью». На что Кольменарес ответил: «Вы попали в самую точку, сеньор рехидор; но только обычай подвешивать медные колокола на самой верхотуре означает совсем другое, а именно то, что лишь медные лбы считают себя выше всех и давят других своим весом».
Донья Петронила. Этот Кольменарес как-то спросил одного из своих соседей, откуда тот родом. Сосед отвечал: «Я вырос в деревне при дороге, что ведет в Кампану». — «При дороге? — заметил Кольменарес. — Так вот отчего ты лопух!»
Фабрисио. Кажется, эту же шутку я слышал в Саламанке на состязании, называемом «игрой в петухов»; помню, я очень смеялся.
Дон Диего. Просим вас, сеньор доктор, расскажите нам об этих петушьих играх. Как я слышал, они проходят необыкновенно весело.
Фабрисио. Если желаете, я могу прочесть вам полный текст; кажется, эти листки сохранились у меня в столе.
Кастаньеда. Что ж, тащите сюда петухов. А мы с доном Диего побудем пока в обществе двух курочек.
Фабрисио. У этих курочек есть собственные петухи; нас тут избыток; тебя ждут в другом курятнике. Одну минуту, господа, я принесу рукопись…
Несколько дней тому прочел я в книге одного умнейшего автора про случай из жизни герцога Филиппа Доброго[373], того самого, что учредил орден Золотого Руна в городе Томер, в церкви святого Бертина, пожаловав звание кавалеров двадцати четырем рыцарям, коих называл «двумя дюжинами недюжинных», а на знамени ордена велел вышить герб — кресало в руке, занесенной над кремнем, и вокруг, кольцом, девиз: «Бей сразу и высечешь искры». Итак, вычитал я, что сей христианнейший принц, достигнув преклонных лет, часто и упорно говорил о тленности всего земного и обмане мирских обольщений. Однажды вечером, объезжая город со свитой приближенных, увидел он на улице пьяного человека, с нечистым и закопченным лицом, лежавшего в грязи и спавшего так крепко, что его невозможно было добудиться. Герцог приказал доставить его в свою резиденцию, ибо на этом примере задумал показать тщету нашей жизни. Пьяного, как было велено, перенесли во дворец, затем был дан приказ снять с него лохмотья, надеть тонкую сорочку и уложить на кровать в герцогской опочивальне, а утром подать одеться и прислуживать так, как подавали и прислуживали самому герцогу. Наутро, когда хмель, по их расчету, должен был пройти, в спальню явились придворные с вопросом, какого цвета костюм угодно надеть всемилостивейшему сеньору в этот день, а бедняга, ошеломленный видом богатого покоя и стольких знатных вельмож, из коих многие обнажили перед ним голову, не мог вымолвить ни слова; он молча смотрел на них и, видимо, думал, что всего два часа назад пил вино в таверне и раздувал мехи в своей кузне (как узнали потом, это был кузнец, живший неподалеку от дворца). Ему принесли нарядную одежду и подали кувшин с водой и таз, но он к ним не прикоснулся, ибо не знал, как надо умываться. На вопросы он не отвечал; только все смотрел в окно на свою лачугу и, верно, думал: «Господи, твоя воля! Разве не я живу в этом домишке[374] с трубой на крыше? Не мой ли сын Бартолильо тот мальчуган, что запускает волчок? И разве женщина, что прядет на крыльце, не жена моя Торибия? Как же я очутился среди всей этой роскоши?» Полагаю, так он думал в своей душе. Накрыли на стол, он сел обедать, и герцог находился среди сотрапезников. А потом, с наступлением ночи, ему подали большую чару вина, чтобы он опять упился до беспамятства, и, как только он крепко заснул, сняли с него богатую одежду, натянули вчерашние лохмотья и по приказу герцога отнесли на то самое место, где накануне подобрали. И когда все это было исполнено, Филипп Добрый прибыл туда со своей свитой, и велел разбудить пьяного, и спросил его, кто он таков. Тот, растерянный и оторопелый, ответил, что уж и сам не знает после всего случившегося с ним за последние два часа, и больше не хотел говорить; по, уступив наконец долгим и настойчивым расспросам, сказал:
— Государь, я кузнец, и зовут меня Имярек[375]. С час или полтора назад я вышел из дому, выпил немного вина, сон меня сморил, и я заснул на улице и видел во сне, будто я король, и мне прислуживают знатные господа, и я ношу пышный наряд, и сплю под парчовым пологом, ем и пью по-королевски, и я был так доволен, что от радости у меня, видно, ум отшибло, а теперь я сам вижу, что так оно и есть, ибо все это был сон.
И тогда герцог сказал:
— Вы видите, друзья, сколь бренны земные обольщения. Жизнь наша есть сон; ибо все, что говорит этот человек, случилось с ним наяву, и вы сами тому свидетели; а он думает, что это приснилось ему во сне.
С превеликой пышностью царствовал некогда в Греческой империи спесивый и воинственный император Никифор[377]. Вот начал он войну против соседа своего Дардана, царя Болгарии, а причиною было то, что спесивый император потребовал от Дардана[378] завещать Болгарское царство одному из двух его, Никифора, сыновей как близкому родичу, ибо, по законам той страны, дочь Дардана, называвшаяся Серафиной, наследовать трон не могла. Добрый царь Дардан отвечал, что, ежели тот сын, коего Никифор прочит ему в наследники, женится на единственной его дочери, он, мол, тотчас передаст зятю все царство свое, в противном же случае завещает его Римской империи. Но спесивый император заносился высоко: надеясь на могущество свое, он отверг это предложение и вознамерился пойти войною на болгар, изгнать Дардана и завладеть его царством. Мудрый царь Дардан мог бы победить Никифора, прибегнув к волшебству, в коем не было ему равных, однако он дал обет всевышнему никогда не пользоваться сим искусством во зло господу или во вред ближнему. Человек добрый, разумный и враг войны, собрал он для защиты от грозного врага совсем небольшую рать, и вскоре насильник изгнал Дардана из богатого и цветущего края, повергши злополучного царя в уныние и нужду превеликую. Однако подругою Дардану была добродетель, и он в этой беде оказал больше мудрости, нежели в прошлых: будучи изгнан из отечества своего и царства, лишившись своих воинов, рыцарей и придворных, потеряв несметные сокровища, утратив льстивых друзей, не находя ни в ком ни поддержки, ни сочувствия, удалился он вместе с любимой дочерью из населенных мест в дремучий лес. Клонясь под бременем лет, шел он, опираясь на руку единственной дочери своей, и вот повел он такую речь:
— Любимая и бесценная дочь моя! Знай, божественный философ Аристотель говорит, что истинно лишь то блаженство, которое длится не миг один, но всю жизнь, что лишь оно совершенно и совершенство это состоит в добродетели. Говорю это к тому, дабы ты не думала, будто блаженство могут дать блага преходящие и земные. Также испанский философ Сенека[379] говорит, что ничтожен дух, находящий утеху, радость и наслаждение в земном. И ежели господу было угодно лишить меня благ земных, он наделил меня взамен благами небесными и духовными, отчего я вправе почитать себя счастливым, довольным и облагодетельствованным судьбою; и поверь, дочь моя, огорчает меня лишь одно — то, что ты столь внезапно оказалась в нищете и в горести, что уже не окружают тебя толпы принцев и рыцарей, которые прежде поклонялись тебе и искали твоей милости: недели не прошло с тех пор, как тебя величали принцессой и дочерью могущественного царя, а ныне ты можешь назвать себя дочерью самого нищего и горемычного человека на земле; о себе-то я не скорблю, ибо знаю, чего стоят и на чем покоятся блага изменчивого мира сего, и знаю, что я не первый царь, кого постиг столь плачевный жребий: созерцая, как зритель в театре, свою трагедию, я вспоминаю гибель злосчастного императора римского Геты[380], которого победил и убил его брат Бассиан Антонин, да еще кончину Юлия Цезаря, владевшего миром и убитого лучшими своими друзьями у подножья статуи заклятого своего врага Помпея, да еще судьбу Юстиниана Второго, свергнутого и изгнанного из империи его слугою Леонтием, который, для вящего посрамления, отрезал изгнаннику уши, да еще участь Людовика Благочестивого, которого родные сыновья с великим позором изгнали из Римской империи. И, наконец, дочь моя милая, я познал, что в непостоянном сем мире повсюду идет непрестанная война: так мы видим, что горние небесные сферы в движении своем противятся одна другой, что светозарные звезды на небесном своде сталкиваются и спорят, что враждебные стихии непрестанно между собой воюют: буйные ветры гоняют волны на пенистом море, вода стремится погасить неукротимый огонь, а огонь — сокрушить и уничтожить воздух и воду; лето терзает нас несносною жарой, зима — пронзительным холодом и непогодой, реки — бурными разливами и яростным течением вод своих. И ежели так обстоит дело в мире созданий не чувствующих и неодушевленных, чего же ждать от существ чувствующих и наделенных разумом? Обдумав все это и видя, сколь мало в людях склонности к миру и покою, клянусь тебе вечным хаосом отныне не жить среди людей. Да, я намерен навсегда уйти от их жалкой участи, силами своего волшебства я создам великолепный, роскошный дворец в пучине морской, где мы, отказавшись и отрекшись от бренного человеческого существования, будем жить покойней и приятней, чем на самой плодородной земле. Думаю, теперь я вправе прибегнуть к искусству волшебства, на изучение коего немало положил трудов, ибо тут оно послужит не во вред ближнему и не во зло богам.
Прекрасная Серафина выслушала его со вниманием и, опустив знамя горделивых своих надежд, отвечала любимому отцу, что последует за ним, куда он повелит, а для прелестной юной девицы отказаться от всякого общения с человеческим миром было изрядным подвигом. Так беседуя, они вышли на берег моря, где их ждала красиво изукрашенная ладья; оба сели в нее, и царь взялся за длинные весла. Рассекая ими бурные волны, он направил ладью в Адриатический залив и, достигши его середины, остановился: силами волшебства морская пучина тотчас разверзлась, воды, подобно двум мощным стенам, застыли по обе стороны ладьи, которая опустилась на самое дно и причалила к великолепному дворцу, высившемуся на дне морском, столь богато и роскошно отделанному, какого не бывало ни у одного царя или князя в этом мире. Могучие стены его изнутри и снаружи были покрыты листами черненого серебра, с вычеканенною на них картиной Фарсальской битвы, а портал сработан с таким изяществом и мастерством, что, казалось, ничего равного не могла бы создать даже самая совершенная архитектура; фризы, обелиски, резьба превосходили красотою создания Фидиевы, ступени были из порфира, полы выложены мозаикой из драгоценных каменьев, образовывавших узоры редкостной прелести, основания и капители коринфских колонн поражали взор великолепием, своды, потолки, галереи и лепные орнаменты были украшены золотом, слоновой костью и перламутром, и с них свисали крупные золотые гроздья винограда, а в главной зале потолок был сделан наподобие свода небесного с превеликим искусством и такой тонкостью, что дух захватывало. Там был изображен Аполлонов зодиак[381] с его двенадцатью знаками и семью планетами; не меньшее восхищение вызывала Большая Медведица, которую в народе называют Возом, и Малая Медведица, прозываемая Рогом; также меч Персеев, находящееся на севере созвездие из двадцати шести звезд; и Южная Корона, состоящая из тринадцати звезд, и сторожащий Малую Медведицу Дракон. Столь же изумительна была фигура Водолея, щедро лившего воду из кувшина, дабы оплодотворить Землю, а также покоящиеся, неподвижные фигуры Арктики и Антарктики, двух полюсов, мирно и снисходительно взирающих на смятение, царящее среди светил небесных. Волшебный дворец украшали также четыре высокие башни, стоявшие на четырех его углах; снаружи покрывала их мельчайшая чешуя рыб, называемых «мериносами», а балконы на них были из червонного золота с прозрачными хрустальными окнами. Но что более всего поразило и восхитило Серафину, так это двери чудесного дворца, — были они целиком из перламутра и украшены дивною резьбой, изображавшею всевозможные сцены: справа было представлено прелюбодеяние Венеры[382] и тончайшая сеть ее супруга Вулкана, слева — заслуженное падение дерзкого Фаэтона[383]; за дверями открывалась четырехугольная зала, украшенная сорока колоннами из переливчатой яшмы, усеянной самоцветами, которые сиянием своим освещали просторные хоромы, как если бы горел там огонь или же пылающий факел; посреди залы был дивный фонтан, где из статуи бога Нептуна били две кристально чистые струи пресной воды; направо от фонтана находилась треугольная дверь, вся в сверкающих изумрудах и топазах, а за ней — восхитительный сад со множеством разнообразных фруктов и цветов, вечно сохранявших вкус и аромат; были там белая лилия, алая роза и веселый жасмин, пестрые, благоуханные гвоздики, фиалки, подснежники, гиацинты и шиповник, которые яркостью красок своих расцвечивали никем не хоженную землю, а орошали их родники, несшие свою дань в затоны и пруды, где кишела всяческая рыба и чьи берега окаймляли купы благоухавших деревьев, на зависть и в поношение садам Гесперид[384], дочерей Атлантовых. Соленые воды морские не дерзали посягнуть на волшебное это сооружение, имевшее в окружности двенадцать миль и увенчанное высокими аркадами, столь искусно сделанными, что казалось, то сверкают грани чистейших алмазов.
В этом волшебном дворце и поселился старый Дардан со своей прелестной и любимой дочерью Серафиной; силою своего волшебства он заставил служить ей сирен, нереид, дриад и прочих нимф морских, которые нежной, божественной музыкой услаждали слух. Но вот, прожив два года в подводных чертогах, прекрасная Серафина, побуждаемая склонностями своей натуры, завела с престарелым отцом такой разговор:
— Вам хорошо известно, любимый отец, что всем созданиям на нашей грешной земле присуще некое — не знаю, как и назвать его, — начало природной сообщительной любви: так, движущиеся горние сферы выказывают и сообщают свое влияние матери-земле, и она, радостно принимая их токи, дождь и росу, порождает столь великое разнообразие растений, трав, камней и металлов. Затем, ежели подумать о тысячах мелодий, коими оглашают чистые или туманные воздушные просторы пестрые и сладкозвучные птицы, то мы увидим, что музыка эта также проистекает от природной любви; итак, не мудрено и ничуть не удивительно, что любовь эта оказывает подобное же действие на вашу живущую в одиночестве дочь. Возможно, любимый отец мой, вы сочтете мои слова не вполне скромными, но говорить их меня понуждает сознание, что живу я без надежды услышать человеческий голос, упрятанная и заточенная в подводной бездне; посему прошу вас и умоляю — раз уж вам угодно, чтобы я провела юность и окончила дни свои в волшебном дворце вашем, — дайте мне в мужья, сообразно моему сану и возрасту, какого-либо знатного юношу.
Старый царь Дардан, убежденный разумными речами дочери, согласился выдать ее замуж соответственно сану ее и званию и как человек осторожный и мудрый стал с той поры думать и располагать, как бы исполнить ее просьбу.
Но вернемся в нашей истории к спесивому и победоносному императору Никифору, который, изгнав главного своего врага, царя Дардана, из его владений, настолько возгордился и вознесся, что повелел поставить бронзовые свои статуи и гербы на площадях всех больших городов Болгарии, а царские гербы Дардана — разбить и уничтожить. Но грозная смерть не боится даже самых спесивых и надменных монархов: вступив в бой с гордым императором Никифором, она повергла его на ложе в смертельном недуге. Видя, что он побежден смертью и уже близок к ней, созвал император всех грандов и объявил перед ними наследником своей империи и всех царств Юлиана, младшего сына, походившего на отца надменным и спесивым нравом, и оставил без наследства старшего, по имени Валентиниан, юношу кроткого, благочестивого и доброго, ибо, по несправедливому закону той страны, царь мог выбирать себе в преемники любого из сыновей, не обязательно первенца. И повелел Никифор, чтобы в его присутствии и при его жизни все клятвенно признали Юлиана императором и владыкой Греческой и Болгарской империй; когда же злой его замысел исполнился, пришел конец его во зле и в гордыне прожитой жизни.
Лишенный наследства в отечестве, принц Валентиниан, не находя ни поддержки, ни милости у грандов своей земли, решил втайне покинуть ее и просить помощи и покровительства у Константинопольского императора[385], дабы тот помог ему отнять у брата несправедливо унаследованные и присвоенные владения; дабы надежней скрыть намерение свое, он уехал один и тайком и, вскоре прибыв к каналу Адриатического моря, служащему надежной гаванью для кораблей, стал подыскивать судно, чтобы ехать дальше, но ничего не смог найти, кроме утлой ладьи, которою распоряжался и правил ворчливый старик, пообещавший быстро его доставить туда, куда ему надо. Желая поскорее добраться до Константинопольской империи, Валентиниан не посмотрел на то, что ладья непрочна и моряк стар; с поспешностью и без малейшего страха сел он в ладью, подобно тому как Цезарь сел в лодку Амикласа, но судьба ему уготовила не то, что он предполагал. Знайте же, сеньоры, что лодочник был не кто иной, как старый царь Дардан, который, выведя лодку на середину обширного залива, ударил волшебной палочкой по соленым волнам, — тотчас воды расступились, стали двумя мощными стенами, и устрашенный принц оказался на дне морском, у волшебного дворца. Изумленный великолепием этого сооружения, он весьма обрадовался, а царь Дардан немедля открыл ему свое звание и причину, по которой здесь поселился. Когда же принц увидел инфанту Серафину, любовь завладела его душой, он почел для себя счастьем великим, что очутился здесь, на дне морском, и стал горячо умолять царя отдать ему Серафину в жены и законные супруги. Старый отец не заставил себя долго просить, и вскоре с превеликим шумом и весельем была отпразднована царская свадьба, — силами волшебства Дардан созвал на нее многих царей, принцев и прекрасных дам со всех островов Средиземного моря.
Теперь, пожалуй, нам пора оставить тех, кто веселится и ликует на свадебном торжестве, и вернуться на землю, к Юлиану, новому императору Греции и Болгарии, младшему сыну покойного императора Никифора. Юлиан этот, сопровождаемый всеми грандами Греции, пустился в путь, чтобы жениться на дочери императора Римского. Не хочу быть многословным и не стану рассказывать о том, какой пышный прием оказали ему в Риме, какие дорогостоящие устроили там олимпийские торжества[386], пифийские, аполлоновские, немейские и цирковые игры, на которые, в угоду гостю-императору не поскупились римские консулы, диктаторы, префекты, цензоры и трибуны. Скажу лишь, что, возвращаясь в свои владения с любимой супругой и в сопровождении многих римских вельмож, Юлиан сел в Пескаре[387] на корабль и с огромным флотом поплыл по Адриатическому морю, удаляясь от его соленых берегов. И вот как-то утром, когда светозарный Феб, искупав огненных своих коней, подымался над морскими просторами, а флот Юлиана оказался как раз в тех местах и широтах, где под водою царь Дардан справлял свадьбу единственной своей дочери Серафины, подул свирепый северо-восточный ветер и разбушевались волны морские; небо вмиг заволокли густые черные тучи; встречные ветры вступили в столь яростный спор, что поломали и посбивали толстые мачты; затрещали корпуса кораблей, заскрипели канаты, рулевые колеса вырвались из рук, носы судов поднялись к небесам, а кормы погрузились в воду, все снасти порвались, из туч посыпались град, камни, молнии, огни; и вот алчные волны пожрали большинство кораблей, а грозные молнии испепелили то, что осталось, кроме четырех кораблей, на которых находились молодой император Юлиан с юной супругой, да его добро и казна, да кое-кто из князей греческих и римских, над которыми небо решило смилостивиться. Со страшным грохотом тонули разбитые и горящие корабли, погружаясь в пучину морскую, и шумом этим тревожили тех, кто веселился в волшебном дворце на царской свадьбе прекрасной Серафины. Сам бог Нептун, дивясь столь необычному смятению и переполоху, решил выйти взглянуть, кто это столь дерзко и непочтительно смущает покой его водяного царства, и приготовился уже поразить своим трезубцем оставшиеся корабли, но царь Дардан удержал его, сказав, что божественному его величию не подобает являться людям. А вместо него всплыл наверх сам волшебник Дардан; возвышаясь над водой по пояс, величавый и почтенный старец с длинными седыми волосами и бородой оборотился к уцелевшим кораблям, на которых были император и вельможи, и, гневно сверкая глазами, сказал им так:
— Что это значит, о несправедливый и надменный император? Мало того что твой тиран отец с люциферовой жестокостью захватил мое царство и, угнетая послушных моих вассалов, разрушая мои роскошные дворцы, разбивая и повергая наземь царские мои гербы, грабя мною приобретенные сокровища, изгнал меня с лица земли и вынудил опуститься на дно морское, где я ныне обитаю и проживаю, так еще ты, с отцовской жестокостью и унаследованной от него спесью, вознамерился разрушить и уничтожить мой волшебный дворец, швыряя на него огромные железные якоря и всяческое военное снаряжение. О, неукротимая, яростная гордыня людская, ты хуже свирепого гирканского тигра. В алчности своей[388] ты подобна ливийскому аспиду и ядовитому василиску, которые, разбухши от яда, жаждут человеческой крови. Бог дал человеку приятную и удобную для жизни землю, где столько многолюдных городов, украшенных чудесными, благоуханными садами, столько тенистых долин и высоких гор, в которых берут начало кристальные источники, сливающиеся в полноводные реки, столько богатейших рудников, даром дающих людям золото и серебро. Но, недовольные всем этим, гонимые алчностью, люди сооружают иные дома, чтобы плавать по водам, без страха и совести бороздить обширное лоно морское, тревожа покой водяных владык, нереид, нимф и мирных рыб, заставляя их бежать подальше от вашей гордыни и укрываться во влажные свои убежища. Одно тебе скажу, о несправедливый император: за то зло, которое ты причинил мне, недолго будешь ты наслаждаться неправедной своей властью.
И, закончив свою речь, царь Дардан, не дожидаясь ответа, сразу же погрузился в воду и возвратился в волшебный свой дворец, а император Юлиан так и застыл, навалившись грудью на золоченые перила кормы, и рядом с ним молодая императрица, его супруга, и некоторые из бывших при нем князей: все печальные и удрученные страшными бедствиями, которые им довелось пережить, а в особенности видом царя Дардана, которого они считали давно умершим, по пояс погруженного в соленые морские волны, изрекающего столь справедливые жалобы и пророчащего императору Юлиану недолгое владычество в империи. И впрямь оказалось оно не ложным. Не успел Юлиан прибыть в Дельфы, где находился его императорский престол и скипетр, как неутомимая Парка острыми своими ножницами перерезала короткую нить его жизни.
Столь велико было горе злополучной императрицы, что в скором времени и она переправилась через Коцит[389] вослед супругу, и вся Греческая империя была повергнута в глубокую печаль и скорбь горестной и плачевной кончиной обоих супругов. Тогда собралось на совет все дворянство греческое и признало, что то было справедливое наказание и возмездие, ниспосланное богом за то, что они признали императором Юлиана, младшего сына, когда по праву престол должен был принадлежать старшему, Валентиниану; а также за то, что дали согласие на несправедливую войну против старого царя Дардана и захватили все его царство, а самого его с невиданной жестокостью изгнали. И порешил совет разослать гонцов во все концы света на поиски принца Валентиниана, дабы отдать ему скипетр и венец империи, по праву ему принадлежавшие. Но царю Дардану не надобны были гонцы, он и так узнал о смерти императора Юлиана и императрицы и решил покинуть волшебный дворец вместе с любимым своим зятем Валентинианом и дочерью Серафиной и отправиться в град Дельфы, дабы там признали Валентиниана императором.
Задумано — сделано. С радостью уничтожили они волшебный дворец и, забрав из него великие сокровища, взошли на один из недавно затонувших кораблей и поднялись в нем на поверхность моря и при попутном ветре поплыли в гавань Дельф. Там их с ликованием встретил весь греческий народ, дивясь, что видит старого царя Дардана в таком величии и с несметными богатствами, и ему тотчас вручили ключи от его незаконно отнятого царства. Но радость народа удвоилась, когда услыхали, что принц Валентиниан женился на инфанте Серафине. И тут, с превеликим весельем и пышными празднествами, скипетр и корона всей империи были переданы Валентиниану. А царь Дардан, во исполнение своей клятвы никогда не жить на суше, так и не сошел с корабля, но приказал соорудить на пяти судах, стоявших в гавани, деревянный дворец, из которого провели галерею к императорскому дворцу зятя, и по галерее этой слуги доставляли старому царю все, что он ни пожелает. Так он прожил еще два года, оставив после себя славу государя справедливого, миролюбивого и добродетельного.
Пипин, сын храброго Карла Мартелла, правил Французским королевством в мире и спокойствии, но не было у него сыновей, чтобы передать им по наследству престол, и гранды Франции пребывали в великом унынии и страхе, как бы после смерти государя не начались войны, распри, убийства и мятежи из-за наследования трона империи; и вот, побуждаемые этим страхом, самые знатные и жаждавшие мира решили убедить и упросить императора Пипина жениться в третий раз, — быть может, богу будет угодно дать ему наследника, в чем с двумя прежними, уже покойными, женами было ему отказано. Но император Пипин был стар годами и почти не способен иметь детей, и потому он долго не соглашался сделать то, о чем просили подданные. Много раз говорили они ему об этом, слезно молили, и, решившись наконец исполнить их просьбу, ответил он так.
Он, мол, готов жениться на девице из любого рода и любого звания, лишь бы она пришлась ему по сердцу, и для того приказывает устроить королевский турнир и всяческие иные празднества и созвать на них всех девиц, славящихся красотой, а он уж выберет ту, что более других ему приглянется; в возмещение же расходов, которые потребуется девицам сделать для поездки на эти празднества, он-де жалует каждой из них тысячу золотых эскудо.
Едва услышали придворные долгожданный ответ императора, как во всем королевстве Французском пошло веселье и ликованье; были назначены дни для состязаний и турниров, во все области и города разослали грамоты с обещаниями ценных наград и настоятельными просьбами ко всем прекрасным девицам украсить празднества своим присутствием. Словом, сеньоры мои, чтоб не затягивать мою историю, скажу, что в назначенный день явились в Париж все дворяне и рыцари Франции, а также цвет французских красавиц; гости прибыли в роскошных каретах и носилках, верхом на добрых фламандских конях и белых иноходцах, так что весь город Париж с восторгом и изумлением взирал на невиданное зрелище, — казалось, то раскрылись врата небесные, и из них сошел на землю весь этот сонм красавиц в нарядных, блистающих уборах.
Не берусь неумелым своим языком рассказывать и описывать все подробности — это столь же невозможно, как сосчитать звезды небесные; скажу лишь, что к первому дню празднеств на обширной площади был устроен навес из драгоценной парчи, с карнизов, балконов, галерей и окон свисали дорогие ковры, а в том конце, где сидел император, была поблизости сооружена пышно изукрашенная большая галерея, на которой расположились девицы, известные своей красотой и созванные со всего королевства во исполнение государевой воли. Не было ни одной ступеньки, щели или уголка, откуда бы не глядели тысячи глаз, с восхищением созерцавших воинственную осанку рыцарей и статность их коней, красоту и изящество прекрасных дам, собравшихся здесь по воле государя. Трудненько пришлось бы тут Парису[391], когда бы он должен был рассудить, кто прекрасней; и на все это великолепие, окруженный грандами, глядел император, восседая на позолоченном балконе своего дворца и осведомляясь об имени и звании дам, прибывших во исполнение его государевой воли.
В их числе явилась дочь графа Мельгарского по имени Берта и по прозванию «Большая Нога», сестра Дудона[392], короля Аквитании; а прозвище такое дали ей за то, что одна ступня была у нее больше другой; но если забыть об этом изъяне, Берта была самой прекрасной и изящной изо всех дам, явившихся в Париж по воле государя, и стоустая молва народная превозносила ее без устали.
И вот, когда настал час начала праздничных торжеств, дивная эта красавица появилась на широкой площади в карете, обитой алым шелком, расшитым золотой нитью и усеянным драгоценными камнями, что сверкали в прихотливых узорах, поражавших искусством и тонкостью и окаймлявших бесчисленные, тоже вышитые, любовные сцены; великолепную карету везла восьмерка белых, холеных, статных лошадей, которые грызли удила с золотыми бляхами и мелодично позвякивали серебряными колокольцами. В карете сидела красавица Берта, и столь ослепительна была она в прелести своей, что, казалось, затмевала свет и сияние багряного Аполлона; роскошное платье на ней, расшитое скатным жемчугом и зелеными смарагдами, было изукрашено затейливыми узорами, искусно завитые и взбитые золотые кудри уложены в высокую прическу, на челе сиял драгоценный карбункул, окруженный искрившимися алмазами, лучи которых разноцветьем своим напоминали звездное небо, а вместо плюмажа или султана высилась фигурка Купидона из ароматной глины, источавшая нежное благоухание. Сопровождали Берту двенадцать всадников, которые, ловко поднимая резвых лошадей на дыбы и делая всяческие вольты, выказывали почтение глядевшим на них дамам.
Все взоры были очарованы красотой Берты и роскошью ее наряда, что вызывало зависть у сидевших на галерее дам. А старый император, лишь увидел красавицу, тотчас воспылал к ней любовью и уже ни на миг не сводил глаз с ее лица. Она же немного влюбилась в Дудона де Лиса, адмирала Франции, юношу бравого и любезного, который на этих празднествах оказал себя смелым бойцом. Но вот празднества, длившиеся две недели, завершились, и император повелел всем возвратиться в свои земли, пожаловав всем рыцарям и дамам по тысяче золотых эскудо в возмещение за понесенные большие расходы. Все разъехались по домам, а в столице еще ничего не было объявлено о том, каково решение государя.
Но, раненный золоченой стрелой Купидона, которую метнула в него красота Берты, старый император вскоре созвал ближайших своих советников и повелел им отправиться к графу Мельгарскому, дабы от его, императора, имени, просить графову дочь Берту ему в жены, королевы и императрицы Франции, ибо такова его государева воля. И дал одному из своих приближенных, а именно Дудону де Лису, адмиралу Франции, полномочия, чтобы тот от имени императора вступил в брак (тут мы напомним, что красавица Берта, будучи в Париже, влюбилась в Дудона де Лиса). Воля императора была исполнена к превеликой радости и удовольствию всего королевства, и вот послы его отправились в Верхнюю Бургундию, где находились владения графа Мельгарского, и, прибыв туда, были встречены и приняты графом с большим радушием.
Услыхав, что послы явились с просьбой и поручением от самого императора Пипина, граф и графиня так удивились и обрадовались, что граф долго не находил слов для ответа, но наконец смиренно изъявил свое согласие, сказав, что он и дочь его почитают себя рабами императора и видят великое для себя счастье в том, что император, снизойдя до его дочери, пожелал избрать ее своей супругой. Берта была вне себя от радости, что ей предстоит столь завидная и высокая честь, и обвенчалась с Дудоном де Лисом, представлявшим императора и имевшим от него полномочия. Новобрачной преподнесли богатейшие драгоценности и дары, было устроено великолепное свадебное торжество и сделаны приготовления к подобным же торжествам на всем пути молодой императрицы; цвет бургундской знати отправился сопровождать ее в Париж с пышностью и великолепием, подобающими императрице.
Итак, с большой свитой покинула она Мельгарию, и по пути во всех городах и селениях ей оказывали пышный прием и устраивали дорогостоящие празднества; престарелые родители, однако, не поехали с нею по причине болезни графа. И вот, сеньоры мои, во время этого путешествия была затеяна и осуществлена самая коварная интрига из всех, о каких вы когда-либо слышали. А дело было в том, что при молодой императрице находилась некая девица, ближайшая ее фрейлина из рода Маганса[393], одного с нею возраста, которая сложеньем и лицом так походила на свою госпожу, что дворяне из свиты не раз обманывались; единственное, что отличало ее от императрицы, было платье, не такое, разумеется, дорогое и великолепное. Девицу эту звали Фьямета, и прекрасная Берта столь сильно ее любила и ценила, что лишь ей одной поверяла заветные свои тайны. Вот однажды, удрученная печалью, открыла она Фьямете свое сердце, сказав так:
— Хочу убедиться, милая и горячо любимая Фьямета, насколько твердо ты хранишь мои, ото всех скрытые, а тебе открытые, тайны, и для того отворю тебе врата в тайники сердца моего, ибо истинная дружба состоит не только в единстве и согласии желаний, но также в сообщении сокровенных тайн. Итак, открою тебе чистосердечно главную причину печали, столь сильно и безжалостно меня томящей; хотя счастливая судьба, с одной стороны, благоволит мне и подымает меня на самую высокую вершину мира сего, суля скипетр и венец империи, но, с другой стороны, она дает мне в мужья императора Пипина, этого дряхлого старца, которого, коль верить молве, преклонные годы сделали совсем бессильным. Я же сердцем и душой влекусь к Дудону де Лису, адмиралу Франции, и мечтаю, чтобы богу было угодно — поскольку уж Дудон обвенчался со мною по поручению императора и от его имени — сделать Дудона настоящим моим мужем; и во всем этом самое тяжкое для меня, что забота о доброй славе не дозволяет мне открыть ему мою муку. Но злая кручина всегда бодрствует и научает человека всевозможным хитростям, чтобы сбросить ее бремя с плеч; вот и я изобрела, как от своей печали избавиться. Раз уж Природе заблагорассудилось создать нас обеих с одинаковой фигурой, лицом и осанкой, манерами и голосом, — так что все, кто нас видит, с трудом различают нас, — надумала я, чтобы ты, одевшись в мое платье и королевские уборы, в ту ночь, когда приедем в Париж, легла в постель императора и совершила вместо меня то, к чему меня обязывает принятый мною венец, — затем ты навсегда останешься истинной императрицей, а я буду твоей фрейлиной и назовусь твоим именем; ты же, нося столь высокий сан, сможешь обвенчать меня с Дудоном де Лисом, адмиралом Франции: обе мы будем довольны и сможем жить каждая по своему вкусу.
Едва разобралась вероломная Фьямета в планах юной императрицы, как в ее душе созрел коварный умысел против госпожи; она задумала исполнить желание Берты, чтобы потом, став императрицей, убить ее и остаться безраздельной, владычицей и государыней Франции. Чтобы успешней осуществить свое дело, она льстиво согласилась с Бертой, восхваляя ее изобретательный ум и удивительную хитрость, пообещала выдать ее замуж за Дудона де Лиса и заставить императора дать ей в приданое много поместий, не скупясь на всяческие иные посулы, подкрепляемые клятвами и заверениями. Как достойная ветвь от ствола Маганса, предательница Фьямета, не теряя времени, стала плести свои козни, чтобы ей стать императрицей, а госпожу умертвить; о замысле своем она известила нескольких родичей из сопровождавшей их свиты, чтобы выведать, поддержат ли они ее обман и коварство; задуманное ею дело пришлось им по душе, они пообещали сделать ее полноправной государыней Франции и убить подлинную владычицу, она же посулила им, когда все осуществится, великие милости и почетнейшие должности.
Итак, прибыли они в город Париж, вышел им навстречу старый император и с ним все горожане; молодую императрицу приняли с великой радостью и ликованием, и вечером того же дня красавица Берта, в подтверждение уже свершенного венчания, была снова обвенчана кардиналом Вирином. А с приближением брачной ночи она, как велит королевам обычай, удалилась в свои покои, дабы служанки ее раздели, но не позволила войти к себе ни одной из них, кроме Фьяметы; Фьямета надела брачные одежды Берты, а Берта взяла ее платье; затем коварная Фьямета легла в постель к старому императору, а ее госпожа Берта, ради того, чтобы все верней осталось в тайне, решила в ту ночь не спать с прочими придворными дамами, но, под предлогом, что будет охранять покой новобрачных, расположилась на выходившей в дворцовый сад галерее.
А злодейка Фьямета уже договорилась со своими родичами, чтобы в ту же ночь Берту из сада похитили и, отвезя ее в лес за четыре лиги от Парижа, убили. И вот настал условленный час, и под покровом ночи злосчастную Берту выкрали и безжалостно потащили в густой лес с намерением прикончить. Она же, со струящимися по божественному ее лицу потоками слез, умоляла и заклинала пощадить ее молодую жизнь. Но подлые рыцари, а вернее, палачи, углубясь в лесную чащу на целую лигу, хотели исполнить адский свой замысел, и слезы Берты долго не могли смягчить их жестокие сердца. В конце концов они все же решили не убивать ее, но, сняв с нее одежду, кроме тонкой, прозрачной сорочки, оставить привязанной к стволу засохшего дуба, полагая, что она и так умрет от голода или будет растерзана дикими зверями. Так они и сделали и принесли коварной Фьямете одежды Берты в свидетельство того, что она убита; тем временем несчастная королева, жертва злобных замыслов, почти нагая, томилась в лесу; белизна девственного ее тела соперничала с белым снегом, лесные деревья глядели на прелестные ее груди, травы смиренно лобызали точеные ноги, обильными потоками струились по ее плечам золотые кудри, подобные драгоценным нитям аравийского золота, а нежный голос оглашал темный лес пенями и стонами и, доходя до слуха лесных зверей, повергал их в страх и изумление. Сетуя на злосчастную свою судьбу, изливая скорбь, дабы облегчить удрученное сердце, Берта говорила:
— О не знающий мира мир, изменчивый и непостоянный мир, сколь ненадежен ты и зыбок. Как недолговечны твои утехи, как быстро возносишь и сокрушаешь ты людей, одних награждая без заслуг, других карая без провины. Но нет, со мной ты обошелся справедливо, ибо я, ради мимолетных наслаждений, захотела избавиться от власти в твоей империи, вот и вознес ты меня вчера на высочайшую вершину мира сего, а нынче низверг в глубочайшую пучину бед; вчера была я свободна и вольна обладать всем, чего пожелаю, нынче я, подобно Анжелике[394], привязана к сухому, дикому дубу и стану добычей хищного зверя. Но увы мне, горькой, нет у меня Рожера, который спас ее; вчера мне служили и поклонялись толпы принцев и князей, нынче я всеми отвержена. О неумолимая Фортуна, как дикий вандал ополчаешься ты на жертву, и нет меры, нет справедливости в карах твоих. Что ж, довершай свое дело, уничтожь меня, теперь тебе осталось только лишить меня жизни. Где найти силы стойко перенести подобное злосчастье и бремя страданий? Коль пытаюсь я искать утешения в печальном жребии других женщин, то вижу, что их невзгоды пролетали, подобно вихрю, тогда как мои глубоко забросили якоря в пучину бед моих. О Биант[395], славнейший из философов, доведись тебе пройти через полчище моих мук, ты уже не сказал бы, что нельзя назвать счастливым того, кто не умеет переносить несчастье, нет, ты промолчал бы и не изрек этих слов. Но что я говорю? На кого жалуюсь? На себя самое должна я жаловаться, на непомерную свою дерзость, побудившую меня презреть скипетр и венец и понадеяться на коварнейшую женщину в мире, которая в уплату и в благодарность за столь великую милость обрекла меня на смерть. О вероломная Фьямета, честолюбие и гордыня заставили тебя так расправиться со мной. Вот к чему привело безграничное доверие к тебе, вот что означали щедрые твои посулы, вот как воспользовалась ты заветными тайнами сердца моего, когда они стали тебе известны и ясны. О предательница! Сразу видно, от какого корня ты произошла.
И когда бедная королева произносила жалобные эти речи, наполняя лес горестными стонами и проливая море слез, ее увидел добрый Липул, императоров лесничий, проживавший и обитавший в лесной чаще, на берегу полноводной реки Ман, средь леса этого катившей воды свои. Дивное зрелище повергло его в восхищение, робкими шагами подошел он к обнаженной Берте и стал ласково убеждать ее поведать, кто она и по какой причине постигла ее такая судьба; она же, скрывая правду, рассказала ему вымышленную историю, будто она бедная вдова из дальнего края и была похищена неким рыцарем и за то, что не согласилась удовлетворить его страсть, он, мол, и оставил ее здесь, в лесу, связанной и нагой, чтобы голодные звери схоронили ее останки в своей утробе. — Добрый Липул, поверив всему, что сказала ему убитая горем Берта, с состраданием и нежностью отвязал ее прекрасные белые руки, равных коим не было во всей Галлии, от самого сухого и корявого дуба из всех, какие были в этом лесу, и попросил пойти с ним в убогую его хижину, стоявшую поблизости, в самой чаще леса, ибо он был лесничим императора.
Пришлось Берте согласиться ради спасения жизни, которую мы, естественно, любим больше всего на свете, хоть и огорчилась она, услыхав, что Липул служит лесничим у императора; однако нужда умеет обуздывать наши желания, и вот, скрыв свои чувства, побрела Берта в дом лесничего, почти нагая, в одной тонкой сорочке, ступая белыми своими ножками по колючкам и камням; ветер, ревнуя к прозрачной сорочке, то и дело налетал вихрями и старался сорвать ее с нежного тела Берты, а скромные лесные растения, не желая расставаться с красавицей, пытались задержать ее, цепляясь за сорочку. Так, стыдясь своего вида, пришла она в убогую обитель доброго Липула, и там жена его, по имени Синтия, такая же жалостливая, радушно приняла ее, одела и принарядила на сельский лад. Прошло несколько дней, и добрые эти люди, видя красоту, ум и кротость Берты, решили удочерить ее, ибо не было у них прямых и законных наследников.
Тут мы пропустим два года, в течение коих прекрасная Берта жила как дочь и помощница в семье лесничего, и поглядим, каково живется предательнице Фьямете. За все эти два года никто не заподозрил ее и не изобличил, все почитали ее Бертой, подлинной и законной императрицей, а помогло этому то, что родичей своих, тех самых, которым она приказала убить прекрасную Берту, она тайно умертвила ядом. Но предательство и тайна долго не дружат, и вот все открылось таким образом. Граф Мельгарский, выздоровев после долгого и упорного недуга, надумал вместе с женой своей графиней поехать в Париж повидаться с любимой дочерью императрицей. Едва прослышала вероломная Фьямета о приезде мнимых своих родителей и поняла, что предательство ее и обман могут стать явными и очевидными, решила она прибегнуть к хитрости: прикинулась, будто больна неким неслыханным недугом, который причиняет, мол, столь великую меланхолию, что больному становится нестерпим свет, и естественный и искусственный, и чувствует он себя немного лучше, лишь постоянно пребывая в темноте; если же в ее покой случайно проникал луч света, она поднимала крик, словно ее пытали; мало того, она еще притворилась, будто и говорить для нее мука смертная, и, разумеется, все старались угодить ей и исполнять ее волю. Так надеялась Фьямета остаться неузнанной графом и графиней Мельгарскими и неслыханным недугом своим задала трудную задачу лучшим врачам тамошнего университета[396]. Император же, узнав о приезде своих богоданных родителей, весьма обрадовался, надеясь, что их присутствие поможет мнимой императрице обрести здоровье. И вот послал он навстречу гонца приветствовать их и сообщить о недуге, овладевшем их дочерью; но гонец встретил гостей уже у ворот Парижа, когда они с великой пышностью и почетом въезжали в город.
Император вышел навстречу со всею знатью столицы и всеми горожанами; а граф с супругой, лишь только прибыли во дворец, пошли проведать императрицу и стали упрашивать ее, чтобы она хоть на мгновение потерпела свет свечи в своем покое; она же ни за что не соглашалась, только громко кричала в ответ на все их просьбы, — ведь ей важно было остаться неузнанной. Все же граф и графиня из недолгого разговора с ней догадались и поняли, что она — не их любимая и милая дочь Берта, но, ничего об этом не сказав, постарались пощупать ее ноги, дабы обрести полную уверенность, ибо, как я уже говорил, у Берты одна нога была больше другой. Окончательно удостоверившись, что это Фьямета, служанка Берты, они рассудили так: раз император считает ее законной своей супругой, то, верно, причиной этому любовные чары и, видимо, император под их влиянием тайно велел умертвить Берту, подлинную свою жену, и, чтобы скрыть это, он и держит Фьямету в постели, выдавая ее за больную. И чем больше размышляли граф и графиня об этом деле, тем больше винили они ничего не ведавшего императора и наконец положили возвратиться в свои земли, намереваясь собрать большое войско и с помощью и поддержкой многих князей объявить императору войну за несправедливость, учиненную их дочери. Император же, не понимая, в чем дело, думал, что недовольство тестя и тещи вызвано недугом их дочери; так рассуждая и зная, что они собираются вскоре уехать, он решил развлечь их знатной охотой, ибо никакие иные празднества в таких обстоятельствах не подобали. И вот, по настоянию императора, отправились они на охоту.
Не стану описывать роскошное убранство охотников, поглядим лучше, что было их самой богатой добычей. А случилось так, что в разгаре приятной этой забавы, когда со сворами проворных и усердных гончих и борзых одни гнались за щетинистым вепрем, а другие за рогоносным оленем, старый император, преследуя раненого медведя, отдалился от всех остальных. И так как багряный сын Латоны[397] уже задергивал золотые свои завесы, а богиня Теллус надевала черный плащ, то император укрылся в убогой хижине доброго Липула и его любящей жены Синтии, где, как дочь и помощница, жила прекрасная, но злосчастная Берта. Добрые старики, увидев в своем доме императора и властелина большой части света, были в смущении от столь великой милости и огорчились, что могут предложить великому государю лишь самое бедное и скромное угощение; однако император, всегда пекшийся о том, чтобы смирение увеличивало цену прочих его добродетелей, присел на деревенский табурет и попросил всего лишь попить, ибо больше всего его донимала жажда. Добрый Липул приказал Берте как самой проворной и учтивой в семье напоить гостя, что она и сделала с большой охотой, зная, что прислуживает истинному своему мужу; и когда она с опущенными глазами и смиренным гидом подносила ему питье, старый император взглянул на нее, и от этого взгляда вспыхнула в нем нежность и страсть, побудившая его заговорить с ней; он спросил, чья она дочь, и в ответ услыхал, что, мол, она дочь Липула и Синтии; тогда император стал ее уговаривать спать с ним этой ночью, королевским своим словом клянясь, что осыплет ее милостями; она ответила, что королевскому его слову верит и почитает это великой честью, однако исполнит его желание лишь с соизволения отца своего Липула и матери Синтии; император тотчас подозвал их и потихоньку спросил, согласны ли они, чтобы их дочь Берта легла с ним; они же, уверенные в ее целомудрии и в том, что она никогда не пойдет на такое, отвечали, что согласны; тогда император подозвал Берту, и она тут же, при них, дала согласие, которое они выслушали, скрывая огорчение и дивясь столь легкомысленному и непристойному поведению Берты, которую считали женщиной благочестивой и добродетельной. И Липул сказал своей жене:
— Подумай, Синтия, мы полагали, что взяли себе в дочери женщину добродетельную, а оказывается, это величайшая в мире грешница, раз она так легко согласилась на то, что император, возможно, лишь придумал с целью испытать нас.
Видя, однако, что император отнюдь не пошутил, они решили исполнить его волю; и вот император приказал Липулу, прежде чем прибудут на это место остальные охотники, устроить ему ложе под открытым небом, на берегу реки Ман, в стоявшей там повозке, ибо ночь была жаркая; вдобавок императору хотелось быть подальше от шума и крика охотников, за которыми он послал находившихся при нем рыцарей с наказом всем собраться и заночевать в этом месте. Итак, повозку покрыли свежесломанными зелеными ветвями, сделав там прибежище и ложе для императора, хотя прежде в ней возили камни и дрова; усталый император возлег на это ложе с законной, но скрывавшей это женой своей и там совершил с него плотское соитие, отчего Берта понесла. И когда на священном востоке заблистали золотые кудри Авроры, Берта, полная радости и счастья, молвила императору такие слова:
— О господин мой, непобедимый император и владыка мира! Философ Фалес[398] сказал, что самое быстрое в мире — это мысль, самое сильное — нужда, самое мудрое — время, и он глубоко прав, ибо благодаря времени узнаются самые сокровенные тайны. Говорю так потому, что наконец время и место для этого благоприятны, и хочу открыть вашему величеству некую тайную, но бесспорную истину: а именно то, что ваше величество спали в эту ночь с вашей настоящей и законной женой. Да, я злосчастная Берта, дочь графа Мельгарского и сестра короля Аквитании Дудона, а та, которая слывет вашей женой и живет в Париже, это вероломная моя фрейлина Фьямета, происходящая из рода Маганса, и этим уже все сказано; лживыми речами своими коварная убедила меня снять королевские одежды и в брачную ночь легла с вашим величеством, меня же велела нескольким рыцарям, своим родственникам, тайно похитить и привезти в пустынный сей лес, чтобы тут умертвить; но они, движимые жалостью, оставили меня в живых, лишь сняли с меня одежду и привязали к сухому дубу; тут меня и нашел добрый Липул, а я, утаив от него свое звание, рассказала ему вымышленную историю. Старик привел меня в свою хижину, приютил и пригрел, как родную дочь; при всем том я признаю, что повела себя несколько легкомысленно, и глубоко в том раскаиваюсь, но, полагаясь на благородство и милосердие вашего величества, покорно винюсь в том и припадаю к королевским стопам вашим.
Император от изумления и восторга долго не мог ничего ответить, а придя в себя, стал расспрашивать подробно об этом необычайном происшествии; поверив всему, что сказала Берта, он вышел из благословенной повозки и отправился в хижину Липула, где застал графа и графиню, прибывших туда ночью со многими рыцарями и богатой добычей, — медведей, вепрей и оленей было убито без счету. Приветствовав графскую чету, император отозвал обоих в сторону и чистосердечно поведал все, что с ним произошло; они же, как я говорил, прежде полные подозрений, весьма обрадовались и тоже открыли императору свои сердца, сказав, что та, которая живет в его дворце и носит титул императрицы, это вовсе не их дочь Берта, но ее фрейлина Фьямета и что причина ее мнимой болезни — страх, как бы они ее не изобличили. Горя желанием увидеть любимую дочь, родители поспешили к повозке, где, по воле императора, Берта осталась. Едва увидев ее, они сразу ее узнали, как и она их, к великой радости и ликованию всех трех.
Итак, предательство и козни Фьяметы вышли наружу. Император тотчас послал в Париж двух рыцарей, чтобы они, тайком ото всех, взяли во дворце и привезли самые роскошные одежды Берты; когда рыцари возвратились, прекрасная Берта надела на себя эти наряды, которым не было цены, и величавая ее наружность и красота явились в новом блеске. Всем было объявлено о необычайном происшествии, и Берта с великой пышностью и торжеством отправилась в Париж, где была наново коронована как истинная императрица; вероломную Фьямету всенародно обезглавили на парижской площади, а доброму Липулу император пожаловал графство Арденнское. От прекрасной Берты и родился Карл Великий, преемник отца своего, императора Пипина. Зачат же он был, как я уже сказал, под открытым небом, в повозке, на берегу реки Ман.
Эпоха Возрождения и новелла
ФРАНКО САККЕТТИ
Из «Трехсот новелл».
Новелла IV
Новелла LXVI
Новелла LXXV
СЕР ДЖОВАННИ ФЛОРЕНТИЕЦ
Из «Пекороне»
Четвертый день, новелла I.
АНОНИМ
Новелла о Грассо, инкрустаторе и резчике по дереву.
МАЗУЧЧО ГУАРДАТИ
Из «Новеллино»
Новелла I.
Новелла XXXI.
ЛУИДЖИ ПУЛЬЧИ
Новелла о сиенце.
ЛОРЕНЦО ДЕ' МЕДИЧИ
Новелла о Джакопо.
НИККОЛО МАКЬЯВЕЛЛИ
Сказка. Черт, который женился.
ФРАНЧЕСКО МАРИЯ МОЛЫЦА
Дочь короля Британии…
ЛУИДЖИ АЛАМАННИ
Бьянка, дочь Тулузского графа…
ЛУИДЖИ ДА ПОРТО
История двух благородных влюбленных.
АНТОНФРАНЧЕСКО ГРАЦЦИНИ ПО ПРОЗВИЩУ ЛАСКА
Из «Вечерних трапез»
Трапеза первая, новелла I.
Трапеза третья, новелла X.
МАТТЕО БАНДЕЛЛО
Из «Новелл»
Часть первая, новелла III.
Новелла IV.
Новелла XXVI.
Новелла LVIII.
Часть третья, новелла XLIII.
Новелла LXV.
Часть четвертая, новелла IV.
ПЬЕТРО ФОРТИНИ
Из «Дней юных влюбленных»
Новелла II.
ДЖАМБАТТИСТА ДЖИРАЛЬДИ ЧИНТИО
Из «Экатоммити»
Вторая декада, новелла II.
ДЖОВАНФРАНЧЕСКО СТРАПАРОЛА
Из «Приятных ночей».
Ночь вторая, сказка I
Ночь шестая, сказка I
ДЖИРОЛАМО ПАРАБОСКО
Из «Потех»
Новелла III.
ШИПИОНЕ БАРГАЛЬИ
Из «3абав»
Новелла V.
АНОНИМ
Из «Пятнадцати радостей брака».
Радость первая
Радость четырнадцатая
АНОНИМ
Из «Ста новых новелл».
Новелла XXXI
Новелла XXXVII
Новелла L
Новелла LVI
Новелла LVIII
Новелла XCVI
НИКОЛА ДЕ ТРУА
Из «Великого образца новых новелл».
Муж побитый, но довольный
Часовня под Монфоконом
Наука невесте
БОНАВАНТЮР ДЕПЕРЬЕ
Из «Новых забав и веселых разговоров».
Новелла V
Новелла VIII
Новелла XIII
Новелла XIX
Новелла XXIX
Новелла LXXIII
Новелла LXXV
НОЭЛЬ ДЮ ФАЙЛЬ
Из «Сельских бесед мэтра Леона Ладюльфи, деревенского дворянина».
I
VI
IX
XII
МАРГАРИТА НАВАРРСКАЯ
Из «Гептамерона».
Новелла II
Новелла IX
Новелла XXV
Новелла XXXIV
Новелла LVI
Новелла LXV
АНОНИМ
Из сборника «Некоторые из прекрасных историй о любовных и прочих похождениях, рассказанных А. Д. С. Д.»
Преподобный отец и старуха.
ФРАНСУА ДЕ БЕЛЬФОРЕ
Из «Необычайных историй»
История третья…
СЕНЬОР ДЕ ШОЛЬЕР
Из «Девяти утренних бесед» и «Послеполуденных бесед».
О некоем кастрате
О дьяволе и болтливых языках
О бородах
ФРАНСИСКО ЛОПЕС ДЕ ВИЛЬЯЛОБОС
Из «Записей беседы…»
Ниже следует запись…
АНТОНИО ДЕ ВИЛЬЕГАС
Из «Инвентарио»
История Абенсерраха и прекрасной Харифы.
ХУАН ДЕ ТИМОНЕДА
Из «Повестника»
Повестушка одиннадцатая.
МИГЕЛЬ ДЕ СЕРВАНТЕС
Из «Назидательных новелл»
Ринконете и Кортадильо.
ТИРСО ДЕ МОЛИНА
Из «Толедских вилл»
Новелла о трех осмеянных мужьях.
ГАСПАР ЛУКАС ИДАЛЬГО
Из «Беззаботных бесед в часы досуга»
Автор намерен позабавить читателя…
АГУСТИН ДЕ РОХАС ВИЛЬЯНДРАНДО
Из «Занимательного путешествия»
Сон наяву.
АНТОНИО ДЕ ЭСЛАВА
Из «Зимних вечеров».
Здесь рассказывается о спеси царя Никифора
Здесь рассказывается о рождении Карла Великого
Примечания: