Жан-Поль Ру
Тамерлан
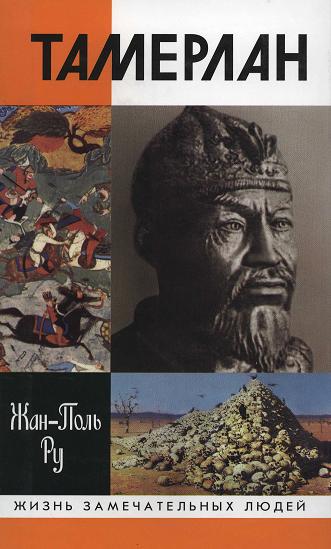
История восточного мира поддается изучению труднее, нежели история мира западного, вследствие того, что его исследование сопряжено с преодолением множества лексических трудностей. Дабы облегчить чтение, сделать его более занимательным, я намеренно сократил численность персонажей, в разное время вторгавшихся в частную и общественную жизнь Тамерлана. В приложении читатели найдут, помимо хронологии жизни Тамерлана и генеалогических таблиц, список восточных слов, а также перечень лиц, представляющих интеллигенцию и мир искусства, которых мне пришлось цитировать. Кроме того, в указателе имен я дал нечто вроде глоссария, уточняя профессии и должности персонажей наименее известных (например: архитектор, правитель Хорезма, посол Тамерлана), а что касается основных действующих лиц, — даты их жизни и смерти. Это позволило мне не напоминать лишний раз несведущему читателю, какова была специальность цитированных деятелей, поскольку их имена включены в указатель, а иные сведения о них сообщены в библиографии, снабженной необходимыми пояснениями.
Опираясь в своей работе на сугубо специальные труды, которые зачастую бывает трудно разыскать, я нашел возможным не давать критического аппарата, так как для этой книги он скорее всего оказался бы бесполезным.
Для датирования описанных в книге событий исследователи применяют два календаря: календарь двенадцатилетнего цикла животных (китайского происхождения),[1] а также календарь хиджры (мусульманский). Я придерживался календаря григорианского, ставшего всемирным. Мусульманский год — лунный и более короткий, нежели григорианский, который, как известно, является годом солнечным.
Когда мусульманский месяц того или иного события не указан, оно могло иметь место в двух следующих друг за другом григорианских годах. В таких случаях я бываю вынужден сказать, что событие произошло, например, в 1382–1383 годах.
Затрагивая эпоху, когда Тамерлан владел лишь одной Трансоксианой, я использую определение «трансоксианская армия»; что до периода, когда он владычествовал в Иране и вербовал воинов нетрансоксианцев, то здесь наиболее адекватным обозначением является «армия джагатайская».
Трансоксиана — это область, находящаяся северо-восточнее Окса (Амударьи), именуемая арабами Мавар-аль-Нахиром. На севере она ограничена Сейхуном, более известным как Сырдарья. Географически этот регион является древним Хорезмом. Но ее выделяют особо по той причине, что Хорезм занимает всю дельту Окса и является прародителем государства, имевшего в XIV веке первостепенное значение в политическом и культурном отношениях. В те времена нынешний Афганистан не существовал, он на карте мира появился много позже. Собственно говоря, это был восточный край Ирана, населенный ираноязычными народами.
Суффикс «и», прибавляемый к наименованию того или иного города, обозначает название обитателей этого города; таким образом, жители Герата, например, называются герати. Вообще формы одного и того же слова могут меняться в зависимости от того, кто его произносит — араб, перс, турок или монгол. Я пытался ввести унификацию, пусть даже в ущерб верности, чтобы не сбивать с толку читателей, не знакомых с научными транскрипциями.
Несколько лет назад, когда я писал биографию Бабура, меня очень заинтересовал этот персонаж, положивший начало созданию в Индии империи, известной как империи Великих Моголов. Я побывал почти везде, где он появлялся, а также несколько раз посетил его могилу, прочитал и перечитал его «Воспоминания». Несмотря на то, что мне были очевидны его промахи, я был покорен его достоинством, его дарованием; я полюбил его, как любишь старого товарища, с которым тебя развела жизнь, но память о котором преданно сохраняешь. В своем предисловии к книге я признался тогда, что, по моему мнению, авторы не должны посвящать несколько лет своей жизни человеку для них привлекательному. Однако я не скажу этого, когда речь идет о предке Бабура, Тимуре Хромом, называемом в Европе Тамерланом
В этом человеке нет ничего, что могло бы сразу вызвать симпатию, хотя он являлся недюжинным гением, его пребывание на Земле имело грандиозные последствия, его сложная и противоречивая личность вызывала и вызывает всеобщее любопытство и предоставила психологам богатую пищу для размышлений. Должен ли я признаваться в том, что он даже препятствовал моей дружбе с турками, при том, что мне было известно: нет народа, который не имел бы своего шлака или своих чудовищ, и что не по ним следует о нем судить.
Я долго не решался писать продолжение моего «Бабура», то есть историю Великих Моголов в виде жизнеописаний его главных последователей: Акбара, одного из наиболее выдающихся азиатских государей; Джахангира,
Вообще говоря, можно было бы начать рассказ с Чингисхана, коего жизнь, как утверждал большой специалист в нашем деле Поль Пеллио, представляет собою самое изумительное приключение из всех известных человечеству; и даже с тех степных империй, которые ему предшествовали и сделали возможной его деятельность. Их имя узурпировали Великие Моголы, которые были не монголами, а тюрками или по меньшей мере, как многие тюрки во всем мире, людьми отюреченными. В прямом смысле слова они были Тимуридами, являясь ими согласно генеалогии. Бабур доводился внуком Султану-Абусаиду (1452–1460), который, в свою очередь, был правнуком Тамерлана. От основателя семьи его отделяют четыре поколения; он родился минимум через восемьдесят лет после его смерти. На эту родословную Великие Моголы настойчиво претендовали. Бабур посвятил свои молодые годы тому, чтобы завладеть бывшей столицей Тимура, Самаркандом; он захватывал и отдавал этот город трижды. Бабур рассматривал Индию как свое законное наследство, поскольку его предок вступил в эту страну с оружием в руках. После него его сын Гумаюн, его внук Акбар и другие наследники, которые, хоть и были озабочены усвоением иранской культуры, подобно детям самого Тимура, творцам тимуридского Ренессанса, хоть и сделались они настоящими индийскими князьями, не забывали никогда о том, что происходили из Средней Азии, и хранили в душах нечто большее, нежели простые реминисценции степных традиций. Упустить из вида эти факты значило бы обречь себя на бесконечные блуждания в лабиринте культурной политики, проводившейся на Индийском субконтиненте, по меньшей мере, в продолжение всего XVI столетия
Прежде чем продолжить изучение Великих Моголов, я должен был заняться Тамерланом, этой знаменитой личностью второй половины XIV века, о которой мы имеем множество приблизительных представлений и к которой, скажем прямо, я питал откровенную антипатию, основанную на стойких предрассудках. Я уже интересовался им как во время посещений Самарканда и его мавзолея, так и в связи с небольшой статьей, которую меня попросили написать о резне, учиненной им в Исфагане. Тогда я мало чего открыл для себя, но почувствовал, что сей человек не был таким однозначным, как казалось, и являлся не только злым гением. Грезы среди блистательных руин мечети Биби-Ханым, в завораживающей тишине несравненного некрополя Шахи-Зинда не могут не поразить человеческую душу.
Родившиеся тогда мысли стали понемногу обретать ясность, чтобы окончательно созреть к тому дню, когда я взялся за написание этой книги.
Означает ли это, что я ставлю своей целью реабилитировать Тамерлана? Сей человек имеет столько же панегиристов, сколько и хулителей. Тамерлана ненавидели и боготворили, воспевали и поносили очень многие и сверх всякой меры. Едва он скончался, как раздались голоса: «В рай! К ангелам!» и: «В ад! К чертям!»
Думается, существует очевидная необходимость что-то сказать в оправдание тех, кто его восхвалял, при этом вовсе не являясь ни платными историографами, ни придворными. В кочевнических юртах, вдали от страны, где он воздвиг свой трон, все еще имеются воспевающие его барды; таковым был тот юноша, наделенный «сильным и выразительным голосом», коего слушал всего полтора столетия назад отец Юк, миссионер и знаменитый исследователь Тибета, оказавшийся в краю шабортских монголов. «Когда божественный Тимур жил в наших кибитках, монгольская нация была грозной и воинственной; под его стопами прогибалась земля… О божественный Тимур, скоро ли возродится твоя великая душа? Прииди! Мы ждем тебя, о Тимур!.. Память о славных Тимуровых временах неизменно с нами. Где он, вождь, долженствующий нас возглавить, чтобы вновь сделать воинами?»
Сегодня, несомненно, охотнее слушают хулителей, чем панегиристов. Образ, вписанный в наше коллективное сознание, является откровенно негативным. Но любое современное историческое исследование тяготеет все-таки к реабилитации, чему удивляться не приходится. В продолжение веков историк находился под слишком мощным воздействием свойственных его эпохе мод и идеологий. То, что противоречило его привычке и мнению, казалось ему чудовищным и неестественным. Он не был способен понять, что порой человек может не только принимать, но и высоко ценить то, что сам же осуждает или считает неприемлемым. Теперь ситуация начинает меняться. Историки учат критическому рассмотрению фактов, а не умонастроений. Вспышки яростного отрицания все еще имеют место, но сила их мало-помалу убывает. Возраст делает человека спокойным, если не мудрым; не снисходительным, а более склонным к уравновешенной оценке событий. К тому же чем лучше знание, тем лучше понимание.
Вот какие размышления руководят мною сегодня. Имеющиеся в моем распоряжении материалы ненамного обильнее тех, которые использовались моими предшественниками, как увидит читатель, довольно многочисленные и, за несколькими прекрасными исключениями, мало полезные. Источники разработаны слабо, но на их лучшую разработку я претендовать не мог: для этого у меня не хватало ни досуга, ни компетенции; зачастую неизданные или изданные, но не переведенные, они, по большей части, написаны по-персидски, то есть на языке, не входившем в круг моих штудий, и их полное прояснение требует весьма упорного труда тех, кто этим занимается профессионально. Однако настанет день, когда, благодаря их усилиям, станет возможным проследить каждый шаг Тамерлана, метавшегося в бурном потоке жизни. Итак, несмотря на то, что мною были использованы несколько новых и основательных трудов, я не претендую на то, что мне удалось совершить какие-то крупные открытия в насыщенной событиями истории моего героя. Многие подробности так и остались непроясненными, и, более чем вероятно, допущены какие-то фактологические ошибки
Вместе с тем Тамерланова жизнь изучена достаточно, чтобы мы могли быть уверенными в том, что ничего важного не упущено; к тому же на сегодняшний момент достигнута точность большая, нежели когда-либо. Так, в своей (не датированной) замечательной, хотя и небольшой по объему, работе, посвященной Средней Азии, Пеллио еще мог написать, что завоеватель занимал Москву в продолжение «целого года», что это утверждает такой источник, как «Зафарнаме», но что, как известно сегодня, не соответствует действительности. Конечно, поводов для сомнений имеется еще столько, что все нынешние биографы, начиная с Рене Груссе, автора давно вышедшей в свет «Степной империи», и кончая более близкими к нам, сводят хронологию до минимума — столь явно они опасаются ошибиться. Чтобы читатель мог успешнее следовать за ходом событий, я рискну им не подражать; однако признаюсь, что даты, указанные мною, предположительны.
Мне не кажется, что у неспециалистов имеется очень большой интерес к изучению мельчайших подробностей жизни Тамерлана. Безусловно, его поступки были ярки, даже необычны, но прежде всего выглядят столь же героическими, сколь и ужасными. К тому же они могут утомить своей бесконечной похожестью. Несомненно, было бы весьма увлекательно шаг за шагом проследить за Тамерланом в его детстве и отрочестве, чтобы понять, как могла сформироваться эта незаурядная личность… Увы, это невозможно, так как информация или скудна, или целиком мифологична.
Первые годы Тимуровой взрослой жизни, скажем, от 20 до 35 лет — это медленное и упорное восхождение к вершинам власти, с его успехами и поражениями, удивительными дерзновениями и отступлениями, а также уловками, кажущимися — совершенно напрасно — проявлениями откровенного лицемерия или подлости. Такова судьба всех честолюбцев, равно как и судьба всех рыцарей-скитальцев, столь почитаемых в Центральной Азии, примеров которых тимуридский Ренессанс дает множество, начиная с Бабура. Наконец после ряда лет, когда Тамерлан готовился и примеривался, наступила почти непрерывная череда военных кампаний (1370–1401), неизменно кровопролитных, но победоносных. На пространстве между Дели и Эгейским морем, между Дамаском и Китайским Туркестаном Тамерлан осадил сотни городов, крепостей и цитаделей, которые разорил и залил кровью, о чем любит — и слишком часто — вспоминать история, оставляя о нем память, соперничающую с памятью о Чингисхане, «которая (сверх того) более точна, ибо менее удалена от нас во времени».
Надобно, описывая все это, десять или сто раз повторить одни и те же слова: «страшные холода», «иссушающая жара», «разбитые дороги», «изнуренные, голодные и тем не менее бесстрашные воины»; описать одни и те же пейзажи: «непроходимые пустыни», «недоступные горы», «бескрайние степи»; использовать одни и те же образы: «хлопающие на ветру полотнища знамен», «нескончаемые колонны войск», «сверкающее на солнце оружие», «станы, напоминающие огромные города», «подкопанные и взорванные стены», «героические ошибки» и «благородный звон мечей», но также: «дети, раздавленные копытами лошадей», «женщины, изнасилованные прямо на дорогах», «ноги, сожженные на медленном огне», «отрубленные головы, смешанные с известью для возведения “башен”»; описать зрелища, поначалу поражающие, затем утомляющие и вызывающие горечь во рту и отвращение в сердце, принуждающие поскорее перевернуть страницу, чтобы наконец перейти к итогам всего этого бранного грохота и человеческого исступления.
Конечно, Трансоксиана и Иран на многие десятилетия получили благодаря Тамерлану то, что было уже ими забыто: возродилось процветание, ожила торговля, обогатились купцы и установилась сильная, действенная власть. Но какой ценой! И на какой срок? То, что называют Тамерлановой империей и что не идет ни в какое сравнение с империями римлян, арабов и Чингисовых монголов, своему основателю не дало ничего. Империя распалась на несколько уделов (впрочем, блистательных), последний из которых исчез с лица земли менее чем за одно столетие, и чьи владетели не оставили бы по себе никакого наследника, не обнаружься среди них некто по имени Бабур. Конечно, его сыновья и внуки: Шахрух, Байкара, Султан-Хусейн-мирза, государь-астроном Улугбек и некоторые другие станут творцами поразительного тимуридского Ренессанса, который принесет удивительные плоды почти во всех областях науки, искусства и литературы. Несомненно, не кто иной, как Тамерлан заложил основы этого чуда в своей столице, которая занимала все его помыслы. Но не родись они, что осталось бы от тимуридской цивилизации? Несколько пышных памятников, осыпающихся в благостном и красивом Самарканде? Этому человеку можно быть благодарным только за то, что им порождено.
Это правда, что ему хотелось строить, наводить порядок, насаждать мир, но почти ничего из этого ему не удалось. Вместе с тем нельзя забывать: то, что он создал на несколько лет, не стоит того, что было им истреблено на долгие времена, а то и навеки, разве что надлежит учесть, что его деятельность так или иначе изменила облик мира. Мусульманская империя в Индии рухнула; Золотая Орда, мощнейшая держава, сюзерен Руси, пала; всего в одном сражении Османы оказались раздавлены так жестоко, что впоследствии смогли подняться лишь чудом. Ислам едва не погиб под натиском полчищ язычников-монголов; этому же риску его подвергли рати мусульманские, Тамерлановы. И если где-то он выдержал это испытание, — а в некоторых регионах вышел из него окрепшим, — то оказался обреченным на исчезновение в крае, где сегодня находятся Украина и часть Поволжья.
Не является ли Тамерланова жизнь той долгой эпопеей мужества, удач и ужаса, рассказать о которых следует самым подробным образом? Рассмотрение ее в этом свете могло бы свести ее к тому, что показалось бы почти банальным, а именно, что деяния сего человека были вполне соразмерны его личности. Но в случае с Тамерланом все не просто. Каков бы ни был масштаб событий, он обязательно имеет некую предельную величину. Тамерлан же, видимо, ее не знал и то и дело превосходил себя, превосходил события, при всей их грандиозности. Он существовал в постоянной чрезмерности. Его не останавливало ничто: ни ратные тяготы, ни возраст, ни болезни. Одна только смерть умела взять над ним верх. Быть может, поэтому его победы кажутся более громкими, чем являются в действительности, а его злодеяния — более зверскими, нежели на самом деле. И все это усугубила дарованная ему судьбой исключительно долгая жизнь, за время которой он заполнил своими громами весь Восток. Тамерлан созрел не рано и был обязан успехами лишь долголетию. Он процарствовал тридцать пять лет, в течение которых внутреннее напряжение его не оставляло ни на секунду. То вовсе не был метеор, который пересекает в мгновение ока небесный свод!
Тамерланова эпоха являлась промежуточным этапом истории, когда превосходству великих кочевников грозило исчезновение под натиском технического прогресса, ибо он должен был очень скоро противопоставить ружья лукам и пушки коннице. Грандиозные рейды, которые во многом способствовали порабощению Китая, несмотря на возведение мощной, но бесполезной Великой стены, привели к крупномасштабным нашествиям германских племен на Европу. Разрушения, которым еще недавно подвергали Чингисовы орды Старый Свет, повториться уже не могли, однако пока ничто об этом не возвещало. И тем не менее именно Тамерлан оказался в равновесном положении между кануном и новым днем. Он был племенным деятелем, рискнувшим порвать с племенной традицией; бродягой, ушедшим в город; язычником, почитавшим великие мировые религии. Его невероятные конные рейды до самой сердцевины Центральной Азии и русских лесов оказались последними в истории победоносными набегами конницы. Разгром его врага Тохтамыша,
Итак, более, чем событийная история, нас интересуют сам Тамерлан и его время, суть которых мы надеемся выяснить. Для решения этой задачи мы, как нам кажется, оснащены лучше, нежели те, кто следовал за Тамерланом по пятам. Он и его эпоха оказались на стыке двух противоположных миров: седентарного мира мусульманского Ирана и кочевого мира евразийских степей, который довольно неудачно называют шаманским и коему была посвящена главная часть ведущегося несколько последних десятилетий исследовательского труда. Мы же уверены в том, что нам удастся проследить и в Тамерлане, и в его эпохе традиции, которые принесли его предки из глубины веков, с далеких пастбищ Монголии. Иранист Жан Обен отметил факт проявлений в поступках этого мусульманина, несомненно искреннего и истового, языческого субстрата, мощного и богатого, коему тюрки и монголы обязаны тем, что в их гении имеется самого лучшего. Тамерлан сумел почувствовать, какую роль играли эти традиции, и некоторые из них сумел применить. Существуют и другие составляющие, узнать которые может лишь алтаист и специалист по религиозным мировосприятиям. Эти традиции всего не объясняют, но позволяют лучше понять сложность индивидуума, метавшегося между двух ипостасей, которые он пытался слить в нечто единое.
Поставленные Тамерланом задачи не так легко было решить в условиях общества, которое можно называть всяким, но только не простым, и в рамках свойств личности, с трудом поддающейся пониманию, где оказываются тщетными любые попытки обнаружить к ней ключ, разве что в ее силе и воле. Вопросы, найти ответы на которые мы должны, не новы: даже если они не касаются всех преуспевших больших честолюбцев, то все равно историки с ними уже сталкивались, изучая Сельджукидов, Газневидов или самого Чингисхана.
Как достиг вершин власти этот человек невысокого происхождения? Как сумел этот тюрок сделаться правителем Ирана? Как номад превратился в стопроцентного горожанина и полюбил свою столицу более всего на свете? Как этот полководец, делавший все для того, чтобы не ввязываться в крупные баталии, выигрывал каждое данное им сражение, одерживая верх над военачальниками не самого мелкого масштаба, например, над Тохтамышем, правителем Золотой Орды, разорившим Москву, или над Баязидом Молниеносным, славившимся непобедимостью, не потерпевшим в Европе ни одного поражения? Как случилось, что этот вечный победитель, перед которым не могла устоять ни одна крепость, был вынужден снова и снова брать штурмом одни и те же города, по пять раз начинать одни и те же походы? В силу каких причин отказался Тимур от завоевания ненавистного Египта, но отправился воевать в равно презиравшийся им Китай в самый разгар зимы, уже будучи старым, увечным и больным? Какая тайная сила позволяла ему вербовать на Среднем Востоке дервишей и монахов всех мастей и делать из них своих агентов, тогда как он с величайшим равнодушием нарушал законы Корана? Что позволяло ему опираться на капитал, тогда как он отправлял на смертные муки богачей, дабы присваивать себе их имущество? Как удавалось ему внушать одним и тем же людям страх и безусловную преданность, если не сказать любовь?
В личности Тимура все кажется противоречивым и одновременно быть таковым не может. Великий
Исфаган, Ургенч, Астрахань, Дели, Алеппо, Дамаск, Багдад — перечисления этих городов, как и других наиболее знаменитых его жертв, вполне достаточно, по словам Жана Обена, для того, чтобы его прославить. Точнее — для вынесения обвинительного вердикта. Однако неизбежно приходишь к уверенности в том, что существует нечто иное, преодолевавшее горы и моря, позволявшее донести Тамерланово имя до западных пределов Земли и являющееся не только той радостью, которая охватила европейцев по получении известия о разгроме им Османа в тот самый час, когда тот уже был готов занять Константинополь и угрожал Центральной Европе, и не только надеждой на возрождение союза с народами Востока, которые могли бы напасть на турок с тыла. Могла ли эта надежда, столько раз порушенная монголами, оставаться серьезной? Надо заметить, что, как ни странно, увлечение основателем государства, которое вместе с Рене Груссе ошибочно и преувеличенно называют «последней степной империей», в Европе было сильным. Число живописцев и графиков, претендовавших на точность его изображения, было огромно. Своим героем его сделала и литература: живший в конце XVI столетия Марло поместил его в центре двух своих трагедий; затем Вольтер посвятил ему одно из исторических эссе; Гёте упомянул о нем в «Диванах». Личностью Тимура вдохновлялись даже музыканты. Так, Гендель сочинил оперу, носящую его имя. В XVII веке (на удивление рано, если учесть позднее зарождение ориенталистики) с переводом некоторых источников, касающихся Тамерлана, возникла, как отмечает мой друг востоковед Керен, настоящая мода на него сначала во Франции, затем в Италии, Испании, Англии и Германии. Однако переменчивая любознательность публики вскоре обратилась к предметам иным. На исходе XIX века интерес к его личности вдруг оживила (правда, не надолго) русская экспансия в Центральной Азии.
Сегодня от всего этого не осталось ничего. Теперь каким-то странным и несправедливым образом Тамерлан, похоже, занимает нас много меньше, как если бы наше любопытство, обращенное на всю планету, сделало нас более озабоченными ее настоящим, нежели прошлым; как если бы оставленные Великим эмиром воспоминания со временем превратились в ничто, возможно, оттого, что трагедии XX столетия породили в нас отвращение к драмам минувшего: вздрагивать, читая об избиениях, совершавшихся Тимуридами, после того как мы узнали Гитлера, Сталина, Вьетнам, атомные бомбы и напалм, теперь как бы и не пристало. Но ведь в стародавние времена восхищенных современников потрясали не одни только бойни, а также личность этого человека, его жизнь и деяния. Последние, повторимся мы, являлись определяющими более в истории Восточной Европы, чем в истории Индии и Среднего Востока. Что касается личности завоевателя, то, как скоро мы получили сравнительно широкие возможности изучения оной во всей ее полноте, а мусульманский мир требует нашего внимания с возрастающей настойчивостью, не пора ли нам согласиться с тем, что она вновь и более прежнего заслуживает проявления нашей любознательности? Мы знаем, что история Франции хорошо объясняет Францию современную. История же мусульманского мира позволяет понять нынешний мусульманский мир еще лучше, и в этом мы весьма нуждаемся.
Каковы бы ни были чувства, которые может вызвать в нас Тамерлан; каковы бы ни были суждения о нем, совершенно невозможно отрицать, что он обладал качествами необыкновенными и притягательными, что его личность, как воителя и самодержца, грандиозна. Равных ему мало; быть может, таких, кто превосходил бы его, не существует вообще. Он из когорты Александров Македонских, Дариев, Цезарей, Чингисханов и Бонапартов. Это одна из величайших фигур прошлого.
Я надеюсь, что эта книга поможет не только пролить свет на историю Великих Моголов, — что в конечном счете является моей непосредственной целью, — но также лучше понять человека, от которого они происходят, а через него продвинуться дальше в познании мусульманского мира и Центральной Азии.
Монгольская империя Чингисхана рухнула. Она была создана в период, несомненно, самого ужасного из всех катаклизмов, известных истории, средствами самой свирепой жестокости горсткой людей, знавших, куда они шли и что хотели; целью же их было построить всемирную монархию и так, чтобы имелся всего один государь на Земле, как существует один Бог на Небе, и тем самым установить вечный мир.
На осуществление этого замысла потребовалось около столетия. Результат, конечно, оказался неполным (в самом деле, существует ли кто-нибудь, кто был бы способен объединить мир и исторгнуть из людских сердец зерна анархии?), но уже чрезмерным. Низкорослые, узкоглазые и широкоскулые всадники, которые в один прекрасный день избрали одного из своей среды по имени Темучин, чтобы сделать его своим предводителем, впоследствии названным Чингисханом, пообещав «идти в первых рядах в битве и отдавать ему дичь, а также женщин и дев»; эти приземистые наездники правили бал на пространстве, заключенном между Тихим океаном и Средиземным морем, оккупировав Китай, Корею, Маньчжурию, бескрайние степи Центральной Азии, Иран и Афганистан, вплоть до берегов Инда, большую часть Месопотамии, а также Кавказ, Малую Азию, где влачили существование вассалов сельджукские
Разумеется, климат последней, «адски жаркий», заставил их откатиться обратно, но они сумели более или менее полностью взять под свой протекторат две первые в данном списке страны. Плохо знакомые с морем, они бесстрашно всходили на корабли, коими правили признававшие их власть китайцы и корейцы, чтобы плыть дальше, вдогонку мечте достичь «реки-океана», окаймляющего Вселенную. Известны их попытки встать твердой ногой на берегах Явы и Японии.
На окраинах империи еще велись бои, но завоеватели уже достигли намеченных целей. На пространстве между Тихим океаном, Персидским заливом и Черным морем был установлен мир, который лишь время от времени нарушали ссоры наследников, тогда как барьеры, извечно разделявшие население Дальнего Востока и население Крайнего Запада, были опрокинуты. Отныне путешественники, купцы и миссионеры могли пересекать из края в край всю Евразию в совершенной безопасности. Биллем Рубрук первым открыл Монголию; Марко Поло — Китай; некий турок из Пекина — Рим и Париж. Целые народы добровольно или вынужденно сдвинулись с насиженных мест, и теперь в Каракоруме, столице степей, в Северной Монголии, можно было встретить золотых дел мастера из Понт-о-Шанжа или монашенку из Меца; в Юнане — гувернеров, прибывших из Ирана; в Хан-балыке (в ханском граде, то есть Пекине) — назначенного Его Святейшеством итальянского архиепископа, равно как многих иных, чьи имена и записки, возможно, иногда известны, но чаще всего полностью забыты. Всего за несколько десятилетий миры совершенно изолированные были приведены в соприкосновение друг с другом. Родилось новое мироустройство, казалось, позволявшее надеяться на многое.
Увы, это стоило дорого. Кровь текла рекой. Разлагались тысячи не преданных земле трупов. Бесследно исчезли целые города; многие другие были разорены в такой мере, что на их восстановление ушли столетия. В обычные поскотины превратились провинции, где в былые времена собирались обильнейшие урожаи; каналы и плотины прекратили снабжение водой, которая в продолжение тысячелетий, а зачастую и более, несла с собой жизнь. Но все это было очень скоро забыто. Может показаться странным, что такая катастрофа столь быстро стерлась из памяти. Со временем ужасные подробности стирались из человеческой памяти. Об основателе империи, о том, кто проявил себя как величайший губитель рода человеческого, востоковед Жуэнвиль говорил: «Он содержал народ в покое», а венецианец Марко Поло титуловал его «честнейшим человеком» и «мудрецом».
Действительно, самые зверские избиения, самые жуткие разрушения совершались в первые годы завоевания, в годы, когда Чингисхан установил тотальный террор. Великий варвар не видел пользы в городах. Кочевник и скотовод, он желал, чтобы все сельскохозяйственные земли были возвращены степи. Однако очень скоро он научился внимать доводам советников, коим удалось убедить его в том, что налог способен дать больше, нежели любая аннексия, и он решил отдать предпочтение оброку перед разрушением, по меньшей мере тогда, когда имел возможность выбирать.
Его последователи поступали так же. Кроме того, находясь в теснейшем соприкосновении с великими и древними цивилизациями, они окультурились и много утратили от первоначальной дикости. Сознавая неспособность самим управлять своими землями, они окружили себя тюрками-уйгурами, которые очень давно к ним примкнули и, обретаясь в богатых оазисах Восточного Туркестана (нынешнего Синьцзяна), успели многое унаследовать от великой культуры, о которой свидетельствуют обнаруженные в Кизиле живопись и турфанские (а также дуньхуанские) рукописи; позднее монголы обращались к иранцам, китайцам, иудеям и арабам.
Объединенные общей властью, монголы о былом племенном делении не помнить не могли. Ими не двигал никакой языковой или конфессиональный национализм; они не примыкали ни к каким универсальным религиям, ведшим спор далеко не религиозный за духовное превосходство. Они интересовались теми религиозными вопросами, понятие о которых уже имели. Если они принимали христианство или буддизм, то делали это с некоторой беспечностью, менее всего на свете ввязываясь в их споры. Они выказывали удивительную терпимость, уважая все культы, и при случае несколько по-макиавеллиевски давали понять всякому, что разделяют его убеждения. То была позиция довольно новая в жестком и прямолинейном европейском мире с его взаимоисключающими вероисповеданиями; позиция, которая приятно удивляла.
Обостренное, но свободное от фанатизма религиозное чувство, поддержание порядка и безопасность повседневной жизни, эффективная и справедливая администрация — без незаконных льгот и взяток, ибо монголы оставались неподкупными всегда, — процветание торговли, расцвет культуры, гармоничное сотрудничество всех групп населения на благо общего дела, возможность независимо от происхождения подняться на любую должностную высоту, свободомыслие — чего большего можно было желать? Отцы, конечно, погибли, но сыновья жили счастливо или по меньшей мере лучше, нежели когда-либо прежде. Вот почему
Этот
Кроме юаньской империи в Китае, кончившей признанием прямого управления ею Монголией, чингисидское наследие оставило три крупных государства: на западе, севернее Каспия, Кавказа и Черного моря — кипчакский улус; на западе же, но южнее, на мусульманских землях, — улус иранских Ильханов; в центре, объединяя или разделяя Юаней от Золотой Орды и от Ильханов, — вотчину второго Чингисова сына, Джагатая, и одноименный улус.
В 1256 году в Иране внук Чингисхана Хулагу, назначенный наместником своим братом Мунке, создал империю Ильханов, которая главенствовала над всем мусульманским Ближним Востоком от Амударьи (Окса) до земель, что сохранили за собой в Малой Азии византийцы (Хулагу обеспечил себе вассалитет румских, или конийских, Сельджукидов, покоренных в 1243 году) до сирийских территорий, лежащих по ту сторону Евфрата, куда он часто вторгался, но где закрепиться не смог, невзирая на спешно создаваемые союзы с крестоносцами, направленные против местных мусульманских правителей и могущественных владык Египта,
Империей правили несколько выдающихся государей: Абага, Аргун, Газан, Ольджейту. Далее, после кончины сына последнего, Абусаида, она распалась. Эмиры и правители провинций добились независимости и принялись рвать друг друга на части. Несколько монгольских князей, в частности багдадские Джагатаиды, попытались навязать свою власть из-за спины марионеточных ханов и сумели удержаться в западных районах старых владений. На востоке власть перешла к иранцам, среди которых отметим могущественную афганскую семью Куртов (или Кертов), закрепившуюся в Герате, случай встретиться с которой у нас еще будет.
В старом малоазийском протекторате, окончательно исчезнувшем в 1303 году, Сельджукидам наследовали несколько независимых эмиров (или беев), ведших войну друг с другом, в том числе Османы, которые не замедлили расширить свои владения, аннексировав земли соседей, и перейти на Европейский континент, где заложили фундамент своего будущего владычества.
В Сирии с уходом последних крестоносцев (в 1270 году) установилась безраздельная власть египтян, стяжавших себе ратную славу победоносным сопротивлением двойной агрессии франков и монголов.
Добавим (однако не надеясь полностью представить то неустойчивое положение, в каком находился мусульманский Ближний Восток в середине XIV столетия), что туркмены, то есть кочевые тюрки, вышедшие из Центральной Азии в эпоху сельджукских набегов и усилившиеся в период нашествий монгольских, расселились по Верхней Месопотамии, Армении, Курдистану, Закавказью и Азербайджану. Они создали две крупные конфедерации
Чингисхан отдал в удел Бату, сыну своего старшего сына Джучи, степи западнее Иртыша, а также все территории на западе империи. Семья Джучи сохранила только часть этих европейских владений. Территории старой империи кипчаков (тюрок, которых славяне именовали половцами, а латиняне — куманами), то есть все степи, лежащие севернее Черного моря и Каспия, по обе стороны нижнего поречья Волги вплоть до верхнего течения Камы и бывшего тюрко-язычного Булгара, составляли главную часть государства, что объясняет название улуса как Кипчакского, также известного как Золотая Орда или, по-тюркски, Алтын Орду, «золотое стойбище».
То была держава с плохо определенными границами, коими служили Кавказ, который Джучиды оспаривали у Ильханов, Хорезм (дельта, образуемая Оксом в месте впадения в Арал, на которую также претендовали Джагатаиды), Иртыш и великие северные леса; держава, которая то расширялась, то сокращалась и представляла собой более местопребывание народов, чем географическое пространство; держава, чьи владыки, помимо прочего, властвовали над русскими княжествами, платившими им дань. Имея прочные позиции западнее Урала, Золотая Орда не сумела надолго удержать за собою земли, лежащие восточнее этой реки, и азиатская часть улуса, отделившись, образовала стараниями других сыновей Джучи Синюю Орду (Кок-Орда).
В продолжение по меньшей мере ста лет Золотая Орда была процветающей и сильной, благодаря как эффективному правлению ханов-Чингисидов, так и усилиям военачальников, таких, как Ногай (конец XIII века), Мамай (1361–1380). Она проводила весьма независимую политику, вплоть до вступления в союзнические отношения с Египтом для борьбы с иранскими Ильханами, которые между тем имели общие с нею корни и теоретически так же, как и она, были подвластны великим ханам, сидевшим в Пекине.
Однако во времена Мамая, несмотря на всю его энергию, Орда стала жертвой внутрисемейных распрей, этого бича династий Чингисидов, и вступила в трудный период нестроений: в течение двух десятков лет она двадцать четыре раза меняла государей. Ее авторитет стал падать. В 1371 году русские князья-вассалы отказались платить дань, и Мамай, решив применить к ним силу, предпринял карательный рейд, но был остановлен великим князем Дмитрием Донским на Воже (1378), а затем разбит на Куликовом поле, в месте слияния Дона и Непрядвы, 8 сентября 1380 года.
Кипчакский улус представляется нам степным краем, в разных направлениях пересекаемым довольно плохо организованными толпами кочевников. Таково клише; и оно в значительной мере неточно. Разумеется, обширные долины юго-восточной Европы посещались кочевниками, но огромные пространства покрывали возделанные поля, на них стояли города — часто крупные, — и за вычетом смутных десятилетий 1360—1380-х годов в данном улусе политические структуры так же, как и стабильность, были вполне прочными, в отличие от других государств Чингисидов.
Неизбежные при набегах грабежи были явлением временным. По истечении короткого периода упадка разрушенные города восстанавливались, строились новые, которых часто ждало благополучное будущее; таковы были Казань, Астрахань и Сарай, столица Орды. Международная торговля поддерживалась на очень высоком уровне; культурная жизнь била ключом. Уйгурский язык поделился своим алфавитом; Ургенч, город, поддерживавший постоянную — и преимущественную — связь с Нижним Поволжьем, экспортировал туда архитектуру, а также весьма рафинированное декоративно-прикладное искусство. Тюркский кипчакский язык сделался всеобщим.
На этой огромной территории, именуемой мусульманами Дешти-Кипчак (Кипчакская степь), ограниченной с севера лесами, поставлявшими такой вожделенный товар, как меха, было несколько областей чисто сельскохозяйственного назначения: речь идет о Причерноморье и Приазовье, имевших продолжением земли Киевской Руси, богатые злаковыми и овощными культурами; о долинах Северного Кавказа, представлявших собой сплошные пшеничные поля; а также о тех хлебных закромах, какими располагал древний Булгар, царство на Волге и Каме. Его главный город, стертый с лица земли монголами, быстро восстал из пепла, и, кажется, именно в его стенах были отчеканены первые металлические деньги империи с именами ханов. Великая ось Волги, реки полностью судоходной, в особенности там, где она впадает в Каспийское море, очень скоро предстала в глазах завоевателей тем, чем являлась действительно, а именно местом сугубо привилегированным. Река, которая делала возможной дальнейшую транспортировку товаров, поступавших с севера, пересекала пути всех караванов, следовавших из Центральной Азии в Индию, а оттуда на самый восточный край материка; ее воды кишели рыбой, дававшей икру, этот деликатесный для Запада продукт; не знавшие недостатка в воде земли, соседствовавшие с пастбищами, благоприятствовали симбиозу пастушеской, земледельческой и промышленной экономики.
Уже во времена правления Батыя империя сделала своею столицей город, называвшийся Сараем — «Дворцом» (некоторые исследователи его существование ставят под сомнение), получивший вторую жизнь при его брате Берке под названием Сарай ал-Джедид — «Новый Дворец»; построен он был на месте современного села Царев, близ Волгограда (бывшего Сталинграда). Ибн Баттута, знаменитый путешественник, посетивший Сарай в 1333 году, хвалил его многочисленные мечети, гробницы, дворцы; увы, из всего этого ничего не сохранилось, но раскопки свидетельствуют о былом богатстве города. Наконец — и это следует подчеркнуть — Золотая Орда была очень широко открыта для внешнего мира: она принимала как миссионеров, так и торговых гостей со всего Средиземноморья, предоставляя все мыслимые льготы генуэзцам и венецианцам, желавшим открывать свои представительства в Крыму, Каффе, Тане (Азаке, или Азове) и сделавшим уже в XIII столетии немало для превращения Черного моря в мощную базу международной торговли.
Во всех Чингисидовых улусах, за исключением владений Джагатая, монголы составляли незначительную часть населения. В отличие от других степных держав империя не была результатом миграции народов. Подавляющее большинство монголов не покинуло Монголии, или, подобно Чингисхану, который привязанность к Монголии сохранял всегда, возвратилось в эту страну, являвшуюся в течение тридцати лет после кончины великого завоевателя административным центром империи.
Регулярная армия, чисто монгольская, состояла из ста двадцати девяти тысяч человек. Когда не стало Чингисхана, его последний сын, Толуй, который, согласно тюрко-монгольской традиции, был обязан хранить отцовский очаг, а именно Монголию, получил сто одну тысячу воинов, тогда как двадцать восемь тысяч остались нести службу в других частях мира. Великий персидский историк Рашидаддин, побывавший в министрах у Ильханов, пользуясь информацией, в общем вполне надежной, считал, что в Золотой Орде было лишь четыре тысячи монгольских семей, все остальное население характеризуя тюркским. Естественно, несколько племен перекочевало, порой довольно далеко, и их следы утеряны; иногда, к радости ученых, они обнаруживают стойбища, но у них нет ни малейшей уверенности, что эти стойбища возникли в XIII веке. Так, например, обстоит с афганскими хазарами, а также с волжскими калмыками, которые, заметим, появились на великой реке только в 1616 году. Прочие племена расселились по различным областям Средней Азии; как утверждает Хайдар, тридцать тысяч монголов остались в Кашгарии. Некоторые, тесно соприкасаясь с тюрками, отюречились, и сегодня среди тюркоязычных кланов имеется множество монгольских. Другие свою самобытность сберегли. Иной раз трудно сказать, до какой степени монголы не утратили родного языка; с другой стороны, многие из них сохранили свое народное сознание. Если кто-то говорил: «Джагатаев улус» и «Джагатаиды», они употребляли термины «Моголистан» и «моголы».[4] Однако это сознание не противопоставляло их тюркам и не вследствие родства их языков, а оттого именно, что они жили в тесном симбиозе с ними и делили общее культурное наследство. О различии они догадывались, но не знали, чем его объяснить. Так, одновременно говоря о тюркоязычных киргизах и монголах, Мухаммад Хайдар заявляет: «Они составляют один народ», — и при этом уточняет, что первые остались язычниками, а вторые приняли ислам. В дальнейшем мы встретимся с тюрко-монгольским родством одновременно и в суждениях Рашидаддина, и в культурных воззрениях Тимуридов.
Кочевые тюрки дали монголам свои наиболее значительные военные силы, а тюрки из бассейна Тарима, что в Восточном Туркестане, сиречь уйгуры, давно приобщенные к культуре древней буддийской цивилизации, составили их самые главные управленческие кадры.
Чингисхан начал свой жизненный путь как вассал Тогрула, вождя племени кереитов, тюрок-несториан, переживших процесс монголизации прежде, чем от него отойти, а затем, одержав над Тогрулом победу, присоединил к себе его род. Впоследствии Чингисхан обеспечил себе верховенство над другими тюрками, принявшими христианскую веру, иртышскими найманами, татарами с Нижнего Керулена, онгутами и, наконец, над «язычниками», илийскими карлуками и кыргызами с Верхнего Енисея. Его первые набеги на оседлые народы еще были впереди, когда он, быть может, уже формировал свое войско из расчета семь тюрок на одного монгола; в дальнейшем Чингис постоянно увеличивал контингент тюрок по мере продвижения на Запад, беря к себе кашгарских и баласагунских кара-китаев, подданных хорезмшаха, и пополняя войско в кипчакских массах восточноевропейских равнин, а также в племенах тюрок Ирана, Кавказа, Восточной Анатолии и даже волжского Булгара. Совершенно не случайно именем «татары» (которое французы произносят как «тартары», уподобляя его слову «варвары» и названию античного царства мертвых) станут обозначать, к великому возмущению монголов, все орды захватчиков и позднее все тюркоязычные народы, не включенные в Османскую империю, монголоязычные племена и даже маньчжуров, которые завладели Китаем в 1644 году и основали там правящую династию.
В странах с высокой плотностью народонаселения и мощной цивилизацией, в Китае и Иране, тюрки и монголы, малочисленные в сравнении с аборигенами, частично ассимилировались и утратили свою самобытность. В Китае те, которые не были ассимилированы, были изгнаны одновременно с династией Юань в 1365 году. В Золотой Орде монголы, которых там было мало, отюречились поголовно. То же самое произошло в южной части Джагатайского улуса, в Трансоксиане, где уже давно закрепился значительный тюркский контингент. Тамерлан принадлежал к одному из этих, ставших тюркоязычными, монгольских племен.
Нашествие Чингисидов чуть не привело ислам к его гибели. В ту эпоху самое крупное мусульманское государство в Центральной и Средней Азии, возглавляемое хорезмшахом, чей трон находился в Ургенче, достигло высочайшего уровня развития культуры, что было связано с не менее блестящей экономической ситуацией. Хорезм аннексировал Трансоксиану, буддийскую империю кара-китаев, китайский Туркестан, нынешний Афганистан и большую часть Ирана. То была первая жертва Чингисхана, который обрушил на ислам всеуничтожающий ураган.
Западнее находились, пожалуй, только две временные державы, Сельджукиды Рума, или Анатолии, и Мамлюки, владетели Сирии и Египта; а также держава духовная, аббасидский халифат Багдада. Он исчез с лица земли, когда был взят Багдад, а халиф был предан смерти (1258). Незадолго до того (в 1243 году), под Кёзе-Дагом, близ Арзинджана потерпели поражение Сельджукиды, которые принуждены были признать сюзеренитет Чингисидов. Монгольское наступление в Сирии, отмеченное разграблением Алеппо, падением Дамаска, Хомса, Хамы, Наплуза и Газы, производило впечатление решающего (1260), но его остановила смерть Великого хана, а также необходимость присутствия Чингисидов на
Мамлюки почувствовали себя уверенно. Они напали на монголов и разбили их под Аин-Джалутом. Тогда впервые непобедимые завоеватели не остались хозяевами на поле брани; резонанс поражения был громким. Возможно, именно тот день спас ислам от исчезновения. Однако мусульмане оставались не только глубоко униженными, но и принужденными повиноваться немусульманам, чего с ними еще никогда не бывало и что представлялось им неприемлемым с точки зрения
Джагатай (? — 1242), второй сын Чингисхана, получил в удел область, прилегавшую к Иссык-Кулю (Исик-Кёлю), земли южнее Балхаша, бассейн рек Или, Таласа, Чу, а также Афганистан и Трансоксиану. Спустя несколько лет его последователи присоединили к этой территории Кашгарию и Уйгурию (на севере) с Бешбалыком, Турфаном, Карашаром, Кучей и поречьем Аксу; на юге — с Черченом, Хочаном, Яркендом, дотоле находившимся в прямой зависимости от Каракорума. Что до Ургенча и Хорезма, то они являли собой некую связующую зону между владениями Джагатаидов, в чей состав на законных основаниях они входили, Джучидов (Золотая Орда) и Ильханов (Иран). Имя «Джагатай» служило для обозначения этой обширной и довольно неоднородной империи (Джагатайский улус), а также (в более поздний период) — литературного языка, на котором там говорили (тюрко-джагатайский) и который представлял собой восточный вариант обычного тюркского языка.
Все эти земли в основном были тюркские, хотя города в южной полосе преимущественно были заселены иранцами, коих еще называли сартами или таджиками. Никакого государства они не составляли: там можно было различить лишь три обширные области, не имевшие никакой органической связи друг с другом. Север, невзирая на существование нескольких более или менее значительных городов, а именно Пишпека, Токмака, Каялыка и Алмалыка, был краем кочевников (где монгольские и тюркские племена перемещались по пастбищам, имевшим своим центром долину реки Или), Моголистаном в узком понимании этого слова. Насколько можно судить, упомянутые племена, следуя примеру вождей, оставались шаманистскими; однако к ним проникло и христианство, о чем свидетельствуют христианские кладбища, обнаруженные в поречье Или, а также деятельность миссионеров в Алмалыке. Никакой администрации им не было известно, как не имели они и ни малейшего понятия о государстве.
Уйгурия, когда-то буддийская, манихейская и христианская (если не упоминать о более скромных иудейских и маздакитских общинах), являлась страной высокой литературной и художественной культуры. Разумеется, ислам в этой стране распространение получил, но невозможно сказать, как далеко он продвинулся в восточном направлении с той поры, как в X веке образовалась тюрко-мусульманская империя баласагуно-кашгарских Караханидов. Именно на караханидо-тюркском языке Юсуф Хасс Хаджиб написал первое в Центральной Азии мусульманское произведение «Кутадгу билиг» («Наука счастья», 1067–1070); именно Караханиду Махмуду Кашгарскому обязано человечество первой научной тюркской книгой, монументальным энциклопедическим словарем (1072–1083); именно на тюркском языке изъяснялся величайший мистик Центральной Азии Ахмед Ясави, умерший в Яссе (нынешнем Туркестане), над чьей могилой по Тамерлановой воле со временем был воздвигнут грандиозный мавзолей.
Трансоксиана и Хорезм (который, несмотря на свои историю и культуру, в известной мере являлся частью Туркестана) представляли собой страны урбанизованные и отчасти сельскохозяйственные. Уже в первые века хиджры там получили развитие такие крупные очаги мусульманской цивилизации, как Ургенч, Бухара, Самарканд, Балх (Бактрия) и Газни, чья история уходит корнями во мрак времен. Их особенность признавал даже Чингисхан, давший Трансоксиане мусульманского правителя, Махмуда Ялавача, резиденция которого находилась в Ходженте. Сей человек, а также его сын и внук, сменившие его на этом «посту», трудились над переустройством страны и возрождением разрушенных городов. Их усилия не оказались бесплодными: «раны были залечены», экономика восстановлена. Бухара, например, расцвела столь пышно, что, кажется, именно тогда она пережила наиболее счастливые дни своей истории, невзирая на опустошения, причиненные ей Ильханами, осадившими этот город в 1273 году. Джувейни утверждал, что равного ей в мире не было ничего, а Марко Поло увидел в ней «самый лучший город Персии».
У владетелей этой империи, Джагатаидов, коих титуловали оберегателями
Вплоть до 1261 года Джагатаев улус оставался в жесткой зависимости от Агаханов, которые никогда не отказывали себе в удовольствии вмешиваться в его дела, в частности для интронизации угодных им князей. Умершему в 1242 году Джагатаю наследовал его внук Кара-Хулегу (1242–1246). Это был сын того Матугена, который погиб в сражении под Бамианом, афганским городом, известным огромными скульптурами Будды, вырезанными прямо в скале, и которого так оплакивал Чингисхан. Кара-Хулегу был еще юн, и в продолжение четырех лет власть находилась в руках вдовой императрицы, как это было принято в Каракоруме, где в период между кончиной Великого хана и вхождения в возраст наследника правили регентши. Затем, в 1246 году, Гуюк поставил во главе улуса Ису-Мангу (1246–1252), человека малоспособного, отдавшего бразды правления жене и своему министру-мусульманину. Он принял сторону Угедея, противившегося избранию Мунке на верховную должность, и был смещен. Мунке возвратил на трон Кара-Хулегу (1252), но тот преставился чуть ли не на следующий день. Его вдова Органа-хатун, личность незаурядная, взяла власть в свои руки и правила страной до 1261 года.
В очередной период всеобщего своеволия Органа-хатун попыталась лавировать между двумя соискателями: Хубилаем, которого посадила на трон в Китае его армия, и Арик-Бугой, коронованным в Каракоруме; при этом благоволя первому. Пренебрегши ею и надеясь таким способом нейтрализовать Джагатаидов, Арик-Буга возвел на престол Альгу. Поскольку упомянутые государи, коих намеревались сделать соперниками, были, по счастью, разных полов и к тому же рассудительными, им очень скоро стало ясно, что в их интересах было бы сочетаться браком. Дабы спокойно провести медовый месяц, они постарались как можно дальше дистанцироваться от Пекина (сидевший там же Хубилай в конце концов оказался во главе основного улуса), таким образом сделав первые шаги на пути к фактической автономии, указанному им Ильханами и Золотой Ордой. Когда умер Альгу (1266), Органа сумела сделать наследником своего сына, которого родила от Кара-Хулегу. Новый хан, Мубарак, был мусульманином, что тогда представлялось совершенно неприемлемым, и за это он едва не поплатился троном. Иные утверждали, будто бы наследовавший ему Барак принял ислам тоже (1266–1271), но ни его имя, ни его похороны на горé в соответствии с монгольским ритуалом этого не подтверждают. Он был вынужден подчиниться Угедейде-Кайду и согласиться с созывом курултая, чтобы попытаться найти решение важных социальных проблем, порожденных фактом совместного проживания в одной империи кочевников и оседлых. Для защиты культурных земель вторых от первых были приняты радикальные меры: племенные вожди и князья обязались оставаться на плоскогорье и в степи и не позволять пастухам гонять стада по возделанным полям (1269). Немного позже Кайду и новый хан Дува (1274–1306), исходя лишь из интересов подданных, а не из желания заиметь некую резиденцию, основали в Фергане новый город, Андижан, где в будущем должен был родиться Бабур.
В период между 1271 и 1274 годами эти события сделались причиной довольно опасных нестроений. Тем временем медленно, но верно осуществлялись отюречивание монголов и их исламизация, параллельно с этим возникла необходимость в создании стабильного государства, то есть более тяготеющего к оседлости. Кебек (1309–1310 и 1320–1326), хоть и оставался язычником, покинул степь и поселился в Трансоксиане, где построил дворец, Карши, ставший зародышем будущего города; там, по тюркскому обычаю, он стал чеканить деньги от своего имени. Он также дал обет никогда не бывать на Или, что в Моголистане. Эта уступка номада, быть может, еще заметнее подчеркивает факт того, что империя все более утрачивала кочевой характер; одновременно она усугубила внутригосударственную напряженность.
Кризис вспыхнул тогда, когда Тамаширин (1326–1333), вероятно, буддист, если судить по его имени, являющемуся производным от санскритского
Раскол улуса состоялся; появились два правителя и две державы: одна на севере, Моголистан; другая на юге, Трансоксиана. Обе называли себя джагатайскими и таковыми являлись на самом деле. В первой произошло бурное отторжение ислама, чем воспользовались несториане, католические миссионеры, очень активно ведшие себя в Алмалыке, и, разумеется, буддисты. Мусульманами овладело такое отчаяние, что малое время спустя, не имея возможности нападать на монголов, они принялись уничтожать христиан, особенно в Алмалыке (1339). В ходе этого скоротечного, но жестокого преследования христиан погибло пятеро монахов и купцов. Несмотря на то, что ситуацию удалось взять под контроль и вернуться к традиционной монгольской веротерпимости, которая позволила христианам обрести былые права и свободу, христианство все же получило ощутимый удар, который оказался тем более опасным, что он непосредственно предшествовал эпидемии чумы.
Обе державы, вышедшие из Джагатайского улуса, прочными не были. На юге, в Трансоксиане, хан тщетно пытался усмирить тюркскую знать, являвшуюся, между прочим, подлинной опорой его власти. Его изгнал эмир Казаган, один из основных деятелей аристократии, удел которого находился севернее Кундуза. Владетель края, лежащего в междуречье, он поставил у кормила власти в улусе одного из потомков Угедея, что означало нарушение джагатайской легитимности, но также признание того факта, что тюрки не могли выйти из рамок Чингисовых законов. Однако вскоре он возвратился к Джагатаидам и посадил на трон Буян-кули, внука Дувы. Как и в западной части Ирана, здесь тоже выбирали и убирали Чингисидов, не стесняясь. Они по-прежнему имели некоторый формальный авторитет, но в действительности являлись всего лишь марионетками в руках могущественной и чванливой тюркской знати.
Итак, настоящим хозяином Аму- и Сырдарьинского междуречья был Казаган. Он вполне достойно правил государством (1347–1357) в период, когда исчезновение Ильханского улуса ввергло страну в иранскую реставрацию, предусмотреть которую было невозможно. Тюркский элемент оказался под натиском элемента иранского, и трудно было прогнозировать: устоит он или будет сметен. Сей конфликт, разумеется, ничем не помешал убийству этого сильного человека Трансоксианы. Ему наследовал его сын, Мир-Абдаллах. Лишенный талантов, он вдобавок оказался глупцом. Охваченный любовной страстью, он распорядился убить хана, бывшего не у дел, дабы жениться на его вдове (1358). Возмущение было всеобщим. Аристократия, объединившись, прогнала Мир-Абдаллаха на север Гиндукуша, где его ожидала смерть. Среди федератов находился некий Хаджи-барлас, «дядя» будущего Тамерлана.
Ситуация в Моголистане была на редкость запутанная, когда вождь одного из главных родов, а именно рода Дуглатов, постановил отыскать какого-нибудь Джагатаевого потомка, сохранившего независимость от трансоксианцев и, следовательно, от ислама, с целью восстановления государства. Таковой был найден в лице Тоглуга-Тимура. Он родился в 730 год хиджры (1329–1330) и к тому времени был в возрасте восемнадцати лет; говорили, что его отцом (скорее дядей) был Эссен-бука, правивший своими подданными с 1310 по 1320 год. Тоглуг-Тимур оказался правителем сильным, честным и деятельным, в отличие от ленивых государей Трансоксианы. Его приняли с почестями и провозгласили ханом (1347).
Как ни хотелось монголам уберечь свои традиции от мусульманского влияния, сделать это им не удалось. Тоглуг-Тимур, в религиозных чувствах которого сомневаться не приходится, рассудил, подобно Генриху IV, искавшему средство для овладения Парижем, что Трансоксиана вполне стоила перехода в другую веру. Так он принял ислам, увлекши за собой, как говорят, многих своих людей. Настал благоприятный момент для переустройства Джагатайского улуса в целом. После бегства и кончины Мир-Абдаллаха тюркские вожди договориться между собой не смогли. Из двух главных заговорщиков один, Баян-Селдуз, от пьянства потерял рассудок, а другой, Хаджи-барлас, оказался человеком довольно слабым. Признавать их вождями не хотел никто. Все шло к анархии. В мае 1360 года Тоглуг-Тимур решил перейти на другой берег Окса; но это уже история Тамерлана.
Иранские монголы, Ильханы, претендовали на Афганистан, Балх, Газни и Кабул не единожды, но всякий раз безрезультатно. Они уже с трудом удерживались в Хорасане, где иранские князья из дома Куртов (Кертов), титуловавшиеся царями
Набеги были многочисленными, нередко отражаемыми, но почти всегда результативными; если они и не решали поставленной задачи, то по меньшей мере укореняли у джагатайцев привычку спускаться со своих гор; привычку, которой Тамерлан не преминет воспользоваться. В 1297 году Дува подверг разграблению Пенджаб, но был отброшен Алааддином Хальджи. В 1299–1300 годах Кутлук-ходжа довел свои полки до самых ворот Дели. В 1303 году Тургай на целых три месяца блокировал этот город, окружив его войском в сто двадцать тысяч сабель. В 1304 году сорок тысяч всадников попытали счастья тоже, но были наголову разбиты и потеряли девять тысяч человек пленными, коих растоптали слоны. В 1305–1306 годах Кебек предпринял поход на Мультан, желая отомстить за разгром 1304 года, но стал жертвой внезапного нападения. Наконец в 1327 году был совершен последний набег на Дели, о финале которого известно мало: завершился ли он поражением, беспорядочным бегством или наложением крупного выкупа, неведомо. Все это, однако, не исключило новых, но менее опасных, наскоков.
Случившаяся в 1335 году смерть монголо-иранского хана Абусаида положила конец существованию империи Ильханов. Почти везде иранское население попыталось снова получить власть над собственной судьбой, которую они утеряли после достопамятного нашествия арабов в VII веке. Однако единственным результатом их действий стала анархия. В то время как Месопотамия и Западный Иран по-прежнему находились в зависимости от монгольских ханов, правда, значительно исламизированных и довольно иранизированных (в частности, под влиянием могущественной семьи Джалаиридов), древний Фарс (давший свое имя Персии) сумел освободиться от оков завоевателей усердием Музаффаридов, арабо-иранских государей.
Совсем иначе развивались события в Иране Восточном, Хорасане, по выражению Жана Обена, «еще одном хранилище персидской культуры», который юридически и фактически оставался в рамках монгольской системы, но более тщился ее использовать, нежели ей служить. Главной хорасанской державой являлось гератское царство Курт (или Керт), уже добившееся определенной самостоятельности во времена Ильханов. Его повелитель, Муизаддин Хусейн, признал Тогай-Тимура (1336–1353), Ильхана-марионетку, которого «сотворил» сам, и даже взял себе в жены его дочь за десять лет до того, как трансоксианец Казаган попытался своими силами узаконить свою власть, взрастив с этой целью собственного хана-марионетку. Это позволило ему еще более распространить свое владычество, правда, в основном за счет сербадаров (1342).
Сербадары, еще одна важная сила Хорасана, сформировали нечто вроде «республики» с центром в провинции Байхак, главным городом которой являлся Себзевар, что западнее Нишапура. Сербадары представляли собой общественное движение мелких иранских собственников, умеренных шиитов, объединившихся для защиты своих интересов от вождей и знати кочевых племен. У них власть не была наследственной и потому служила объектом соперничества представителей различных придворных группировок. Подобно Куртам, не имея возможности влиять на владения, подчинявшиеся племенным вождям, или фиефов феодального толка (самый крупный из которых волею судеб образовался в Мазандеране, провинции, простиравшейся южнее Каспия, а именно Астрабадский монгольский эмират, очень скоро подчинивший себе Бистам, Дамган и Семнан), то и дело сталкиваясь с ненавистью Куртов, «республиканцы» все более слабели и, если и выжили, то единственно потому, что их государство успешно исполнило роль буферной зоны.
Становилось очевидным, что иранская реставрация пока еще была невозможной. История с гератским маликом стала тому доказательством. 5 августа 1349 года под давлением тройки временщиков, выходцев из знатных семей, он принял титул султана и в пламенной речи, дошедшей до нас, возвестил о намерении реставрировать ислам: «Милостью Божьей мы с корнями вырвем гнусное древо безверия. Мы погасим опустошительный огонь Гога и Магога, вздутый полчищем экстремистов-новаторов… Мы повелеваем истребить все нововведения неверных, дожившие до наших дней в стране ислама, и считать законными только дела, оформленные по законам
Невзирая на то, что именами Гог и Магог во все времена обозначали Центральную Азию, несмотря на выражения «полчище экстремистов», «нововведения неверных», все были согласны с тем, что в своих заявлениях Пир-Хусейн не метил ни в монголов, ни в Чингисово законодательство; и в самом деле, его взаимоотношения с ханом-свояком не испортились. Однако все же с Чингисовыми законами он порывал, на что до него не осмеливался никто. Не спровоцировать взрыв монгольской реакции это не могло, и она последовала со стороны Джагатаидов, несомненно, подстрекаемых
Тимур родился 8 апреля 1336 года в городе Кеш, современном Шахрисабзе, «зеленом городе», на сотню километров южнее Самарканда или точнее — в селении Ходжа Ильгар, от него зависимом. Тимуровыми родителями были Тарагай («жаворонок»), вождь племени барласов, и Тикинахатун. Новорожденному дали имя Тимур, тюркский вариант монгольского имени Темюр. Персидское прилагательное «ленг» (хромой), благодаря которому мы получили форму «Тамерлан» (Тимурленг), будет к нему присоединено впоследствии, когда наш герой получит увечье.
Семья слыла мусульмано-монгольской. Она, естественно, была монгольской, но только полностью отюреченной, как и большинство семей, которых Чингисово нашествие разбросало тут и там, в особенности в Трансоксиане, лежащей за Оксом, в краю, называемом мусульманами Мавераннахр, страной меж двух рек, тех самых, что впадают в Арал, то есть между Оксом (Амударьей) и Яксартом (Сырдарьей). Эта семья говорила на тюркском языке и ощущала себя тюркской. Мусульманской она сделалась незадолго до того, и, даже если религиозное рвение Тарагая было велико или стало таковым в его преклонные лета, ислам проник в его душу неглубоко. Настоящие мусульмане не носят старинных тюркских тотемических имен (как, например, «жаворонок»), тем более малораспространенных и малопочетных — не то что такие популярные, как
Согласно религиозным традициям алтайских народов (тюрок, монголов и тунгусов) железо является священной материей,
Говорить о Тимуре, сделавшемся всемогущим и получившем титул
Барласы, которые во времена Чингисхана, должно быть, звались баруласами, составляли несколько ветвей и жили в различных уголках Трансоксианы. Эмир Казаган скорее всего принадлежал к той из них, что находилась, если верить историку Хондемиру, в Хуталане. Те, которых возглавлял Тарагай, обретались в долине реки Кашкадарья и владели Кешской областью, с ее богатыми и достаточно орошаемыми землями, обязанными названием «зеленый город» своей пышной растительности. Данная родовая община являлась частью крупной племенной группировки караунасов: этим словом, первоначальный смысл которого был уничижительный, обозначали людей, родившихся от кровосмешения, а впоследствии — всех занимавшихся отгонным скотоводством трансоксианских пастухов, расселившихся на территории, которая простирается от Хорасана и Восточного Ирана до Систана.
Рождение и детство Тимура столь мифологизированы, что выявить нечто определенное трудно. Известно, что он рано лишился матери и что его воспитывали мужчины, а также то, что у него имелись три брата: Алем-шейх, Союргатмыш и Чуки, и две сестры: Ширин-бика-Ака и Кутлуг-Ака, последнюю впоследствии взял себе в жены эмир Давуд (член другого большого клана, Дуглатов), который стал правой рукой шурина. Можно предположить, что та великая нежность, которую Тимур испытывал к сестрам, проистекала из того, что он не получил материнской ласки, отчего сильно страдал. Его отрочество является чередой мучительных и, как выразился Обен, «постыдных» лет. Однако среди караунасов у него были надежные друзья, которым он навсегда остался предан, равно как и они сохранили верность ему. Не любивший Тимура историк Ибн Арабшах утверждает, будто бы тот не стеснялся воровать овец и во время одного из налетов на чужую отару получил увечье, которое сделало его хромым. Воровство могло иметь место, и хотя Чингисовы законы, как и тюрко-монгольские традиции, предусматривали весьма суровое наказание для тех, кто крал скот, они соблюдались не всегда, и случаи похищения животины, а иногда и женщин, вошли в анналы той эпохи. Что касается ранения, то оно боевое и относится к более позднему времени.
Существовало мнение, согласно которому Тимур читать и писать не умел.[6] Даже если это так, то все равно какое-то образование он получил бесспорно. Беседовал ли он с шейхами, дервишами и
Великий эмир скорее всего проводил большую часть свободного времени в седле (он был отменным наездником), на охоте, а также за шахматной доской. Шахматы на протяжении всей жизни оставались его излюбленным времяпровождением, и очень трудно поверить, что выигрывал он не всегда. Его мастерское владение оружием, его неустрашимость в бою вряд ли были приобретены в какой-либо школе; скорее всего тактические знания он приобрел в потешных боях со своими товарищами, на которых оказывал сильное влияние.
Силу дала Тимуру природа, но он развил ее постоянными упражнениями, благодаря которым наперекор увечности даже в старости по-прежнему являлся одним из выносливейших людей, известных историкам. В его полной жестокостей и приключений жизни неминуемо должно было быть множество подвигов и драм, и это позволяет думать, что сообщения авторов хроник не обязательно неверны. Например, рассказывают, как однажды на псовой охоте ему понадобилось преодолеть ров, перед которым все останавливали своих коней; когда его лошадь отказалась прыгать тоже и встала на дыбы, отчего Тамерлан едва не упал, он перескочил через ее голову и приземлился на другой стороне рва, что, как некое чудо, было отмечено восторженными криками.
О чудесах, связанных с Тамерланом, говорили постоянно — иногда справедливо, порою нет, — ибо ему, похоже, всегда удавалось избегать опасностей, жертвами которых становились другие, и выходить невредимым из самых серьезных переделок. Ему везло неслыханно, и он умел всегда кстати подчеркнуть спасительную роль своей звезды и даже ее приукрасить. То был великий мастер саморекламы и пропаганды: он начинал, а остальное доделывали славопевцы и сказители. Какими бы сказочными их сообщения ни казались, не все они возникли на пустом месте!
Чудеса сопровождали рождение Тимура. Они столько же поразительны, сколько все иные, о которых говорится в связи с приходом в этот мир большей части великих людей, и не всегда представляют собой свидетельства о плодотворности фантазии. Так, повествовали, будто бы в тот день пепел покрыл всю землю. Гораздо интереснее нам представляется почти не обратившая на себя внимание исследователей легенда, согласно которой Тимур появился из утробы матери «с руками, полными крови». В ней нет никаких намеков на учиненные им впоследствии избиения, но она проливает свет (правда, лишь отчасти) на загадочное высказывание в «Сокровенном сказании, монгольской хронике 1240 года»[7] о рождении Чингисхана: «Он родился, держа в руках по сгустку крови, похожему на бабку (бабка — надкопытный сустав животных, используемый в одноименной игре. —
Светила, сновидения, предзнаменования, предсказания — все указывало на то, что новорожденному было суждено великое будущее. В Чингисову эпоху было в порядке вещей, как, например, сказано у Виллема Рубрука, взывать к «волхвам при рождении ребенка, дабы они предсказали его судьбу», и все указывает на то, что в первой половине XIV столетия так же поступали в караунасских племенах. Совершенно очевидно, что, когда речь заходила о сыновьях вождя, гороскопы плохого сулить не могли. Зато редко можно было услышать предсказание судьбы, из ряда вон выходящей; что до историографов, то они, как и полагается, немного приукрашивали воспоминания.
В их рассказах присутствуют и почтенные шейхи, и, конечно, волхвы, и их более или менее исламизированные последователи, а также толкователи снов и астрологи. Однако наличие последних выглядит неправдоподобным, ибо, невзирая на то, что светила тюрко-монголам известны были плохо, народосмешение привело уйгуров, мусульман, китайцев и одержимых астрологией христиан к необходимости взять на себя роль соперников традиционных специалистов в камлании, гадании по овечьим лопаткам и внутренностям животных, и все тех же онейрологов (толкователей снов).
Именно с последними связано создание образа, скорее всего апокрифичного, двух звезд невиданной амплитуды (олицетворяющих Чингисхана и Тамерлана), якобы вышедших из тела четвертого предка монгольского завоевателя, чтобы пролететь по небосводу и озарить его своим сиянием. Не входя в мифологический репертуар степных народов, он занимает место более классического образа древа, выросшего из пупа некоего предка и простершего свои ветви над всею землею. Что до онейрологии, то это искусство прочно связано с шаманизмом. В продолжение всей своей жизни Тимур постоянно руководствовался приметами и действовал сообразно с видениями и снами. Апокалипсический контекст проявляется у Ибн Арабшаха в приписываемых Тамерлану словах, адресованных юношам-ровесникам: «Время настает. Поклянитесь, что меня не оставите никогда».
Тимуру было приблизительно шестнадцать лет, когда он поступил на службу к эмиру Казагану, считавшемуся «делателем ханов», поскольку именно им были один за другим возведены на трон Угедеид Данишмендия и Джагатаид Баянкули. Именно он являлся настоящим владетелем Трансоксианы, хотя его власть, присвоенная им незадолго до того, надо сказать, незаконно, будучи осуществляема руками государя, являющегося его креатурой, была непрочной и оспаривалась несколькими эмирами.
Тимур сразу же оказался замешанным во все интриги землевладельцев; он выслушивает критику и размышляет об обоснованности претензий; до него доходят слухи о заговорах. Вельможи притворяются, что доверяют ему, но в то же самое время пытаются сделать его соучастником восстания, о котором во время пребывания в Кеше он подумывал сам. В тот период он скорее всего участие в бунте принял бы, но теперь, осознав могущество эмира и слабость его противников, понял, что не стоит вместе с ними пускаться в авантюру. К тому же (присягнув эмиру на верность) как человек чести предателей он ненавидел. Вот почему Тимур донес на заговорщиков и посоветовал Казагану проявить твердость и применить метод, к которому в дальнейшем часто будет прибегать сам, а именно осыпать дарами вельмож, чтобы, завидуя друг другу, они начали состязаться за высочайшее благорасположение. Эмир вознаградил его тем, что поставил командовать одним из отрядов и женил на своей внучке, красавице Альджай, «подобной новорожденной луне и наделенной станом стройным, как кипарис». Она не замедлила одарить Тимура сыном, которого он скромно назвал Джахангиром («тем, кто держит в руках мир»). Думал ли он уже тогда о его будущих победах?
Человек щедрый, каким Тамерлан был всегда, он обзавелся многочисленными друзьями. Человек набожный, каковым действительно или притворно оставался неизменно, он поддерживал связи с аскетами, давая себе полный отчет в их способностях туманить головы простакам. Он наладил приятельские отношения с Джалальаддином Махмудом Аль-маки, который через два-три года стал гератским судьей
Минуло пять лет службы Тимура у Казагана. Все вроде бы указывало на то, что он поставил на верную карту и что карьера его была обеспечена, как вдруг, в начале 1358 года, эмир пал от руки Кутлук-Тимура, сына Боролдая, мусульманина из рода Орнатов, главного предводителя племен, населявших территорию между Амударьей и Кандагарскими степями. Феодалы восстали друг против друга. Сына жертвы, Мир-Абдаллаха, человека ни на что не способного, изгнали Хаджи-барлас и Баян Сельдуз. Наступила полная анархия. Осторожный Тимур посчитал, что выгоднее было бы возвратиться в родной город. Прибыв туда, он нашел больного отца, спасавшегося молитвами в одной дервишской обители, а также то ли настоящего, то ли мнимого «дядю», Хаджи-барласа, возглавившего большой род и, заодно, Кеш.
Трансоксианская знать была готова сохранить власть, трудно было решить, кому можно было бы ее доверить. Претендентов было множество. Тимур, отец которого вскоре умер, имел позиции далеко не самые лучшие. Впрочем, вначале даже речи о нем не шло: у него имелись друзья и сторонники, но годные лишь на роли второго плана, не более того. Человек еще молодой, среди известных политических предводителей он значил мало, не являясь даже хозяином у барласов. И все же ему удалось занять место в ряду основных претендентов, бок о бок с Хаджи-барласом, своим шурином Хусейном и Баязидом, вождем могущественного рода Джалаиридов.
Как раз тогда хан илийских монголов, настоящий хан-Джагатаид, Тоглуг-Тимур, решил, что настало время восстановить единство империи. В 1360 году он совершил набег на Трансоксиану. Баязид Джалаирид поспешил ему навстречу и к нему присоединился. Времени для того, чтобы определиться: сопротивляться ли, спасаться ли бегством, или сотрудничать, — у барласов было мало. Первый вариант казался невозможным. Хаджи-барлас избрал второй и увел часть племени в Хорасан. Тимур остановился на третьем, предварительно проконсультировавшись с религиозными авторитетами; он наговорил им массу лестных слов, но в случае неблагоприятного развития событий мог бы возложить ответственность на них. Выступив навстречу Тоглуг-Тимуру, он устроил пир в его честь и щедро одарил. Монголы, принявшиеся было за грабежи, были встречены как дорогие гости.
Тимур интриговал, сорил деньгами, чтобы создать впечатление, будто бы его влияние на мусульман могло быть полезным для язычников с берегов Или, и разъяснял тем, кои желали его слушать, что, сотрудничая с оккупантом, он приносил себя в жертву во имя народа, таким способом спасая то, что могло быть спасенным, в то время как его «дядя» дезертировал. «Разумный план приносит пользы больше, чем сто тысяч воинов», — говорил он впоследствии, имея в виду свои ловкие, но малопочтенные сделки. Одним словом, он устроил так, что Тоглуг-Тимур впредь клялся только им. Когда последнему из-за бунта, погнавшего его в центр империи, пришлось покинуть берег Сырдарьи, он не нашел ничего более разумного, как доверить управление Трансоксианой — или, по утверждению других, Кешской провинцией — Тимуру, под команду которого поставил целую тьму, то есть корпус войск численностью десять тысяч сабель. На двадцать пятом году жизни Тимур возомнил, что своего добился.
Он ошибался. Как только илийцы ушли, возвратились люди Хаджи-барласа; они примкнули к Баязиду Джалаириду и нестроения возобновились. Действия Тимура были решительными. Он хотел одним выстрелом убить двух зайцев: сохранить верность Джагатаидам и избавиться от «дяди». Он его атаковал и разбил; однако минуло совсем немного времени и войска его покинули, увидев в нем слугу язычников. Ничего другого, как предстать перед Хаджи-барласом и покаяться, ему не оставалось. Его карта оказалась несчастливой: кроме жизни, он потерял все.
В 1361 году возвратился Тоглуг-Тимур, полный решимости покончить с этой беспокойной и невыносимой знатью. Она почувствовала это и струсила. В Хорасан устремились толпы беженцев. Некоторые феодалы оказали было сопротивление, но потерпели поражение. Большинство предпочло покориться. Тимур — первый. Хан, не заботясь о мотивировке своих решений, повелел придать смерти некоторых вождей: сначала Баязида, а потом Баяна Сельдуза. Видя для себя опасность, Хаджи-барлас вновь устремился в Хорасан, но неподалеку от Себзевара пал от рук то ли бандитствовавших наемников, то ли разбойников-грабителей. Решив, что порядок восстановлен, Тоглуг-Тимур, уверенный в своем превосходстве над врагами, назначил сына, Ильяса-ходжу, на пост наместника Трансоксианы и дал ему в советники Тимура.
Привыкшая к независимости Трансоксиана возвращение под монгольское ярмо переносила плохо, ибо выгоды для себя не нашли в этом ни стоявшая у кормила власти тюркская знать, ни таджикская аристократия, связанная с ней значительно сильнее, чем можно было бы подумать, ни городское население, ни мусульманские массы. Ильяс-ходжа достоинствами отца не обладал. Монголы держались с трансоксианцами высокомерно; налогообложение было тяжелым; притеснения не прекращались; лихоимство процветало. Тимур сразу понял, что обстановка сложилась опасная. Сгустившиеся над его головой тучи выглядели грозовыми; надо было делать выбор: служить ли ханам далее или немедленно с ними порвать. С одной стороны, он всем был обязан монголам, с которыми у него имелось много общего, некое идеологическое сообщничество. С другой — он ощущал себя совершенным тюрком и был, как выразились бы нынче, патриотом. В одном случае он сохранил бы свое положение, надо сказать, весьма выгодное, но остался бы лишь актером второго плана. В другом — у него появился шанс стать первым, однако при неблагоприятном для него развитии событий он потерял бы все и ему пришлось бы все начинать сначала.
Не любивший полумер и полууспехов, Тимур решился на самое трудное по выполнению, но сулившее максимальный выигрыш. Он сделал ставку на Трансоксиану, на тюрок, разорвав все контакты с ханом, подняв на щит идею независимости, одновременно вступив в тесные сношения с племенами, дабы постепенно подтолкнуть их к восстанию. Однако слушать его не захотел никто или почти никто. Жизнь Тимура оказалась под угрозой; видя, что открыто действовать невозможно, он бежал с намерением присоединиться к шурину Хусейну, подобно ему, лишенному всего, одному из редких «националистов», и способному дерзнуть и хоть что-то предпринять. Под охраной небольшого эскорта он встретился с ним у некоего родника. Свояки договорились объединить свои силы и совместно действовать в борьбе с общими врагами.
Целых три года продолжалась жизнь, полная приключений, вдохновляясь которыми и добавляя в богатый художественный вымысел немного правды, славопевцы создали образ идеального странствующего рыцаря, стремящегося в мыслях к благородным делам, но не забывающего любить свою даму, красавицу Альджай, и, когда надо, рисковавшего жизнью. Многократно явленная неустрашимость, поразительные подвиги, неизбывная ненависть к врагам, щедрость победителя и сострадание к обездоленным — все это легло в основу Тимуровой популярности, и обо всем этом говорилось во время ночных дежурств, в воинских лагерях и в кишлаках; об этом же люди вспоминали, когда одерживалась очередная победа, и все соглашались с тем, что он ее заслужил по праву.
Что может быть романтичнее легенды о молодой женщине, запертой в сундуке и брошенной в море злым царем и спасенной ее доблестным мужем? Что более способно подстегнуть фантазию, как не повесть об изгнаннике, сумевшем проникнуть в Самарканд, переодевшись нищим, и спрятавшемся в доме своей сестры Туркан-Ака и ходившем на тайные встречи со своими единомышленниками?
Свояки отправились в Хорезм в сопровождении жен и шестидесяти человек охраны, но путь им преградил отряд кавалерии, как говорят, в тысячу сабель, посланный хивинским эмиром, чтобы их схватить. Рубка была ужасная. Под Хусейном пала лошадь. Тимур копьем пригвоздил эмира к земле. К ночи в живых оставалось около полусотни врагов и шесть-семь человек защитников Тимура и Хусейна. Пользуясь темнотой, они скрылись. На двух женщин имелась всего одна лошадь, и, поскольку на первом же привале были украдены три других, им пришлось продолжить путь пешком. В конце концов беглецы нашли убежище в горах.
Жизнь изгнанников была сурова и неопределенна. Начались ссоры. Малое время спустя оба эмира, блуждавших средь Черных песков (Каракумов), были схвачены неким Али-беком и брошены в темницу Макана, городка, находившегося в Мервском оазисе. Их заточение наделало много шуму, что указывает на авторитет, который имели эти два человека не только в Трансоксиане, но и в Хорасане. Живший в Тусе Мухаммед-бек, брат похитителя, поспешил заступиться за пленников и добился их освобождения. Едва они оказались на свободе, как от гератского малика, Муизаддина Пир-Хусейна, пришло письмо с требованием их ему передать (1362).
Покинув Макан, где у Тимура успели появиться надежные друзья, в дальнейшем сослужившие ему добрую службу, свояки расстались. Хусейн направился в свои кубулистанские владения; Тимур укрылся в низинах южного берега Амударьи, где получил несколько посланий от гератского малика. Не доверяя ему, сын Тарагая хранил молчание, и, чтобы убедить его покинуть свое убежище, понадобился прибывший туда личный посланник Пир-Хусейна. В сопровождении посла Тимур прибыл в царский стан, находившийся на краю провинции Нишапур. Оказав гостю хороший прием, его снабдили продовольствием и деньгами. Надеясь на равноценное отношение к себе, прискакал в Герат эмир Хусейн, но неожиданно для себя очутился в темнице.
Тоглуг-Тимур, разославший войска по всей территории, лежащей между Амударьей и Гиндукушем, дабы завладеть эмиром, попросил его ему отдать. Пир-Хусейн велел ответить, что тот умер. Хан не поверил, но, не желая разрыва с Гератом, предпочел оставить свои сомнения при себе. Опасаясь возможности также оказаться на дне зиндана,[8] осторожный Тимур посчитал, что вернее было бы исчезнуть.
Вскоре Хусейну удалось бежать, и он поспешил к шурину. Не очень понятно, как они оба вдруг оказались во главе тысячного отряда, рядом с одним из племенных вождей, тоже недовольным центральной властью. Дабы не бездельничать, они поступили на службу к правителю Систана, который что-то не поделил со своим взбунтовавшимся народом, и захватили для него одну за другой три крепости. Мятежники поняли, что их существование в опасности; видя успехи наемников, забеспокоился и его систанское величество, который на волне общего страха тут же помирился с Джагатаидами, иными словами, с Трансоксианой.
Тимуру и Хусейну уезжать не хотелось. Но те, кто их нанял, не были ли они предателями? По не выясненной до конца причине Систанцы напали на них. Сражение было длительным и ожесточенным. Своих жизней не щадил никто. Наемники остались хозяевами поля битвы, но понесли тяжелые потери. В Тимура вонзились две стрелы; первая — в правый локоть, вторая — в правую ногу; недолеченные раны дали осложнения, которые со временем обострились настолько, что руку наполовину парализовало, а работоспособность ноги так полностью и не восстановилась, и именно припаданию на нее обязан Тимур прозвищу «хромой»
Сильно потрепанное, но опережаемое славой малочисленное войско появилось в Трансоксиане. Пока Тимур лечил раны, вокруг него и Хусейна собралось пять, возможно, шесть тысяч воинов, что не могло не озаботить Ильяса-ходжу, ибо эти искатели приключений могли стать опасными. Один был кровей Казагана, уже покойника; другой, являвшийся членом влиятельного племени барласов, прислушивался к мнению мусульман. Вначале послав было против них, как для обычной карательной операции, небольшой отряд, который, однако, был рассеян неподалеку от Балха, Ильяс поднял настоящую армию, что поставило перед шурьями абсолютно иную задачу. Впервые имея дело не с силами того или иного феодала, а с мощным войском хана, они решили не ждать его подхода, а выдвинуться ему навстречу.
Ильясовы полки разбили лагерь у каменного моста (Пул-и-Сенги), перекинутого через Вакх. Целый месяц противники стояли визави, не предпринимая никаких действий, быть может, не располагая средствами для форсирования реки. Но вот, оставив Хусейна наблюдать за мостом, Тимур ночью переправился через Вакх выше по течению и расположил свои отряды на высотах, контролировавших позиции врага. Как только взошло солнце, он приказал барабанщикам бить в барабаны, ратникам издавать воинственные крики и вдобавок разжечь огромные костры. То была незатейливая хитрость, долженствовавшая убедить противника в наличии силы там, где была только слабость; но часто самыми результативными оказываются именно самые простые уловки. Ханской армией овладел страх. Опасаясь удара в спину и боясь оказаться прижатым к реке, Ильяс-ходжа велел ее форсировать. Эмир Хусейн держался молодцом; запаниковавшие же монголы бежали.
То было для Тимура несомненной удачей, первым доказательством не только его отваги, но также ратного таланта. Развивая успех, он бросил на Кеш часть своей конницы. Жара стояла ужасная; воздух был раскален; земля пересохла и потрескалась. Каждый всадник привязал к хвосту своей лошади по несколько веток, поднимавших клубы пыли и песка. Монгольский правитель, который к себе никого не ждал, подумал, что на него движутся огромные силы, и предпочел покинуть город, за что был поднят на смех. Тимур вступил в Кеш под радостные крики населения. «Вот так, благодаря бивуачным кострам, — говорит летопись, — Тимур победил великую армию и взял город с помощью облака пыли».
Тем временем скончался хан Тоглуг-Тимур (1363). Ильясу-ходже, его сыну, пришлось ехать в Моголистан для вступления во владение наследством, но он вовсе не намеревался оставлять Трансоксиану вне поля своих интересов и бросать на произвол судьбы достигнутую было сплоченность улуса. Требовалось также поставить на место тюркскую знать, а для начала пообрезать крылья тем, кто казался наиболее способным ее возглавить, а именно Тимуру и Хусейну.
Удостоверившись в абсолютной покорности Моголистана, Ильяс рискнул предпринять новый поход и двинулся на Кеш. Трансоксианцы немедленно встали под оружие. Сшибка произошла где-то между Таш-Ириги и Митаном, на землях, окружавших Самарканд. Поднять меч на хана считалось преступлением против величества, и в данном случае тем более тяжким, что Тимур когда-то у Ильяса служил. Но именно тогда увидел Тимур свой первый вещий сон, подлинный или вымышленный, так взбудораживший его воинов. Небесный глас возвестил ему, что победа будет его, ежели он нанесет удар безотлагательно. Сын Тарагая умел найти убедительные слова, и трансоксианцы, уверовав в свою непобедимость, ее успешно доказали. Ильяс-ходжа, или точнее Ильяс-хан, был разбит наголову. Едва не попав в руки к врагам, он бежал в Моголистан. Тимур с Хусейном за ним гнались до самого Ташкента. Как и во времена правления Казагана, единство и сплоченность улуса были уничтожены; Трансаксиана обрела свободу.
Оставалось узнать, кто будет ею править. Начались ссоры и споры более ожесточенные, нежели когда-либо, но все сошлись на том, что выходить из рамок Чингисова законодательства нельзя: требовался хан. Постановили созвать курултай, который назначил бы нового верховного правителя. Взоры обратились на дервиша-поэта, по прямой линии происходившего от Джагатая и звавшегося Кабул-ханом. То ли летом, то ли в начале осени 1364 года он был возведен на трон согласно монгольскому ритуалу. После курултаев обязательно устраивались пиры; праздничная трапеза состоялась и в тот раз. Тимур получил титул Сахиб-кирана, «того, по чьей воле выстраиваются звезды». Он по обыкновению был безудержно щедр и вел себя слишком по-хозяйски, что не понравилось Хусейну.
Ильяс-хан возвратился весной 1365 года. Тимур с Хусейном двинулись ему наперерез. Сшибка произошла севернее Сырдарьи, между Ташкентом и Чиназом. Ильяс одержал победу. Как протекал бой, не знает никто. Лучше известна легенда, а не действительность. В монгольской армии находились колдуны —
Ильясовы ядаджи все, что было нужно, исполнили, заставив Тимура и Хусейна спешиться и ногами месить грязь в степи. Та схватка получила название «битвы в трясине».
Побежденные еще до вступления в бой, трансоксианцы отошли за Сырдарью, где разбрелись кто куда, напутствуя друг друга злою бранью.
Ильяс подступил к Самарканду, правителем которого являлся, ожидая, что, вспомнив об этом, горожане примут его с распростертыми объятьями. Но те закрыли перед ним ворота и вооружились. Ничего другого, как решиться на осаду, ему не оставалось. Самаркандцы отбивались мужественно. У монголов начался падеж лошадей; потеряв конницу, Ильяс-хан снялся с лагеря и отправился в Моголистан для подкрепления. Обратно он не пришел. Вскоре после того постыдного поражения его убил тот самый эмир из клана Дуглатов, по имени Камараддин, который в 1347 году так много сделал для прихода к власти его отца и который впоследствии занял его место.
Во время монгольской оккупации Тимур выказал некоторое сочувствие к сербадарскому «республиканскому» движению, которое, зародившись в Хорасане, незадолго до этих событий, в 1365 году, охватило Самарканд. Эмир Хусейн, который все более откровенно давал понять, что желал бы стать последователем своего деда Казагана, и мало-помалу становился предводителем аристократии, напротив, ненавидел «республиканцев» лютой ненавистью, а также выдвинул ряд серьезных обвинений, адресованных прежде всего эмирам и племенным вождям, главным образом тем из них, кои были особенно близки Тимуру. Последний сделал вид, — а быть может, и нет, — что это страшно его возмущает, и из своей личной казны уплатил налоги за всех феодалов, оказавшихся в затруднительном положении. Говорят, он даже отобрал у Альджай ее украшения и отдал их Хусейну, давая всем понять, что брат ограбил собственную сестру.
Будучи в Карши, Тимур попытался создать коалицию с целью свергнуть Хусейна, но потерпел неудачу. Тимуру пришлось выехать из города и спешно отослать семью в Макан, стоявший на землях, окружавших Мерв, где у него были друзья, а сам, повинуясь врожденной осторожности, разбил лагерь у «соленых колодцев», посреди Каракумов. Вновь, как пять лет назад, настали горькие дни. Из своего убежища он послал к гератскому малику несколько эмиссаров. Получив от него когда-то заверение в сочувствии, сын Тарагая на него рассчитывал. Состоявшееся 7 сентября 1366 года совещание Муизаддина с некоторыми хорасанскими предводителями по меньшей мере развязало ему руки. Не получая поддержки более конкретной, он задерживал все проходящие мимо караваны, чтобы никто не проведал о его местоположении.
Тимуровы посланцы вернулись на исходе второго месяца. Тогда же он распустил слух, будто бы его ожидают в Герате; сам же скрытно двинулся на Карши, чтобы, прибегнув ко всевозможным хитростям, коими так восхищаются летописцы, внезапно оказаться на его улицах. Увы, закрепиться в этом городе ему не удалось, так как племенные вожди имели свойство перебегать из одного лагеря в другой под самым пустячным предлогом, а иногда и вовсе не брали на себя труд таковой искать. В начале 1367 года Тимур снова оказался в Макане, в кругу семьи.
Его семейство увеличилось. После Джахангира родились Омар-шейх и Мираншах, две дочери, а также, возможно, два сына, которым было суждено умереть в младенческом возрасте, и, разумеется, несколько детей внебрачных, коих, как и других, родившихся от него впоследствии, он не признавал никогда. Из чад законных один пока что рожден не был, а именно Шахрух, который появится на свет в августе 1377 года и станет самым выдающимся из всех Тимуровых отпрысков.
В Макане уже укрылись многие его сторонники, к которым со временем примкнули некоторые другие. Ожидалось прибытие еще кое-кого, но они задержались, так как дороги были небезопасны. Очистить их позволил рейд, совершенный Тимуром к предместьям Бухары.
Весной 1367 года Тимур послал к Муизаддину верного человека по имени Чаку-барлас. Точно не известно, что за договоры тогда они заключили (возможно, было условлено, что Джахангир-мирза прибудет в Герат в качестве заложника, тогда как другие члены семьи останутся в Макане, под защитой малика), но они позволили возобновить наступление, которое, как и предыдущие усилия Тимура, успехом не увенчалось, и ему в очередной раз пришлось уходить. На этот раз Тимур направился на север, в Ташкент, где провел зиму 1367/68 года. Город стоял на монгольской территории, и он выбрал его скорее всего по этой самой причине.
Впервые сын Тарагая выглядел растерянным и сомневающимся. Пребывая в подавленном состоянии духа, он мало-помалу учился находить общий язык с ханом, имея целью уговорить его возвратиться в Трансоксиану. Об этом узнали. Разразился скандал. Тимур, с его неизменной живостью реакции, понял свою ошибку быстро. Поборник независимости Трансоксианы, он не должен был становиться агентом чужой страны. Он смирился с необходимостью поладить с Хусейном, и тот признал за ним право на владение Кешем. Еще один сон, доведший до его сознания горнюю волю, случился весьма кстати, оправдав избранную им позицию.
Так рухнул план, который вынашивался столь долго и согласно которому монголы должны были нанести удар с севера, а войско правителя Герата — с юга. Осведомленный о новых приготовлениях Тимура, Муизаддин Пир-Хусейн остановил свой поход на Балх и из мести не стал мешать своему воинству грабить южные берега Амударьи на пространстве между этим городом и Хульмом (Таш-Курганом). Тогда Тимур бросил свою армию на Хорасан, однако дав его населению время покинуть город, чтобы не воевать с теми, кои так ему помогали. Все его семейство перебралось в Кеш.
Решив прикинуться верным заключенному договору, Тимур помог Хусейну укрепить свою власть, особенно над Кабулом и взбунтовавшимися горцами Бадахшана. Однако этих двух людей уже ничто не объединяло. Умерла Альджай, которая была способна восстановить их единство: сестра более не могла замолвить слово за брата, а жена — за супруга. Оба знали, что один из них был лишним, и каждый старался расставить фигуры так, чтобы сначала объявить сопернику шах, а затем и мат.
Тимур предпринял опережающие меры. Покинув Кеш, он переплыл Амударью и овладел Бактрианой. От неожиданности Кундуз сдался на милость победителя. К нему тут же примкнул правитель Бадахшана. Не успел Хусейн изготовиться к бою, как Тимур уже подступил к Балху, чье население, однако, оказало сопротивление. Хусейн отдал себя в руки шурина, который с лицемерным добродушием позволил ему совершить
Вся Трансоксиана подчинилась Тимуру. 10 апреля 1370 года, в ходе церемонии, по монгольскому обычаю он провозгласил себя единодержавным государем и, пренебрегши всеми громозвучными титулами, столь любимыми восточными владыками, удовольствовался званием эмира, к коему прибавил эпитет «Великий»:
Тимур достиг зрелости; ему исполнилось тридцать четыре года. Его цель — стать владетелем Трансоксианы — была достигнута. Претендовал ли он тогда на что-либо еще? Новые цели часто возникают у людей лишь по мере того, как решаются очередные задачи и горизонт расширяется. Помышлял ли он уже о создании более крупного государства, о восстановлении империи Чингисидов или, кто знает, о том, чего желал Чингисхан, а именно воцарения над всем подлунным миром? И наоборот: не чувствовал ли он себя насытившимся, подобно хищному зверю, сожравшему добычу, и теперь заботился лишь об укреплении владений?
После того как в 1351 году Казаган поставил провинцию Герат в зависимость от Джагатаидовых владений, Хорасан можно было считать аннексированным Трансоксианой. Его многократное и столь полезное для Тимура вмешательство в дела этой последней, при необходимости, легко доказало бы, что связи между обеими странами оставались прочными. Малик Хорасана умер в мае 1370 года, вскоре после прибытия Великого эмира, раздавшего свои владения сыновьям: Гиятаддин Пир-Али получил их львиную долю (Герат, Гур и Кухистан включительно); его брат — область Серахс и несколько других владений. Поэтому неправильно утверждать вместе с летописцем Али Язди, будто бы только из уважения к этому идеальному мусульманину и из дружеских чувств Тимур, вместо того чтобы на него незамедлительно напасть, отложил поход на целых одиннадцать лет. Воистину в молодом Тимуровом государстве недостатка в проблемах не ощущалось, и в продолжение лет десяти они не позволяли Тарагаеву сыну предпринимать какие-либо действия. Требовалось избавиться от недовольных, переустроить жизнь в пострадавшей за годы анархии стране и уберечь ее от возвращения монголов, по-прежнему возможного и ожидавшегося, даже неминуемого.
В Балхе Тимур добился своего введения во власть так, как если бы являлся монгольским ханом. Процедура его избрания была своего рода представлением: его посадили на белую кошму и на ней подняли на вытянутых вверх руках, чтобы «представить Небу»; затем было совершено девятикратное коленопреклонение перед ним, и наконец ему вручили почетный кубок. Между тем он еще раньше заявил, что хотел бы, чтобы его рассматривали не как некоего императора, но лишь как первого среди эмиров, как Великого эмира, и что он намеревался служить исламскому закону. С первого же дня царствования он оказался между двумя разными традициями, двумя культурами, двумя образами жизни и двумя религиями.
Думал ли он о возможности обойтись без хана? Как в свое время Казаган, Тимур не смел и не мог сместить того, кто воплощал в себе легитимность Чингисидов. Безоговорочно преданный эмиру Хусейну хан Кабул умер, возможно, по воле Тимура. На его престол он посадил не Джагатаида, а Угедеида, Союргатмыша, который никогда и ничем его не беспокоил, оставаясь «ханом-бездельником» до самой кончины в 1388 году. Тогда же на смену ему пришел его сын. Но всего этого Тимуру было недостаточно. Для поднятия авторитета и придания законности своей власти, каковой она не являлась, невзирая на то, что его апологеты, наверное, уже тогда взялись за составление его фальшивой генеалогии, он забрал из гарема шурина одну из дочерей хана Казагана, по имени Сарай-Мульк-катун, и на ней женился, что позволило ему получить весьма китаизированный титул императорова зятя
Как хороший кочевник, как преданный приверженец Чингисовой ясы, запрещавшей жить в городах, Тимур довольно долго с большим недоверием относился ко всем поселениям городского типа. Например, узнав о желании эмира Хусейна обосноваться в Балхе, он настойчиво уговаривал своего друга отказаться от подобного намерения. Он и думать не думал, что однажды у него появится свой собственный город.
Подобно всем великим степнякам-номадам, давлеющее воздействие городов он испытывал на себе всегда. С другой стороны, Тимур понимал необходимость улучшить взаимоотношения с оседлыми народами. Он думал о Кеше, но в конечном итоге остановил выбор на Самарканде.
Просторный, богатый и удачно расположенный Самарканд пользовался тысячелетним авторитетом, о котором не забывали ни тюрки, ни иранцы. Часто удивляются тому, как на Востоке долго помнят о далеком прошлом даже самые безграмотные, мыкающиеся по медвежьим углам люди. Для трансоксианцев незабвенным остался Александр Македонский (Искандер Двурогий, как его титулуют мусульмане); в бытность в Трансоксиане он спьяну заколол копьем друга детства Клита. Помнили и о расцвете греко-римской цивилизации с ее восхитительной культурой, сформировавшейся в результате симбиоза греческого и согдийского гениев и развившейся в рамках кушанского государства, которое уничтожили иранские Сасаниды. Тюрки или некие родственные им народы, известные как Белые гунны (они же эфталиты), пришли туда в 420 году. Согдийский язык иранских корней в ту пору имел статус lingua franca[9] всей Центральной Азии, а Шелковый путь сделал Самарканд одним из главных перевалочных пунктов. Виноград, золотая и серебряная посуда, льняные изделия, ароматические масла, изделия городских ремесленников и крестьян, а также танцовщицы были хорошо известны и пользовались повышенным спросом даже в Китае. Все больше тюрок смешивалось с местным населением, относительно зависимым от степной империи
Чингисхан впоследствии город опустошил. Главная мечеть сгорела. Лишенная центрального столпа христианская церковь не рухнула, как свидетельствует Марко Поло, единственно благодаря помощи свыше. Город оживал медленно. Посетивший Самарканд Ибн Баттута рассказал о его ранах и выздоровлении, об ирригационных машинах и чайных павильонах, а также о параде войска-победителя численностью в девяносто тысяч сабель.
Самарканд был сверх всего прочего городом мифов и легенд, чем-то вроде святилища, местом почти священным. В глубокой древности, задолго до Александра Македонского, там жил Афрасиаб, которого воспел в «Книге о царях» («Шахнаме») Фирдоуси и коего тюрки впоследствии сделали одним из главных своих героев. По прошествии некоторого времени там преставился двоюродный брат пророка Мухаммеда Кусам ибн Аббас. Жизнь того и другого якобы продолжилась во чреве земли.
Приняв решение поселиться в Самарканде, Тимур в первую очередь позаботился о его укреплении и велел отремонтировать городские стены, а также возвести прочную крепость Арк, в центре которой должен был подняться дворец. Вскоре обнаружив, что прежняя стена была слишком узкой, он приказал добавить ей толщины. Прошло совсем немного времени, и, вырвавшись из старых границ, Самарканд обзавелся городами-спутниками, которым Великий эмир присвоил имена таких крупных метрополий, как Дамаск, Султания, Шираз, Багдад и Каир (Миср).
В Трансоксиане надо было все делать сызнова. Но прежде следовало взять страну в крепкие руки. В июне-июле 1370 года Тамерлан созвал совет. Согласно кочевническим правилам, курултай заседал в чистом поле, в окрестностях Самарканда. Тарагаев сын намеренно сохранил обычай этих собраний, создававших иллюзию коллегиального правления, тогда как он сам намеревался править государством единовластно. В тот раз курултай дал ему возможность определить численность и понять настроения своих верных товарищей, а также заложить основы государства. Пришедшие, — а таковых оказалось много, — были зачислены в разряд друзей; те, кто решил, что следовало воздержаться, были объявлены смутьянами. Во главе племен и улусов и на прочие ключевые посты Тамерлан поставил своих друзей детства, тех, на которых, как он знал, можно было рассчитывать. Создав костяк прочной государственной администрации, он приступил к регламентированию цен, не упуская из вида регулярную и строгую проверку мер и весов.
Если внутренняя политика Великого эмира заключалась в укреплении названными мерами собственной власти, то внешняя — предусматривала обеспечение государству спокойствия путем умиротворения монголов. Его интронизация совершилась не без недовольства со стороны Трансоксианы и приграничных областей; недовольства, выразившегося в открытом протесте значительных масс населения, а то и в категорическом неприятии. Таких, которые имели привычку действовать по произволу, было немало, и они вовсе не обрадовались необходимости возвратиться на стезю послушания. Жить в состоянии анархии — извечная традиция кочевников, соглашавшихся с нею расстаться лишь в случае крайней необходимости, когда бывали убиты (или умирали естественно) их вожди или когда это давало очевидную выгоду. Вот почему, как только племена объединялись вокруг той или иной выдающейся личности, они тут же нападали на соседей, чтобы пограбить, а то и прихватить земель. Но на этот раз Великий эмир не планировал ни набегов, ни иных прибыльных мероприятий; актуальность последних возникла только через одиннадцать лет.
Вероятно, еще тогда, когда заседал курултай, в Шибаргане (юго-западнее Балха) поднял восстание глава клана Аларди, по имени Зинда-Хашам, который в 1360 году имел случай проявить свою предприимчивость, вмешавшись в дела Мазандерана. В ту пору Тимур, не имея возможности дать ему бой, сумел с ним договориться. Спустя время владетель Термеза, Сайд Абдул Ма’али Хван-заде, объявив себя боговдохновенным и используя свой авторитет потомка Магомета, провозгласил скорый конец света и призвал мусульман объединиться под его началом во имя утверждения истинной веры. Дело могло принять серьезный оборот: всем известно, до чего иной раз доводит мусульманский фанатизм, периодически принимающий вид какого-нибудь движения; и не следует забывать, что Тимур опирался именно на религиозные группировки. На самом же деле, конечно, то было всего лишь соперничество школ и учителей, раздраженных тем, что Великий эмир взял себе в духовные советники Саида Барака. Это эсхатологическое движение искомого результата не получило и за пределы Балха и Термеза практически не вышло. Однако оно подтолкнуло на повторное восстание Зинда-Хашама (лето 1371); впрочем, Тимур, должно быть, слишком опасным его не находил, так как лишь осенью (того же года, а не в конце 1370 года, как утверждает Али Язди) предпринял то, что получило название первой Моголистанской кампании. Действительно, движение Хван-заде, вспыхнув подобно пучку соломы, тут же погасло, а Зинда-Хашам, осажденный Чаку-барласом в Шибаргане, на исходе зимы 1372 года сдался и был помилован.
Итак, караунасская армия, сформированная главным образом из тюркских воинов, когда-то состоявших на службе у Казагана, а потом у его внука, эмира Хусейна, перед началом зимы совершила превентивный поход на Моголистан. Напомним, Ильяс-хан к тому времени уже был убит, а его улус унаследовал Камараддин, вождь многочисленного племени дуглатов.
Воинственные по природе, монголы считали своей собственностью дважды завоеванную ими во времена Тимуровой молодости Трансоксиану. Теперь надлежало их могущество ослабить. Ничего более трудного, как эти походы на северо-восток, никогда не оказывавшиеся окончательными, для Тимуридов не было, поскольку враг, следуя тысячелетней тактике номадов, отступив перед вторгшимися полками, вдруг окружал их, наносил внезапные удары, увлекал все далее от баз, отказываясь вступать в решительное сражение, что принуждало повторять набеги на них не менее пяти раз.
Нигде не встретив упорного сопротивления, Тимур миновал Иссык-Куль и вступил на земли, окружающие нынешнюю Алма-Ату, где спешно заключил мир, чтобы уже весной возвратиться в Самарканд. В начале 1372 года, собрав войска в Ташкенте, он вновь отправился в Центральную Азию, откуда вернулся летом. На сей раз он напал на монголов неподалеку от населенного пункта, называемого в источниках Танки (вернее было бы: Янги), то есть вблизи Таласа, нынешнего Джамбула. Говорят, что враг был опрокинут и что трансоксианцам досталась добыча весьма богатая. Эта операция, разумеется, ничего решающего в себе не несла, но дала Тимуру определенную передышку, необходимую для улаживания других дел. Прежде всего он должен был подавить заговор, подготовленный кое-кем из крупных владетелей, принимавших участие в походе на Моголистан, среди которых находились бывшие смутьяны, такие, как термезец Сайд Абдул Ма’али и Зинда-Хашам. Единственной жертвой весьма умеренных репрессий стал сей последний, до того случая дважды прощенный; его бросили в темницу, где он и умер.
Используя как предлог беспорядки, имевшие место перед приходом Тимура, хорезмшах отнял у джагатаидского хана два города: Хиву и Кят (Шах-Аббас-Вали). Начиная с 1371 года Тамерлан тщетно требовал от Хусейна Суфи их ему вернуть. Значит, надлежало их отнять. Хорезм (или Хорезмия, как называет этот край классическая литература) представлял собой часть Трансоксианы, ее лучшее украшение. Амударья, или Окс античных времен, чьи возделанные низины ограничивали Трансоксиану с юга, миновав узкую горловину (Львиную пасть, Дахен-и Шир), в месте впадения в Арал растекалась по землям дельты, изрезанной протоками и оросительными каналами и такой же плодородной, как дельта Нила; по землям, которым была ведома высокоразвитая цивилизация.
Будучи городом глубоко исламизированным и, можно сказать, полностью тюркизированным, Хорезм, многогранное искусство которого имело влияние на всю Восточную Европу, а также представлявший собой центральный узел европейско-азиатской торговли, стал родиной величайшего ученого мусульманского мира аль-Бируни, великого математика IX века аль-Хорезми; а великий шейх Наджеддин Кубр встретил в его стенах свой последний час (1220). Незадолго до Чингисова нашествия Хорезм являлся средоточием обширной страны, занимавшей весь Иран во времена правления тюркской династии хорезмшахов, возглавлявших государство с конца XII по начало XIII столетия, до того как в 1221 году его разрушил Чингисхан. Поднялся он быстро. Как можно прочитать у Ибн Баттуты, его столица, Ургенч, был «самым густонаселенным и самым прекрасным из всех городов», когда-либо виденных знаменитым путешественником. Прожив сто сорок лет под пятой джагатайских монгольских ханов (Золотой Орды), он отделился от них вскоре после 1360 года благодаря усилиям своей собственной династии тюрко-монгольских корней.
Тимур начал военные действия в конце 1372 года, сразу по прибытии гератского посольства. Упоминающие о нем тексты говорят лишь о вручении даров; но не вызывает сомнения то, что речь шла и о делах политических. Великому эмиру определенно хотелось иметь уверенность в том, что его нападение на государство, во многих отношениях являвшееся одним из светочей мусульманской цивилизации, не вызовет чрезмерного недовольства у Герата, еще одного очень мусульманского государства; или как минимум уверенность в том, что Герат не станет ему препятствовать. Сразу по окончании переговоров он назначил своего верного Чаку-барласа на пост губернатора восточных владений: Кундуза и Кабула, — в чем проявилось его желание получить дополнительные средства для противостояния Хорезму, а также незаметно вести наблюдение за действиями Термеза, Балха и Шибаргана, где совсем недавно было покончено с мятежом.
Поход был стремительным и сокрушительным. Тимуровы полки обложили Ургенч. Хусейн Суфи умер скорее всего во время этих боевых действий. Его сын Юсуф с испугу запросил мира и, получив его, отдал спорные города. В начале 1373 года, после ухода Тимура, он, спохватившись, попытался их отвоевать. Великий эмир незамедлительно (в феврале-марте) двинул на него армию, обратил его в бегство и загнал в «волчью яму». Однако сказочная красота его дочери Хан-заде, а вернее Севин-бек, внучки золотоордынекого хана Узбека, Юсуфа спасла. Тимуру страстно захотелось на ней женить своего сына Джахангира, и он попросил ее руки. Сделка была заключена. В сопровождении почетного эскорта принцесса была доставлена в Самарканд, где ей была устроена встреча, какой редко удостаиваются королевы. Свадьба была неслыханно пышной.
Весной 1373 года в трансоксианском эмирате, похоже, наступил мир. Все было спокойно; по меньшей мере настолько, насколько можно было этого желать. Народ трудился, отдыхал и, как говорится, дышал полной грудью. Казалось, думать о войне Тимура ничто не понуждало. Можно было бы сказать, что он готовился к царствованию в мире и процветании. Он восстановил порядок без каких-либо из ряда вон выходящих мер и даже с редкой сдержанностью. Но вдруг, посреди зимы, в январе-феврале 1375 года, у Тимура возникла идея совершить третий поход на Моголистан. Зачем? Сие не ведомо никому. Известно, что он любил воевать в зимний период. Возможно также, что его разведчики уведомили его о готовившемся набеге этих невыносимых монголов.
Собранное в Сайраме войско, очевидно, направилось в район Таласа, а затем в сторону Токмака, к истокам Чу. Холода стояли страшные, условия жизни воинов были ужасными. Камараддин был неуловим. «Куда теперь заведут нас поиски?» — все еще спрашивали себя воины, когда по чистой случайности Джахангир, обнаружив противника северо-западнее Иссык-Куля, вступил с ним в бой и рассеял его армию. Тимур посчитал это наказание достаточным. Он соединился брачным союзом с одной из ханских дочерей по имени Дильшад-Ака и, добросовестно опустошив земли своего нового тестя, ушел в Северную Кашгарию, современный Синьцзян, или Китайский Туркестан. Домой он возвращался через Узкент, Ходжент и Фергану.
Не успел Великий эмир вернуться в Самарканд, как выяснилось, что Камараддин не только не утратил боеспособности, как думалось Тимуру, но, собрав своих людей, пустился в погоню и, войдя в Фергану, овладел Андижаном, ее стратегической базой. Разъяренный Тамерлан немедленно выступил ему навстречу; однако поспешность, с какой он рвался с ним схватиться, увы, оказалась напрасной. Пришлось снаряжать четвертый поход. Камараддин скрывался неведомо где. Утомленный погоней, Великий эмир поднялся на Узкент, хребет Тянь-Шаня, «Небесной Горы». Там на одном из узких и труднодоступных перевалов монголы вдруг атаковали Тимура, который остался жив только благодаря своей отваге и отличному владению копьем, булавой, саблей и арканом.
Решил ли Великий эмир после той схватки, что идти далее невозможно? Понес ли он слишком тяжелые потери? Получил ли он тревожные сообщения из Самарканда? Рассказывают только, что ему привиделся один из тех вещих снов, которым он повиновался всегда. В тот раз ему приснилось, что его первенец находится при смерти. Тимур снялся с лагеря и форсированным маршем прибыл в Самарканд, где нашел Джахангира мертвым. Тимура охватило глубокое отчаяние, как происходило всякий раз, когда страдал или покидал Подлунную какой-нибудь дорогой для этого безжалостного завоевателя человек.
По истечении траурного срока Тимур отправился воевать в Моголистан в пятый раз. Принес ли нажитый опыт какие-нибудь плоды? Во всяком случае в этот раз Камараддин был очень скоро настигнут и принужден вступить в сражение западнее Иссык-Куля. Великий эмир, конечно, одержал победу, но относительную и не вполне решающую. Моголистан завоеван не был и побежденным себя не признал (действительно, покоренным он не будет никогда). Минуло какое-то время, и монголы вернулись. Тимуру же пришлось водить карательные экспедиции и в 1383 году, и в 1389–1390 годах, и в 1400 году, после чего порядком ослабленные монголы очистили Трансоксиану и оставили его правителя в покое на несколько лет.
Все эти кампании заметно укрепили авторитет Великого эмира. Ситуация изменилась коренным образом: впредь уже не монголы-захватчики вторгались в пределы Заоксия, а сама Трансоксиана ходила войной на Моголистан. Сила и процветание Тамерлановой державы делали ее чрезвычайно привлекательной для тех, кто искал себе прибежище и которые во множестве устремились в нее. Эмиграционный поток, в 60-х годах XIV столетия увлекший трансоксианцев в Хорасан, с этого времени пошел в обратном направлении, что являлось очевидным фактом признания могущества Великого эмира, и не случайно в Самарканде объявился малик Мухаммед, второй сын гератского владыки, коего прогнал в Серахс собственный брат, что заставило его сначала искать приют в сербадарской «республике». Точно так же (до или после него, но не позднее 1376 года) прибыл в столицу Тамерлана один из его главных сподвижников по имени Мухаммед-и Султан-шах, которому судьбой была уготована блестящая карьера в Тимуровой армии.
В 1376 году, когда Тимур отдыхал от своих тяжких трудов, при его дворе появился Тохтамыш, личность весьма незаурядная, по прямой линии происходившая от ханов Золотой Орды. В жизни Великого эмира ему была предназначена роль первого плана.
Тохтамыш имел прекрасный рост и, как станет известно впоследствии, вопреки наговорам недоброжелателей, являлся человеком отважным, умным, энергичным, справедливым и если не гениальным, то по меньшей мере талантливым. То был один из родственников Урус-хана (ок. 1361–1377), правителя Кок-Орды, шестой наследник хана Орды на землях удела Джучи (Золотой Орды, или Кипчакского улуса), приблизительно соответствовавшего территории современного Казахстана; некоторые считали Тохтамыша его племянником, иные — одним (то ли близким, то ли далеким) из его двоюродных братьев. Он претендовал было на правление Ордой, но, изгнанный Урусом, пришел искать убежище в Самарканде.
Тимур встретил его с почестями, приличествовавшими истинному потомку Чингисхана, усердствуя тем более, что надеялся увидеть его во главе Золотой Орды, а ежели не удастся сделать из него союзника, то уж, конечно, стражем своих северо-западных рубежей. Но главным было то, что гость покорил Великого эмира своею персоною, и тот сразу проникся к нему дружескими чувствами и оставался им верен неизменно. Несмотря на затяжные войны, с которыми они ходили друг на друга, Тарагаев сын проявлял по отношению к Тохтамышу снисходительность необычайную; так, когда-то отдав ему свою сестру, он забирать ее обратно не думал никогда!
Великий эмир дал под начало своему новому другу войско, а также три укрепленных города, стоявших на берегу Сырдарьи, на ордынской границе: Отрар, Сабран и Сыгнак. Урус-хан, увидев для себя опасность в принятии изгнанника и в определении ему местопребыванием стана, располагавшегося в непосредственной близости от своих владений, немедленно на него напал. Слишком слабый, чтобы дать ему отпор, Тохтамыш возвратился в Самарканд. Война сделалась неизбежной. Тимур вновь послал Тохтамыша в Сабран, но того прогнали опять. Тогда Великий эмир отправился в поход сам. Стояла зима 1376/77 года. Схватки были жестокими. В конечном итоге Уруса разбили на его собственных землях, примыкавших к Тимуровой державе, где-то между Сыгнаком и Отраром, а затем отбросили в степи, где со временем он и скончался.
Продолжатели его дела, сыновья Йохта-Кия и Тимур-малик, сначала первый, а затем второй, борьбу продолжили. Для Тохтамыша наступила полоса неудач; однако, благодаря присланному Тимуром подкреплению, он в конце концов победу одержал и, нанеся врагам сокрушительный удар, занял их место в Кок-Орде (зима 1377/78 года). Не прошло и трех лет, как он стал владыкой Кипчакского улуса, сумев вновь объединить удел Джучи. То был успех блистательный и громкий; правда, со слишком большими трудностями Тохтамышу столкнуться не довелось.
Напомним, с 1361 года пребывавшей в упадке Золотой Ордой правил некто вроде временщика, именовавшийся Мамаем. Пользуясь его слабостью, русские князья перестали ходить на поклон в Сарай и платить дань. В 1373 году Дмитрий Донской, отбившись от одной из карательных экспедиций, посчитал свои силы достаточными, чтобы дерзнуть на поход против Булгара (1376). В августе 1378 года он разгромил Мамая на Воже, а в сентябре 1380 года — на Куликовом поле, в месте слияния Непрядвы с Доном.
Именно тогда Тохтамыш взял направление на Европу. Слишком слабый, чтобы ему сопротивляться, Мамай потерпел поражение в Приазовье и отправился на поиски убежища у генуэзцев, промышлявших торговлей в Крыму, где был весьма подло умерщвлен. Лишившись предводителя, Орда охотно предалась победителю.
Для Тохтамыша настало время показать, на что он был способен. Под его водительством полуживая Орда воспрянула. Переустроив ее всю за каких-то несколько месяцев, новый хозяин начал подумывать об отмщении за поруганную честь. Он направил в Москву, к Дмитрию Донскому, посольство с уведомлением об уничтожении их общего врага, Мамая, а также о своем воцарении. Тем самым он отмечал, что русские теперь являлись его вассалами. Что касается самих русских, то им было очевидно, что с приходом Тохтамыша обретенная ими независимость будет поставлена под вопрос. Вот почему Донской не отправился к нему с поздравлениями и по-прежнему не платил дань. В 1382 году Тохтамыш постановил идти на Москву; к нему примкнули князья Рязанский и Нижегородский. Город отбивался, используя все виды вооружения, в том числе арбалеты и пушки, диковинку для кочевников. Только хитростью нападавшие смогли овладеть Москвой (26 августа 1382 года), город был сожжен, а жители казнены; число убитых некоторые источники определяют цифрой 12 тысяч, другие называют цифру в два раза большую. Так Русь вновь попала в вассальную зависимость.
Один из ближайших соратников Тимура Сайфаддин Ногус, который по кончине Джахангира совершал паломничество в Мекку, возвратился из Аравии в 1378 году. Хаджж помог ему не только причаститься божьей благодати, но также тщательно изучить ситуацию в Иране. Он объяснил своему господину, что завоевать эту страну было бы легко и что определенная часть иранского общества взывает к нему в молитвах: утомленная феодальными усобицами и знающая, как расцвело Тимурово государство, она видела в его правителе доброго мусульманина. Итак, весьма вероятно, даже если сейчас это выглядит немыслимым, что авторитет хаджи и его сообщение подтолкнули Тамерлана к новому предприятию и оказались причиной почти непрерывных войн в течение двадцати четырех лет.
В Трансоксиане Великому эмиру уже почти нечего было делать. За восемь лет государство обрело стабильность, если не считать нескольких локальных и, что бы там ни говорили, неизбежных смут, с которыми было покончено без особого напряжения сил. Войско, прошедшее отличную школу Моголистанской и Хорезмской войн, обладало редкой мощью. Единственной оставшейся нерешенной проблемой являлся все тот же Хорезм. Прежде чем приступить к ее решению, Тимур хотел укрепить связи с Гератом, как это уже делалось в 1372 году, потому он предложил Пир-Мухаммеду, также называвшемуся Амиром Мугалом, старшему сыну эмира Гиятаддина, жениться на одной из его племянниц. Пир-Мухаммед прискакал в Самарканд и принял участие в четвертой Хорезмской кампании, а по возвращении его с войны в начале 1380 года сыграли свадьбу. Уступая нетерпеливому малику, супруги некоторое время спустя отправились в Герат.
Неосмотрительный Юсуф Суфи, шах Хорезма, никогда не лишал себя удовольствия пограбить земли Тимура всякий раз, когда тот отправлялся воевать, а во время трудного похода против Урус-хана 1376–1377 годов весьма ощутимо ему мешал, действуя в его тылах. Теперь он предложил Тимуру поединок. Единоборство было делом почетным и благородным. Тамерлан вызов принял в начале 1379 года: то ли в последних числах января, то ли в первой декаде февраля, — в самый разгар зимы. Не преминув захватить с собой армию, Великий эмир подошел к Ургенчу. «Он облачился в легкую броню, препоясался мечом, закинул на спину щит, вскочил на коня и в своем царском шеломе направился к городу. Препоручив себя Господу, он без всякого сопровождения приблизился к краю рва и пригласил Юсуфа помериться силами. Но тот, предпочтя жизнь чести, не дал ему никакого ответа», — рассказывает автор «Зафарнаме».
Предпочтя жизнь? Говорят, что Юсуф Суфи, презираемый своими же, высмеиваемый на бивуаках и в хижинах, умер, не перенеся позора и отчаяния. Если, конечно, он не скончался от гнетущей тоски, не зная, как вырваться из опутавших его сетей, но ведая, что на этот раз на снисхождение Тимура рассчитывать не приходилось.
Последняя война с Хорезмом затянулась. Решающие события произошли не ранее конца года, скорее всего до декабря, а именно в ноябре. Говорят, будто бы значительная часть населения была умерщвлена, поскольку не ответила на Тимурово предложение покориться. Верно, и в последующем Великий эмир тоже бывал неумолимым по отношению к тем, кто отказывался сдаться после двух обязательных требований. Если тогда избиение имело место, то оно стало первым для будущего великого палача народов. Вместе с тем мы склоняемся к мысли, что хорезмские жители жертвами некоей невиданной расправы, якобы учиненной в ту зиму 1379/80 года, вовсе не стали; а также смеем предположить, что это страшное событие могло произойти в 1388 году. Зато точно известно, что были произведены массовые депортации населения как в Самарканд, так и в другие места Трансоксианы. Это отвечало и нравам той эпохи, и нравам мусульманского Востока, унаследовавшего обычаи Востока древнего.
Тимуру исполнилось сорок пять лет. Аннексией Хорезма завершилось собирание его государства, распростершегося на землях от Кабула до Арала. Мысль о присоединении к нему Ирана уже могла у него появиться.
Женитьба Пир-Мухаммеда, сына гератского правителя, на племяннице Тамерлана в начале 1380 года являлась только одной из мер усиления влияния Тамерлана на куртское государство и приведения его к вассальной зависимости. Некоторые гератские деятели уже в 1370 году, когда Тимур взошел на престол, выказали благосклонность к новому владыке Трансоксианы. «День, когда удача покинет Куртов, близок», — сказал своему сыну Муинаддин Джами, который писал в Самарканд, уведомляя о том, что страна ожидает вторжения Тимуровой армии. Но то было всего лишь выдавание желаний некоторых за чаяния всех: недостатка в сторонниках независимости Хорасана не было даже в религиозных кругах, в целом благоволивших Великому эмиру «во имя нравственности и добродетели». Со всем этим он все же привлек элиту на свою сторону, а простой люд и так ему симпатизировал.
Начиная с 1378 года, после возвращения Сайфаддина Ногуса из Мекки, Тимур стал вынашивать определенные экспансионистские планы и приступил к активной обработке трансоксианского общества, а также к завоеванию общественного мнения Герата. Его подсылы ходили по городам и весям, ведя подрывную работу против Гиятаддина Пир-Али и расхваливая заслуги Великого эмира. Их успехи вселяли в сердце Тарагаева сына уверенность. Уже ни для кого не являлось секретом, что Тимур готовился аннексировать эту страну, и некоторые феодалы направились к нему, чтобы на личной встрече обговорить условия возможного участия в кампании. Правитель Герата срочно согнал к столице сколько мог дехкан и велел им возвести вокруг города новую стену длиной в восемь километров. Одновременно он занял Нишапур, воспользовавшись сложной военной обстановкой у сербодаров, на которых ходил походами три года кряду: в 1372, 1373, 1374 годах, и последний раз в году 1376-м; и учинил в Нишапуре такие зверства и разор, масштаб которых с трудом поддается определению, что в значительной мере лишило его поддержки населения. В 1379 (или 1380-м) году то ли по безрассудству, то ли ради укрепления своих позиций сербадарская «республика», где в ту пору правил Хаджа Али-и Муаяд и чьему существованию угрожали сплотившиеся против нее соседи, оказала благосклонный прием Тимуровым посланцам. Вероятнее всего, переговоры начались ранее и к тому времени успели заметно продвинуться, хотя в текстах это скрыто, а объединение с Тамерланом представлено как событие спонтанное и довольно эмоциональное.
Уверенный в удачном завершении дела, Великий эмир по своему обыкновению и согласно монгольской традиции созвал в Самарканде курултай. Естественно, он пригласил и правителя Герата: его прибытие дало бы понять, что он, по сути, признавал себя вассалом, и этого, возможно, было бы достаточно. Что до Гиятаддина, то он понимал, что откликнуться на Тимуров призыв значило бы сделать первый шаг по пути к подчинению, которое могло лишь усугубляться, а также, что не исключено, подвергнуть свою жизнь опасности. Уклониться он не дерзнул и потому стал выдвигать одну за другой причины невозможности приезда: то он желал, чтобы его безопасностью озаботился Сайфаддин Ногус; то утверждал, что еще не была завершена закладка собранного урожая в амбары; то…
Ухватившись за предлог, несомненно, для него желанный, Тимур решил начать войну. Он собрал свою армию в Балхе и для начала совершил несколько грабительских набегов на Герат. Кампания трудной не ожидалась, к тому же он полагал выступить в качестве освободителя, откликнувшегося на пожелание населения. Однако, поскольку главные силы вражеской армии по-прежнему стояли под Нишапуром, Великий эмир, постановив перерезать им путь, вместо того чтобы нанести удар по столице, двинулся на запад по направлению к Кусуйе и Джаму и лишь потом напал на Герат.
Находившихся в городе войск для обороны явно не хватало, а горожане терпеть мучения длительной осады расположения не имели. Здесь уместно привести в сравнение большое дерево, чьи созревшие плоды иного не просили, как того, чтобы их сорвали. Градоначальник смог лишь создать видимость сопротивления и сдался. Его отвезли в Самарканд, а городские стены, впредь бесполезные, разрушили до основания. Герат представлял собой одну из величайших метрополий мусульманского Востока, и в руки завоевателей попала добыча богатейшая. Вся страна, включая Систан, без боя перешла под контроль Джагатаидов (апрель 1381 года).
Хорасан был, по всей вероятности, завоеван. Перепуганный Али-бек, один из наиболее злобных местных предводителей, тюрко-монгол из энергичного племени бжаун-и курбанов, в тот период владетель Туса, не умевший сговориться с Тамерланом до его вооруженного вторжения, признал его власть немедля. Хаджа Али-и Муаяд, правитель сербадарского государства, с 1370 года боровшийся с Гератом и подписавший предварительные договоры с Тимуром, внезапно, следуя душевному порыву, ему сдался и сохранил верность своему господину до самой смерти, наступившей в 1386 году. Их встреча состоялась в Нишапуре; оставив этот город, Тимур двинулся на Исфарайин. По дороге, желая отомстить — с опозданием в два десятка лет — за убийство «дяди» Хаджи-барласа, он уничтожил «банду злодеев» в том самом месте, где тот был зверски умерщвлен. Если не считать этого акта, все прошло спокойно и нигде его путь не был отмечен ни насилиями, ни вооруженными столкновениями.
Ситуация изменилась в Исфарайине, и никто не знает почему. Город находился в руках у Амир-Вали, владетеля Мазандерана, чьи территории простирались южнее Каспийского моря, и служил ему передовым постом. Разумеется, местное население исповедовало суннизм, и его отношения с сербадарами-шиитами были натянутыми; однако, чтобы объяснить, по какой причине Великий эмир так жестоко с ними расправился, этого явно недостаточно. Возможно, поводом послужило поведение Амир-Вали: узнав, что дни Хорасана сочтены, сей государь привел в состояние боеготовности Астарабад, Бистам, Дамган и Семнан. Тимур узрел в этом провокацию. Дотоле широкомасштабного сопротивления он не встречал, но меры, принятые хозяином Мазандерана, весьма походили на соответствующую подготовку; ни для кого не было секретом, что мазандеранцы, также стремившиеся к господству над Хорасаном, могли контратаковать. Быть может, впрочем, такое объяснение слишком простое, так как не исключено, что аннексия Мазандерана входила в планы Тимура, которому хотелось всем доказать, что любая попытка сопротивления была заведомо обречена. Итак, захватив Исфарайин, он обрушил на него свою ярость и велел перерезать всех воинов гарнизона, часть населения растоптать лошадьми, а дома разграбить. «От города остались одни развалины», — говорят хроники.
Если, как мы предполагаем, Великий эмир тогда пощадил Ургенч, то это значит, что именно в Мазандеране он впервые приступил к систематическим разорениям; так, неожиданно, террор вновь стал тем, чем являлся при Чингисхане, то есть инструментом войны. Амир-Вали поспешил уведомить, что в самое ближайшее время явится для того, чтобы, согласно протоколу, «поцеловать край царского ковра». Сам собой напрашивался вывод: массовое избиение является средством, вполне окупающим затраченные силы. Желая отдохнуть от совершенного подвига, войско отправилось на ближнее пастбище, где можно было откормить лошадей.
Аннексия, даже приветствуемая частью населения, нередко находящейся на содержании врага, не может не вызывать тревоги у соседних государств или не возбуждать недовольства в самой аннексированной стране. Очень скоро становится понятна цена утраченного, и иностранная оккупация быстро превращается в тяжкое бремя даже тогда, когда она казалась желанной. Вот и Герат, как на жертвеннике, сжег свои стены, казну и честь; судьба других городов была не более счастливой. Противникам Великого эмира оставалось только воспользоваться создавшимся положением; и они подняли голову: так что до финала игры было далеко. Али-бек Тусский от стыда за то, что так быстро примкнул к Тимуру, не находил себе места. Амиру-Вали было совестно за то смущение, в какое его привело избиение исфарайинцев. Жестокости были привычны, но они никогда не свидетельствовали в пользу тех, кто их совершал. Гиятаддин знал это из опыта, полученного в Нишапуре.
Зимой 1381/82 года, воспользовавшись тем, что Тамерлан находился в Трансоксиане, где умерла его любимая дочь, что привело его в глубочайшее отчаяние, тюрко-монгольские эмиры сделали попытку объединиться и стряхнуть с себя чужеземное иго. Али-бек поднял восстание в Калате, тогда как Амир-Вали стал угрожать Себзевару. Сербадары, единственные хорасанцы, сохранившие верность Великому эмиру, послали в Самарканд гонцов с тревожной вестью. Тимур ответил, что его армия уже находится в пути. Амир-Вали, окруживший тесным кольцом обескровленный Себзевар, который приготовился было просить пощады, бежал, объятый паническим ужасом. Али-бек остался в одиночестве, но его город Калат, равно как и Туршиз, вселил в его душу надежду. Это были те орлиные гнезда, коих так много тогда было в Иране и которые считались неприступными. Быть может, таковыми они являлись для армий, не обладавших снаряжением, которым располагало джагатайское войско, а также не имевших в своих рядах горцев, знавших, как взбираться на скалы и крепостные стены, и специально обученных подрывников. Были сделаны подкопы, приступом взяты стены, пробиты бреши; и вот, без особых усилий, Тимуровы ратники овладели первым из упомянутых городов. Второй же сопротивлялся так хорошо, что Тамерлан, умевший ценить мужество, гарнизон помиловал и предложил ему встать под его знамя. Плененного Али-бека увезли и чуть погодя умертвили.
Ход последующих событий прослеживается с трудом. Великого эмира можно было видеть в Гургане и на перевале Яс-и Басан. Похоже, развивать наступление на Амир-Вали он не стал, ежели судить по тому, что немного погодя он уже двигался по направлению к дому. Возможно, его позвал в обратный путь «мятеж» гератцев (конец 1382 года), хотя подавление его он доверил своему третьему сыну, Мираншаху, этому животному и садисту, у которого появились признаки умопомешательства. Во всяком случае, этому верится легко.
То, что получило название гератского мятежа, в прямом смысле слова таковым не являлось. Некие банды афганцев, выходцев из-под Гура (который был свидетелем расцвета эфемерной империи Гуридов, чей минарет, находящийся в Джаме, об этом напоминает), овладели столицей Хорасана. Имеется более или менее полная уверенность в том, что им помогала часть населения. Народ переменчив, за что, бывает, платит дорого. В тот раз Мираншах истребил народу великое множество. По его приказу из отрубленных голов возвели несколько «башен». Такого за Тимуридами еще не водилось. Обвиненный в участии в смуте Гиятаддин получил приказ умереть вместе с семьей.
Вскоре бунт потряс Систан, за что на него обрушились (1383) репрессии дотоле невиданные. О наказании, которому подвергли Себзевар, толкуют почти все жизнеописатели Тимура, допуская путаницу, уже раскрытую выдающимся русским востоковедом Бартольдом и позже — во второй раз — Жаном Обеном. Это событие произошло не в столице сербадарской «республики», а в одноименном городе, более известном как Исфизар и находящемся южнее Герата, на Фарахской дороге. Там вперемешку с кирпичами и глиной сложили тела двух тысяч живых пленников с целью построить из них несколько «минаретов». Систан от ужаса содрогнулся.
Чудовищный поход Тимура продолжался. Страна была обречена на разорение, полное и окончательное. По меньшей мере так говорят. Ее метрополия, Зарендж, сопротивлялась отчаянно, но тщетно. Она пала, а ее население вырезали поголовно: и мужчин, и женщин, и юношей, и старцев, и грудных младенцев (начало декабря 1383 года). Древнюю, как мир, плотину, удерживавшую воды Хильманда, разрушили на всей ее огромной протяженности, и вся оросительная система была выведена из строя. На земле найдется не много мест, познавших такие опустошения; Тимур же, воспользовавшись тем, что страна как бы застыла в изумлении, спокойно вступил в Кандагар, а потом несколько месяцев отдыхал в Самарканде. Хорасанский мятеж был подавлен.
Мираншах, недавно ставший отцом Халиля (1384), который впоследствии заставил о себе говорить, ратоборствуя в Иране, отвоевал Султанию. Чем далее, тем становилось очевиднее, что Тамерлан не удовольствуется завоеваниями в странах, соседствовавших с Трансоксианой, и постарается подчинить себе Иран целиком. Пока что он намеревался соединиться с сыном, находившимся в только что занятом городе. Его первоочередной задачей было свести счеты с тем, кто ему когда-то бросил вызов, то есть с Амир-Вали, и отомстить которому он еще не успел.
Султания, севернее которой находился Мазандеран, — область, основную территорию которой занимала затопляемая Прикаспийская долина, — покоилась под защитой остроконечных вершин Эльбурса, девственных лесов и дикого зверья; она же представляла собой отличный плацдарм и контролировала все коммуникации этой провинции Внутреннего Ирана. Амир-Вали мужественно оборонял каждую пядь своей территории, начиная с Атрака и кончая ее древними лесами. Тимуру приходилось тяжело, так как многочисленные препятствия ожидали его повсюду, и в любой момент он мог подвергнуться внезапному нападению или удару из засады. Как-то ночью его едва не захватили врасплох. Трансоксианская кавалерия практически была парализована. И все же Великий эмир взял верх. По вступлении его в Астарабад, чье население, включая «младенцев в колыбелях», было истреблено, Амир-Вали, спасаясь, сбежал в Азербайджан (конец ноября — начало декабря 1384 года). Завершив поход, Тимур как всегда вернулся в Самарканд.
Тарагаев сын возвратился с богатой добычей и был встречен как триумфатор. В продолжение целого года он трудился над усовершенствованием системы управления государством, укреплением армии, а также занимался общественно полезными делами; когда возникала острая необходимость, им отряжались каратели для вразумления того или иного племени, кочевавшего где-нибудь на севере. Казалось, о завоевании Ирана он более не помышлял; но если некоторые полагали, что Мазандеранская кампания имела причиной нужду приструнить зарвавшегося противника и одновременно укрепить границу с Хорасаном, то этим самым они выдавали свое плохое знание Великого эмира.
В начале 1386 года Тамерлан отправился в поход. Луристанские кочевники, не признававшие дисциплины и не упускавшие случая пограбить, напали на караван паломников, возвращавшихся из Мекки; надлежало разбойников наказать. Не утруждая себя размышлениями, историографы уверяют, что то был всего только предлог; однако мусульмане видели в том нападении тяжкое оскорбление. Конечно, предпринять эту кампанию Тимур планировал и совершил бы ее безо всякого предлога, но случившееся сделало поход неизбежным. Когда, за год до того, Тимуриды подступили к Султании, находившийся там Ахмед-Джалаирид сбежал. Можно над ним посмеяться, утверждая, что этот государь был обязан сохранностью своей жизни известному принципу, которому следовал неукоснительно: никогда не находиться в одном месте с Тамерланом. Однако то был персонаж не случайный. Груссе был прав, увидев в нем «типичного монгола, преображенного новой средой и ставшего арабо-персидским султаном». Побег стоил Ахмеду-Джалаириду презрения к нему Тимуридов, всегда считавших персов людьми, обделенными воинской доблестью, а значит, ничтожными. Некий посол Великого эмира высказался о нем так: «Это кусок плоти, оживляемой лишь глазами». Тем не менее Ахмед-Джалаирид был храбр, упорен; он покровительствовал ученым и поэтам, что не мешало ему оставаться беспринципным, жестоким и подозрительным до безумия: так он дошел до того, что стал подозревать всех без исключения и, заботясь о личной безопасности, велел перебить все свое окружение. По взятии Султании Ахмед поселился в Тебризе (античном Таурисе), бывшей столице Ильханов, в Азербайджане. Незадолго до того сей величавый град пережил опустошительный набег золотоордынского хана, Тохтамыша, сильного поддержкой Тимура. Еще не оправившийся от разора, должного сопротивления Джагатаидам он оказать не смог. Джалаирид снова бежал. Теперь — в Багдад.
Итак, Великий эмир вступил в Тебриз. Город по-прежнему являлся важным культурным центром и сохранял еще остатки того величия, которым был наделен при Ильханах и которому был обязан своим центральным положением в блистательной, так называемой монгольской школе. Художников и ремесленников в нем было множество. Наиболее даровитых увезли в Самарканд.
Лето 1386 года прошло в войнах за близлежащие области. Случайно, во время рекогносцировки, в руки Тимуровых воинов попал Амир-Вали, бывший правитель Мазандерана, который, как мы говорили, укрылся в Азербайджане. Его обезглавили. В начале зимы Великий эмир бросил войско на Грузию. Ранее воевать с христианами ему не доводилось. Он не преминул объявить «священную войну», чем до этого частенько злоупотреблял… То был народ крепкий, эти грузины, в жилах каждого из которых, не исключая пастухов, текла «голубая кровь». Они отличались стойкостью, безумной храбростью и верностью Иисусу Христу, что не утратили, оказавшись в мусульманском окружении. Кавказ для конной армии подходил не больше Эльбурса; не улучшила ее положения и зима. Великий эмир трудности любил, как, впрочем, и его люди, испытывавшие некое пьянящее чувство от необходимости постоянного преодоления самих себя.
Грузинская кампания оказалась трудной, долгой, кровопролитной, как и война за Мазандеран. Карс был стерт с лица земли; Тбилиси взят штурмом. Препятствиями являлись не города, а горы, как сами по себе, так и прилепившиеся к ним селения и укрепления, откуда появлялись неуловимые отряды, нападавшие мелкими группами и наносившие удары оттуда, откуда их не ждали. Сожженные и разоренные села и устлавшие дороги окоченевшие трупы соотечественников принудили царя Баграта V прикинуться сторонником ислама, дабы наконец получить мир и спасти себе жизнь.
Грузинские отряды были включены в состав Тимуровых войск; одни — силою, другие — убеждениями. Виноградники были залиты кровью. Утверждают, что на Кавказе было убито людей и разрушено жилищ более, чем где-либо. Это, разумеется, неверно: будь оно так, Грузия оказалась бы в таком же страшном положении, в каком находились Хорезм и Систан, тогда как впоследствии она взялась за оружие снова, и война на ее земле длилась еще очень долго. О своей капитуляции она по-настоящему не заявляла никогда.
Тимур в то время, как его воины охотились на тех, кои тщились оказывать сопротивление, отдыхал на зимних квартирах вместе со своей конницей в Карабахе, в степях поречья Куры и на Нижнем Араксе, где бывать вошло у него постепенно в привычку, так что впоследствии видеть его там можно было часто.
Говорят, что Великий эмир охотился, когда его уведомили о приближении Тохтамыша с немалым войском за спиной. Преодолев Дербентский проход, хан Золотой Орды оказался на противоположном склоне Кавказского хребта, с севера защищавшего речную долину. Стояла весна 1387 года. Да, Тохтамыш был обязан Тимуру многим, но Золотая Орда за его двоюродными братьями, персидскими Ильханами, права на владение Азербайджаном не признавала, и Тохтамышу ничего не оставалось делать, как разделить эту точку зрения. Еще до воцарения Тимура он какое-то время занимал Тебриз. К тому же статус Великого эмира содержал в себе, на его взгляд, некую двусмысленность. Не имея в предках Чингисхана, сын Тарагая ханом не являлся, да и правил он, по его собственным словам, лишь от имени Чингисидов, иначе говоря, всего только прикрываясь монгольской законностью. Так что сей эмир, сей государь по сути представлял собой вассала хана настоящего; и кто, как не он, Тохтамыш, в этот период мог по всей справедливости претендовать на наследство Завоевателя? Он был его крови и, как сказано в летописи, его окружали двенадцать истинных ханов — Чингисидов. То был несомненно самый могущественный член рода, и не какого-то царька надлежало признать Тимуру, а его и только его. Не отдать справедливости Тохтамышу нельзя. Более того: его затея непременно удалась бы ему, надели его судьба истинным гением.
Тимур, которого сообщение о Тохтамыше застало врасплох (чем, в таком случае, занималась разведка?), успел только выставить небольшой отряд для прикрытия, чтобы помешать продвижению врага. Не имея сил держаться долго, он уже мало-помалу сдавал позиции, как вдруг с подкреплением подошел Мираншах. Получив встречный удар, Тохтамыш ретировался, оставив Джагатаидам многих своих ратников. Отказавшись от избиения пленных, Тимур не только сохранил им жизнь, но и отослал их к Тохтамышу, снабдив провиантом и всем прочим, необходимым в пути. Тогда же он направил хану грамоту, содержавшую весьма сдержанные упреки, даже более ласковые, чем сердитые. Некоторые стали утверждать, будто он проявил к Тохтамышу уважение как к Чингисиду. Возможно, но более вероятно именно то, что тогда сын Тарагая уступил чувству приязни, которое у него всегда брало верх над злобою.
После грузин настала очередь туркменов. Край надлежало усмирить. Кочевые тюрки, туркмены, развернули свою недобрую деятельность почти на всех высокогорных плато Азербайджана и Армении. Один из их вождей, эмир Эрзинджана (город в современной Восточной Турции), впоследствии сыгравший не последнюю роль в развязывании войны Тимуридов с Османами, решил поискать покровительства у Тимура. Напротив, другой, значительно более могущественный, Кара-Мухаммед Турмыш (1380–1389), вождь племени «владетелей черных овец», или кара-коюнлу, постановил оказать Великому эмиру сопротивление и сделался его самым опасным противником. Упорные, практически непобедимые, настоящие фениксы, возрождающиеся из собственного праха, кара-коюнлу не складывали оружия никогда и отступали единственно затем, чтобы воспользоваться первым же случаем для нанесения ответного удара; они несколько раз брали Тебриз и даже захватили в плен самого лучшего Тимурова помощника, Атламыша. В конце концов их положение страшно усложнилось, но и тогда они не капитулировали, а в поисках убежища ушли в Османскую империю, где стали готовиться к реваншу, который и взяли в 1405 году, по кончине Великого эмира…
Приведя Эрзинджан в вассальную зависимость, Тимур всего за сутки овладел Эрзурумом, тогда как Ваном — только на исходе двадцатого дня. Защитники этой цитадели были сброшены со стен во рвы.
Как ни был Тамерлан занят Северной войной, он с нетерпением ждал визита Заин аль-Абидина, сына престарелого музаффаридского царя Фарса (Персии), который в предыдущем году признал себя вассалом и скончался в тот момент, когда препоручил свою семью заботам Великого эмира. Своему единственному сыну он оставил в наследство Фарс и Шираз, а родному брату Ахмеду — Кирман; его племянники Шах-Яхья и Шах-Мансур оспаривали друг у друга Язд и Исфаган. Ожидание затягивалось. Великий эмир направил к Заин аль-Абидину посольство, долженствовавшее призвать его к порядку, понеже вассалы обязаны являться к сюзерену по первому его слову. Задержав Тимурова дипломата, Музаффарид поступил оплошно, точнее — безумно: по понятию монголов этот поступок являлся тем преступлением, за которым непременно следовало суровое наказание. Правитель Шираза своими действиями как бы объявил Тамерлану войну.
В октябре-ноябре 1387 года Великий эмир пересек границу Музаффаридского царства. С быстротою, поразительной даже для нашего времени, он всего за один переход преодолел все полторы тысячи километров, отделявших его от Исфагана, и, между делом захватив Хамадан (Экбатаны), стал лагерем перед древней столицей Великих Сельджукидов. Но ни баталии (никакого войска ему наперерез послано не было), ни осады, ни штурма не произошло: губернатор Музаффар-и Каши просто вынес ему ключи от города.
Город выглядел прекрасно. Уставшие воины были разочарованы: ни убивать, ни грабить, ни насиловать им не пришлось. Городское население (любопытное и доброжелательное, но переменчивое и довольно нервозное) было немного напугано: теперь, когда многочисленное войско, ощущавшее себя обманутым, находилось так близко от метрополии, которая, несомненно, понимала, какая опасность нависла над ней, случиться могло все. Тимур принял меры предосторожности. Он велел воинам снести к нему оружие и всем запретил выходить за пределы стана. Чтобы беглецы не унесли с собой своих богатств, обложить налогом которые он намеревался, было дано распоряжение замуровать большую часть ворот, а к домам приставить надежную стражу. Градоначальник с помощниками явился к Тамерлану с визитом. Желая произвести на гостей благоприятное впечатление, тот оказал им радушный прием, пригласил к столу и за трапезой договорился с ними о величине оброка. После этого Bеликий эмир торжественно въехал в город и, осмотрев его, покинул, оставив в цитадели свой гарнизон.
Тщательно просчитанный сбор дани начался незамедлительно, не вызывая слишком большого недовольства. По городу, кроме сборщика денежных средств, бродило тысяч пять Джагатаидов: купцов и воинов, получивших увольнительные. Как раз тогда произошел следующий весьма банальный инцидент. Какой-то вояка, заприметив девицу, начал к ней приставать. Она закричала. На свою беду там оказался барабанщик, который, толком не разобравшись, в чем было дело, ударил тревогу. Люди порастворяли окна и двери и высыпали на улицу. Стала собираться толпа. Всем было интересно узнать, что случилось. Поднялся шум. И вдруг глупая, слепая, бессознательная и разъяренная толпа набросилась на Джагатаидов. Не прошло и нескольких минут, как дело дошло до ножей. Кто стоял возле дверей, поспешил за ними укрыться. Перепуганные последствиями этой безумной охоты горожане начали впускать к себе в дома тех, за кем гнались. В одно мгновение было убито три тысячи Джагатаидов.
Ярость Тимура была ужасной. Его люди ему верили. Они отдавали за него жизни и знали, что в любых обстоятельствах могли рассчитывать на его защиту. Какое унижение! И какой пример! Если при заключенном перемирии можно безнаказанно предать смерти три тысячи Тимуридов, чего в таком случае надобно ждать от будущего? Преступление должно быть наказано!
На другой день, 17 ноября, на рассвете Великий эмир устремился на Исфаган с карательной операцией. Город занял оборону. Что иное теперь ему оставалось? Увы, после того, как его разоружили, он сдался быстро. Тамерлан хладнокровно, как если бы просто собирал десятину, приступил к уничтожению населения. Для начала он изолировал квартал
Опьянение кровью быстро охватило всех. Ни грабежей, ни насилия, только убийства! Некоторые воины с чувствительными нервами, некоторые добропорядочные мусульмане, коим убийство единоверцев было отвратительно, но которые не могли ослушаться приказа, стали покупать у своих товарищей отрезанные головы сначала по двадцать динаров за штуку, потом по десять и наконец по динару. Кончилось тем, что головы продавались уже по полдинара! Только покупателей уже не было. Убивали без разбору, лихорадочно и в количествах значительно больших, чем было велено. Обезглавливали и женщин. Им срезали волосы, замазывали лица, чтобы можно было выдавать за мужчин. Заваленные работой контролеры не очень всматривались. По мере накопления кровавых трофеев их вывозили за город и там возводили из них «башни».
Воистину ужасная кара, постигшая этот огромный город, возможно, насчитывавший около полумиллиона человек, не укладывалась в сознании. Некоторые современники говорили о ста — двухстах тысячах убитых. Эти завышенные цифры свидетельствуют о впечатлении, произведенном излагаемыми событиями. Очевидец, персидский историк Хафизи Абру, основываясь на виденном с одной лишь части стены, насчитал не менее сорока пяти «минаретов», сложенных из одной-двух тысяч голов, то есть в среднем из полутора тысяч черепов, а всего — из семидесяти тысяч. Эти подсчеты исследователи считают преувеличенными, однако ничем не обосновывают свои выводы, а посему мы склонны доверять приведенным данным. Менее достоверно, но тоже вероятно, что по приказу Великого эмира город был подожжен и горел двадцать суток, а также что Тимур бросил свою конницу на детей, собранных неким сердобольным эмиром и приведенных к нему в надежде тронуть его сердце. Как ни вероятен пожар как факт, ничего из городской инфраструктуры не пострадало и, более того, остались целыми и невредимыми такие памятники, как, например, Большая мечеть, лучший образец иранского зодческого гения! Однако по завершении драмы жизнь взяла свое до такой степени быстро, что Великий эмир смог прийти в Исфаган за данью уже в 1393 году, то есть шесть лет спустя. Легенде об избиении невинных младенцев в принципе можно верить, но только связав это событие с другими обстоятельствами; впрочем, это действительно может быть всего лишь легенда… И все же прислушаемся: «И дети были опрокинуты, растоптаны; их тела опорожнились; они были разорваны на части и превращены в месиво, прежде чем последняя цепь всадников промчалась по бедным останкам».
Когда месть свершилась, Тимур отправился в другой город, в Шираз. Его жители, надо полагать, ломаться не стали и тут же распахнули ворота, встретив Великого эмира с радостными лицами. Что касается до его правителя, Заин аль-Абидина, то он сбежал к своему кузену, шаху Мансуру, который, недолго думая, выколол ему глаза.
Великий эмир в ту пору мог бы утверждать, что совершенное в нужное время зверство сохраняет немало человеческих жизней. В истории, вероятно, такие слова произносились неоднократно. В Ширазе Тимуру сделали визиты Музаффарид из Кирмана по имени Шах-Ахмад и Музаффарид из Язда, именем Шах-Яхья, которые, совершив ритуальное коленопреклонение, запечатлели поцелуй на краю царского ковра. Приняв их в вассалы, Тимур позволил им и далее владеть собственными землями. Никакого насилия не последовало. Лучшие ремесленники получили приглашение поехать в Самарканд, чтобы совершенствоваться в своем искусстве уже там; приглашение, уклониться от которого они не могли.
Скорее вымышленная, нежели описывающая реальные события, повесть о встрече великого убийцы с великим персидским поэтом Хафизом (1325–1390) задает тональность царившей тогда в Иране атмосферы и вскрывает довольно неожиданный аспект личности Тамерлана. Когда он обратился к сочинителю с горьким упреком из-за того, что в одной из газелей тот сказал, будто бы охотно променял Бухару вместе с Самаркандом на один-единственный взгляд красавицы Шираза, Хафиз, указав на свое нищенское облачение, произнес: «Разве не понес я достойного наказания за мою опрометчивую расточительность?» — Великий эмир рассмеялся.
В конце 1387 года Тимур находился в Ширазе, когда из Самарканда прибыл гонец, сообщивший, что Тохтамыш напал на Трансоксиану. Посланец проявил удивительную расторопность, покрыв две с половиной тысячи километров за семнадцать дней, преодолевая по сто шестьдесят километров за сутки; он загнал множество лошадей, однако и вести были срочные. После походов на Моголистан, после снисходительности, оказанной правителю Золотой Орды, Тимур мог считать свои тылы в безопасности. Но хан принадлежал к той породе людей, которых великодушие оскорбляет и которые не прощают услуг. К его претензиям присовокупилась нанесенная самолюбию рана: ему пришлось с позором покинуть Кавказ, — и теперь он рассудил, что настало время взять реванш. С одной стороны, Тимур, по его сведениям, находился далеко, был втянут в войну, об успешном завершении которой в Золотой Орде еще не знали; с другой стороны, второй сын Тимура, Омар-шейх, оказавшийся старшим после смерти Джахангира, и войска, имевшиеся у него под рукой, значительной силой не являлись. Занести меч над городом, где билось сердце Тимурова могущества, овладеть Самаркандом значило разрушить творение Великого эмира и, став его наследником, совершить важный шаг к воссозданию мировой и законной монгольской империи, которую Джагатаиды, возможно, и имели силы создать, но которая навсегда осталась бы державой узурпатора.
Тимур знал, что Тохтамыш был храбр, и, быть может, этой храбрости у него имелось больше, чем разума. Положение сложилось опасное. По меньшей мере одна часть моголистанских орд примкнула к ордам Тохтамыша. Остановить врагов под Отраром Омар-шейх не смог; более того — он едва избежал плена и спешно ретировался к Андижану. Хорезм сдался агрессору, а Бухара томилась в блокаде. Не дерзнув атаковать Самарканд в лоб, Тохтамыш обогнул его с юга, и Карши оказался под угрозой. Тимур покинул Шираз без какой-либо подготовки, срочно. Всегда стремительный, он двигался быстрее обычного. Люди мучились, лошади дохли, но Великий эмир шел вперед несмотря ни на что.
В феврале 1388 года он уже был в Кеше. Этому поверить не мог никто, а люди Тохтамыша менее прочих. Однако требовалось отдохнуть и обдумать тактику дальнейших действий. Тимур созвал курултай. Его участники единодушно предлагали запереться в укрепленных городах, откормить лошадей и по весне дать бой. Ждать? Месяц? Два? Пренебрегши всеми этими мнениями, впрочем, им же испрошенными, Тамерлан принял решение атаковать немедленно: так им понималась демократия. Как если бы ему уже были неинтересны блокированные города, он совершил обходный маневр и вклинился между вражескими войсками, действовавшими в Трансоксиане и в поречье Сырдарьи. Маневр был дерзок, ибо, перегруппируй Тохтамыш свои войска, он смог бы прижать Тимура к реке; но, боясь оказаться окруженным и отрезанным от тылов, он предпочел тотальное отступление. Быстрота противника привела его в замешательство. Внезапность Тохтамышу не удалась. Он переправился через реку и удалился в степь.
За альянс с Золотой Ордой мятежный Хорезм заплатил дорого. Его главный город, Ургенч, был стерт с лица земли, и на его месте засеяли поле ячменя. Горожан угнали в Самарканд, где, приравняв к рабам, поставили на самые тяжелые работы. Именно в ходе этой кампании умер хан-марионетка Джагатаидов и на освободившийся трон немедленно сел его сын. Знамя Великого эмира вновь взвилось над Самаркандом. Тохтамышев набег показался коротким неприятным сном. Мирная жизнь продолжалась.
Зима 1388/89 года выдалась на редкость суровой. Все лежало под толстым слоем снега. Как раз тогда снова объявился Тохтамыш, который более не думал о внезапности, использовании случая, но готовился к войне серьезной, хорошо спланированной и, как он надеялся, решительной. Тохтамыш собрал огромное войско, где бок о бок с тюрками должны были биться всевозможные вассалы, такие, как русские, кавказцы и болгары, на усиление которых шли монгольские рати, посланные ханом Камараддином из Моголистана. Тимуровы войска отдыхали, разойдясь по зимним становищам, почти что полностью изолированным друг от друга суровым временем года. Снегопад не прекращался. Перевалы были закрыты, дороги — непроходимы; разве что оставались тропы, но и на них лошади, даже без всадников, проваливались в снег по грудь. Собрав то немногое, что оказалось под рукой, Великий эмир послал сыну Омар-шейху, управлявшему северными провинциями, приказ напасть на вражеские тылы, тогда как сам выступил навстречу Тохтамышу, о продвижении которого ему докладывали гонцы. Тохтамыш находился в Ходженте, то есть на удалении семидневного перехода, а именно в трехстах километрах восточнее Самарканда.
Сшибка, произошедшая в окрестностях города в январе 1389 года, носила характер неустойчивый и жестокий. Тохтамышевы рати были заметно многочисленнее, но недостаточно сплоченные. Опрокинув вражеский авангард, Тимур направил все свои усилия на центр золотоордынской армии. Но двигался он медленно. Тохтамыш, будучи уверенным в невозможности ударов с флангов, чувствовал себя спокойно, как вдруг появившийся у него в тылу Омар-шейх смял его линии, что быстро привело к панике и обычному в таких обстоятельствах беспорядочному бегству. Объединенные силы золотоордынцев переправились через Сырдарью и затерялись в необъятных степных просторах.
Эти повторяющиеся набеги убедили Тимура в том, что Тохтамыш был так же опасен на его северных рубежах, как в свое время моголистанские Джагатаиды. Отныне он не мог удаляться от Трансоксианы без того, чтобы не подвергнуться риску очередного нападения. Положение было серьезным. Тохтамыш был человеком не бездарным, обладал значительными военно-экономическими ресурсами, и, подобно всем степнякам, начиная с Дария Великого, который постиг ратную науку ценой горького опыта, умел отказаться от сражения, увлечь врага за тысячи верст от его баз и, измотав, поставить перед выбором: или погибнуть, или пуститься в обратный путь, если уже не было поздно. Тимур оставался в достаточной мере кочевником не только для того, чтобы это помнить, но и для того, чтобы уметь выносить то, чего не выдерживали народы оседлые — будь то персы или китайцы, — а именно длительной кампании в условиях изолированности, долгой погони за «дичью». «Сколько троп знает медведь, столько хитростей ведомо охотнику», — говорит одна тюркская поговорка, записанная великим лексикографом XI века Махмудом аль-Кашгари. Итак, Тохтамыш как бы стал медведем, а Тимур охотником.
Пренебречь серьезной подготовкой Великий эмир не мог, он вполне хладнокровно отнесся к тому, что Тохтамыш то ли по боязни, то ли по хитрости, — но едва ли раскаявшись, — прислал ему великолепное, но лукавое письмо. Тимур принял золотоордынское посольство с надлежащими почестями и торжественностью и произнес слова, известные нам в варианте, несколько подправленном его канцелярией: «Я никогда не нуждался ни в чьей дружбе, ни в союзе с кем-либо… Я предоставил убежище вашему господину… я поддержал этого, тогда никому не известного, человека… Взамен я от него не просил ничего… Он вспомнил обо мне для того, чтобы выразить свое презрение, поступить со мною, как с самозванцем, тогда как я построил свое благополучие собственными руками, не имея, в отличие от него, счастья быть рожденным на троне… Он переступил рубеж Трансоксианы, поднял противу меня мои же народы… Да будет он удушен своим желанием мира… Горе ему! Он разбудил богов войны, роковым оружием которых я являюсь!» Нет, в этот раз его ничто не останавливало. Впредь он не позволит пустым речам сбить себя с избранного пути! Он не будет знать покоя до тех пор, пока «не угаснут Тохтамышевы очи от зренья моей мести»!
Предстояло или победить, или погибнуть. Тамерлан был игроком, но он играл в шахматы, а не в кости. Он был готов рисковать всем, но в затевавшейся партии полагался только на свой ум, метод, а не на случай.
Уже в который раз надо было начинать с нейтрализации этих неугомонных монголов, на которых он столько раз ходил войной. Весной 1389 года Тимур направился к Тянь-Шаню, где южнее озер Балхаша и Алаколя нанес сокрушительный удар войску Камараддина и преследовал его вплоть до монгольского Алтая; там оно рассыпалось и перестало существовать. Повернув войско на 180 градусов, Тамерлан вступил в страну, которую мы называем китайским Туркестаном, или Синьцзяном, и дошел до Турфана. Настоящих причин этого набега мы не знаем. Известно, что там находился подлинный Чингисид, Хизир-ходжа, принявший ислам и ставший его активным пропагандистом. Если учесть, что он открыто демонстрировал свою нелюбовь к Камараддину, то несложно догадаться, что причин упрекать его в чем-либо у Тимура скорее всего не имелось. Возможно, эмиру всего лишь хотелось обеспечить для своих купцов несколько опорных пунктов на торговом пути, ведущем к окраинам Востока, или взять какую-нибудь добычу (что и показало будущее). Хизир-ходжа, предусмотрительно сбежавший в Гоби, впоследствии дал Тамерлану не только заложников, но и свою дочь в жены, за что тот позволил дорогому тестю занять трон Моголистана.
Тимур двинулся по Шелковому пути. Край, по которому он вел свою армию, был богат, и трансоксианцы его изрядно пограбили. Когда они вернулись в Самарканд, их встретили как победителей. Некоторое время спустя очередной набег Камараддина был отбит силами конницы, и эта личность исчезла со страниц истории навсегда.
Осенью 1390 года Тимур созвал курултай по поводу женитьбы своего сына Шейх-мирзы; тогда же им были отданы последние распоряжения о подготовке к выступлению в поход. Он назвал имена правителей и высших чиновников, коим предстояло присматривать за державой во время его отсутствия, которое, как ему представлялось, могло быть долгим; он сделал смотр войскам, пополнил их вооружение и экипировку, назначил командиров и выслал вперед эмиссаров, лазутчиков и передовые отряды с заданием подготовить пути следования, а также собрать сведения о позициях, занимаемых противником. Затем Тамерлан отправился в Ташкент, где должны были собраться все его войска, для чего там загодя были сделаны запасы хлеба и фуража.
Снявшись с лагеря в начале зимы, Великий эмир рассчитывал перейти Голодную степь, чтобы весной оказаться в крае менее диком, где мартовское солнце — пока не наступила иссушающая жара — превращает степи в подлинный сад цветов,
Было известно, что Тохтамыш находился где-то рядом, севернее Аральского моря, что он постоянно менял местопребывание. Тимур спустился в низовье Сырдарьи и вступил в безжизненную, бескрайнюю пустыню. Целых три месяца его рати двигались по землям, лежащим за Желтой рекой, Сары-су, и наконец достигли горы Сюбюр-Тенгиз. Здесь была совершена странная церемония, остающаяся загадкой для хронистов и историографов; носящая таинственный характер, она, несомненно, восходила к некоему языческому ритуалу, связанному с долгое время существовавшим культом Горы, а также с ритуалом восхождения на нее в самых исключительных обстоятельствах. Чингисхан и его последователи тоже довольно часто взбирались на высоты, чтобы обратиться к Небу со словами благодарности или просьбы. О Тимуре говорят, что он взошел на Сюбюр-Тенгиз единственно для того, чтобы полюбоваться просторами и высмотреть следы пребывания Тохтамыша. Однако перед спуском он велел соорудить
Великий эмир устремился дальше. Удивительный поход продолжался в условиях пустыни, но дважды пришлось переходить реки Джиланчик и Кара-Тургай. Люди голодали. Суточный рацион, неуклонно уменьшаясь, был явно недостаточен. По высочайшему приказу ратникам и военачальникам выдавался суточный паек, состоявший из мясных шариков с примесью дикорастущих трав. Эта пища скоро стала преобладающей. Тохтамыш по-прежнему себя не обнаруживал. В некотором смысле это даже было хорошо, ибо как можно было вступать в схватку с врагом, будучи истощенными голодом? Пришлось остановиться.
Шестого, а может быть, седьмого мая была организована большая охота
Времени было потеряно много, но поход продолжился. Неутомимые лазутчики, в продолжение четырех месяцев рыскавшие во всех направлениях, возвращались с одним и тем же докладом: следов прохождения многочисленной армии нет, как и не обнаружено никаких признаков присутствия какого-либо отряда или арьергарда. Тимур уже находился в Сибири, под Тоболом. Надо было решать — подниматься ли дальше по реке Сибирь (южнее современного Тобольска) или же пойти к Уралу. Великий эмир приказал удвоить усилия разведки, и случай ему улыбнулся: лазутчики напали на след недавно прошедшего немногочисленного отряда. Свернули на запад. Леса стали более частыми и густыми; рати вязли в болотах. Стояло лето, и реки надо было преодолевать вплавь, когда не имелось брода. Наводить гати и строить плоты времени не было. Снова началась жизнь впроголодь. Женщин не видели уже целую вечность. Грабить было нечего. Забрались черт знает куда, и людям казалось, что домой они больше не возвратятся. Сколько
Наконец Тимур пришел на земли, где во время летнего солнцестояния заря зарождается до того, как рассеиваются сумерки, и день длится бесконечно. Читать молитвы было невозможно. Муллы собственным решением отменили вечерний намаз. Поскольку были обнаружены следы противника, требовалось ускорить движение, чтобы как можно быстрее войти в контакт с арьергардом или по меньшей мере с тем или иным отрядом врага, ни разу еще не увиденным, но, как все понимали, постоянно находившимся где-то рядом, подкарауливавшим и шпионившим. Наконец удалось взять пленников. Их пытали, и они заговорили. Выяснилось, что Тохтамыш находился ближе, чем думалось, западнее Урала. Дрожа от нетерпения, Тимур повелел найти средства для переправы через реку. Нашли брод, вероятно, в районе Орска. Омар-шейх и его двадцать тысяч всадников получили приказ срочно и любой ценой разыскать Тохтамыша, напасть на него и заставить принять бой. Тамерланов сын нагнал его у Самарской излучины, скорее всего близ реки Кундурча. Не успели они скрестить оружие, как появился Тимур. Сражение началось 19 июня и закончилось на третьи сутки. Зная, что Тохтамышева армия была маневреннее его собственной, Великий эмир постоянно стремился к рукопашной схватке. Долгое время исход битвы оставался неопределенным. Но вот золотоордынский знаменщик выпустил из рук древко
Поле брани осталось за Тимуром. Что верно, то верно: поражение Великий эмир позволить себе не мог, ибо, случись ему быть разгромленным, он лишился бы всякой возможности остаться в живых.
За беглецами погнались. Множество их было уничтожено. Лагерь разбили на берегу Волги. Пировали целых двадцать шесть дней. Спали мало, разве что во хмелю. Пели, плясали, ели, делили богатства Золотой Орды, заставляли себе прислуживать «самых красивых в мире дев». Действительно, сколь прекрасными должны были показаться девушки этим воинам после пяти месяцев тягот, трудов и напряжения! Женщин использовали; ими злоупотребляли. Поэты читали победителям то галантные, то гривуазные вирши.
Приказав трем ханам наследовать владения Тохтамыша, Тамерлан отправился в обратный путь, в Самарканд, куда прибыл в конце ноября. Всего за один год он совершил подвиг силы поразительной. Увы, напрасный.
Минуло четыре года, как Тимур покинул Иран. Настало время туда вернуться. Не вполне покоренный Мазандеран пытался защищать собственную гордость. Возвратилась на трон семья Музаффаридов в лице шаха Мансура, который отстранил от права наследования всех своих сородичей, ослепив Заин аль-Абидина, изгнав из Шираза брата Яхью… Луры вновь занялись привычным разбоем.
Тамерлан отвел мало времени на отдых, на вербовку юношей, способных прийти на смену раненым и погибшим, и интендантам на подготовку запасов продовольствия, необходимого для новой кампании. Через семь месяцев после возвращения домой трансоксианские полки были собраны под Бухарой, на окружавших ее полях. Тимур направился в армию 31 июля 1392 года. По его слову было поднято новое знамя с изображенным на нем серебряным драконом вместо прежних трех колец.
Но, едва прибыв на место, он заболел точно так же, как это случилось в Ташкенте, перед походом на Тохтамыша. Эмир мучился ужасно, и все думали, что он вот-вот преставится. Читали молитвы, раздавали милостыню. К ложу Тамерлана были созваны его жены. Прибыл назначенный в наследники внук Мухаммед-Султан. Тимур провел в постели ровно месяц, по истечении которого покинул шатер, чтобы сделать несколько шагов по ставке. Через три недели он уже нашел в себе довольно сил для того, чтобы сесть на коня и возглавить рати.
Великий эмир напал на Мазандеран, занял Омоль, Сари и Мешхед-хазар. На его пути оказалась девственная пуща, дорогу сквозь которую пришлось прокладывать топором; он преследовал остатки дотоле грозной секты исмаилитов, «курителей гашиша», или «ассасинов», шиитов-экстремистов, которые в эпоху Сельджукидов всюду сеяли ужас и чей укрепленный дворец в Аламуте смогли захватить лишь Чингисовы монголы. Для решения всех этих задач потребовалось целое лето. Когда наступила зима, полки стали лагерями в тех краях, что смогли захватить.
Весной 1393 года, двигаясь по Нехавендской дороге, Тимур пришел в Луристан, чтобы восстановить порядок, то и дело нарушавшийся вечными разбойниками, населявшими эту страну. Весь апрель он занимался сбором сил, разбросанных по Дизфулу и Шестеру в ходе карательных операций, по завершении чего было предпринято нападение на Музаффаридов. Личность мрачная, шах Мансур являлся, однако, человеком мужественным и умелым полководцем. Чтобы решиться бросить вызов Тамерлану, нужны были именно эти качества. Приведя подданных в состояние полной боевой готовности и сделав ставку на свою отвагу, шах Мансур бросился навстречу судьбе, дав сражение в мае под стенами своего главного города, Шираза. Увидев Великого эмира в толпе телохранителей, он устремился к нему и, пробившись, дважды скрестил с ним саблю. Будь шах Мансур удачливее, победа была бы за ним; выбей он Тарагаева сына из седла, дело бы решилось в его пользу. Но удары цели не достигали; шлем был прочным, и Тимур с коня не упал. Воины поспешили ему на выручку и его спасли. Погиб же шах Мансур. Говорят, что ему отсек голову и бросил ее к ногам Великого эмира младший сын Тимура, юноша, которому едва исполнилось семнадцать лет.
Тамерлан вступил в Шираз триумфатором. Целый месяц трансоксианцы наслаждались местным вином, а также ширазскими девами, упиваясь музыкой и пением. Все богатства города были переданы победителю, который сверх того потребовал огромный выкуп. Правители Кирмана и Язда явились к Великому эмиру с заверением в полном ему подчинении, а также в глубочайшем почтении; увы, жизни им это не спасло. В июне, оставив вместо себя своего старшего сына Омар-шейха в Фарсе, Тамерлан покинул Шираз, чтобы двинуться на Исфаган и Хамадан. Город, с которым когда-то он обошелся так безжалостно и который теперь худо-бедно залечивал раны, снова должен был платить тяжкий оброк. Трансоксианцы тешились ловецкими забавами, одновременно захватывая кое-какие укрепленные поселения и загоняя в горы непокорных туркменов. Тимур со своим двором уже обосновался в Хамадане, когда к нему прибыл посол из Багдада.
Правитель Багдада, Ахмед-Джалаирид, подобрал посланца удачно: то был грамотей, священнослужитель, известный
И все же Тамерлан действовал быстро. 29 августа он уже стоял перед Багдадом. Как если бы ему было двадцать лет и он не был хвор, Тамерлан двигался днем и ночью, часто верхом, но иногда на носилках, чтобы иметь возможность поспать. Все сто сорок километров последнего перехода он пролетел со скоростью стрелы! В предместьях Багдада воины пустились в самые тяжкие бесчинства. Лучшие люди города поспешили начать переговоры. Величина дани была определена, и Тимур без единого выстрела вошел в древнюю столицу халифов, увы, заметно оскудевшую после того, как в 1258 году ее разорили монголы. Теперь ее лишили того, что еще чудом сохранилось от великого прошлого и что ревниво пестовали Джалаириды, а именно славу культурного центра. Багдадские художники, ученые и все те, кои составляли сливки общества, были отправлены в Самарканд! Тимур отдыхал в Багдаде ровно два месяца, проводя приятнейшие дни в «беседках, украсивших берега реки»; им же был отдан приказ восстановить мавзолей основателя одной из четырех правоведческих школ ислама, Ахмеда ибн-Ханбала. Все вино из погребов Ахмеда-Джалаирида, еще остававшегося в изрядной степени монголом, а потому любителя выпить, было вылито в Тигр, и, как свидетельствовали очевидцы, захмелевшая рыба плавала вверх животом, словно мертвая.
Наконец 31 октября Тамерлан покинул город, оставив управлять им Хваджу Масуда Савзавари, человека неподкупного, великодушного, слывшего хорошим администратором, которому население могло только радоваться, а также гарнизон в три тысячи воинов. Но что значило столь слабое войско, стоявшее на границе неуклонно расширявшегося государства?
Египет играл роль всеобщего прибежища уже во времена патриарха Иосифа и долгое время оставался единственным защитником ислама перед лицом монгольской угрозы. Видя в Тамерлане лишь наследника кочевых орд, он дерзнул бросить ему вызов. Все позволяло думать, что не сегодня завтра Тимур двинется войной на Мамлюков. Но прежде ему надо было укрепить свое главенствующее положение в Ираке и наказать тех, кто слишком далеко зашел в своем недовольстве, поэтому он поручил Мираншаху привести к послушанию южную часть Месопотамии, вплоть до Бассоры. Сам Тимур отправился на север. Его первоочередной задачей был захват важной крепости в Такрите. Он превратил семьдесят тысяч человек, почти всех своих воинов, в «саперов». Они обложили ее стены дровами и подожгли их. Когда укрепление рухнуло, «саперы» превратились в воинов и бросились на штурм. Потом из черепов были сложены «башни», которые снабдили надписями: «Так наказаны злодеи».
Взятие Такрита, скорее всего осуществленное при материальной поддержке багдадских дельцов, потребовало огромных средств. Иначе сложились обстоятельства в Курдистане, где предстояло теперь воевать. Великий эмир разделил свои полки на мелкие отряды, способные действовать в любых условиях, повсеместно отмечавшие свой путь разрушениями и убийствами. Весь 1394 год был посвящен захвату городов и всевозможных укреплений, преодолению недоступных высот и перевалов, а также густонаселенных долин. Эти операции, не рассчитанные на обретение громкой славы, но тем не менее весьма эффективные, были довольно рискованными. Так, Омар-шейх, сын Великого эмира, в феврале погиб от вражеской стрелы под стенами осажденной крепости, что причинило огромную боль его отцу.
Все еще пребывая в мрачнейшем расположении духа, Тимур осадил Мардин, построенный на склонах горы, увенчанной цитаделью, город, являвшийся одним из наиболее активных центров деятельности различных восточных Церквей. Мардин решил сопротивляться, и, чтобы им овладеть, надо было повоевать. Город, казалось, был обречен, как вдруг 22 марта Тимуру пришло сообщение о рождении сына у Шахруха, то есть его внука, того, кто впоследствии стал в Самарканде принцем-астрономом, великим Улугбеком. На радостях Великий эмир простил мардинцев и даже велел отдать им все, что было отобрано. Решительно, любовь к семье была у него сильнее всех других чувств…
После Мардина был взят Диарбакир, город, построенный из черного базальта у самого Тигра; затем — Ван, находившийся на берегу большого соленого озера, благодаря которому окружавший его пейзаж был озарен невероятным, фантастическим светом. Защищавшие свой город армяне сражались храбро; подкатить к нему осадную башню было невозможно. Есть свидетельства, что понадобилось построить нечто вроде форта, своею высотою превосходящего цитадель, чтобы с его верхней площадки обстреливать улицы и дома. Высота высшей точки города заставляет усомниться в правдивости этого предания; но кто знает, что мог сотворить Тимур? Как бы там ни было, Ван в конце концов пал.
Войско начало восхождение по направлению к взбунтовавшейся Грузии. Стояла зима (конец 1394 года). Сшибка была ужасной. Кровь текла рекой. Все пылало. Грузины оказались стойкими воинами. Неожиданно, в самый разгар бойни, пришло известие о том, что у юного Улугбека появился единокровный брат: всего за несколько месяцев Шахрух сумел осчастливить своего отца двумя внуками; великая нежность наполнила Тимурово сердце. Состоялся пир, на котором подавались вина: мазандеранское белое, ширазское красное, хорасанское жемчужно-серое; пили и водку, чистую и прозрачную, как горный ручей. Недостатка в дамах вельможных, как и самых легкомысленных, на празднике не было. Чтобы страна не погрязла в новой смуте, наместником был назначен Мираншах, ставший в некотором роде преемником Ильханов.
И тут возвратился Тохтамыш. Поставленные Тимуром во главе Золотой Орды ханы, очень быстро ощутившие себя независимыми, перессорились, и Тохтамыш без труда снова вступил во владение своим царством; это было сделать ему тем более легко, что пришла помощь из Москвы от великого князя Василия. Сия поддержка, которая могла показаться самоубийственной, если учесть, что Орда держала в строгом подчинении все русские княжества и незадолго до того сожгла будущий стольный град русских царей, напротив, была хорошо продумана и впоследствии принесла большую пользу Василию, который получил из рук хана власть над рядом городов, ранее никогда великому княжеству не подчинявшихся: Нижним Новгородом, Городцом и Муромом. Это было не слишком дорогой платой за возможность начать собирание русских земель, имея в виду день, отныне все более близкий, когда они смогли наконец стряхнуть с себя татарское ярмо. На обстоятельства возвращения золотоордынца к власти проливает свет письмо от 20 мая 1303 года, посланное Тохтамышем польскому королю Ягеллону; в этом документе, действительно важном, Тохтамыш объясняет причину временной неудачи своих подлых действий против Тамерлана и одновременно напоминает поляку, что ему пора платить оброк.
Тохтамыш снова почувствовал в себе силы и скорее всего основания для этого имел. С целью создания антиджагатаидского альянса в отдаленном будущем и восстановления международных связей в будущем непосредственном он почти в то же время вступил в переговоры с султаном Египта. Торговый обмен между этими двумя странами являлся источником обогащения, и уже давно у Золотой Орды выработалось правило согласовывать с Мамлюками действия по ограничению претензий Ирана. Да, Тохтамыш был Тимуром побежден, но он проиграл не войну, а лишь сражение. Он верил в своего бога, в свою звезду и, будучи убежденным в возможности взять реванш, решил вновь попытать ратного счастья. На этот раз Тохтамыш намеревался захватить не Трансоксиану, безраздельно преданную своему государю, а страну, Тимура не любившую, жертву его ярости, а именно Азербайджан, где можно было рассчитывать на сочувствие единомышленников и восстание коренных народов.
Тохтамыш миновал Дербентские ворота и атаковал Ширван. Но тут вдруг что-то произошло. То ли помощь, на которую он рассчитывал, не была получена. То ли он чего-то внезапно испугался. Известно только одно: когда Тимурова армия выступила ему навстречу, золотоордынец поспешно ретировался. Была зима. Тимур переждал ее на Араксе. 15 апреля 1395 года он преодолел Дербентский проход и обрушился на Тохтамыша, спасавшегося за Тереком. Удача предавала то одного, то другого. На какое-то время золотоордынским всадникам удалось изолировать Тимура, окружив его плотным кольцом, и этому уже не молодому и не здоровому человеку (ему было лет шестьдесят), у которого «кончились стрелы, а копье сломалось», пришлось отбиваться одною саблей. Казалось, ему было суждено погибнуть, но он выстоял. То, несомненно, был великий полководец, победами обязанный своему ратному таланту, великолепному умению сражаться. В ту эпоху убить предводителя, от которого зависела сплоченность войска, значило выиграть войну. Тамерлан успешно отражал удары до того самого момента, когда к нему пробилась полусотня его воинов, которые встали на колени и образовали вокруг него непреодолимое заграждение.
Эта физическая и моральная стойкость, эта безграничная преданность, которую Тимур внушал людям, привела врагов в смущение. Похоже, Тохтамыш проиграл битву из-за неуверенности в том, что вообще можно было одержать победу над противником, явно оберегаемым Небесами. Он подал сигнал к отступлению, которое, как обычно, приняло вид бегства. В тот раз у Тимура впервые не выдержали нервы: он упал наземь посреди поля битвы и возблагодарил Аллаха, или Вечное Небо, это божество отцов, за то, что битва кончилась благополучно.
Уже ни на что не рассчитывая, Тохтамыш поспешно бежал. Тимур, во главе своих лучших всадников, пустился за ним в погоню; однако тому удалось скрыться где-то в северных лесах. Итак, наш герой противника упустил, но это не значит, что он не заслуживает нашего восхищения: Тимуру уже исполнилось шестьдесят лет, у него были покалечены рука и нога, и вот он в продолжение полугода — шаг за шагом — преодолевает тысячи километров, не выказывая никаких признаков усталости, не давая себе ни дня отдыха в полном смысле этого слова, а по возвращении в Самарканд оказался столь бодр и свеж, что очень скоро возобновил военные действия.
Поход по восточноевропейским просторам стал для Тимура несколько затянувшейся прогулкой, во время которой по его слову возводились пограничные столбы из человеческих останков и костей. Ровно четыре месяца, вплоть до 26 августа, он безостановочно двигался вперед. Его рати, поднявшись вверх по Волге, остановились в ста десяти километрах от Булгара, столицы тюрок-болгар, после чего они повернули на запад. В Ельце Тимур внезапно взял курс на юго-запад, разграбив все, что встретилось на пути. Затем он спустился по Дону и вступил в Тану (Азак), крупную итальянскую торговую колонию в устье Дона. Пощадив в тот раз мусульман, Великий эмир обрушил свою мощь на христиан: одних уничтожил, других обратил в рабство, не преминув разграбить церкви и монастыри. Оттуда он ушел на Кубань, где разорил все, что мог, несмотря на знаменитую храбрость черкесов (сиркасов); и, в очередной раз опустошив Грузию, возвратился в исходную точку.
Узнав, что Хаджитархан (Астрахань) не желает добровольно признавать его власть, Тамерлан среди зимы двинул свои полки на Северный Каспий и овладел непокорным городом, невзирая на защищавшие его ледяные стены. Штурм был в своем роде уникальнейшей операцией, дерзкой, оригинальной, мало чем напоминавшей обычное хождение на приступ. Тимуровым солдатам пришлось ползти на животах, вырубая ступеньки в мерзлой земле и вбивая крючья в лед. Для довершения затянувшегося похода Великий эмир разрушил Сарай-ал-Джадид («один из красивейших городов, когда-либо существовавших», как выразился Ибн Баттута), ордынскую столицу, находившуюся в семидесяти километрах от современного Волгограда; город, куда со времен Джучи, сына Чингисхана, ордынцы свозили богатства, отнятые у русских, поляков, болгар и литовцев. Из своего бесконечного странствия Тимур вернулся с несметной добычей, которой с ним «поделились» крупные торговые города Золотой Орды.
Тимур возвратился в Самарканд в июле 1396 года. Покрытый славой, он почти везде отметил свой путь разорениями и опустошениями. Однако по-настоящему он не добился ничего. Ахмед-Джалаирид осенью 1394 года возвратился из Каира в Багдад[12] и оставался там до 1401 года. Кара-Юсуф, новый вождь туркменов из клана «черных овец» (кара-коюнлу), вновь почувствовав себя прочно сидящим в седле, объединился с правителем Ирана. Золотая Орда тоже попыталась восстановить свои силы. Покинув сибирские пущи, Тохтамыш нашел приют у литовского князя, который за него было заступился, но (в августе 1399 года) сам потерпел поражение от нового ордынского хана, Тимур-Кутлука, из осторожности объявившего себя вассалом Джагатаидов (посольство от 17 августа 1398 года). Я уже упоминал, что Тамерлан Тохтамыша любил. В 1405 году, находясь в Отраре, он получил от него жалостное письмо и пообещал восстановить его в былых правах. Увы, смерть помешала Великому эмиру предоставить Тохтамышу это последнее доказательство своей любви к нему…
То, что построил Тимур, не являлось империей, соизмеримой с теми, что были ему известны из истории; однако это была действительно обширная держава, западной границей которой служило Иранское плато.
Великий эмир делался все более сентиментальным. Желая вознести молитву на могилах своих сына и отца, он приехал в Кеш, в котором появился на свет и где возвел постройки, коими не уставал любоваться. На стенах его дворца можно было прочитать: «Если ты сомневаешься в нашем величии, взгляни на сие здание».
Он говорил, что стремится к миру, желает посвятить себя укреплению благосостояния и счастья своих народов. Самарканд встретил его так, как дотоле не встречал никогда. Он провел там два года. Можно было сказать, что он достиг такого возраста, когда хотят только одного: покоя. Он много занимался зодчеством, словно строительство было для него средством забыть обо всем, что было разрушено. Но тогда почему же по его приказу ковались латы и оружие?
Тамерлан.
Шахризабз — «родовое гнездо» Тамерлана. Здесь были могилы его предков, здесь он похоронил своих детей, желал быть похороненным сам. Фамильная усыпальница Тимуридов — мавзолей Дорус-Сиадат (Обитель власти).
Родина Тамерлана Кеш (Шахризабз) в недавнем советском прошлом.
Одно из самых грандиозных сооружений Тамерлана в древнем Кеше — дворец-гигант Ак-сарай (Белый дворец), построенный мастерами из Ургенча. Он поражал современников не только своими размерами, но и изощренностью декора.
Охота Тамерлана.
Прием у Тамерлана.
Пиршество у Тамерлана.
Карсакпайская двуязычная надпись Тамерлана на джагатайском языке уйгурскими буквами и на арабском языке.
Скульптурный портрет Тамерлана.
Государство Тамерлана в конце XVI—начале XV в.
Сражение Тамерлана при походе на Фарс и Иран.
Цитадель Герата.
Тамерлан осаждает Ургенч. Миниатюра из «Зафарнаме» Шавальаддина Ядзи в копии Муршида аль-Аттара Ширазского.
Систан (Иран), превращенный в пустыню не без участия Тамерлана.
Стеклянная лампа из египетской мечети, украшенная эмалью. Изготовлена в XIV веке для мамлюкского султана аль-Малика аль-Нашира. — Глазурованная чаша.
Персидский шлем с золотой инкрустацией.
Знаменитые водозаборные колеса — нории в городе Хама
Багдад, палачом которого стал Тамерлан.
Мавзолей Низамуддина. Старый Дели.
Воин с конем, топчущим врага.
Поход Тамерлана в Турцию в 1402 году.
Сражение при Анкаре летом 1402 года.
Янычар.
Архитектурные шедевры, которые пощадил Тамерлан: Джвари, Грузия.
Джума-мечеть в Исфагане.
Среди руин древнего Мерва чудом уцелело здание мавзолея султана Сан-Дакара, возведенное в 40-х годах XII века.
В Куня-Ургенче до наших дней сохранился великолепный архитектурный памятник Средневековья — мавзолей султана Али.
Владимирская икона Божией Матери. Она спасла Русь от нашествия Тамерлана.
Отступление Тамерлана, гонимого небесным воинством, от русских границ.
В память чудесного избавления Русской земли от нашествия Тамерлана был воздвигнут Сретенский монастырь в Москве.
До Тохтамыша еще никогда Тимуру не встречался противник, равный ему силой, и ему стоило немало трудов разгромить Золотую Орду. Тамерланом были даны десять значительных сражений, сто боев, но всякий раз небольшим и маломощным странам, неспособным противопоставить ему единого фронта. Им были пройдены десятки тысяч километров, но создать империю он не смог. Умри он сейчас — а его возраст был уже таким, что после всего пережитого смерть неожиданностью не стала бы, — какая сохранилась бы о нем память? Ведь ни одна из тогдашних великих держав, за исключением Золотой Орды, своего оружия с ним не скрестила: ни Китай (мы еще увидим, какие претензии имела к нему эта страна), ни мусульманская империя с центром в Дели, ни мамлюкский Египет, ни Сирия, прославившаяся на весь исламский мир, ни османская Турция, которая под водительством непобедимого
В Самарканде все было спокойно. Город тонул в богатстве. Тамерлан трудился и старел. Но внезапно в нем проснулся авантюризм молодых лет, и он отправился воевать. Теперь он нацелился не на запад, а избрал себе жертвой Индию, или скорее, как надобно говорить, если субконтинент не объединен, Индии.
Причин для похода явно не имелось. Те, на которые ссылался Великий эмир, были надуманными и сугубо пропагандистскими. Он утверждал, что собирается покарать «неверных». Каких? Индусских принцев? Конечно же нет. Население? Оно жило под эгидой государей-мусульман. Утверждение, будто бы они обходились слишком мягко со своими подданными и ничего не делали для распространения ислама, являлось чистым лицемерием. Так в чем было дело? Не в том ли, что ему наскучило безделье, негромкое существование в покое и мире, кстати, являвшихся идеалом для монголов? Не возмечталось ли ему вновь услышать звон мечей? Но если ему всего-навсего захотелось повоевать, не следовало ли возвратиться на Запад, где оставалось незавершенным начатое им дело, судьба которого становилась все более неопределенной и которое вообще разваливалось? Намеревался ли он с выгодой для себя использовать трудности, возникшие у Дели, о которых доносили шпионы? Или он не устоял, подобно всем тем, кои в продолжение ряда столетий были владетелями Афганистана, перед мощным соблазном прибрать к рукам богатства Индо-Гангской долины? Не имелось ли у него желания потребовать наследство первого тюрка, завоевавшего Индию, Махмуда Газневи (970–1030), или намерения более скромного, а именно повторить серию набегов, беспрестанно совершавшихся монголами, начиная с Чингисхана, на эту землю, где часто их ждало поражение и лишь иногда успех, но никогда — решающая победа? Всему этому, несомненно, Тимур посвящал свои не лишенные фантазий размышления, из которых сформировался проект, превратившийся в навязчивую идею.
Однако его самым сокровенным желанием, в котором он, вероятно, не признавался сам себе, было то, что родилось из наследственного подсознания тюрко-монгольских степняков: никто из них не мог спокойно видеть, как кто-то из его племени оказывался наделенным той или иной властью. Мусульмано-индийская империя находилась в руках у тюрок, и этого было достаточно, чтобы вынести ей смертный приговор. Тамерлану захотелось низвергнуть Мамлюков и Османов как раз потому, что они тоже были тюрками. Лейтмотив, который в течение веков слышался в Монголии, Исфагане и Константинополе — «на земле может быть только один государь, как на Небе находится только один Бог», — мог касаться только правителей тюрок и монголов, единственно стоивших уважения, в то время как прочие были всего лишь узурпаторами.
За период своей столетней экспансии арабы только подошли к берегам Инда. Настоящее проникновение ислама в Индию совершилось много позднее, имея отправной точкой город Газни, что в Афганистане, и усилием тюрок, потомков Газневи. Махмуд Газневи предпринял не менее семнадцати походов в Индо-Гангскую долину и основал мусульманскую империю со столицей в Дели. Его династии наследовали другие, тоже тюркские или афганские, если угодно, тюрко-афганские феодалы, а также династия Мамлюков (1206–1290), Хальджи (1290–1321) и наконец Тоглугская (1321–1414). К исходу XIV века власть Тоглугов ослабла. Если дотоле они управляли всем субконтинентом, то теперь от них начали отлагаться целые провинции: Декан в 1347 году, Бенгалия в 1358-м, Джаунпур в 1394-м, Гуджерат в 1396 году. В Дели, в этой исконной столице, сидел слабый Махмуд-шах II (1392–1412), находившийся в зависимости от собственного визиря Маллу Икбаля. В том, что осталось от империи, не умолкали смуты. В очередной раз Тимур имел перед собой не подлинно великую державу, а ее тень. Однако сия тень была способна произвести впечатление грозной силы. Делийское царство жило рентой с былого авторитета, а также благодаря своим несметным богатствам, быть может, не имевшим себе равных во всем мире.
Подготовка к походу в Трансоксиане популярностью не пользовалась. Воевать надоело всем. К тому же если воинов не страшили долгие странствия по холодным землям, то им не по душе были климатические «излишества» стран, где «было жарко, как в аду». Считалось, что условия Индий годились только для конных наскоков на жертву, когда можно было быстро возвратиться в родные горы, так хорошо защищавшие от преследователей, а не для кампании, предусматривавшей углубление на территорию врага. Громкая известность индийской империи производила на рядовые массы отпугивающее впечатление. Впервые тогда воспротивилась и элита, откровенно выступившая против похода. Пассивное сопротивление элиты выводило Тамерлана из себя, но он делал вид, что ничего не происходит, и отдавал приказы так, как будто бы они вызывали у всех радость и удовлетворение. Воины повиновались, так как были к этому приучены, но их сердца к этой затее явно не лежали, что вскоре обнаружилось по прибытии в Кафиристан.
В начале 1398 года Тамерлан послал своего внука Пир-Мухаммеда в Мултан, что, на взгляд индийцев, являлось вполне классическим набегом; привыкнув к тому, что из Центральной Азии периодически налетали всадники, в этом налете предвестия будущего нашествия они не усмотрели. Принц долго топтался перед городом и овладел им лишь в мае. Спустя время Тимур направил туда очередной корпус войск, во главе которого поставил еще одного внука, Мухаммеда-Султана, которому предстояло действовать в южной части Гималаев, в направлении на Лахор. Сам же Тамерлан должен был вести основные силы своей армии.
Как многие его прославленные предшественники, Тамерлан мог бы пренебречь этими «неверными», «погаными»
Кажется невероятной эта повесть о человеке в летах, вторгнувшемся в страну, почти неприступную в период таяния снега, и совершившем это без видимых причин, но преследуя, однако, весьма важные цели. Как было бы прекрасно, если бы об этой истории нам поведал какой-нибудь сказитель и чтобы из нее родился один из тех эпических романов, которыми так богата Азия. То, что мы знаем, то, что до нас донесла не поэзия, а летопись, способно привести в изумление, но со всем этим не может не расцениваться как преувеличение теми, кто знаком с реалиями. Нет, великих подвигов не совершалось, не было ни Роланда, ни Ронсево, всего лишь мелкие сшибки, но, увы, жесточайшие, происходившие на скалистых вершинах, в узких ущельях, где реки смывают все на своем пути. Представим себе ночные переходы в час, когда холод превращает в лед все, что днем журчит и струится; сутки ожидания, стоя или лежа в грязи, делающей всякое продвижение вперед невозможным, промокших людей и животных, тщившихся спастись под одним и тем же войлоком; головокружительные спуски по скользким и крутым склонам, остановить которые могут лишь вбитые в почву колья; отощавших и выбившихся из сил лошадей, срывающихся в ущелья, иной раз вместе со всадником; долгие пешие переходы… Один только Тимур ехал на коне, когда для этого появлялась возможность; в другое время он сидел на некоем подобии ломовых дрог, удерживаемых на дороге с помощью веревок, тогда как его слуги на руках несли его лошадь. Однажды, когда нельзя было проехать ни на коне, ни в санях, Великий эмир взял палку и, втыкая ее в снег, хромая, прошел более километра пешком.
Как-то на пути встретилась крепость, возведенная на горном пике. Снежные заряды летели один за другим, и овладеть цитаделью было явно невозможно. Разъярившийся до бешенства Тамерлан созвал эмиров и командиров, обрушил на них потоки брани и даже угрожал саблей. Никто и не попытался защищаться. Люди стояли, преисполненные покорности, в мрачном молчании, чуть дыша. Но вот его гнев схлынул, и он сел играть в шахматы, как если бы находился у себя в самаркандском дворце. Однако он взъярился вновь, когда один из его ближайших советников заметил, что столь малая крепостица таких усилий не стоит. Мудрый, но неловкий, человек был лишен всех званий и всего имущества и тут же отправлен в ссылку на кухню, где и дожил до конца дней века своего. Эмиры упрямились. Тимур тоже. Верх взял он. Воины предпочли штурм смерти от холода, голода и безделья. Защитникам цитадели была устроена отменная кровавая баня. Лишь после этого Тамерлан велел сняться с лагеря.
По прибытии в Кабул он, в очередной раз следуя одному из свойственных ему капризов, велел ратникам, как если бы ничего более важного в тот момент для него не существовало, выкопать длинный оросительный канал, позволивший построить в том краю множество новых поселений.
2 октября Тимур переплыл Инд на сооруженном для него понтоне. Противостоять ему не могла никакая сила. Он вступил в Толомбу без единого выстрела. Уступая своей ярости, воины немедленно приступили к грабежам и насилию. Однако Великий эмир сумел защитить и саидов, и
Проводя рекогносцировку позиций противника, Тимур слишком близко к ним подъехал и был ранен в плечо отравленной стрелой. Несмотря на это, разведку он продолжил, но внезапно почувствовал тяжесть во всем теле. Великого эмира привезли в шатер, где ему было дано противоядие. Минуло всего несколько часов, и он уже сидел в седле, ведя своих ратников в бой.
Дело было жаркое. Раджпутам, возможно, недоставало воинского таланта, но они умели сражаться и не боялись смерти. Тамерлан вполне убедился в том, ворвавшись в Бхатнир. Горожане поджигали свои дома и бросались в огонь. Не желая оказаться в руках Джагатаидов, мужчины убивали себя, но прежде умерщвляли собственных жен и детей. Интервентам пришлось прикончить десять тысяч человек, которые, будучи прижатыми к стене и зачастую смертельно раненными, продолжали оказывать сопротивление. Знавший, что такое мужество и отвага, Тамерлан не мог скрыть своего восхищения. Тем не менее он до основания уничтожил укрепления и саму цитадель, стер с лица земли город, но, когда побежденный Рай Дул Чанд явился и пал ниц у его ног, он поднял его и, милуя, одарил в знак уважения почетным халатом и мечом.
Несколько дней спустя, не встретив на своем пути других препятствий, Великий эмир уже был у ворот Дели. Нелепо утверждать, что взятие Бхатнира подняло моральный дух Тимуровых полков. Султан по-прежнему внушал страх; прежде всего опасались его слонов, численность которых иные определяли ста двадцатью головами (а другие — несколькими сотнями), а также дотоле не известных «огненных горшков» — удивительных зажигательных гранат, начиненных горящей смолой, и ракет с железными наконечниками, которые, коснувшись земли, взрывались и подскакивали.
Узнав о том, что Махмуд-шах покинул свою столицу и устремился навстречу трансоксианцам, Тамерлан принял решение укрыться во рвах. Почему была избрана эта чисто оборонительная тактика, столь не свойственная Тимуру, точно не установлено. Была ли то военная хитрость Великого эмира, полагавшего, как говорит хроника, таким способом убедить врагов в том, что его «ратники слабы и трусливы»? Но, может, сии последние не были морально готовы к наступлению? Ответов на эти вопросы не существует. Определенно известно одно: завоеватели оробели.
Индийцы все не показывались. Бесконечно отсиживаться в траншеях и за земляными валами было невозможно, и стало ясно, что надо дать бой. Быть может, именно это имел в виду Тимур? На военном совете два эмира, Джахан-шах и Сулаим-шах (их имена достойны памяти потомков) обратили внимание на то, что сто тысяч пленных, находившихся в обозе, представляют собой реальную опасность, — хотя, скорее всего, то были просто угнанные из своих деревень земледельцы, — что лучше было бы от них избавиться. Конечно, со стороны воинов это явилось бы серьезной жертвой, ибо каждый раб стоил дорого, но безопасность войска ее окупала: кто мог предугадать, как поведут себя взятые в плен люди, когда начнется битва, особенно при неблагоприятном ее развитии? Найдя совет разумным, Тимур велел предать смерти всех пленных и предупредил, что собственной рукой убьет того, кто по скупости или из жалости его ослушается. Приказ был исполнен ровно за один час. Говорят, что находившийся в его свите некий ученый, который дотоле не мог лишить жизни и овцы, зарезал все свои полтора десятка рабов.
От крови хмелеют, и лучшего алкоголя для возбуждения храбрости перед наступлением не потребовалось. Следуя обычаю, Тамерлан обратился к астрологам. Те объявили, что звезды расположены неблагоприятно. Пренебрегши их словами, Великий эмир открыл Коран и в глаза его бросились следующие слова: «Бей неверных». «Бог с нами!» — воскликнул он и двинул полки в атаку. Это совершилось 17 декабря 1398 года, в поречье Джаммы, близ Панипата, где так часто решалась судьба индийцев.
Чтобы легче было отбивать атаку слонов, Тамерлан распорядился вырыть рвы и набросать в них металлических шипов. Увы, это «толстокожих» не остановило: они давили Джагатаидов своими древообразными ногами, проделывая в их рядах широкие проходы. Тогда Тимур велел поставить перед конницей буйволов (или верблюдов), обвешанных связками соломы и веток хвойных деревьев, и поджечь их; обезумевшие от страха животные устремились на мастодонтов и немалое число их обратили в бегство. Однако точку поставила конница. Как замечает Рене Груссе, «боевые слоны индийцев были не в силах устоять перед Тимуровой конницей, как во времена Чны перед кавалерией македонской». Когда враги прорвались сквозь порядки трансоксианцев, Великий эмир сказал: «Победа — женщина. Она отдается не всегда, и надо уметь ею овладевать». Побежденный султан бежал в Гуджарат, и 19 октября Тамерлан вступил в один из прекраснейших и величайших городов тогдашнего мира.
По просьбе мусульманских влиятельных лиц Тимур Дели пощадил, но обложил огромной данью. Он выставил охрану вокруг наиболее богатых кварталов, но полностью защитить их от грабителей из числа солдатни было невозможно, так что грабежи и насилие совершались. Население попыталось защищаться, но бесчинства только усугублялись; дело дошло и до убийств. На призывы несчастных сбегались другие солдаты, которые свои злодеяния присовокупляли к преступлениям предшественников. Очень быстро все вокруг было залито кровью и охвачено пламенем. Горожане пошли к Тимуру. Он был пьян и спал. Когда эмир проснулся и пришел в себя, было уже поздно: зло зашло слишком далеко. Тем не менее он попытался, как обычно, спасти священников, ученых и художников. (Ранее им было принято решение вывезти в Самарканд камнетесов, построивших главную городскую мечеть, произведшую на него сильное впечатление.) Картина была ужасная. Более страшного избиения мирного населения не найти в записях летописцев.
Тамерлан, чтобы обелить память о себе, заявил: «Я этого не хотел». Что касается армии, то она озолотилась, сделавшись богатой, как никогда дотоле. Ни в какое сравнение не шли богатства Индии с богатствами Герата, Исфагана, Шираза и Багдада. Любой ратник мог похвастаться несколькими мешками золота, самоцветов, кубков из ценных металлов, изделий из яшмы и оникса; за некоторыми плелись до ста — ста пятидесяти рабов.
Проведя полмесяца в Дели, Тимур устремился к Гангу и добрался до него, не встретив на пути никакого войска, а лишь многочисленное население, которое можно было облагать оброком, убивать и обращать в рабство. То была уже не война, а обыкновенная бойня. Когда, утомленные поливанием земли кровью и спермой, трансоксианцы поворотили домой, по дорогам двинулось не войско, а некий кочующий народ, ведший за собой стада животных, женщин и мальчиков. Ратники, прославившиеся на весь Средний Восток быстротой переходов, теперь с трудом делали по семь километров за день. И какой ценой!
По пути им встретился Меерут; взяв его, они перебили всех горожан, несомненно, по привычке, но официально — из гуманных соображений; дело было в том, что брамины требовали от женщин, чтобы они заживо сжигали себя на кострах, на которых совершалась кремация их усопших мужей.
Трансоксианцы буквально смели две армии, которые с роковым опозданием потщились заступить им дорогу домой. Одну в поречье Хардвара, другую — в Сивалике. В провинции Джамму пленный раджа спас себе жизнь тем, что признал «красоту ислама». Дабы удостовериться в его правоверности, его принудили съесть говядину! 15 апреля 1399 года Тимур перешел Сырдарью под Термезом. В Кеше его встречали делегации, прибывшие из всех уголков империи. «Не кто иной, как Бог, дал мне эту победу», — объявил он народу. Скорее всего он этому верил, но мы не обязаны разделять его мнение, и нам позволительно считать, что она ему досталась по воле сатаны.
Настала пора цветения роз. Отдыхать в Самарканде было хорошо, но дела не позволяли: положение в Западном Иране ухудшилось, а Тимуров наместник, принц Мираншах, не только не попытался его исправить, но даже усугубил его.
Хан-заде неожиданно прибыла в Самарканд и слухи подтвердила. Ее значимость в соотношении сил была велика. Не кто иной, как она, столь красивая когда-то, на какое-то время спасла Хорезм, взяв себе в мужья старшего Тамерланова сына, Джахангира; по кончине его она перебралась в постель его сводного брата, Мираншаха, исполняя тюрко-монгольский закон повторного замужества вдовы с сыном или братом мужа. Она приехала из Тебриза, чтобы предупредить тестя о странных поступках своего нового супруга. Мираншах несомненно обезумел, то ли упав с лошади, как говорили потом, то ли по другой причине. Он пьянствовал, играл, развратничал, безудержно проматывал свое состояние. Хуже было то, что, не обладая ничем из того, что позволило бы ему сравняться славой с отцом, он затеял прославиться злочинствами. В осуществление созревшего в его голове плана он дал целый ряд совершенно бредовых приказов, таких, как выкинуть из могил останки некоторых прославленных людей, в том числе визиря Рашидаддина, первого историографа Ирана, потому-де, что они являлись безбожниками; разрушить все памятники в городах, подчинявшихся его власти; казнить даже тех, кои пользовались покровительством Тимура, то есть кади, включая
В то же самое время он совершенно не занимался государственными делами, между тем его безумие, произвол и преследования стали причиной нескольких восстаний, но, узнав о них, он лишь пожимал плечами. Хан-заде всегда умела произвести впечатление на Тимура. В тот раз она тоже была убедительна, прибыв в сопровождении свидетелей, тех нескольких приближенных, которых Великий эмир сам приставил к сыну и коих Мираншах отправил в отставку.
Тамерлан, найдя ситуацию достаточно опасной, летом 1399 года послал туда армию и, естественно, ее возглавил невзирая на жестокие страдания, доставлявшиеся ему язвами, открывшимися в ходе Индийской кампании. Он выступил из Самарканда 11 июля, взяв с собой Халиля, сына Мираншаха и Хан-заде, впоследствии также оказавшегося человеком весьма неуравновешенным. Что касается Хан-заде, то она осталась в Самарканде купаться в почестях и наслаждаться собственным авторитетом. Когда Великий эмир вступил в Тебриз, его сын предстал перед ним с веревкой на шее. Прием ему был оказан сдержанный.
Тимур, умевший властвовать над своим гневом, ожидал результатов расследования, проводившегося по его приказу. Все оказалось правдой. Наперсники Мираншаха, как те, что своекорыстно использовали его безумие, так и те, которые ничего не сделали для того, чтобы удержать его в рамках дозволенного разумом, были приговорены к смертной казни и преданы смерти. Принц остался жив только потому, что отец удостоверился в его безумии: сумасшедшие, согласно исламу, пользуются репутацией в некотором роде святых, и этот несчастный, действительно, не мог в полной мере отвечать за свои дела.
Теперь оставалось пополнить потери, заново отстроить разрушенное, возвратить имущество тем, кто был его лишен, восстановить законность и правосудие и наконец — и прежде всего — покарать смутьянов: в первую очередь грузин, потом багдадского Ахмеда-Джалаирида и его людей — «братьев-владетелей черных овец» (кара-коюнлу).
Положение на шахматной доске успело значительно измениться с тех пор, как Тамерлан оставил Западный Иран, и это целое лето составляло предмет озабоченности Самарканда. Осман Баязид, расправившись со своими двумя главными врагами, караманским эмиром (1397) и сивасским кади Бурханеддином, упрочил свои позиции в Малой Азии и, кроме всего прочего, оккупировал провинцию Эрзинджан, принадлежавшую Тахиртену, коему Тимур в свое время обещал защиту и который теперь к нему явился с просьбой исполнить обязанности сюзерена.
Великий эмир колебался. Действия против Баязида Молниеносного требовали зрелого размышления, тем более что сирийско-египетские Мамлюки могли нанести удар с фланга. На всякий случай он направил в Адрианополь (Эдирне) с посольским заданием эмира Барласа, поручив ему попросить Османа соблюдать зоны влияния и подумать о том, как удовлетворить Тахиртеновы требования. Одновременно Барлас привел за собой корпус войск значительно более крупный, чем тот, который бывал необходим для подавления мятежей; фактически за ним шли все имевшиеся у него в наличии войска.
Вести, полученные Тимуром в Султании, куда он прибыл устанавливать справедливость, его обрадовали. Его тесть, Хизир-ходжа, правитель Моголистана, умер, и его четверо сыновей вступили в борьбу за трон, что позволило Джагатаидам их помирить, изгнав всех четырех из страны, и закрепиться в Хотане, на самых дальних восточных рубежах империи. В то же самое время в Египте скончался султан Баркук, он был одной из основных опор его врагов, в особенности Джалаиридов; его юному сыну, Фараджу, чтобы завладеть отцовским наследием, пришлось потрудиться.
Стояла зима, когда Тамерлан отправился в карательную экспедицию в Восточную Грузию. В тот год холода свирепствовали так, что Тимуру и его людям, приученным ко всем превратностям погоды, которые уже воевали в зимних условиях этой страны, пришлось спуститься в долины, места более гостеприимные. Возвратясь в горы весной, они возобновили боевые действия и овладели Тбилиси. Грузинский же царь проявил неожиданную покорность.
Тем временем к Тимуру стекались те, кто когда-то правил в Анатолии, беи Айдина, Сарухана, Ментеша и Гермияна, несправедливо лишенные своих, унаследованных от Сельджукской империи земель, не только мусульманами. Баязид, их победитель, действительно, нашел не так уж много радетелей за веру, желавших воевать за мусульманскую Анатолию (достойной их они считали только «священную войну» с христианами Балкан и Византии), и потому был вынужден весьма часто прибегать к помощи своих балканских вассалов. Все эти беи подталкивали Великого эмира к войне, равно как и венецианцы, генуэзцы — кои боялись за свои константинопольские колонии и опасались турецкой экспансии в Центральной Европе — и, наконец, уже задыхавшаяся Византия, которая была готова открыть свои врата. Тамерлан получал заверения в поддержке и от короля Франции Карла IV, в ту пору покровительствовавшего Генуе, и от басилевса Иммануила II. В обеих османских столицах, Брусе и Адрианополе, дипломатическая деятельность велась не менее активно; Ахмед-Джалаирид и Кара-Юсуф, предводитель кара-коюнлу, вовсю интриговали, чтобы принудить Баязида к наступательным действиям.
Речи Тимурова посла, эмира Барласа, похоже, вызвали у Баязида немалое негодование. Кто такой сей хромец, позволивший себе делать ему выговоры, требовать исправления несправедливостей, и как он осмелился вслед за поздравлениями с успехами в Европе заявить: «Может ли тягаться с нами такой князек, как ты?» Его ответ послу, коему он все же оказал самый пышный прием, был нарочито презрительным. Произнесенные им слова, перенесенные на бумагу, естественно, не с исчерпывающей достоверностью, но общий тон которых тем не менее передан, были таковы: «Во что вмешивается этот бедолага? Не думает ли он, что имеет дело с неким диким племенем горцев или с трусливыми индусами? Ежели ему приспела охота сразиться, пусть приходит. Не придет — я сам его найду и буду гнать до Тебриза и Султании».
Тамерлан это воспринял как объявление войны. Он собрал войско и устремился на Анатолию. Так возник конфликт между двумя великими тюркскими державами, между двумя полководцами, дотоле знавшими лишь победы и считавшимися неодолимыми.
Миновав Эрзурум, Великий эмир направился к Сивасу, куда прибыл 10 августа. Этот крупный торговый центр с населением в сто двадцать тысяч душ сдался лишь 26-го числа. Верный обещанию не трогать мусульман, Тимур отвел душу на христианах. Четыре тысячи сипахов-армян, выданных ему, по его приказу были заживо зарыты в землю, по десять человек, в положении, напоминающем зародышевое. Ужасным мучениям были подвергнуты их жены, которых привязывали к лошадиным хвостам и волочили по земле; детей бросали под копыта. Говорят, что из боязни заразиться умертвляли прокаженных; возможно, это клевета. Джагатайская конница преследовала османскую армию до самого Кайсери.
Баязид готовился выступить против Тимура, но тот ждать его не мог. У него в тылу находились Мамлюк и предводитель кара-коюнлу, ждавшие только одного: когда он основательно углубится в Анатолию. Великий эмир внезапно покинул Сивас и нацелился на Сирию.
То был второй случай, когда эмиры воспротивились его намерениям. Они указывали на то, что армия еще не успела по-настоящему отдохнуть после Индийской кампании, что бои были тяжелыми, что кавказская зима нанесла серьезный урон как людям, так и животным. «Победы, — сказал Тимур, — не зависят ни от численности воинов, ни от их вооружения, но лишь от воли Аллаха». К этому он добавил, что удача его не обманула ни разу.
Миновав Малатью, египетский город-аванпост в Восточной Анатолии, который был взят 15 сентября 1400 года, и Антиохию, Тимур вступил в пределы Сирии. Султан Фарадж немедленно приказал своим войскам собраться под Алеппо. По его словам, ощущение было такое, что возвратились счастливые дни Байбарса (1260–1277), когда Мамлюки, самые первые, и совершенно самостоятельно, одолели монголов. Воистину, если Осман являлся серьезным противником, то и Мамлюк ему не уступал ни в чем. Кое-кто сказал бы, что у Тимура вскружилась голова, что от избытка самомнения он не заметил, что сам себе приготовил погибель. Фараджевы ратники кричали: «Аллах акбар!» — точно так же, как воины Тимура. Сирийско-египетские полки оказались сметенными в первой же сшибке, и Джагатаиды без помех подошли к Алеппо (30 октября). Крепость, представлявшая собой одно из лучших творений мусульманской военной архитектуры, казалась неприступной, однако Тимуровы лучники были столь метки, что подняться на ее стены так никто и не осмелился. А когда за работу взялись «саперы», цитадель поспешила сдаться.
Дорога к Дамаску была свободна. Хама и Хомс раскрыли свои ворота не колеблясь и потому были обложены данью весьма легкой. В Баальбеке, где Тимур поставил свой шатер, его военачальники и ратники занялись «туризмом», так как о его руинах был наслышан весь мусульманский мир. Предоставив своим людям небольшой отдых, Тамерлан отправился полюбоваться ливанскими кедрами и сделал остановку в Канабине, где находился престол маронитского патриархата и проживало сотни две монахов. Известно, что они находились под защитой друзов, коим Тимур обещал чернецов не беспокоить и был ими принят как самодержавный государь. Оттуда он поехал к Тиру, где хранился «Соломонов резервуар». Тем временем его войска захватили Триполи и Библос, тогда как его эскадроны опустошали земли Сайды и Бейрута.
Следующую остановку Великий эмир сделал в древнем арабо-римском городе Анджар (сегодня этот город находится в Ливане); далее, в начале декабря, его войско подошло к Дамаску, который уже был готов распахнуть свои врата, как вдруг сам мамлюкский султан явился во главе отменно оснащенного войска, и тогда город решил отбиваться. Себе на погибель.
Фарадж возложил все свои надежды на убийство Тамерлана, о чем он договорился с сектой исмаилитов, или «гашишистов». Заговор раскрыли, убийц схватили и жестоко пытали, и они вынуждены были открыть, на кого работали. Неосторожный Фарадж взял карту, которую теперь надо было разыгрывать, то есть браться за оружие. Не имея желания нападать на Дамаск, Тимур сделал попытку выманить оттуда Мамлюка и дать ему бой на открытой местности; но его усилия оказались напрасными. Тем более что один из Тимуровых сестричей перебежал к Фараджу. Великий эмир потребовал его возвращения. Но Мамлюк отдать юношу отказался, принял его прекрасно, даже устроил в его честь фейерверк.
25 декабря 1400 года Тимур снялся с лагеря, находившегося западнее города, чтобы перенести его на северо-восток, в самую середину прекрасных гутских огородов. Мамлюкам показалось, что появилась возможность напасть на Джагатаидов во время этого маневра. То, чего так желал Великий эмир, осуществилось волею случая; если, конечно, это не была его военная хитрость. Итак, сражение стало неизбежным! Тамерлан действовал с привычной для него быстротой, и сшибка обернулась для сирийско-египетской армии подлинным конфузом. На поле брани осталось лежать множество убитых. Был схвачен и сиятельнейший перебежчик; поскольку он являлся царским отпрыском, проливать его кровь запрещалось и пришлось поставить его в палки перед фронтом, и не более того.
Обескураженный Фарадж, сознавая меру враждебности его окружения к нему, под покровом темноты тайно покинул город и поспешил в Каир. Брошенный Дамаск направил к Тимуру делегацию с предложением капитуляции. Делегация состояла из цвета интеллектуальной элиты, среди которой находился и один из величайших историографов ислама, «тунисец» Ибн Хальдун, состоявший на службе у мамлюкского султана. Был ли Тамерлан о нем наслышан? Как бы там ни было, он ему обрадовался и долго с ним беседовал. Они оценили друг друга по достоинству. Тимур расспрашивал магрибинца об истории Северной Африки и ошеломил его рассказом о прошлом Трансоксианы и Ирана. За первой беседой последовали другие. Историк вручил государю несколько небольших подарков, а Тимур выказал достаточно деликатности, горячо благодаря за них.
Между тем Джагатаиды вступили в Дамаск; обложив его значительной данью, они собрали относительно мирно. Не взятою оставалась цитадель; для того чтобы принудить ее капитулировать, понадобилось сорок три дня. Торопившийся Тимур неистовствовал; он разболелся, и в очередной раз его наперсники было решили, что конец его близок. Но он выздоровел, оставаясь, однако, в мрачном расположении духа. За внезапными приступами ярости следовали периоды глубочайшей подавленности. Он всегда старался обходиться без нарочитых грабежей, но вдруг сам отдал город на разграбление своим воинам — скорее всего потому, что ему становилось все труднее их сдерживать среди этих непомерных богатств, тогда как эта проклятая крепость отказывалась сдаваться. На улицах горели костры, и вот пожар (может, несколько пожаров, случайных) охватил город; жертвой огня стала древнейшая мечеть, построенная Омейядами и украшенная великолепной мозаикой. Укрывшиеся в ней люди погибли. Происшедшее инкриминируется Тамерлану как одно из величайших преступлений, но, по всей видимости, вины его здесь не было.
19 марта Великий эмир покинул опустошенный Дамаск, где несколькими днями ранее сделал ему прощальный визит Ибн Хальдун. Тамерлан, который по привычке ежедневно отправлял в Самарканд толпы грамотеев, ученых и художников, покушаться на его судьбу не стал. «Куда теперь ты намереваешься пойти?» — спросил он его. Ибн Хальдун ответил со всей подобающей почтительностью. Тимур его понял и продолжил: «Ты должен вернуться в свою страну, к своим». Не чуждый возвышенным чувствам, Тамерлан не мог не сочувствовать жильцу высоких эмпирей.
Овладев Хомсом, Тамерлан бросил свои войска на Пальмиру и Антиохию; его следующей жертвой стала Хама. По непонятным причинам — и уж, конечно, не потому, что ее жители проявили недостаточное внимание к памятникам, возведенным по его слову, — он повелел ее разграбить. После этого он покинул Сирию и больше о ней не думал, так что Мамлюки тут же прибрали ее к рукам. Было ли в его планах дойти до Каира? Покуда Османы могли напасть на него со стороны Северного Ирана, не думать об этом он не мог. Сирийский поход продолжался почти шесть месяцев, и позволительно спросить себя: отчего Баязид так и не воспользовался этим временем, чтобы напасть на Великого эмира с тыла?
В мае 1401 года из Мосула Тамерлан послал корпус войск в пять тысяч сабель с целью потребовать от Багдада контрибуцию; увы, на этот малочисленный отряд напали тюрки-кочевники (туркмены) и арабы (бедуины). Не предвидя такого досадного происшествия, Ахмед-Джалаирид в очередной раз поспешил под крыло Мамлюков. Оставленный им в городе военачальник решил обороняться. Покончив с Сирией, Великий эмир лично направился к столице древних Аббасидов. Врата не отворились.
Хотя Ирак к тому времени возвратил былую независимость, это не мешало Джагатаидам и их предводителю считать его своим, как всякую территорию, однажды ими оккупированную. Иракская враждебность являлась, по их понятию, предательством, мириться с чем они не могли; и Тимур велел взять город в кольцо.
Лето выдалось особенно жарким; солнце пекло невыносимо. В месопотамской долине дышать было нечем. В самую жаркую пору суток защитников на укреплениях не было. В часы, когда, по словам летописца, «птицы падали с неба, как сраженные молнией», они надевали шлемы на копья, дабы создать видимость своего присутствия, и шли немного отдохнуть в тени. Дотоле штурмовать города в подобную жару Джагатаидам не приходилось.
Но они, разумеется, это сделали. В течение месяца осажденные отбивали все атаки. Но 9 июля 1401 года для взятия города не потребовалось и часа. Если пять лет назад Тимур его пощадил, то в этот раз он обошелся с ним жестоко. За малым исключением все, не сумевшие спастись бегством, были уничтожены. Из голов были сооружены «башни»; военный секретариат насчитал в каждой от ста двадцати до семисот пятидесяти черепов, то есть в сумме девяносто тысяч. Здесь Тимур преуспел даже более, чем в Исфагане. Все памятники были разрушены за вычетом тех, кои носили религиозный характер. Трупы разлагались, опасность эпидемии была очевидной, и Тамерлан велел оставить Багдад и его окрестности, чтобы завершить лето в прохладных Курдистанских горах (15 июля). На сей раз Джагатаиды правителя после себя не оставили, так как управлять было нечем и некем.
Тимур находился в Нахичевани, когда ему доложили о том, что Баязидовы воины вновь захватили Эрзинджан, удел его вассала Тахиртена. Он собрал полки и послал в Самарканд приказ вооружить новые, дабы срочно направить их в путь. Как и Баязид, Тамерлан понимал, что мощная сшибка государей была неизбежной и что она, вполне вероятно, решит их судьбу. Однако ни тот ни другой по-настоящему к ней готовыми не были. Не создавая себе иллюзий, они обменялись посольствами единственно затем, чтобы потянуть время, надеясь выгодно его использовать. Великий эмир отправил жен в Тебриз, выплатил солдатам их семилетнее содержание и закрепился в Авнике, где принял несколько миссий: византийскую, французскую, а также из Генуи и Венеции. В поисках занятия для своих людей он повелел обустроить каналами бассейн Аракса. Следуя установившемуся правилу, он направил в Анатолию несколько агентов для выработки общего мнения.
Обложив Константинополь, штурмовать его Баязид не спешил, довольствуясь тем, что к Галлиполю подошли девять его галер, а также два десятка других судов пребывали в готовности отразить любое действие антитурецкой коалиции, куда входили Венеция, Кио, родосские госпитальеры, эрцгерцог Греческого архипелага, Византия и Трабзон. Он поднял огромную армию, весьма разношерстную, составленную из всего того, что прислали его многочисленные провинции. Помимо янычар, там можно было увидеть анатолийцев, бывших подданных эмиров, недавно приведенных к покорности, и европейцев: фракийцев, македонцев, греков, румын, болгар и прежде всего сербов.
Оперативную инициативу взял на себя Тимур. Когда из Самарканда пришло ожидавшееся подкрепление, он 16 февраля 1402 года покинул Карабах и пересек границу Османской империи. С быстротою, которой он обязан своим прозвищем, Баязид Молниеносный немедленно выступил против него. В своей победе не сомневался ни тот ни другой, но весы удачи склонились в сторону Джагатаидов. Тамерланова армия обладала совершеннейшею сплоченностью и привычкой воевать под его водительством. Баязидовы же рати, разномастные и мало привязанные к военачальнику, его, несомненно, уважали, но находили высокомерным. Окружение Великого эмира составляли лишенные владений бывшие князья Малой Азии; вокруг же Баязида находились их подданные, испытывавшие неловкость, воюя против тех, кого совсем недавно считали своими законными сюзеренами. Парадокс заключался в том, что Осман, дотоле чаще всего воевавший в Европе, знал театр военных действий хуже трансоксианца, прекрасно осведомленного окружавшими его феодалами, чьи владения составляли территорию, на которой приходилось воевать.
Джагатаиды с ходу овладели укрепленным городом Ка-мах, впрочем, не без значительных потерь (около десяти тысяч ратников). Затем они подошли к Сивасу, который уже занимали во время первой Анатолийской кампании. 4 или 5 апреля от зари до полудня Тимур проводил смотр войск. Он рассчитывал подняться на Токат. Прибывший в Анкару Баязид об этом знал и, полагая раздавить врага в тамошних скалистых дефиле, совершил форсированный марш в восточном направлении. Тогда Тимур резко изменил курс своего движения. К исходу шестого дня он прибыл в каппадокийскую Цезарею (Кайсери) и, отдохнув четверо суток, всего за четыре дня дошел до Киршерира, где сделал очередную остановку, затем через три дня очутился перед Анкарой.
Не теряя времени, он приступил к блокированию римской цитадели, которая с высоты своего холма, казалось, бросала вызов людям и времени. Обнаружив себя отрезанным от тылов, Баязид спешно возвратился к городу, покидать который ему не следовало бы ни при каких обстоятельствах. Там он нашел Джагатаидов на прекрасно выбранных позициях и готовых к бою, тогда как его собственные войска были измотаны чрезмерно долгим переходом. Великий визирь советовал сражения не давать, но фиксировать противника в его местонахождении. Правитель же Румелии, то есть европейских территорий Османской империи, напротив, настаивал на безотлагательной сшибке; прислушались к нему.
В обоих станах ночь посвятили последним приготовлениям и молитве. Возбужденному всем этим Тамерлану явился во сне пророк; пробудившись поутру, он возвестил ратникам, что победа уже у них в руках. Битва началась в 9 часов, скорее всего, 28 июля 1402 года северо-восточнее города, в Чубукабадской долине.[13]
Это сражение стало одним из великолепнейших и грандиознейших из всех известных истории. Говорят, в тот день произошла сшибка целого миллиона человек; даже если урезать эту цифру наполовину, все равно она останется колоссальной. И сколь великолепны были полководцы! И как прекрасны были воины! Дотоле еще никогда витязи не имели столь отменного облачения, а скакуны — такой элегантной упряжи! Еще никогда на ветру не развевалось такого количества блистательных знамен. В рядах Тимуровых воинов, среди сотни униформ, видны были эскадроны то во всем красном, то во всем черном, другие — в желтом или во всем белом. Не забудем и огромных слонов, вывезенных из Индии.
Рубились жарко. Силы Османа численно уступали силам трансоксианца. Каждому отряду войск Баязида противостоял один, но более многочисленный, корпус войск Тимура. Кроме того, в то время как Осман ввел в бой свои резервы, запасные силы Тамерлана продолжали отдыхать. Тем не менее исход баталии оставался неопределенным. Но вот воины правого фланга Османа глубоко вклинились в порядки Шахруха. На мгновение победа показалась добытой. Затем ситуация резко изменилась. Увидев в первых рядах Джагатаидов своих былых князей, туркмены развернулись и перешли к Тимуру. Левый фланг Османа, на котором они находились, дрогнул. С этого момента исход баталии можно считать предрешенным. Баязидовы рати сражались теперь не во имя победы, но ради спасения чести, достойной смерти или, возможно, из самолюбия и даже любви к удалой атаке. Когда в свою очередь, подорванный дезертирством, дрогнул и фланг правый, великий визирь, лучший османский политик, приказал отступать, забрав с собой Баязидова сына, Сулеймана.
Османский фронт заметно опустел. Продолжали биться одни сербы, ведомые Стефаном Лазаревичем, а также янычары, окружившие своего падишаха, закрепившегося на некоей высотке. Они погибали, но не сделали ни единого шага назад. Стоило ли погибать всем до последнего и разыгрывать последнюю карту, возможно, способную спасти империю? Стефан Лазаревич пытался убедить своего господина в абсолютной необходимости оторваться от противника, пока еще не было поздно; но император отказался от этого варианта, и Стефан Лазаревич решил отступить, чтобы хотя бы прикрыть отступление премьер-министра и государева сына.
Баязид сражался до наступления ночи. Когда кончились последние силы и надежды и он, наконец, решил бежать, обнаружилось, что средств для этого у него нет. С тремястами верных людей, с саблей в руках и воодушевляемый поразительным мужеством, он сумел пробиться сквозь вражеские ряды и во весь опор погнал коня прочь с поля битвы; однако его настигли и привели к Тамерлану.
Сидя в царском шатре, Великий эмир, отдыхая после боя, играл в шахматы; и вот Махмуд-хан, джагатаидская марионетка, привел к нему Баязида, измученного, истерзанного, покрытого пылью, но отчаянно вырывавшегося из вражеских рук. Тимур принял его учтиво и поместил в палатку, охранявшуюся эмирами. Некоторые историки напрасно утверждают, будто бы он держал Баязида в клетке, которую позволял ему покидать единственно затем, чтобы воспользоваться им как подставкой, когда необходимо было сесть на коня.[14] Скорее всего он даже проникся своего рода приязнью к тому, кто, несомненно, являлся великим воином и потому его восхищал. Тимур полюбил Баязида за то же, за что любил и Тохтамыша (первого, правда, в меньшей степени): за их талант, уступивший его непобедимости. Не исключено, что он вполне мог впоследствии восстановить Баязида в былых правах. Увы, этому состояться было не суждено.
Утратив все — империю, армию, богатства, славу, свободу, семью, — отчаявшийся Баязид умер в Акшехире от закупорки сосудов 9 марта 1403 года. Тамерлан выказал то величие души, которое его не покидало даже в часы тягчайших злоупотреблений: он повелел доставить тело несчастного в азиатскую столицу его царства, в Брусу, и похоронить как османского султана. Баязид почиет в мавзолее мурадийского некрополя.
Тимур был не прочь поймать Сулеймана и прибрать к рукам казну Османов; такова была гангстерская черта его характера. Он не сумел ни того ни другого. Битва за Анкару завершилась беспорядочным бегством Баязидовых войск, но прозорлив был великий визирь, увезя с собою принца; разумно поступил и Стефан Лазаревич, когда защитил его во время бегства. Османские силы уничтоженными не были, оставаясь в полной сохранности в Европе; частично сохранились они и в Анатолии.
Когда 3 августа 1402 года Джагатаиды пришли в Брусу, Сулейман и его казна уже находились по ту сторону Дарданелл. Венецианцы, которые контролировали проливы, в помощи побежденным отказали; иначе поступили генуэзцы. Тем не менее Тимуру достались в добычу огромные богатства: для того чтобы их увезти, потребовалось около двухсот верблюдов. Бруса сгорела. Утверждают, будто бы Великий эмир взошел на Битюнийский олимп (Улу Даг), чтобы полюбоваться тем, как полыхал этот город, растекшийся на пространстве в пять километров по склону горы; говорят также, что его там не было и что набегом руководил его внук Мухаммед-Султан, имевший под своим началом то ли четыре, то ли пять тысяч воинов. Как бы там ни было, ни один памятник Брусы от пожара не пострадал.
Тем временем другой внук, Абубекр, спешил в Никею (Изник), город стародавних вселенских соборов, «убивая и грабя все на своем пути, крадя все то, что наворовали и накопили турки». Там и здесь сновали конные уроженцы великих азиатских степей, появляясь с огнем и мечом то в Конии (Икониум), то в Айдине, то в Анталии и Эфесе, то в Фокее и Пергаме… Еще и теперь можно услышать рассказы о том, как Тамерлан долго ходил среди развалин этого города. Думал ли он о бренности человеческого творения? Возможно, да, ибо часто можно было услышать от него речи подобного рода.
Принося в жертву своему мечу каждого встречного мусульманина, Тимур иногда вспоминал, что принадлежал к их числу. Он всегда маскировал под «священную войну» всякую, им начатую, но таковой не являвшуюся. Время от времени ему требовалось доказывать, что он является защитником ислама. В Анатолии он умертвил
Одержанный тогда успех является лучшим доказательством эффективности и мощи Тимурова воинства, а также шедевром остроумия и отваги. Стоя перед большим портом Смирны, Тимур понял, что надлежало изолировать его от моря, чтобы лишить возможности получать подкрепление и провизию водным путем. Однако судами он не располагал; на морских просторах хозяйничали христиане. Возникло решение соорудить гигантскую дамбу из бревен и покрыть их шкурами. Горожане смеялись. Хохот сделался тише, когда увидели, что строительство продвигается вперед и что остановить его не удается бросаемыми камнями и факелами. Прикрываемые без устали трудившимися лучниками, «саперы» делали свое дело, так что, когда прибыла долгожданная помощь с Кипра и Родоса, было уже слишком поздно. Вместо ядер в матросов-христиан полетели недавно отрубленные головы. Настал день, и в городе началась ужасающая резня.
Отовсюду прибыли заверения в почтении и подчинении: и из Лесбоса с Кио, и из Перы с Требзоном, и, наконец, из Византии. Поздравительные грамоты прислали Карл VI Французский и Генрих IV Английский. Каир покорно объявил себя вассалом. Тамерлан оказался своего рода всемирным арбитром.
Никаких новых замечательных свершений в Анатолии Тамерлана уже не ждало. Однако перед тем как ее оставить, он продемонстрировал еще одно доказательство своего «гения», захватив Эгридир и истребив его население. Затем он вышел на великий караванный путь, пролегавший через Конию, Ак-Сарай, Кайсери, Сивас, Эрзинджан, Эрзурум и Тебриз, уведя с собой шестьдесят тысяч татар (коих Ильхан Хулагу поселил на анатолийском плоскогорье), намереваясь оставить их в Хорасане.
Смерть Баязида, наступившая 9 марта в Акшехире, не оставила его безразличным; более того: она произвела на него сильное впечатление. Вскоре за нею последовали другие кончины. Тимур вступал в период трауров. Едва сомкнулись очи Баязида, как тот, кто взял его в плен под Анкарой, Махмуд-хан, тоже скончался. То был второй хан-Чингисид, посаженный Тимуром на трон, и у него уже не было ни желания, ни мужества заменить кем-нибудь этого верного товарища по оружию. Надо ли было в сложившейся обстановке оставаться в тени Чингисида? 13 марта 1403 года Мухаммед-Султан, сын Джахангира, любимый внук Тимура, тот, кого он назначил в наследники, умер в считаные часы, в возрасте 19 лет от болезни, победить которую не смогли ни молитвы, ни лекарства. Тогда Тамерлан являл собою зрелище странное. «Он рвал на себе одежды, катался по земле, стонал и кричал». Во время этого приступа отчаяния он несколько дней пребывал в прострации, молился и медитировал. По миновании кризиса он продолжил поход. Его окружение отмечало, что после этого он уже никогда не был таким, каким его знали прежде. Смерть Мухаммеда-Султана явилась не только сильным психологическим ударом, но вообще великой потерей для всех Тимуридов. Тамерлан был достаточно прозорливым, чтобы разглядеть в нем нечто такое, чего не имели остальные внуки. Все хроникеры восхваляют его.
Боль, испытанная Великим эмиром, потрясла все его царство. Должно быть, в Самарканде ее описали словами довольно сильными, раз духовный наставник Тимура, эмир Саид Барака, посчитал своим долгом поехать поддержать его на далекий Кавказ. Старый и больной, эмир уже никуда не выезжал и, естественно, не мог сопровождать в походах того, моральное и религиозное руководство которым он на себя возложил. И все же он отправился в путь не колеблясь. Увы, дорожных трудностей эмир не перенес и отдал Богу душу. «Мой лучший друг меня покинул», — сказал Тамерлан.
В Грузии Тимуром овладела разрушительная ярость, которую он обрушил на церкви и монастыри. Он мстил тамошнему государю за то, что тот, не ответив на призыв, не прибыл к нему в Анатолию. Однако грузинам-начальникам вспомогательных войск удалось его успокоить: они хорошо сражались и уговорили своего государя вновь принести клятву верности их общему господину.
Правда, у Тимура имелись и другие заботы. Кара-Юсуф, вождь «владетелей черных овец», не только объявился вновь, но даже захватил Багдад. Находясь в карабахском лагере, Тимур поручил своему внуку Абубекру восстановить там порядок (осень 1403 года). Находя задачу легкой, он отрядил ему всего несколько эскадронов. С другой стороны, он придал ему целый корпус «инженерных» войск, поручив отстроить заново «этот святой город, прибежище веры и науки». Он пристально следил за действиями внука и с удовлетворением узнал, что Кара-Юсуф бежал[15] и что восстановительные работы начались. Однако до конца они доведены не были, и Багдад остался небольшим городком. В 1437 году Макризи напишет: «Нет ни мечети, ни правоверных, ни призывов к молитве, ни базара. Большая часть пальм высохла, большая часть каналов засорена. Называть его городом больше нельзя».
Действительно ли изменился Тимур от всех этих смертей, которые его потрясли и как бы предвосхитили его собственную? Он усердно молился, исполнял все предписания ислама и выказывал примерную набожность. Он собрал вокруг себя докторов закона, ученых, дервишей и обсуждал с ними вопросы веры. Противоречить ему не смели, ему льстили, но это не спасало от его гнева тех, кто стремился ему угодить. «Я слишком великий государь, чтобы так со мною обращались», — говорил он. Тимура не оставляла мысль построить новый город на развалинах Байлакана. Он любил занимать своих людей в зимние периоды, когда войн не велось. Он заставлял их трудиться, как вьючных животных, и в дождь, и в морозы; крепостные стены, дома, общественные здания, сады, рынки, а также грандиозный канал, отведенный от Аракса, чтобы дать жизнь всему этому, были сооружены в рекордно короткие сроки. Открытие города сопровождалось празднествами, на которые съехались подданные, вассалы, феодалы «большой и малой руки», и все получили подарки.
Весной 1404 года Тамерлан решил возвратиться домой. На обратном пути его поведение дало полную картину того, как сильно изменилась его личность; он сделался невероятно жестоким и безжалостным: смутьяны и нечистые на руку чиновники умерщвлялись в огромном количестве. То было его девятнадцатое победоносное возвращение в столицу. 31 августа прибыл посол Кастилии Клавихо. Тимур принял его 8 сентября. Хотя дон и проделал длинный путь, все же он оставался бы рядовым посланцем, таким же, как послы египетский, китайский и прочие, если бы ему не пришла в голову мысль сделать письменный отчет о поездке к Великому эмиру. Он присутствовал на грандиозных праздниках, устроенных в сентябре и октябре по случаю бракосочетания нескольких юных принцев крови.
Тимур их грубо прервал. Прощального визита посол сделать не смог. Объявив ему, что правитель серьезно заболел, двери захлопнули перед самым его носом.
Был ли Тамерлан серьезно болен? Возможно. С ним уже случались опасные приступы, и предполагать, что дни его сочтены, было позволительно. Вот уже шесть лет, как он не демонстрировал своей феноменальной физической силы. В бытность в Дамаске Ибн Хальдун видел, как слуги выносили его из шатра и усаживали в седло. Тамерлану исполнилось шестьдесят восемь лет, но выглядел он много старше. Клавихо говорит, что он был так ветх, что не мог поднять веки. В то же время на празднествах, организованных им по случаю женитьбы внуков, он бодрствовал, ел и пил больше остальных. Приглашенные им послы с удивлением наблюдали, как ночью он продолжал кутеж, начатый в полдень, тогда как они сами, уже на пределе сил, должны были покинуть застолье, чтобы хоть немного отдохнуть. На другой день он, как ни в чем не бывало, продолжал возглавлять пир. Недосыпание, чрезмерное потребление мяса и спиртного этим обычно воздержанным человеком и, возможно, увлечение женщинами подорвали его телесное здоровье. Рассудок же оставался крепким.
Уже давно он строил планы захвата Китая, и эта мысль его занимала постоянно. Менее трех месяцев разделили свадебные празднества и выступление в поход. Разумеется, столь малого срока было недостаточно для подготовки такого дела; но он начал им жить задолго до приказа покинуть столицу и посвятил ему все свои силы. То, несомненно, была великая мечта.
Европа Китая не знала до тех пор, пока ее с ним не познакомил Марко Поло. Напротив, иранский мир всегда поддерживал с Китаем контакт и испытывал на себе его мощное влияние. Политические и экономические связи между ними осуществлялись постоянно как по суше (Шелковый путь), так и по морю, что, впрочем, не помешало возникновению идеализированного и даже почти фантастического представления о Дальнем Востоке, столь близком и столько же далеком. Монгольская гегемония одновременно расширила знания о Китае и укрепила миф о нем. Великие ханы, законные владетели всех монгольских улусов, даже когда их предводители вели себя как независимые государи, еще при Хубилае поселились в Пекине, где под именем Юани заняли место в ряду китайских династий. В некоторой степени Китай теоретически властвовал над Ильханами, Золотой Ордой и Джагатаидами.
Изгнание монголов в 1368 году никак не повлияло на сложившуюся ситуацию. Династия Мин, наследница Юаней, полагала, что все, признававшие превосходство ее предшественников, должны признать и ее главенство. Так думать принужден был и Тимур. Блоше считает, что эту мысль он усвоил «без труда», но мы вправе предположить, что Тимур с нею смирился скрепя сердце: его гордыня могла этому подчиниться с большим напряжением. Несомненно, нам возразят, что, согласившись действовать от имени ханов-марионеток, он вполне мог оказывать почести «Великому хану китайскому», который стеснял его не больше них. Мы, напротив, полагаем, что он разницу чувствовал прекрасно: формальный суверенитет, признаваемый им за джагатаидским ханом, компенсировался подлинным авторитетом, коим он действовал на него; претендовать на возможность воздействовать своим авторитетом на Китай он как раз не мог.
Все указывает на то, что Тимур чувствовал себя униженным. Нетрудно догадаться, с каким удовлетворением от возможности досадить китайцам он принял решение пойти на них войной. Принимая однажды в Самарканде иностранных дипломатов, он не мог устоять перед соблазном выказать больше уважения послу далекой и крошечной Кастилии, нежели представителю заносчивого Сына Неба, заявив последнему, «что ему надлежит сидеть ниже, поскольку он является послом бандита и его личного врага».
Официальные историографы Тимура, как и хронисты его преемников, за исключением Абд аль-Разака Самарканди, хранят полное молчание о связях, существовавших между Тамерланом и Китаем, явно надеясь, что память о них утратится. Подчеркивать зависимое положение Тимура никому не хотелось. Этой меры предосторожности, конечно, оказалось недостаточно и пришлось вести идеологическую кампанию в поддержку идеи чистокровно-монгольской принадлежности династии Мин (Шахрух даже выводил ее происхождение от потомков эмиров-Джагатаидов). В письме от 1412 года в Пекин помимо прочего Шахрух упоминает о «дружбе» его отца с Сыном Неба.
Более многословные китайские источники совсем по-другому подают информацию. Упомянутое письмо от 1412 года является ответом на записку китайскую, где, расставляя все точки над говорится, что Тимур «признал себя вассалом… и никогда не переставал слать подарки и послов». Что касается дипломатических миссий, направлявшихся Тамерланом, то в китайских летописях сохранились записи под 1388, 1392 и 1394 годами, и все позволяет предполагать, что имелись и другие. Они указывают на то, что Великий эмир отчитывался о своих поступках и завоеваниях точно так же, как Джагатаиды, Джучиды и Ильханы, чем признавал, что совершал их от имени государя династии Мин. Что до миссии 1394 года, то документы уточняют, что Тимур отослал в качестве дани двести лошадей и в очередной раз подтвердил уважение к императору. Сам по себе дар скромен, но символичен. И этого довольно.
Позволительно спросить, по каким соображениям Тимур так долго поддерживал с Пекином эти отношения вассальной зависимости, в конечном итоге довольно тесные. Бояться, что Китай объявит ему войну или в чем-либо ущемит его права, ему не приходилось. Был ли он так осторожен, что не хотел подвергать себя ни малейшему риску в этом отношении? Вероятнее всего, он подчинялся некоторым экономическим потребностям. Известно, что он очень интересовался вопросами международной торговли, и обмен товарами с Китаем являлся для него фактором наиважнейшим. Надо было любой ценой добиваться того, чтобы у Китая не имелось никаких поводов для его прекращения или торможения. [123]
Самолюбие, страдавшее при отправке очередного посольства, почти мистическая тяга к Китаю, требование возвращения всего наследства Чингисидов — таковы причины, по которым Тимур задумал очередную кампанию. Но, как всегда, он придал ей совершенно иную мотивацию, уверяя, что подошел к такому возрасту, в каком уже думают лишь о прощении за совершенные ошибки, и что «священная война» с «неверными» является, как сказал пророк, самым лучшим средством для его обретения. Пожалуй, это был единственный случай, когда он не искал «неверных» там, где их нет.
Однажды Тимур сказал: «Чтобы вести войну с Китаем, надо обладать огромной мощью». Чтобы ее заиметь, он не пренебрегал ничем. Он создал самую многочисленную армию, когда-либо у него имевшуюся: 100–200 тысяч всадников, несметная пехота, не поддающиеся исчислению транспортные средства… По его приказу были составлены описи дорог, климата, ресурсов стран, по которым предстояло идти. Он заранее направил землепашцев, охраняемых воинами, для выращивания пшеницы вдоль дорог, коими он рассчитывал продвигаться вперед, во всяком случае там, где хлебопашество было возможным. В нескольких крупных населенных пунктах: в Отраре, Алмалыке и Турфане были созданы запасы провианта. На 500 повозок были погружены войлочные палатки, тысячи дойных верблюдиц должны были следовать за войском, давая ему мясо и молоко. Великий эмир предусмотрел специальную экипировку, позволявшую ратникам благополучно пересекать огромные пустынные и заснеженные пространства. Он не предоставил случайности ни малейшего шанса, не желая вновь испытывать страдания, коим подвергся, преследуя Тохтамыша. Еще никогда он так хорошо не был подготовлен, и еще никто вплоть до новых времен так тщательно этим не занимался, как он. Тимур должен был добиться успеха. И он преуспел бы.
Он выступил в поход 27 декабря 1404 года, то есть в самый разгар зимы, как любил делать. Он переправился через Сырдарью по льду. От холода немало животных околело. Тимур это предвидел и запасся ими в достаточном количестве, дабы не иметь лишних забот. Великий эмир намеревался пройти Центральную Азию за три месяца, чтобы нанести по Китаю внезапный удар. Однако слухи о приготовлениях в Трансоксиане до Пекина дошли, и им были приняты меры для ответного удара. Но ожидали ли китайцы, что боевые действия начнутся в столь неблагоприятное время года?
Тамерлан двигался так, как если бы совершал паломничество, одно из тех чудовищных паломничеств, когда кровь должна течь рекой. Он сказал: «Я поведу с собой тех людей, которые стали орудием моих прегрешений, чтобы они стали орудием моего покаяния». Он сделал остановку в Отраре, покинуть который ему суждено не было. Тимур заболел. Потом рассказывали, что соединились все самые мрачные признаки, чтобы возвестить о его близкой кончине. В первую же ночь по прибытии во дворце Берди-Бег случился пожар. Это было грозным предзнаменованием. Однако Тамерлан несчастья избежал и увидел в этом божественное покровительство. Звездочеты заявили, что расположение планет неблагоприятно. Это вызвало некоторое беспокойство. Но Тимура астрологи интересовали только тогда, когда они предсказывали удачу.
Он страдал, но болезнь переносил стойко. От Тохтамыша прибыл посланец с мольбой о прощении и помощи. Тимур дал первое и посулил второе. Он порасспросил своих скороходов. Снег в горах выпал более обильный, чем предполагалось: его толщина достигла высоты двух копий. Дороги нуждались в расчистке. Великий эмир готовился к пиру, который был приурочен к прощанию с принцессами и юными принцами его дома, сопровождавшими его до Отрара и которым надлежало возвратиться в Самарканд.
Пир состоялся 12 января 1405 года. Тимур его не выдержал. От сильнейшей лихорадки он слег. Он часто бредил, а в моменты просветления рассудка молился или выслушивал отчет о родне и войске. Так и не удалось точно установить, было ли у него воспаление легких, которое он лечил огромным количеством спиртного, или, как говорят иные историографы, он просто перепил.
Он боролся со смертью так энергично, как это делал в продолжение всей жизни, горя желанием победить единственного врага, который однажды должен был взять над ним верх. Он сражался хорошо и долго, целую неделю, одновременно усердно и недостаточно. В конце концов Тимур капитулировал. 19 января, утром, он согласился умереть. Своим наследником он назначил Пир-Мухаммеда, сына своего сына Джахангира, и повелел командирам принести ему присягу верности. Он был не прочь еще раз свидеться с Шахрухом, но ему было известно, что тот находился в Ташкенте. Он созвал жен, родственников и сановников. «Не кричите, — сказал он им. — Не стоните! Помолитесь за меня Аллаху!» Он действительно верил в Бога; верил всегда. В тот миг, когда сомкнулись его веки, и глаза, перестав воспринимать этот столь от него пострадавший мир, открылись навстречу миру божественному, облегчило ли это обстоятельство тяжкое бремя крови, отягощавшее его душу, или, напротив, сделало его еще более тяжелым?
По утверждению Ибн Арабшаха, он обратился к своим внукам с такою речью: «Дети мои, я оставляю вас еще очень юными… Не забывайте тех правил, что я сообщил вам для упокоения народов. Интересуйтесь состоянием каждого. Поддерживайте слабых, укрощайте алчность и гордыню вельмож. Пусть чувство справедливости и добродетель постоянно руководят вашими действиями… Всегда помните последние слова умирающего отца».
Ни одному слову из этой прекрасной речи нельзя было бы поверить, если бы не передал их столь ненавидевший Тимура Ибн Арабшах. Снизошла ли на Великого эмира благодать в последние дни его жизни, а может, следует взглянуть на него в новом свете не для того, разумеется, чтобы увидеть в нем истинного героя, но затем, чтобы снять с него маску, приросшую к нему за полтысячи лет, и возвратить его облик к человеческому?
Во всем лагере читали молитвы. Внезапно Тимур издал ужасный хрип и произнес священную мусульманскую сентенцию: «Нет Бога, кроме Аллаха». С этими словами он испустил дух. Было около восьми часов утра.
Его забальзамировали, положили в гроб из черного дерева, обитый серебряной парчой, и отвезли в Самарканд. Он был помещен в саркофаг, вырезанный из цельного куска зеленого нефрита, и оставлен в великолепном памятнике, именуемом Эмировым мавзолеем, Гур-Эмиром, в ту пору еще не завершенном, где к нему присоединятся его сыновья, Мираншах и Шахрух, его внук Улугбек, а также горячо любимый Мухаммед-Султан, уже почивавший в примыкавшей к мавзолею пристройке. Странно, но Тимур не занимает почетного места; оно досталось его духовному учителю Саиду Бараке, старцу, умершему на Кавказе, куда он прибыл к нему, чтобы попытаться утешить. Тамерлан попросил, чтобы его положили у ног этого человека, дабы тот заступился за него на Страшном суде.
Любивший живопись Тимур заказывал свои портреты у официальных придворных художников, весьма вероятно, требуя, чтобы те его изображали таким, каким он являлся в действительности. К несчастью, эти работы исчезли, а портреты Великого эмира, имеющиеся в нашем распоряжении, написаны после его смерти. Все они отвергаются, возможно, неправомерно. Самые старые персидские миниатюры сделаны в XV веке по велению его наследников работавшими для них живописцами, коих окружали люди, еще хорошо его помнившие, во многих случаях знавшие и имевшие возможность сравнивать с портретами Тимура, украшавшими его дворцы. То, что им отказывают в документальности, всего лишь логическая ошибка.
Утверждают, будто бы в исламском искусстве запрещено изображать людей в их реальном виде; изображение должно быть искаженным, а также безымянным, что делает его типологичным. Это верно, но сей закон обременен многими исключениями, и мы располагаем многочисленными изображениями мусульманских владык, вполне узнаваемыми: XV столетие предоставило в наше распоряжение по меньшей мере один пример, а именно портрет Османа Мехмеда II, захватившего Константинополь и приказавшего нарисовать себя таким, каким являлся, не льстя и не идеализируя, сразу двум живописцам, турку Синан Бею и итальянцу Беллини. В другой области, пластическом искусстве, мы имеем свидетельство Клавихо, описавшего скульптурные изображения орлов и соколов из серебра, которые он видел в стане Тимура; он подчеркивает, что «форма и повадки этих хищников были точно переданы, что они совершенно походили на свои живые модели». Где же в таком случае в этих произведениях, принадлежавших Тимуридам, дорогая исламу стилизация?
Тимуридские миниатюры и те, более многочисленные, что были исполнены в Индии, могут, однако, дать нам лишь приблизительное представление о Тамерлане, поскольку не были созданы на основе непосредственного наблюдения модели. Еще менее достоверны рисунки и живопись, коими мы обязаны немцам, англичанам, итальянцам и французам. Они представляют Великого эмира в западных облачениях, придающих ему сходство с каким-нибудь лордом времен Войны Алой и Белой розы, или с флорентийским дворянином, или тевтонским рыцарем… Однако, несмотря на эти фантастические наряды, многие черты лица повторяются, если не воспроизводятся постоянно, и перекликаются с теми, что можно видеть на тимуридских миниатюрах.
Почти всегда его голова покрыта остроконечным колпаком с широкими войлочными или меховыми полями, а не исламским тюрбаном, что соответствует действительности. Лицо продолговатое, с немного выступающими скулами. Брови густые. Жесткие усы свисают по обе стороны рта, на подбородке видна небольшая бородка или порой — окаймляющий щеки простой воротник. Чаще всего выражение лица суровое, аскетическое, печальное, с заостренными чертами; морщины более или менее глубокие. На одном из рисунков, хранящихся в Кабинете эстампов Национальной библиотеки в Париже правитель (погрудный портрет) окружен солнцем и луной, привычными со времен Сельджукидов тюркскими символами, что указывает на то, что художник был знаком с реалиями. Таким образом, налицо попытка подчеркнуть по меньшей мере то, что может характеризовать обличье Тимура, что, впрочем, не мешало использовать и традиционный символизм. В тимуридской живописи Тамерлан, как и положено, величественно восседающий, уже не держит в деснице кубка или вековечной флейты, но в шуйце у него то ли карманный платок, то ли салфетка, более поздние эмблемы царского достоинства.
Словесные описания дают сведений ненамного больше. Наиболее точным, несомненно, является то, что вышло из-под пера Ибн Арабшаха: «Он был велик и крепок. У него была крупная голова, высокий лоб, кожа его была белой и тонкой… его плечи были широки, ноги длинны, руки сильны. Он был увечен на правые ногу и руку. Он носил длинную бороду. Блеск его взгляда был трудно переносим, его голос был высок и силен». Другие источники неточны или противоречивы. В одних можно прочитать, что он был «узок телом и незначителен ростом»; в других — что он имел «геркулесово телосложение». Одни говорят о его повелительном и прямом взоре; другие — что глаза его беспокойно бегали. Клавихо довольствуется сообщением о том, что от старости у него не поднимались веки.
Мы бы знали о Тимуре только это, если бы в июне 1941 года советские исследователи не предприняли раскопки в Гур-Эмире, мавзолее Тамерлана. Когда они нашли и открыли эбеновый гроб (он располагался не совсем под саркофагом), оттуда до них донесся такой сильный запах ароматических растений, что им пришлось на какое-то время выйти, чтобы подышать свежим воздухом.
Тело находилось в довольно хорошем состоянии; кое-где на костях имелись куски мумифицированной плоти; сохранилась коротко постриженная с проседью борода. Скелет принадлежал человеку рыжему, увечному, ростом до 1,7 метра (размер довольно редкий для той эпохи и той страны). Он был отмечен видимыми следами ранений и деформаций. Кости правой ноги были тоньше и короче костей левой. Кости коленной чашечки были спаяны крупной мозолью, отчего конечность парализована не была, но она затрудняла ходьбу и заставляла хромать, а также способствовала образованию многочисленных абсцессов. Другая костная мозоль, обнаруженная на правом локтевом суставе, указывала на то, что рука нормально сгибаться не могла. Третье ранение изуродовало и обездвижило указательный палец.
Споры велись о причинах этих патологических явлений: то ли это недолеченные абсцессы, то ли изменения туберкулезного свойства. Сошлись на том, что их источником является защитная реакция очень сильного организма. Изменения костей, несомненно, стали следствием ранений, нанесенных стрелами в 1363 году в Систане — в ту пору Великому эмиру было двадцать семь лет — они развивались в продолжение всей его жизни и, заметим, могли значительно сократить ее. Хромым он стал рано, но впервые опасно заболел через тридцать лет, потом ему пришлось перенести многие другие хвори, заставлявшие его по сорок дней не выходить из шатра. Когда ему было шестьдесят два года (во время Индийского похода), он жестоко страдал от опухоли правой руки. С того времени он часто передвигался, сидя на носилках, хотя оставался отличным наездником.
Один из членов советской археологической экспедиции, Михаил Герасимов, антрополог и скульптор, заслугой которого является разработка метода реконструкции лица, основанного на тщательном изучении черепа, по истечении двух лет представил Академии наук СССР «подлинный портрет» Тамерлана, каковым он был в день смерти. Что это — работа гения, творение, где вымысел примешивается к действительности, грубая ложь? Вынести окончательное решение мы не дерзнем; по крайней мере, можно предположить, что все-таки Герасимов в большей или меньшей степени руководствовался своими представлениями о завоевателе, которые сложились у него на основе виденных им портретов.
Если мы имеем дело с чем-то иным, следует признать, что его скульптура не слишком выделяется из ряда образов, созданных живописцами и литераторами, и что она соответствует некоторой спонтанно возникшей идее, уже имеющейся об этом человеке. Выражение лица его — жестоко, дико, бесчеловечно. Очень выразительные глаза невелики, достаточно узки; веки тяжелы, брови густы и дугообразны. Тип лица не монголоидный, хотя скулы и выдаются. Нос прямой, небольшой, слегка приплюснут; губы толстоваты, презрительны. Их обрамляют усы, довольно длинные, доходящие до квадратного волевого подбородка, который покрывает борода клином. О лбе сказать что-либо нельзя: он почти полностью спрятан под остроконечным шеломом, украшенным рельефным изображением цветка лилии.
Имя Тимур («железо») легко сошло бы за псевдоним, если не знать, что ему его дали при рождении, имея в виду совсем другое значение, нежели то, что в него ныне вкладывают, и перевод «Тимур-бега» как «железный государь» — всего лишь игра словами. Но перед этим соблазном устоять трудно, так как, задумавшись о свойствах этого человека, сразу же вспоминаешь о его физической силе. Терзаемое болями покалеченное тело Великого эмира обладало необыкновенной выносливостью, способно было терпеть холод, жару, усталость, жажду, голод, попойки, бессонные ночи. Одушевлялось же оно небывалой силой воли.
Тимур болел редко. Когда это с ним происходило и он едва ли не умирал, и никто не знал причины болезни, он никогда не терял присутствия духа. Если он не мог идти, то приказывал нести себя на носилках, лишь бы не останавливаться. Когда, старый и увечный, он не мог самостоятельно сесть на лошадь, в седло его сажали оруженосцы. В Бхатнире, в Индии, раненный стрелой во время рекогносцировки передовых позиций врага, он продолжил осмотр, как если бы ничего не случилось. Однажды во время сражения, когда он был слишком плох, чтобы возглавить войска, два телохранителя держали его на руках перед самым шатром, а он посылал одного за другим своих скороходов с боевыми приказами. Очень скоро рядом не осталось никого, кроме этих стражников, тогда он приказал им положить его на землю. В течение всего боя он пребывал в этом положении, дрожа от лихорадки и ратного возбуждения («подобно старой веревке или куску мяса на столе для его разделки», как сказал Ибн Арабшах), имея при себе одного лишь чтеца Корана, который только и делал, что плакал.
Возникает впечатление, что чем больше он старел, тем более вырастала его выносливость; возможно, потому, что, компенсируя немощь тела, натренированный за долгую жизнь внутренний дух активно старался утвердить свое могущество; возможно, потому, что подобная выносливость более удивительна у старика, чем у юноши, и историографы о ней говорят больше. Так, в 1404 году смертельно больной Тимур, когда жить ему оставалось всего несколько недель, если не дней, продолжал, ко всеобщему удивлению, подготовку нападения на Китай, как если бы рассчитывал жить вечно.
Он был храбр, а его отвага — абсолютна; слишком банально было бы утверждать, что причиной этому являлись фатализм или уверенность в неуязвимости. Он был таков от рождения, но также, будучи истинным полководцем, знал, что надлежало подавать пример, рисковать собою и не требовать от подчиненных того, чего не мог бы сделать сам. Нет, без пользы для дела он себя не подставлял, как не искал удовлетворения мелкому тщеславию; ведома ему была и важность военачальника, а также то, что его гибель или пленение привели бы ко всеобщему бегству и хаосу. Если он брался за меч, то лишь по необходимости или если его к тому принуждали. В 1375 или 1376 году в Тянь-Шане он попал в засаду, из которой вырвался, «орудуя копьем, палицей, саблей и арканом». Во время Ширазской кампании 1393 года он вступил в единоборство с шахом Мансуром и пропустил два удара, на его счастье, пришедшихся по шлему. В 1395 году во время сшибки с Тохтамышем на Тереке он сражался, как простой воин, «саблей, так как стрелы кончились, а копье сломалось». Тогда ему было шестьдесят лет! Изучение его скелета позволило установить, что своею правой рукой он пользовался постоянно, невзирая на блокировавшую локтевой сустав мозоль и деформацию указательного пальца. Утверждают, что был отличным стрелком.
Этот несгибаемый человек не позволял слабостей себе и никому другому. Его требования кажутся бесчеловечными, тогда как он выказывал прекрасное знание человеческой души. Он много требовал, потому что прекрасно понимал: людям приятно, когда от них ждут больше того, на что они способны. Превзойти других, превзойти самого себя — вот требование, которое он предъявлял и самому себе, и другим. Он был достаточно умен, и даже весьма — как по мнению преданных ему людей, так и врагов, равно как по представлению современной историографии, — чтобы не ставить перед собой недостижимых целей. Этот человек, у которого, казалось, отсутствовало чувство меры и в котором иные видели ясновидца или полубезумного, в действительности обладал холодной головой и умел оценить любой степени риск и взвесить все шансы, оставляя случайности самое незначительное место. Когда он бросал вызов невозможному, он уже знал, что это невозможное возможно. Конечно, он не всегда играл наверняка, но неизменно действовал с уверенностью подлинного игрока в шахматы. Ему хотелось помериться силами с Баязидом, но, сознавая дерзость этого шага и воинские качества противника, он колебался. Ненавидя Мамлюка, он хотел бы его уничтожить, но от этого плана отказался, удовлетворившись унижением оного и понимая, что оккупировать Египет невозможно. Его неустрашимость бывала безумной, но лишь при условии, что она могла окупиться; это имело место не только во время ужасной погони за Тохтамышем, но и тогда, когда велась подготовка к захвату Китая, а также в юные годы, когда, переодевшись в чужое платье, он проник в Самарканд, равно как во время набега на Кеш с отрядом кавалерии, который только казался многочисленным.
Надобно также признать, что солдаты его понимали, ему повиновались и следовали за ним в предприятиях явно безумных. Ему противоречили редко. Когда кто-либо выказывал недовольство, им овладевала ярость тем более страшная, что случалось весьма нечасто. Как все действительно сильные личности, Тимур умел владеть собой и держать чувства в узде. Когда его эмиры стали оспаривать его намерение двинуться на Индию, на какое-то мгновение он потерял власть над собой и замахнулся на них саблей. В Кафиристане по той же причине он лишил своей благосклонности одного из близких людей и, отправив провести остаток жизни на кухне, более о нем не справлялся. Он никогда не возвращался к однажды сказанному, разве что в случае крайней необходимости, поскольку, согласимся с ним и мы, нет ничего хуже переменчивости.
У Тимура спокойствие так быстро сменялось гневом, что можно было бы — впрочем, необоснованно — подумать, что он сердился только для видимости. Корнель вложил в уста Августа то, что Великий эмир держал в уме: нельзя быть властелином мира, не будучи хозяином самого себя.
За ним закрепилась репутация трезвенника, так как в обычное время пить вино он запрещал. Однако традиция требовала проведения вакхических церемоний, он и сам их организовывал; в этих случаях Тимур пил, себя не ограничивая, но, если остальные отчаянно напивались, он не терял над собой контроля никогда. Когда же, последовав их примеру, он вливал в себя огромные количества спиртного, алкоголиком от этого не становился, исправно владея собой.
Хладнокровие Тамерлана было абсолютным, и ничто не могло выбить его из колеи. В Сирии его шатер был установлен напротив вражеской крепости; однажды, подчинясь необъяснимому порыву, он вышел наружу и в это самое время катапульта противника выпустила огромный камень, угодивший точно в его палатку. Тимур не повел даже бровью, увидев в этом божье покровительство. Бывая слишком напряженным, утомленным, готовым поддаться плохому настроению, он доставал свою шахматную доску. Безграничная любовь к игре, которой он увлекся еще в детстве и отличным мастером которой слыл, его успокаивала, отвлекала от забот, снимала нервное напряжение. Известно, что, когда в Анатолии по завершении самой великой баталии той эпохи ему привели пленного Баязида, он после страшного приступа гнева принялся за шахматы.
Тамерлан явно не выносил чьего-либо сопротивления. Он желал быть единовластным хозяином своего царства и, по возможности, за его пределами. Он высоко ставил свой полководческий дар и делал все, чтобы остальные его уважали соответственно. Войско роптать права не имело. Даже высшее чиновничество могло лишь исполнять его веления, являясь всего-навсего орудием власти. Тимур никогда не забывал спросить совета, но не обязательно его учитывал. Он был очень внимателен к доставлявшейся информации и всегда хотел быть осведомленным максимально точно. Он пожелал, чтобы его избрали согласно традиции, тогда как легко мог власть узурпировать. Уважая Чингисхановы правила, он созывал своих аристократов на курултай. Но для чего это ему было нужно? Выслушать свидетелей и возобновить вассальные договоры? Приобщить народ к своим решениям? Была ли это для него чисто формальная уступка монгольским обычаям? Не являлось ли сие игрой в коллегиальное правление? Сказать что-либо определенное по этому поводу трудно, поскольку ни первое, ни второе, ни третье и т. д. невозможным быть не могло. Я полагаю, что Тамерлан не так уж пренебрежительно относился к чужим точкам зрения, за исключением тех случаев, когда они шли вразрез с его собственным мнением, для него бесспорным.
Однажды он пожаловался Байлакану, что улемы и шейхи, вместо того чтобы давать необходимые ему и министрам советы, кормят его лестью. Подобно всем государям его расы, Тимур окружил себя ведунами, звездочетами (ибо астрология, мало известная стародавним тюрко-монголам, вошла в моду), которые при нем заняли место, ранее принадлежавшее шаманам и иным гадателям по бараньей лопатке. Он охотно их слушал и, пожалуй, обойтись без них не мог (что знаменательно), однако при условии, что предсказания ему нравились. Перед Делийским сражением Тамерлан по привычке созвал их и пожелал узнать приговор светил. Тот оказался неблагоприятным, о чем ему было сообщено. Пожав плечами, он проговорил: «Экая важность — совпадение планет! От звезд не зависят ни радость, ни горе, ни счастье, ни несчастье! Я ни за что не стану откладывать исполнение того, для осуществления чего я принял все необходимые меры».
Тимур, вне всякого сомнения, был совершенно уверен в правоте своих суждений и, как за него говорят историки, «в принятых им необходимых мерах». Еще более твердо он верил в то, что являлся орудием Судьбы или, если говорить точнее, исполнителем некоей миссии. В этом мнении его укрепляло все: достигнутые успехи; опасности, коих избежал; то, как мог навязать свою волю единственно благодаря своему присутствию или силою взгляда; а также легкость, с какою умел убеждать.
То, что государь поддерживает с Богом отношения особые, более тесные, чем те, которые существуют между главным шаманом и Небом, соответствует исконной тюрко-монгольской традиции, где государь рассматривается немного в китайском стиле, как Сын Неба, или, по древне-тюркскому выражению, как существо, «явившееся с Небес, подобное Небесам и явленное Небесами». В среде, еще столь пропитанной шаманизмом, какой являлись монгольские племена, Тамерлану, конечно, не удалось бы заставить признать себя, если бы он не утверждал и не доказывал, будто эти отношения реальны, что в конечном итоге не могло не нравиться и мусульманам, в чьих глазах государь есть подобие «божьей тени на земле».
Вероятно наличие в этом доли обмана или как минимум умения Великого эмира демонстрировать свою божественную одухотворенность. Если верить Ибн Арабшаху, Тимур усердно собирал информацию о топографии городов, к которым двигался, для того чтобы, войдя в них, мог по ним ходить так свободно, как будто бы они были ему давно знакомы. С таким же рвением он стремился получать сведения о личностях, с коими должен был встречаться; на аудиенциях он обращался к ним, как к давно знакомым, на деле же никогда не имев случая их видеть. Все это свидетельствует о его отменной памяти (каковую за ним признавали все) как на вещи важные, так и на малозначительные.
Он также был одарен способностями, коим трудно отказать в парапсихических свойствах. Своим острым взглядом, почти невыносимым, он пронзал собеседников, предугадывая их реакции и ответы, что превосходило проявление обычной психологичности. Точно так же Тимур проникал в чужие потаенные мысли, в секретные намерения врагов и с поразительной безошибочностью предвидел развитие событий. Являлось ли это достижениями только его ума и замечательной прозорливости? Сомневаться позволительно; однако на него, действительно, нисходило озарение, а его интуиция порой совершала чудеса. Он думал недолго и вырабатывал мнение без затяжных внутренних дебатов. Он доверял самому первому впечатлению, которого и придерживался. Мы уже говорили, что менять свои решения он не умел. Происходившее в нем самом, равно как и ускользавшее от его желания — все укрепляло Тимура в уверенности, что его вдохновлял Бог, — по его убеждению, Аллах, но который, скорее, являлся древним Всевышним Небом алтайских народов. Зачастую принимать то или иное решение заставлял Тамерлана не его ум, в коем ему никогда не отказывали, но что-то его превосходящее или, по меньшей мере, от него не зависящее, а именно то, что тюрки называли «божественным давлением». Сверх того, у Великого эмира бывали ночные видения, производившие на него впечатление достаточно сильное, чтобы принять то или иное решение, и позволявшие ему быть убедительным для своего окружения. Его враги говорили, что им руководит сатана, а друзья — что некий ангел, имея в виду все тех же духов, которых мусульмане и христиане считали вдохновителями монгольских ханов. Одно из первых проявлений его способности толковать сновидения относится к 1363 году, когда он начал войну с Ильяс-ханом; тогда небесный глас пообещал ему победу и возвестил, что, если он нанесет удар немедленно, невзирая на недостаточную готовность его армии и численное превосходство противника, день для него будет удачным. Подобные вещие сны всякий раз приводили его в глубокое смущение.
Тимурова вера, быть может в чем-то расплывчатая, была твердой, глубокой и непоколебимой. Он был уверен, что действует от имени Бога и согласно с его волей. Свою набожность он демонстрировал часто; к примеру, у всех на виду любил перебирать четки. По его приказу был создан не переносной
Тимур уважительно относился к шейхам, священнослужителям и потомкам пророка, не отказывая себе в возможности с ними беседовать. Еще в детстве он усердно поддерживал сношения с дервишами, а также нашел себе духовного учителя, которого слушался, почитал и любил. Тимур прекрасно знал мусульманский закон, хотя толковал он его довольно свободно, например, чередуя уважение запрета на распитие вина, — что требует шариат, — с организацией попоек, что, противореча оному, согласуется с шаманическими ритуалами. Таким образом, Великий эмир плутовал, если, конечно, не проявлял терпимость; скорее же нарушать кораническое законодательство он был вынужден, чтобы обеспечить мирное сосуществование язычников с мусульманами — так прочно сидели в нем традиции предков. Его религиозные убеждения совершенно однозначны, и Хафизи Абру, должно быть, точен, когда устами Тамерлана говорит: «Не ведающий себе равного Бог, являющийся хозяином непостоянной судьбы, вложил в мои руки узду, чтобы я мог управлять движением царств сего мира». Летописец, воспроизведший мысль, высказанную Тимуром в припадке самоуничижения, написал нечто еще более категоричное: «Сам по себе я ничто. Это Ты, Боже, превратил ничтожного принца в самого могущественного владыку в мире».
Уже много сказано о лицемерности этих и им подобных заявлений, поскольку они явно противоречат некоторым чертам характера завоевателя, направлению, которое он придал своим походам, а также его природной жестокости. Оставим в стороне последнее, так как об этом много будет сказано в следующей главе, и отметим лишь то, что это «противоречие» нисколько не умаляет меры чистосердечности религиозных убеждений Тимура, даже если жестокость весьма странна для человека, который знался с суфиями, этими мистиками от любви, и произносил молитву: «Во имя Господа Милосердного и Великодушного». Увы, вера не обязательно порождает добродетели, которые должны ей сопутствовать! Можно верить и принимать то или другое учение, при этом оставаясь великим грешником… Позднее Тимур осознает, что им были совершены «ошибки, прегрешения и преступления… безжалостные и необходимые сестры моих побед». Остается лишь уточнить, упрекал ли он себя за все «эти ужасные деяния» или только за те, чьими жертвами стали мусульмане, и был ли, на его взгляд, ислам религией «великодушного и милосердного» Бога или же Бога мстительного и жестокого.
Ему приписывают чрезмерную гордыню. Но таким ли уж он был гордецом, как говорят? Заявление Ибн Арабшаха, будто бы Тимур не переносил, если чья-то голова оказывалась выше его головы, несомненно, достоверно. Гордыня? Сознание того, кем он являлся? Политика? Надлежит постоянно помнить, что одним из ключей от азиатской истории является то, что тюркские народы уверены в необходимости абсолютной власти вождя и что века межплеменных конфликтов навсегда укрепили в них мысль, что мир не может воцариться до тех пор, пока существуют многовластие и борьба за власть.
Тамерлан проглотил многие обиды не моргнув глазом. В отрочестве ему довелось преклонять колено перед тем, кто был сильнее него, принимать полуопалу с улыбкой на устах и даже подчиняться тем людям, кои, как ему было ведомо, были много ничтожнее в сравнении с ним. Он должен был скрываться, отступать, ловчить и даже капитулировать, производя впечатление существа подлого, каковым не был никогда; ему доводилось и попрошайничать, клянчить и — очень редко — разыгрывать из себя куртизана. В продолжение всей жизни он носил в душе эту рану: обязанность признавать себя вассалом Китая, пусть даже это признание являлось чистой формальностью.
Тамерлан никогда не тщеславился той или иной победой, взятием какого-либо города, считая это божьим даром. Возможно, это приносило ему какую-то выгоду; очевидно же то, что пользу он ценил выше тщеславия.
Гордый Тимур довольствовался титулами довольно скромными: Великий эмир, хозяин счастливых совпадений звезд, султан. Эмиром, принцем он был с рождения и таковым остался; определение «великий», которое он себе присвоил, лишь подчеркивало то, что он являлся первым среди своих эмиров. Называя себя хозяином счастливых совпадений звезд, он давал понять астрологам, что был в их кругу главным. «Султан» кажется нам титулом более громким, ибо мы вкладываем в него понятие «государь»; однако он несет в себе смысл определенного достоинства, последнее не обладает качеством первостепенности, так как в ту эпоху султанами являлись правители провинций, назначаемые ханом, и даже женщины. Тимур не был шахом, то есть королем по европейской табели о рангах, тем более — падишахом, царем или императором. Он не стал ханом и удовлетворился возможностью самовластно назначать ханов, которые, хотя и обладали более почетным титулом, оставались ничем. Когда последний из них скончался, Тамерлан заменять его собою не стал, не видя пользы в пребывании в его тени. Что помешало ему сделаться их наследником? Уважение к памяти о Чингисхане? Неприятие правоверными ясы? Но тогда он был воистину всемогущ! И так благоволил к Джагатаидам!
Можно было бы предположить присутствие в нем чувства смиренности, но также самой изощренной формы честолюбия, чего-то, могущего выражаться фразою: «Я выше титулов», — аналогом знаменитого высказывания Тимура: «Я выше лести», — произнесенного в тот момент, когда его одолевали льстецы. Со всем этим на смертном одре, перед лицом смерти, когда не до плутовства, он вел себя весьма смиренно, показав себя добрым мусульманином. Он умирал среди хора молебствовавших, и последние слова прозвучали, как символ его веры. Он не построил себе загодя усыпальницы, и если нынче покоится в великолепном мавзолее, то назначение оного было необычным: он распорядился положить себя в ногах у своего духовного учителя, имевшего репутацию святого.
Тимур любил постановки, способные поразить впечатление толпы. Он все доводил до колоссальных размеров, превращая затеянные им действа в нечто грандиозное, яркое и зрелищное. Прекрасно экипированное войско, сверкающие на солнце панцири, развевающиеся на ветру знамена-туги; грандиозные военные парады; великолепные шествия мастеровых, дефилирующих по площадям со своими лучшими произведениями в руках; полевые станы, раскинувшиеся на безмерных пространствах; шатры в сто метров длиною и в два десятка метров шириною, покрытые бархатом или шелком и поддерживаемые тридцатишестиметровыми столбами, расписанными белой краской и золотом; пышные приемы, где столы ломились от яств и напитков и в продолжение которых играли лучшие музыканты; ночные празднества, освещавшиеся множеством разноцветных фонарей; меха, шелка, драгоценные украшения, золотая и серебряная посуда; металлические деньги и самоцветы, дождем сыпавшиеся на гостей — для Великого эмира ничто не было слишком красивым, чрезмерно дорогим; он мог позволить себе все, ибо богатства его были неисчерпаемы. Везде, где имелась вода, разбивались сады, и цветники занимали площади необозримые. Тимуровы богослужения своею пышностью равнялись тем, что устраивались римскими императорами, византийскими басилевсами и багдадскими халифами, а может быть, и превосходили их. При Тимуре строились все новые здания общественного и престижно-государственного назначения. Все соответствовало меркам не знавшего меры владыки.
Тамерлан любил праздники, даже если они являлись орудием осуществления политики. Как подлинный сын Востока, он любил роскошь, тем более что она укрепляла его авторитет. Завоевания и дань ее питали, но не являлись первопричиной, поскольку вкус к ней он имел всегда. Еще в 1373 году Тимур потряс своих подданных пышностью церемонии женитьбы Джахангира и Хан-заде. А в 1391 году, во время странного смотра войск, организованного в степи, когда он предстал в парадном облачении, в инкрустированном золотыми вставками шлеме и со скипетром, увенчанным головою быка, кого он намеревался удивить прежде всего? Самого себя или свое измотанное войско?
Именно тяга к зрелищам вдохновляла его во время массовых казней. Удовольствовался ли бы он вынесением приговора в зале суда и при закрытых дверях? Никогда! Именно во время праздника, организованного в Самарканде, он решил править суд и велел соорудить виселицу для своего главного визиря, а также пытать и обезглавить других. Сбросил ли он в братскую могилу, находившуюся в дальнем углу кладбища, тех, кого — зачастую по высочайшему велению — убили его солдаты, опьяненные боем? Разумеется, нет! Он приказал обезглавить их и из черепов соорудить «башни» и «минареты» возле городских ворот. И для того, чтобы впечатление было сильнее и незабвеннее, умерщвлялись не несколько бедолаг, а целые селения… Тимур своей цели добился, поскольку его «башни» остались в памяти народов навеки. Но прежде всего — его имя.
Тамерлан написал Мамлюку: «Господь исторг из моей души всякую жалость». Многочисленные ненавистники называют Тимура садистом и животным, не знавшим жалости палачом, монстром. Проведав о смерти Великого эмира, его мусульманские враги взвыли: «Да низвергнется он в ад! Да проклянет его Всевышний!» В то же время были те, кто видел в нем одного из избранных. Уже посмертно (по китайскому обычаю?) его назвали Дженнет-Макамом, то есть «жителем рая», и те, которые это сделали, вовсе не относились к числу безумцев.
Тимур был бесчувствен? Так ли? Забудем на время те случаи, когда он миловал (бывало и такое), или сожалел о содеянном, или извинялся за тот или иной поступок (случалось и это). Не будем пока что вызывать его в суд как убийцу — этим мы займемся в другом месте, — а обратимся к тем убийствам, по его слову совершавшимся неоднократно, коими он наслаждался, в коих принимал участие и о которых возвещал повсеместно. Они явно свидетельствуют о полном отсутствии у него человечности, и, однако, это не так. Тамерланово сердце каменным не было; Великий эмир имел способность и волноваться, и выражать чувство сострадания. Его нервам случалось и трепетать, и напрягаться. Все соглашаются в том, что Тимур не выносил рассказов об ужасах войны, что он не имел патологической наклонности к кровопролитию, не любил насилия, хотя жестокости по его слову чинились. Воинственного опьянения Тимур не знал: он убивал и приказывал убивать упорядоченно и методично, как во всех иных делах, хладнокровно и организованно, что, усугубляя вызываемое им чувство ужаса и противоречивости, принуждает нас замолчать.
Великий эмир был способен на любовь, любовь истинную, нежную и верную. Он проявлял к своей семье безграничную привязанность и для своих был готов на все. Он остался признательным до конца жизни своей сестре, Туркан-Ака, выручившей его из беды в дни юности, и для нее построил самый красивый и самый трогательный из всех существующих на Земле мавзолеев. Он сохранил всю свою сыновнюю любовь к отцу и в период между двух походов, когда был занят бесконечными делами, нашел время пойти поклониться его могиле. Воюя в Моголистане, Тимур увидел во сне, что его сын Джахангир находится при смерти, и он тут же остановил боевые действия и возвратился в Самарканд. Точно так же Великий эмир покинул Исфарайин, чтобы присутствовать на оплакивании и погребении своей дочери, Эке-бека, которую нежно любил. Рождение внука, будущего Улугбека, обрадовало его настолько, что он помиловал все население Мардина. Смерть девятнадцатилетнего внука, Мухаммеда-Султана, которого он прочил в свои преемники, вызвало в его душе глубочайший приступ отчаяния. Летописец сообщает, что Тамерлан упал наземь и стал «рвать на себе одежды, издавая странные вопли и стенания». Подумал ли он в тот момент об отцах, души которых убил, умерщвляя их сыновей? Завоеватель проявил невероятную снисходительность к племяннику, который его предал и сделал из него посмешище, когда ему было явно не до смеха, и предательство он считал одним из величайших преступлений; в тот раз он удовлетворился наказанием палками.[16]
Великий эмир был верным другом. Несмотря на выказанную Тохтамышем неблагодарность, он никогда не отказывался от дружбы с ним. Что бы ему ни стоило, он никогда не бросал тех, которые ему доверились, пусть даже тогда, когда у него самого в них нужды не было. Так, одной из причин войны с Баязидом была угроза, которую тот представлял для Тахиртена, владетеля Эрзинджана и Тимурова вассала.
Тамерлан остро переживал, особенно на закате жизни, смерть каждого, кого любил, почитал или кем восхищался по той или иной причине. Он заплакал, узнав о кончине Махмуд-шаха. Глубокое страдание вызывала у него гибель Саида Барака. Нельзя сказать, что смерть в неволе бывшего османского падишаха его сильно огорчила, но и здесь он выказал свое внутреннее благородство. Подобно тому, как позднее поступил афганский узурпатор Шер-шах, — за что его весьма превозносили, — Тамерлан разрешил османскому принцу Мусе сопроводить тело отца до самой Брусы, чтобы воздать последние почести усопшему, чем выказал подлинное рыцарство, проявления которого, более или менее романтические и многочисленные, как известно, за ним числятся. Однажды он послал некоему осажденному им принцу одну из первых доставленных ему дынь, говоря, что не может не поделиться с ним первым урожаем. Деликатность? Она, несомненно, была ему свойственна. Во время одного торжественного обеда, когда, согласно бытовавшему ритуалу, Тамерлан сам исполнял роль виночерпия, он наполнил кубок спутника дона Рюи-Гонзалеса де Клавихо, но обнес кастильца, зная, что тот вина не употреблял. Когда Ибн Хальдун в знак уважения презентовал ему нечто довольно скромное, он принял это как ценнейший дар и, дабы не ранить самолюбия великого мусульманского историка, купил его мула по цене престижного боевого коня. Подобные мелочи свидетельствуют в его пользу более, чем серьезные поступки, так как здесь не видно ни тайного умысла, ни корысти. Всякий раз, когда Тамерлан бывал щедрым — щедрым до безумия! — его упрекали в расчетливости. В самом деле, не расчетлив ли он был, к примеру, когда растрачивал свои богатства, в то время как его шурин Хусейн выжимал последнюю монету как из богатых, так и из бедных? Великий эмир тратил налево и направо не только в Самарканде, но и в Ливане, в Мардине… Бедность его удручала, и он запрещал просить милостыню. В его государстве все имели как минимум право на сытость. Но, скажут иные, это всего лишь политика, и они будут правы; однако политика щедрая, которую он реализовывал единственно потому, что находил нищету невыносимой, и, проникнув в глубины его души, мы увидим, что вода на ее дне чище той, что находится на поверхности.
Вполне возможно отрицать или называть коварством те неоспоримые качества Тимура, которые ставят нас в неловкое положение, не вполне соответствуя его маске кровавого завоевателя. До странности ослепленный своей антипатией к Тимуру, Груссе обвиняет его в «стратегическом макиавеллизме», «злонамеренном лицемерии, отождествленном с государственными интересами», и, толкуя о его довольно двусмысленной роли в отношениях илийских Джагатаидов с партией трансоксианских дворян, откровенно намекает на «прекрасную комедию восточного лицемерия». Естественно, такого мнения я не разделяю, с сожалением критикуя ученого, которому многим обязан и которого всегда любил.
Нет, я не верю в коварство того, кто сделал своим девизом слова Расти Рости, нечто вроде: «Прямота и сила». В жизни Тамерлана имеет место многое, доказывающее его ненависть и презрение к вероломству! Применение военных хитростей — политика справедливая. То, что он не всегда объявлял о своих намерениях и ловил свои жертвы в нарочно расставленные сети, — это все в рамках правил войны. Готовясь напасть на Баязида, Тимур разбил лагерь на Араксе, построил казармы для войск и распустил слух о том, что весной начнет поход на Тохтамыша. Достоин ли упреков подобный образ действий? Его пропаганду обвиняют в лживости, но лжива всякая пропаганда. Заботливо распространявшиеся им сведения явно не соответствовали действительности; однако работавшие на него агенты сообщали городам и миру некую программу, которая в основном всегда выполнялась. О каком политике можно сказать то же самое? Разумеется, Великий эмир совершил не один и не два коварных поступка, ибо на протяжении всего своего долгого жизненного пути он и не мог всегда идти прямо. По руслу реки бытия встречаются теснины, где поток становится бурным, а потревоженные берега делаются совершенно не похожими на те, которые имеются на входе в дефиле или на выходе из них. Так, Великий эмир довольно гнусным способом поощрял доносительство в тот период, когда не мог позволить себе, чтобы его приказы не исполнялись, приказы ужасные и противоречившие личным интересам воинов в такой мере, что у них мог появиться соблазн их проигнорировать в силу скупости или элементарного человеколюбия; так, стоя перед Дели, Тимур издал указ, согласно которому всякий, не убивший своих пленников, был бы наказан смертной казнью, а «его жена и дети перешли бы к осведомителю».
Подобно всем ратоводцам степных народов, выше всего Тамерлан ценил преданность вассалов их сюзеренам, даже в стане врага. В «Установлениях», этом, скорее всего, апокрифическом Тимуровом завещании, являющемся верным отражением его мысли, если не по форме, то по сути, мы читаем заявление, которое мог бы сделать Чингисхан: «Преданный своему господину вражеский воин имел право на мою дружбу… Тот, кто во время сражения бросал своего предводителя и переходил ко мне, являлся для меня человеком более всех достойным ненависти». Рассказывая о том, как Тохтамышевы эмиры предложили свои услуги ему, он заявил: «Я был возмущен. Я сказал себе, что они предадут меня так же, как предали своего господина».
Оказывалась ли его спина более гибкой, когда он искал способ завоевания власти? Вероятно, да. Но мог ли Тимур поступить иначе? Молодость — это не то время, когда имеется возможность свободного проявления личности, тем более — самоутверждения. Кто может похвастаться тем, что в таком возрасте никогда не улыбнулся своему начальнику или презираемому хозяину? Кто не искал благорасположения высокопоставленного лица или хотя бы раз не удушил в себе желания хлопнуть дверью? Внимательно изучив биографию Тимура, что мы обнаружили? «Лжеприязнь» по отношению к своему шурину Хусейну. Но почему ложную? Разве не нормально полюбить родственника, человека привлекательного, богатого, устроенного и сверх того имеющего те же интересы, что и ты сам? И надо ли удивляться тому, что, разобравшись в Хусейне и решив избрать иной путь, а также поняв, что уже ничего его не связывает с мужем сестры, Тимур свое первое к нему чувство поменял на безразличие, а может, и враждебность? Есть ли повод обвинять его в неблагодарности по отношению к малику Герата? Вспомним, что Великий эмир напал на его царство лишь через десять лет после его смерти… Право, я не нахожу здесь ничего, что оправдывало бы суровые филиппики Груссе. Да, Тамерланова империя «с самого начала оказалась на зыбком фундаменте, не обладая Чингисхановыми прочностью, уравновешенностью и богатством», но неясной была конструкция, а не человек, который казался плутом именно потому, что, не имея возможности принимать однозначные решения, в поисках выхода из создавшегося положения должен был играть на струнах сразу двух цивилизаций, двух наследств.
У этого выходца из родоплеменного общества, где ответственность более коллективная, нежели личная, понятие справедливости было иное по сравнению с нашим, но точно так же признаваемое каждым индивидуумом. Нет ничего, что было бы выше закона, нет никого, кто был бы гарантирован от наказания, за исключением служителей культа, часто воспринимаемых людьми другого сорта и даже, согласно традиционным представлениям о их сути, фигурами священными, способными быть как полезными, так и опасными, правда, при условии, что они не являются развратниками, ибо преступление делает их объектами общего права. Со всем этим наказания дифференцировались соответственно классовой принадлежности. Купцы и горожане, как правило, не владевшие оружием, могли избежать высшей меры наказания, отдав свое имущество. Знать и воинство, когда не объявлялось помилование, получали смертный приговор. Лишение звания и телесные наказания случались редко: Тимур знал, что наказания озлобляют, и чтобы избежать мести со стороны семей, уготавливал им ту же судьбу, что и виновному.
Суд быстрый, безжалостный, и избежать его было практически невозможно! По возвращении из походов Тамерлан всякий раз становился следователем: он требовал отчетов, проверял гири и меры, а также цены на товары, старательно выискивая просчеты. Он наказывал виновных независимо от занимавшихся ими постов. Никаких поблажек и льгот: богатство и ранг не имели никакого значения. Серьезно провинившемуся человеку рассчитывать на защиту было бесполезно. Точно так же, как на извинения или вмешательство друзей, родственников и чиновников. Эту жестокость можно порицать, но не восхищаться ее пунктуальностью нельзя. Таково было одно из Тамерлановых средств защиты малых от великих. Когда Мираншах осуществил в своих владениях чудовищные репрессии, гнев его отца был столь велик, что он решил повесить сына, и лишь тщательное расследование, установившее безумие сына, спасло ему жизнь. Великий эмир с удивившей всех оперативностью прибыл в удел Мираншаха и постарался сделать все возможное, чтобы исправить зло, совершенное сумасшедшим правителем.
Тимура называли безграмотным. Хотелось бы знать, что под этим подразумевалось? Если в малолетстве он учился у дервишей Кеша, то было бы удивительно, если бы он не умел читать и писать; имеются основания полагать, что его биографы хотели только указать на то, что он не владел арабским языком. Прямолинейный Ибн Арабшах так и говорит: «Что до прочего, то он был дурак-дураком, потому что не умел ни читать, ни писать по-арабски, ни понимать этот язык», — но добавляет: «Он знал лучше остальных языки персидский, турецкий и монгольский». Думается, можно предположить, что он писал и по-уйгурски.
Не похоже, чтобы он очень любил поэзию, хотя поэтов цитировал; однако из его беседы с Хафизом, весьма вероятно, выдуманной, можно понять, что интерес к светочам литературы им проявлялся. Зато он обладал глубокими знаниями истории, что продемонстрировал «золотому мастеру» на этом поприще, великому историографу Ибн Хальдуну, чем совершенно его покорил. Как настоящий историк, он был внимателен к делам давно минувших дней; так, известно, что он совершил продолжительный визит в Пергам и что в Баальбеке, в одном из тех городов, где, согласно мусульманским легендам, Соломон предавался греховной любви, он попросил рассказать ему об этом достославном месте.
Его религиозная культура производит впечатление значительной. Возможно, он приобрел ее в детстве, вращаясь в кругу людей, исповедовавших суфизм или что-то в этом роде, которые всегда окружали племя барласов. Подобно всем тюрко-монголам, Великий эмир любил диспуты богословов и если, в отличие от большинства оных, не организовывал таковых между поборниками различных конфессий, то с любопытством присутствовал на спорах шиитов с суннитами. В Анатолии он скрашивал свои вечера тем, что созывал ученых мужей и просил их поспорить в его присутствии «о самых красивых вопросах науки и веры». В Мардине Тимур одарил христианскую общину, в Ливане посетил монахов-христиан, отстоял службу и этими встречами был явно доволен.
Тимур любил музыку — в частности, как кажется, игру на кифаре, — и все его праздники сопровождались концертами. Любопытно, что вкус его был эклектичен: он с равным вниманием слушал арабских, турецких, монгольских, персидских и китайских артистов. Воюя в разных странах, Тамерлан неизменно проявлял интерес к произведениям искусства, доставшимся ему в добычу; он их выставлял в дворцах или в парадных шатрах, при их подборе руководствуясь лишь удовольствием, которое ему доставляла их красота. Остается вопросом, не в Тариме ли он собрал первую коллекцию произведений его любимой манихейской живописи, а может, они были для него там куплены и после доставлены? Клавихо видел в его шатре золотой, инкрустированный эмалью и самоцветами поставец, в котором стояли шесть стеклянных сосудов и полдюжины чаш, декорированных жемчужинами; золотой стол, украшенный огромным изумрудом; дерево — багдадская добыча, — целиком изготовленное из золота, ствол которого имел толщину бедра; на нем вместо фруктов висели рубины, изумруды, украшения из бирюзы, сапфиры и жемчужины, а на ветвях сидели — тоже золотые — птицы; изъятую из османской сокровищницы большую, византийского письма икону, на которой были изображены святые Петр и Павел с Евангелиями в руках.
Тамерлан заказывал портреты собственные, «то серьезные, то улыбающиеся», а также — членов семьи; кроме того — фрески, долженствовавшие описывать его битвы, аудиенции, празднества, неизменно требуя при этом сугубой правдоподобности, о которой мы уже говорили. Его интерес к архитектуре отрицать невозможно; это доказывают многочисленные памятники, построенные по его велению, а также неустанное внимание, с каким он следил за работами, руководил ими и вносил необходимые поправки.
Уже набило оскомину слышать, будто бы Тимур высылал в Самарканд творческую интеллигенцию из оккупированных стран, — так-де хотелось ему превратить свою столицу в самый красивый город на Земле, а свой двор — в самый блистательный в мире центр культуры. Это сильное преувеличение. Он слишком уважал художественную элиту, чтобы подвергать ее такому грубому принуждению. Конечно, он толпами перегонял мелких ремесленников и, разумеется, некоторое количество отменных мастеров, — хотя позволительно спросить, не завлекал ли он их скорее, как тороватый меценат? — но ни Ибн Хальдун, ни Хафиз не зашагали по трансоксианской дороге! Так что давайте избегать гипербол. Известно о переселении некоего лекаря из Дамаска, богослова из Шираза и музыканта из Багдада… Значительное число нужных людей было вывезено из Брусы, однако все они спустя время были освобождены. И если Самарканд на самом деле превратился в главный центр культуры Азии в конце XIV века и таковым оставался в веке XV, он разделил эту привилегию с другими городами, в частности с Гератом, и культурная, интеллектуальная жизнь вовсе не угасла в крупных городах как в самом Тимуровом государстве, так и за его пределами после, как утверждают, столь разрушительного там пребывания завоевателя.
Его обязательно представляют как личность суровую и сдержанную. Образ Тимура улыбающегося нас смущает. Нам кажется, что великие люди, и тем более великие полководцы, к улыбке не способны. Но портреты, на которых Великий эмир улыбается, видимо, все-таки родились не из праздной фантазии художников. Разве так уж невозможно, что у Тимура было чувство юмора и он умел ценить остроумие других? Забавные истории на сей счет, возможно, недостоверны, как многие другие анекдоты, но толика правды в них, наверно, есть.
Повелев казнить придворных Мираншаха за то, что они вовлекли своего господина в разврат и тиранию, он помиловал шута за то, что дурак, прежде чем взойти на эшафот, поворотился к шедшему за ним эмиру и сказал: «После вас, Ваше Высочество, поскольку вам всегда хотелось быть впереди меня». А в Ширазе Тамерлан будто бы высоко оценил остроумный ответ поэта Хафиза, которого упрекнул за хулу, высказанную в адрес Бухары и Самарканда. Существует предание о том, как Тимур встретился с великим турецким юмористом XIII века Ходжой Насреддином: вот весьма красноречивый анахронизм!
Историки вряд ли станут рассуждать о ратном таланте воина, неспособного повести в бой даже взвод; для них разумнее было бы воздать должное гениальности тех военачальников, за плечами которых долгая боевая жизнь и многочисленные блестяще выигранные победы. Если пользоваться этим единственным критерием (другие, на мой взгляд, неприемлемы), то Тимур есть гений подлинный. Он не был побежден ни разу (разве что в ранней юности) и одержал верх над такими полководцами, как Тохтамыш, который вовсе не был тем, кем можно пренебречь, или Баязид, — один из наиболее выдающихся воевод. Говорят, что гений — это всего лишь долготерпение, но это и огромная сила воли. Тем, от чего победа зависит прежде всего, Тамерлан обладал, а именно — верой в себя, в свою звезду, в бога войны, а также нацеленностью на победу и упорством. Некоторые его афоризмы и высказывания демонстрируют, до какой степени он сознавал, что все прочее лишь вспомогательные средства. Победы «не зависят от численности и вооруженности воинов, но только от тех чудесных дарований, которые Бог источает на своих любимцев», — заявил он однажды; в другой раз Тимур произнес со свойственной ему прямотой, но весьма разумно: «Лучше с сотней оказаться в нужном месте, чем не прибыть туда с тысячью».
Войска его любили, и он мог от них требовать все: покрыть тысячи километров по просторам Центральной Азии в поисках врага; в разгар зимы лезть в недоступные горы; отправиться на Ближний Восток, не успев отдохнуть после изнурительного похода на Индию; сойти с лошадей, чтобы превратиться в каменщиков, «саперов» или землекопов. Если его слушали, то потому, что он сумел установить безупречную дисциплину и запрещал всякое расслабление вплоть до завершения кампании; также потому, что регулярно выдавал жалованье (и нередко авансом); потому что сулил баснословную добычу; потому что знали, что он выигрывает все битвы подряд; потому что с рождения имел способность воздействовать на других, умея взглянуть так, что ослушаться было невозможно; но прежде всего потому, что он никогда не оставлял воинов одних, разделяя с ними их существование, страдания, усилия, лишения, а еще потому, что он так же, как они, рисковал своей жизнью.
Тимур всегда был настроен на действие. Утверждают, что его походы были плохо подготовлены, так как он часто менял свои планы и импровизировал, повинуясь требованиям текущего момента, — однако все это скорее из области романистики, а не биографического жизнеописания. Мы уже говорили, что случаю он не оставлял ничего. Он настолько был дотошен, что у подножия крепостей приказывал рисовать красной краской места, которые должны были занять роты перед штурмом. Он отличался быстротой в действиях; если изучить историю войн, обнаружится, что это качество являлось основным у всех великих ратоводцев. Быстрыми должны были быть все и всё: и армия, и уведомлявшие его обо всем, что делалось на окраинах государства, скороходы, и, конечно, строительные работы, которые, как он говорил, должны были заканчиваться до того, как начались. Всегда нетерпелив, неизменно в спешке — и тем не менее, когда требовалось, Великий эмир умел быть терпеливым и даже тянуть время. Он всегда оказывался там, где его не ждали. Его появления поражали своею неожиданностью. Так, всего за семнадцать дней он пришел из Шираза в Самарканд, когда Тохтамыш, полагая, что он еще далеко, спокойно воевал в Трансоксиане; так, словно снег на голову, Тимур свалился на Багдад, где думали, что завоеватель еще далеко.
Нередко удивляются тому, что Тамерлан предпринял так много зимних кампаний, и, как правило, видят в этом тоже намерение нанести внезапный удар, привести врага в замешательство. Подобной точки зрения я не разделяю. Разумеется, надо рассматривать каждый случай в отдельности, и всякое обобщение опасно. Однако следует помнить, что он считал необходимым принимать во внимание географические и прочие особенности территорий, на которых предстояло действовать. Зима ужасна, но не более лета в его крайних проявлениях. Лошади его воинов были из той породы, которая была способна находить траву под снегом, и потому голод им не грозил, в то время как в самый разгар лета степь, высыхая, превращается в пустыню и, чтобы накормить животных, надо подниматься в горы. Строгие законы Центральной Азии запрещали охоту, дававшую значительную часть провианта, летом, разрешая ее в зимний период. Кроме того, мороз гарантировал сохранность мяса; снег, подверженный заражению менее воды, спасал солдат от жажды; да и замерзшие реки преодолеваются легче.
Великий эмир прибегал к хитростям, которые нам сегодня кажутся детскими или достойными ковбойских фильмов, но которые таковыми не были, поскольку обычно удавались. Самые грубые часто оказывались наиболее эффективными: например, привязать к лошадиным хвостам ветки, чтобы поднять как можно больше пыли и произвести впечатление прохождения множества отрядов;[17] развести как можно больше костров, чтобы враг подумал, что перед ним находится многочисленный лагерь. Уловки более изощренные приносили ожидаемый результат далеко не всегда: так, стоя перед Дели, Тимур, желая произвести на его защитников впечатление робкого и слабого противника, совершенно напрасно заперся в укрепленном стане, и, напротив, его дерзкие маневрирования в Анатолии успешно ввели в заблуждение Баязида.
Кто-то сказал, что Тимур никакого тюркского патриотизма не знал и «национальный дух» ему был неведом. Я глубоко убежден в обратном, ибо неспроста «Зафарнаме» Язди рассказывает всем историю Тимуридов, начиная с легендарного происхождения тюрок, а тимуридская литература, как в свое время литература монгольская, при участии Рашидаддина, тщится доказать, будто бы монголы являются ветвью общего тюркского древа. И по какой причине, если не оттого, что чувствовал себя коренным тюрком, великий писатель, к тому же министр, Мир Алишер Навои написал трактат, в котором пытался доказать — довольно неудачно, — превосходство турецкого языка над языком персидским? Зачем Бабур, поэт-историограф, ставший падишахом, заявляет, что всякая страна, которая в ту или иную эпоху находилась во власти того или иного тюркского народа, должна считаться их собственностью? Жан Обен заметил: «То, как тимуридская историография трактует, или скорее не трактует, вмешательство курдского принца (из Герата) в дела Джагатаидов, указывает на желание, узнаваемое по другим признакам, принизить авторитет лишенной власти таджикской (персидской) династии и оставить в неприкосновенности честь “тюркской касты”». Он также напоминает нам презрительное высказывание эмира Казагана: «Разве какой-то таджик может претендовать на султанат?» То же презрение звучит в словах, произнесенных Тамерланом при расставании с комендантом крепости Авник: «О султане-Джалаириде Ахмеде (монголе по происхождению) вам совершенно не следует беспокоиться, поскольку таджики его сделали своим, но внимательно следите за Кара-Юсуфом (правителем «владетелей черных овец»), ибо он туркмен (тюрк-кочевник)». Точно так же Великий эмир пеняет Баязиду на то, что он не сохранил чистоту тюркской крови и сделался почти что греком. Это уже не «национализм», а «расизм», по меньшей мере что-то в этом роде. Издревле бытовавший в Центральной Азии, он не мешал ее населению восхищаться персидской культурой и брать у нее уроки. Существует поговорка, подчеркивающая воздействие городской цивилизации Ирана; она звучит так: «В городе и турецкая собака лает по-персидски».
Тамерланов национализм вполне проявился в его кампаниях, предпринятых в целях объединения тюрок в рамках всемирной монархии, а также создания турецкой империи и устранения всех единокровных соперников, таких, как Осман, Мамлюк, индийский Тоглуг. И мы вправе думать, что если Тимур оккупировал Индию всего лишь частично, то потому единственно, что считал, как его потомок Бабур, что она являлась тюркской собственностью уже с того дня, как Махмуд Газневи совершил на нее свой первый поход.
На размышления наводит следующее обстоятельство. Византия являлась символом, будоражащим мусульманское воображение на протяжении веков, и во времена Тимура была практически обескровлена. Тамерлан мог ею овладеть, что непременно имело бы широкий отклик в исламском мире и порадовало бы дорогих ему дервишей, массы которых полвека спустя объединились вокруг Мехмеда II под стенами города, дабы обрушить их «своими молитвами». Однако Тимур против Константинополя не предпринял ничего. Он ему был безразличен, ибо, не будучи турецким, город являлся составной частью другого мира — Рима, его не интересовавшего. Будучи тюрком, Тамерлан был нацелен лишь на мир тюркский, в том числе на великий Иран, который уже несколько столетий играл роль охотничьих угодий тюрок; затем он устремился на Китай, поскольку его монгольские предки (которых он считал «тюрками», и надобно это помнить) столь часто — и не так давно — им владели.
Если бы портретист остановился на этом, на холсте мы увидели бы великого государя, которому всё улыбается и чьи деяния благие: им создано мирное, стабильное и процветающее и богатое государство; он подтолкнул развитие торговли и промышленности, распространил свой авторитет на весь мир; его знают, может, даже им восхищаются и в Китае, и в Кастилии, и в Каире, и в Москве; много от его щедрот получили искусства; по его слову были построены памятники, коих вполне достаточно, чтобы обеспечить ему славу.
На незавершенном холсте мы увидели бы великого человека, деятеля, имеющего, само собой разумеется, недостатки, но достоинства которого их с лихвой перекрывают и побуждают к уважению; таковы любовь к родине, верность в дружбе, забота о бедных и обездоленных, справедливость и беспристрастность (в известном ее понимании), а также мужество, щедрость, уважение к интеллектуальным и моральным ценностям, набожность, культура, любознательность, склонность к меценатству — ну и довольно.
Однако такой портрет законченным считаться не может. В нем не отражен целый отрезок жизни Тимура; в лучшем случае, имеется лишь его набросок. Речь идет о палаче Исфагана, Дели, Дамаска, Багдада, Астрахани; о разрушителе, о человеке, который заявил, что в его сердце нет ни капли жалости. Такая личность достойна самого пристального изучения.
Обвинительный акт готов. Преступления совершены тяжкие. В течение целой трети века Тамерлан занимался депортацией населения разных городов и стран, массовым угоном в рабство, выжиганием населенных пунктов, превращением в пустыню различных провинций, попустительством или поощрением истязаний и насилия, разграблением богатств государей и зажиточного люда, низведением люда скудного до полной нищеты, сооружением «минаретов» из отрубленных человеческих голов, террором по отношению к сельскому населению, казнями десятков тысяч пленных, массовыми избиениями, не делая различия между женщинами, мужчинами и детьми. Отягчающее обстоятельство: злодейства совершались хладнокровно, методично и систематично.
Однако все это не вяжется с другими поступками Тимура, и здесь явно просматривается нечто противоречивое и странное. Впрочем, обвинения кажутся обоснованными. С ними выступил не только вышеупомянутый Ибн Арабшах, Тимура ненавидевший и мечтавший о мести; правда, он не сказал ни слова о его наиболее ужасных злодеяниях, как не были обвинителями арабы, мамлюки, турки, армяне, грузины, русские и индийцы — главные жертвы его репрессий. Основными же обвинителями оказались, как ни странно, официальные историографы, исполнявшие повеления самого Тамерлана и его сыновей, царевичей, заботившихся о доброй репутации их предка. Разумеется, они утверждают — как мы знаем, не без оснований, — что Великий эмир жил идеалами мира и справедливости, постоянной заботой о своих народах, и указывают на достигнутые результаты, а именно: были прекращены междоусобицы, было покончено с феодальной тиранией, с разбоями, была обеспечена безопасность дорог, восстановлена торговля; нельзя не сказать и о длительном периоде процветания — все это результаты, плата за которые слишком высокой быть не может. И наконец, немного уходя в сторону от проблемы, они говорили, что войны неизбежно влекут за собой многочисленные беды. Современники, как водится, раскололись на два лагеря. Одни были приведены в ужас использовавшимися им средствами; другие радовались его достижениям. Первые были поражены страстью к разрушению Великого эмира; вторые — созидательной деятельностью его.
Следует ли из этого вывод, что Тамерлан в мирный период бывал не тем, кем оказывался во время войны? Можно ли в нем видеть чудовище или безумца? Утвердительно ответить на эти вопросы нельзя. Можно сказать себе, что он убивал, истязал, насиловал и жег, стремясь к идеалу и добродетели, и таким образом сделать из него некоего предтечу экстремистов Великой французской революции, этакого Робеспьера или Сен-Жюста; но эти двое кончили свое существование на эшафоте!
Давайте заслушаем погодовой, длинный перечень преступлений и попытаемся услышать стенания людей, от них пострадавших. 1383 год: Герат, истязания и депортация; «минареты» из черепов, сооруженные Мираншахом. 1384 год: Астарабад, порубленные мужчины, женщины и дети. 1387 год: Исфаган, 70 тысяч голов, отрубленных для сооружения «башен». 1388 год: Хорезм и Систан, полностью разрушенные; Ургенч и Шахристан, стертые с лица земли; Тус, 10 тысяч убитых. 1392 год: Сари, Амол, всеобщее избиение, за вычетом детей. 1393 год: Такрит, город разрушен. 1394 год: разграблен Мардин. 1395–1396 годы: Астрахань, Сарай-ал-Джадид, Тана, сожженные дотла. 1398 год: Лони, резня — погибло 10 тысяч пленников. Дели, беспрецедентное избиение населения. 1400 год: Алеппо; на трое суток отдан солдатне. 1401 год: Дамаск, сожжен за три дня грабежей; Багдад, 90 тысяч горожан погибли во время грабежей. 1402 год: Бруса, город предан огню… И это всего только выборка, и, быть может, следовало бы вставить в список каждую провинцию, а также перечислить все большие и малые селения и крепости.
Как нетрудно увидеть, мы имеем дело с набором фактов всевозможных категорий, набранных слева и справа с единственной целью: сделать еще более мрачной картину ужаса. Легко также догадаться, что имеет место и преувеличение, которое можно отнести на счет богатой иранской фантазии и желания приписать Тимуровым карательным мерам постоянно сопутствующую ему избыточность. В жизни почти все трагедии подчиняются свойственному им сценарию, и потому в судебном разбирательстве, достойном этого названия, следовало бы их изучать отдельно. Тимур явно не виновен в одних и повинен в других, а в иных случаях он имеет право на то, что называется смягчающими обстоятельствами.
Подобный процесс был бы долгим, трудным и, может быть, скучным. Причины, по которым от него отказались, тем не менее не сводятся к неведению и лени. Дело в том, что он разрушил бы ясный и убедительный образ полнейшего варварства завоевателей Центральной Азии. Подобный процесс затруднил бы всех устраивающее скоропалительное и привычное отождествление Тимура с Чингисханом, а также лишил бы эпопею владетеля Самарканда того самого зрелищного и яркого, что в ней имеется. И не обязательно, что результаты этого процесса были бы сомнительными или привели бы к оправдательному приговору. Но он позволил бы привести вещи к их истинным пропорциям. Тимур отличался от Чингисхана уже тем, что не намеревался уничтожать землепашество и городскую цивилизацию. Он, конечно, много чего пожег и пролил немало крови, но меньше, чем считается; он выказал способность миловать и, быть может, пощадил провинций и городов больше, чем уничтожил. Но я уже слышу: «Это ничего не значит».
Мы располагаем достаточными данными, чтобы определить число жертв Тимуровых войн в различных городах, но, как будет видно, ни одно из них не безупречно. В то же самое время у нас есть возможность получить практически исчерпывающие сведения о разрушениях, вызванных пожарами и вандализмом солдатни.
В городах, по словам летописцев, срытых до основания, зданий, построенных до Тамерлана, оставаться не должно было бы; во всяком случае уж декор памятников должен был пострадать. Разумеется, во многих населенных пунктах разрушения были значительными, и архитектура от этого пострадала. Жалобы христиан Востока, которым, как нам ведомо, пришлось восстанавливать многие храмы после Тимуровых набегов, обоснованы; однако, хотя у Тамерлана особых резонов защищать христиан, равно как мусульман, не имелось, далеко не все церкви пострадали во время «бури». Несмотря на землетрясения и на сефевидские и османские войны, Грузия и Армения остались всемирно признанными хранилищами средневекового культового искусства. Вспомним, к примеру, об армянских церквах Карса, Санохина, Ани, Эгварда и Ахтамара, о грузинских храмах в Кутаиси, Гогуле, Никорцминде, Джвари, Ошки, Гегарте и Мцхете[18] — и это лишь некоторые, сегодня наиболее известные.
О Дамаске Ибн Арабшах писал так: «Огонь стер все следы этого большого города». Таким образом, от всего построенного до XV века в нем не должно было остаться ничего, но это не так: по сей день стоят многочисленные хаммамы XII и XIII столетий, Маристан (лечебница) аль-Нури и несколько сельджукских
Что до Исфагана, то там пожар место имел, но значительного ущерба памятникам не нанес. Ни мавзолей имама Джафара, ни усыпальница Баба-Касима, ни медресе Имамия, построенные в XIV веке, — а это лишь некоторые из построек, о которых упоминают летописи, — разрушены не были. Масджид-и Джума Сельджукидов, наиболее яркий образец иранского зодчества, сохранил в полной неприкосновенности оба великолепных придела: Малик-шаха, а также михраб Ольджейту, шедевр мусульманской скульптуры.
В Брусе, блистающей памятниками, созданными первой османской архитектурной школой, огонь не тронул ни большой мечети постройки 1396 года, ни святилища Базадийи (1391), ни Гудавендигар (1396); мечеть Орхан, в которой от всего первоначального остался лишь план, была разрушена до основания лишь в 1417–1418 годах. Надеюсь, читатель позволит мне остановиться на этом.
Роль, которую играли города в международной торговле до и после походов Великого эмира, тоже указывает на то, что они были разграблены не так страшно, как принято считать. В этом отношении показательна судьба Таны-Азака. Эта крупная венецианская торговая колония на Азовском море, находившаяся в конце одной из дорог Великого шелкового пути, значительно сократила свою деятельность в XV веке; историки, не вдаваясь в подробности, решили, что виной тому были разрушения, произведенные Тимуром в 1395 году, вслед за теми, что имели место в Ургенче, Сарае и Астрахани. Исследование, недавно предпринятое двумя выдающимися специалистами Вайнштейном и Бериндеем, позволило установить, что этот упадок явился следствием того, что снова открылись Александрия и Бейрут. «Отмечают, — пишут они, — что, за вычетом годов 1395, 1396 (впрочем, эта дата сомнительна. —
Ужасное опустошение, которому якобы подверг Тамерлан эти города, в некоторых случаях затронуло или их предместья, или их провинции, являясь неизбежным следствием боевых действий. Стоящий выше всяких подозрений историк Ибн Хальдун говорит, что Баальбек пострадал intra muros,[19] тогда как Хама и Хомс были пощажены. Предположительно, историк имел в виду беду, обрушившуюся на сельскохозяйственные районы, близ этих городов. Во время прохода джагатайских войск в Баальбеке стояла ужасная погода; воины, испытывая недостаток в питании, принялись грабить поля. Под Хомсом и Хамой солдаты довольствовались тем зерном и теми плодами, что находили вокруг лагеря. Так же и в 1401 году, в Аинтабе (Газьянтепе) с продовольствием было так плохо, что армия, подобно саранче, налетела на рис, хлеб, виноград и сушеные фрукты, имевшиеся у крестьян, как и на иное съестное, что у них находили, включая собак. В Дамаске, где, прежде чем отдать город на разграбление, Тимур приказал выгнать из него население, голод был такой, что наиболее оголодавшие или наименее прихотливые ели друг друга. В других местах, особенно летом, избиение мирного населения приводило к возникновению страшнейших эпидемий.
Конечно, во всем этом Тимур был виноват, но косвенно, поскольку шла война, и обвинять следовало бы именно ее, прежде чем все списывать на счет жестокости Великого эмира. Преувеличения делаются намеренно — из нелюбви к нему: придумываются костры там, где их не было, и гиперболизируются разрушения, которых не было тоже. Насколько можно судить, единственными крупными городами, «стертыми с карты», являются Сарай-ал-Джадид, Ургенч и Шахристан, к тому же — частично; что касается двух из них, то Великий эмир официально принял меры для их восстановления. В 1386 году он приказал вновь заселить Зарендж, чтобы возвратить Систану его былое процветание; в 1391 году он повелел эмиру Мусаке восстановить городское хозяйство Хорезма; в 1401 году по его слову Абубекр занялся восстановлением Багдада. Если эти усилия не принесли ожидавшихся плодов, то по меньшей мере Тимур их желал.
Случай с Сараем менее однозначен. Бартольд полагает — и я разделяю его мнение, — что найденные во время раскопок скелеты без голов, рук и ног являются жертвами «варварства Тимуридов». Об обычае отсечения головы нам известно хорошо; обычай ампутации рук и ног, бытовавший в Тимурову эпоху, тоже зарегистрирован и никакой новости собой не представляет; если я не ошибаюсь, о нем упоминается в мифах первых исторических тюрок (тукю), вышедших из лона хуннского племени; об этом имеются сведения и в китайских источниках. Однако не все сарайцы были уничтожены; так, «Зафарнаме» уточняет, что оставшихся в живых «гнали перед войском, как баранов»; то, что спустя время они возвратились в город, сомнения не вызывает.
Говорят, что земля до сих пор носит в себе память о присутствии Тамерлана и, превращенная в пустыню, проклинает его. Вот еще одно бесспорное преувеличение. Хотя разрушение Хильмандской плотины и нанесло ущерб Систану, следовало бы более внимательно изучить, в какой мере это повлияло на процесс опустынивания. Как и во всех других подобных случаях, было бы рискованно приписывать частичное разрушение сельского хозяйства одному Тимуру, забыв о Чингисовых походах или набегах Сельджукидов, а также о естественном изменении климата. Да, в поисках пастбищ кочевые орды стремились сократить возделываемые площади, но кто может сказать: до какого предела? Что до грабежей, то длительного воздействия на земли они произвести не могут: жизнь возрождается быстро даже там, где пытались ее уничтожить. Путешественники XIII и XIV веков, побывавшие в землях, по которым позднее прошел Тимур, идиллических описаний оных нам не оставили. Из часто восторженных очерков Ибн Баттуты явствует, что человеческая деятельность повсюду набирала обороты, но раны, нанесенные монголами, оставались незалеченными. Жан Обен, исследователь весьма дотошный, сделал любопытное замечание о том, что географ Якут ибн Халиви, побывавший в 1219 году — стало быть, до Тимура и даже Чингисхана — в областях севернее Герата, нашел их частично разоренными. Возникает ощущение того, что, за исключением определенных и ограниченных зон, Тамерлан скорее восстановил, нежели разрушил сельскохозяйственную деятельность. Так что в этом вопросе его можно было бы в основном реабилитировать, хотя бы во имя сомнения.
Нередки были случаи, когда Великий эмир объявлял о помиловании, но не преступников, а смутьянов и непокорных — жертв его гнева — по просьбе членов семьи или религиозного сановника, или по случаю радостного события в его собственной жизни. Любил ли он, чтобы его просили? Конечно нет, так же как не любил беспричинно убивать. Ниже мы увидим, как им делалось все возможное, чтобы избежать резни в том или ином городе.
Не следует думать, что появление джагатайских войск всегда и всюду сопровождалось ужасными разрушениями. Так, Великий эмир дважды проходил по сербадарским землям, не совершив даже самого малейшего насилия. Очень похоже, что, за вычетом кровавой трагедии Исфагана, страданий Западному Ирану он не причинил. По меньшей мере в начальной фазе Сирийской кампании он старался действовать с надлежащей умеренностью. Что касается разрушений, учиненных в Анатолии, то они, скорее всего, из области легенд.
Что до прочих районов, то совершенные там «насилия» были рутинными карательными акциями, направленными против разбойников, вооруженных банд и мелких доморощенных тиранов, ответственных за многочисленные преступления, и многие этому радовались, но впоследствии недруги Тимура воспользовались ими в борьбе с ним. Это имело место в Луристане, в некоторых округах Мазандерана и на Кавказе, где, как и во многих иных местах, не было совершено ни одной беспричинной жестокости, а может, вообще никакой.
Случалось, что Тимуру приходилось брать на себя ответственность за преступления, содеянные другими (и о которых, быть может, всего он и не знал), или же действовать по просьбе союзников, клиентов и финансистов; так, в 1393 году он занял Такрит, отвечая на пожелание багдадцев. Бывало, что религиозные соперники, найдя сложившиеся обстоятельства благоприятными, давали волю своей ненависти; так, в Дамаске хорасанские шииты, обычно сдержанные в проявлении эмоций, решив наказать суннитов, испачкали нечистотами могилы Муавийи, Язида и прочих омейядских калифов; другим шиитским экстремистам приписывают поджог главной мечети (надо отметить, ошибочно). И кто вычленит из массы этих злоупотреблений долю, приходящуюся на сведение счетов враждующих друг с другом городов, торговых фирм и феодалов? Кто возьмет на себя труд выяснить, каковы тогда же были действия тех, которых называют отребьем, рецидивистами, бандитами с большой дороги, а также всевозможных искателей приключений, явно радовавшихся таким счастливым для них случаям, как штурм или разграбление того или иного города?
Немало тех, кто признает, что Тамерлан мог выказать умеренность, но они тут же добавляют, что с его стороны то было не проявление гуманности, а политическая уловка. Так что ж? Одно другому не мешает. Лучшим примером того является освобождение двух тысяч пленных перед штурмом Герата в апреле 1381 года, которое убедило население в том, что, сидя в своих домах, они могут остаться живыми, а с другой стороны, — позволило легко овладеть городом. Все в том же Герате, спустя два года, произошел «мятеж» захвативших его горцев; что касается горожан, то они, «взобравшись на крыши, спрашивали друг друга, чем все это кончится». Благодаря этому, а также вмешательству шейха Шихабаддина Вистами они остались живы, а вот «мятежники» и «предатели» были депортированы или казнены. Восстание, произошедшее в Язде, которое подавили Тимуровы внуки, не повлекло за собой никакого наказания то ли потому, что незадолго до того город перенес ужасный голод, то ли из-за «безответственности его обитателей», то ли, наконец, потому, что Язд являлся одним из основных производителей дорогих тканей.
Утверждают, что Тимур часто принимал оградительные меры, заботясь о дисциплине, чтобы держать армию в узде. По установлении величины дани он запрещал воинам входить в город до окончания ее сбора, опасаясь, чтобы возможные попытки вымогательства не навредили нормальному протеканию операции. Какие на то у него имелись соображения? Административные? Финансовые? Возможно, и те и другие. Во всяком случае, опыт показывает, что, когда солдаты проникают внутрь городских стен, дела принимают плохой оборот. В Дамаске Тимур велел повесить на торгу нескольких человек, которые, нарушив запрет, пробрались в город и принялись грабить и насиловать. Известно, что, отдавая город на произвол солдатни, он предварительно выгонял из него население и всю эту толпу держал в стороне. В Дели Тамерлан велел лучникам стрелять в каждого, кто в приступе алчности устремлялся к дверям до приказа. В Алеппо он метал громы и молнии, когда узнал, что его люди отрезали головы живым, а не трупам, как дозволялось. В Мардине, получив известие о рождении внука, Улуг-бека, Великий эмир в его честь объявил всеобщую амнистию. В Дели, после учиненного там массового убийства, когда, будучи пьяным, вмешаться вовремя Тимур не смог, он непроизвольно воскликнул: «Я этого не хотел!»
В конце жизни он полностью осознал тяжесть, как написано в хрониках, «своих ужасных деяний, убийств, пленений, истязаний и пожаров… грехов и преступлений» и во всеуслышание о них сожалел, однако присовокупляя, что, дабы получить прощение Всевышнего, он «решил обратить в истинную веру язычников Китая и низвергнуть их идолов». Без насилия? Дело в том, что он отличал наказания, по его мнению, законные от тех, что считал преступными.
Совершенно очевидно, что Тимур предпочитал захватывать города, их не разрушая, и не только потому, как утверждают, что получал больше выгоды от налогов, чем от грабежа, или потому, что его экономическая структура зиждилась на комбинировании городского рынка с пастушеским производством, а политическая система — на сосуществовании народов оседлого и кочевого, но еще (и прежде всего) потому, что мусульманский закон требует, чтобы государь предлагал «неверным» сдаться ему без боя, предупредив, что в случае отказа их имущество будет считаться военной добычей, а их родные — рабами.
Он делал все возможное, чтобы подвести противника к капитуляции, и принимал все превентивные меры, чтобы не выпустить из-под контроля разгул озлобленной солдатни. Впереди войска он обязательно высылал агентов — «пропагандистов», в чью обязанность входило подрывать волю к сопротивлению, не щадя для этого ни посулов, ни угроз. Подойдя к городу, договора с которым у Тимура не имелось, он с ходу его не атаковывал, жертвуя преимуществом, что давала бы внезапность, обеспеченная быстротою перехода, а осаждал его в надежде, что горожане откроют ворота сами. Он предпочитал, чтобы инициатива переговоров исходила от осажденных, и иногда ждал ее долго (под Шахр-и Систаном ожидание растянулось на целый месяц); не дождавшись, Великий эмир начинал переговоры самостоятельно. Во время беседы, в которой участвовали представители города и Тимур, окруженный
По приходе к согласию все ворота, кроме одних, замуровывались, чтобы избежать утечки капиталов и проникновения в город. Сборщики налогов с эмиром во главе сносили собранное в разные места города. Когда операция проходила более или менее спокойно, все обходилось казнями на месте преступления немногих упрямцев и пытками тех, кто был заподозрен в сокрытии имущества. Но если нервозность горожан или сборщиков налогов провоцировала конфликт, тогда был возможен настоящий взрыв насилия, начинались грабежи и погромы; порой это происходило спонтанно и бесконтрольно, как в Дели, или по приказу Тимура, как в Исфагане. Реже, по невыясненным причинам, некоторые города, которые, как, например, Астрахань, нал-и аман уплатили, иногда, несмотря на это, бывали тут же разграблены.
Когда город оказывал сопротивление, его брали приступом, в него врывались воины, и тогда начинались жестокие грабежи. Мы располагаем скудными сведениями о том, что там творилось, но в большинстве случаев жертв бывало много. Люди разбегались кто куда, а за ними гнались всадники, давя копытами обезумевших от страха женщин и детей, которые погибали сотнями. Различия между воинами и гражданскими лицами не делалось.
Совершенно особая судьба ждала города взбунтовавшиеся, такие, например, как Герат и Шахр-и Систан в 1383 году, Туе в 1388 году, Багдад в 1401 году и т. д. Если невиновность населения была признана или когда в его пользу выступал какой-либо ходатай, или же возникало какое-то счастливое обстоятельство, город прощали; в противном случае он бывал обречен на поголовное избиение жителей
Понятие «всеобщее избиение» всегда было довольно расплывчатым. Когда летописец Шами подводит итог резни в Багдаде словами: «Из сотни уцелел один, а из множества — немногие», — не следует думать, что погибло 99 процентов населения: там, как и всюду, пощажены были служители культа, равно как, скорее всего, не пострадала верхушка городской знати. Из Шахр-и Систана были изгнаны «все богачи», так же как улемы, кади, шейхи и сайды вместе с родней и челядью.
От избиения бывали избавлены женщины и дети. Так, в Радкане (1388), Такрите (1393), Дипальпуре (1398) и Аксу (1400), где приказано было вырезать население, жертвами стали только мужчины. В Исфагане и Тусе солдаты — сборщики голов обезглавливали женщин, чтобы скорее набрать нужное количество, но их головы они «гримировали» под мужские, что указывает на то, что женщины для ножей убийц не предназначались. Не так было в Шахр-и Систане, Багдаде и Астарабаде, где, как уточняют хронисты, жертвами карательного избиения оказались все: мужчины и женщины, старики и дети. Являлось ли это вообще «стилистическим» приемом Тимуридова воинства? В хрониках говорится, будто бы в том же Шахр-и Систане, как в Исфагане и Сивасе, детей бросали под ноги лошадей проносившейся галопом конницы. И все же однозначных доказательств преднамеренности этих зверств не существует. Во время подобных трагедий избиение несчастных младенцев иногда самым естественным образом проистекало из нищеты осажденных, голода, истощения, отчаяния и, возможно, страха; известно, что случаи добровольного умерщвления собственных детей были многочисленны. Со всем этим Жан Обен прав, когда предполагает, что толпы детей, вовсе не собранных в целях уничтожения или изгнания из населенных пунктов, «оказавшихся в вихре преследования и грабежей, бывали раздавлены всадниками, с удовольствием делавшими вид, что их не заметили или не сумели отвернуть своих лошадей», или, по крайности, не потрудившимися это сделать.
Одним из наиболее ярких проявлений тимуровского варварства (цель которых состояла в воздействии на умы) является возведение из человеческих голов того, что получило название «башен», «дорожных знаков», «межевых столбов», «туров», «курганов» и «минаретов» (термин, наиболее часто использовавшийся тогда и оставшийся в употреблении потом).
Сооружение этих зловещих памятников не проистекало из традиций степняков, хотя со времен скифов (если говорить об иранцах) и гуннов (если говорить о тюрко-монголах) они проявляли живой интерес к черепам, которые они любили дарить, коллекционировать или после надлежащей обработки использовать как сосуд для питья — так это и поныне практикуется в тибетских тантрических ритуалах. «Башни» же и «минареты» из голов убитых людей были «изобретены» в начале XIV столетия; во всяком случае, они упоминаются уже в 1340 году, когда гератский малик приказал построить их штук двадцать поблизости от могилы Фахраддина Рази[20] из черепов афганских кочевников, беспокоивших своими набегами земли южнее Окса. Спустя двенадцать лет, в 1352 году, его примеру последовали Музаффариды и очень скоро — другие, в том числе народы Ближнего Востока, тюрки, в частности Османы; как и где эти последние позаимствовали сей обычай, не известно.
Не знать этой практики Тимуриды не могли. Они применили ее в 1383 году, в Герате, быть может, для того, чтобы ответить хорасанцам на их «языке». Инициатором явился Мираншах. Говорят, будто бы стремясь его превзойти, Великий эмир в том же году придумал соорудить кладку из живых пленников. Повесть мне кажется сомнительной, ибо не соответствует интеллигентности этого человека, так же как и никакой магико-религиозной идеологии. Если же подобный факт место имел, то Тимур, должно быть, очень скоро обнаружил свою ошибку и возвратился к способу, в дальнейшем ставшему «классическим», которым пользовался и злоупотреблял, воздвигая «минареты» из черепов близ таких метрополий, как Исфаган, Тус, Дели, Алеппо, Багдад и прочих, а также у входов в поселки, под стенами замков и на землях кочевых племен. Некоторые эти сооружения были невелики, тогда как другие обладали размерами монументальными, имея несколько метров в диаметре и достигая высоты, «превосходящей вышину самых грандиозных строений». По подсчетам Хафизи Абру, в Исфагане таковых было сооружено сорок пять единиц, из одной-двух тысяч голов. В Багдаде некоторые их насчитывали больше: сто двадцать, но меньших размеров и включавших в себя «только» по семьсот пятьдесят черепов, что в итоге давало ужасающую цифру: девяносто тысяч голов…
Как правило, эти «башни» строились только из голов убитых в сражении воинов. Однако, когда имело место всеобщее избиение, могли использоваться также — или только они, ежели боев не давалось, — головы умерщвленных лиц мужского пола. Их число, а заодно количество трупов, определялось загодя, как, например, в Исфагане. В подобных случаях в общую кучу могли бросить или по ошибке, или в приступе энтузиазма, или по лукавству несколько голов женских.
Исфаганская резня столь хорошо иллюстрирует образ действий Великого эмира в этом городе, что следовало бы к ней возвратиться. Отдав роковой приказ, он прежде всего изолировал улицы и кварталы, которые намеревался пощадить, и только после этого выпустил свору убийц, состоявшую из отдельных отрядов, перед каждым из которых была поставлена определенная цель, а именно количество голов, которое надлежало представить счетчикам. Воины тут же приступили к убийству, действуя методично и безжалостно. Некоторые, не желавшие участвовать в бойне лично, покупали головы у своих товарищей по цене, которая падала по мере продолжения резни. По достижении установленной квоты бойня прекратилась и каменщики приступили к возведению «башен».
Историки, как правило, считают, будто бы «минареты», сложенные из черепов, долженствовали служить или трофеями, то есть знаками победы, или предупреждением смутьянам. Но подобное восприятие явления страдает близорукостью. Нам кажется, что не провести параллель между этими «памятниками» и другими, во всех отношениях с ними схожими, но созданными из черепов животных, нельзя. Основатель иранской сефевидской династии, шах Исмаил, турок, соорудил таких множество, и сегодня встретить их можно в самых различных уголках Среднего Востока. Так что невозможно усматривать в них предупреждение и еще труднее — символы побед.
Религиозной трактовки требуют два, имеющих общую точку соприкосновения, культурных факта. С одной стороны, начиная с доисторических времен и до наших дней в традиционных цивилизациях, в частности у иранцев и тюрко-монголов центральноазиатских степей, люди поддерживают постоянный интерес к такой совершенной кости, как череп, и ему поклоняются. С другой стороны, накопление предметов увеличивает номинальную мощь одного предмета: так, в понимании тех же алтайских народов лес, роща достойны большего уважения, чем одиночное дерево; «скопления вод», как то: озера, болота, реки, важнее одной капли воды. Из этого следует, что для людей, сохранявших и накапливавших священные предметы, «минареты» из голов должны были иметь достоинства сугубые точно так же, как «скопления вод» и лесá.
Мужчины — для кровопролития, женщины — для любви. Формула кажется чрезмерно лапидарной, однако ею вполне можно воспользоваться для определения общего положения вещей. В то время как взрослые представители мужского племени уничтожались, «красивых женщин, юных дев и отроков уводили в полон». Пленение ради любовных утех являлось для степняков целью, достойной для начала войны. Вот и Чингисхан почти не скрывал этого; и недостатка в предшественниках у него не было. Воспевая победу, древнетюркские тексты восхваляют женщин и золото, доставшееся в результате ее, в равной мере. Таким образом, Тимуриды вполне вписываются в стародавнюю традицию. Пленение отроков смущает, поскольку, скорее, не соответствовало нравам степняков и выглядит противоречащим категорическому запрету, наложенному Тимуром на содомию. Мода на педерастию воцарилась при его последователях.
Что касается женщин, то в текстах хронистов определенно указывается на то, что уводили в полон не всякую. Они должны были иметь соблазнительную внешность и быть во цвете лет. Покрытые чадрой и закрытые в гаремах мусульманки влекли к себе более других женщин, как известный запретный плод. В Тусе Джагатаиды «вывели из города, влача за волосы, жен и дев, чьей тени солнце не видало никогда», — пишет Хафизи Абру. Почти то же рассказывают об Алеппо, Дамаске, Айнтабе и других городах. Когда же дело доходило до необходимости немедленно удовлетворить потребность, то уже было не до разборчивости и пользовались женщинами всех возрастов, а также мальчиками прямо на глазах прохожих, на площадях и улицах, а то и в церквах и мечетях. Тут уж Великий эмир контролировать поведение своего воинства не мог и должен был мириться с тем, против чего восставала его строгая мораль.
Разумеется, не все эти юные и прекрасные существа, отнятые у их семей, предназначались для того, чтобы рано или поздно удовлетворять половые нужды. Большая их часть включалась в контингент пленных, составлявших значительную долю военной добычи. Превращенных в рабов, их продавали следовавшим за армией купцам или отправляли исполнять работы общественного или частного назначения. Условия существования этого людского поголовья частенько бывали жалкими, и редко кто дерзал себя защищать. «Они ведут их за собою, нагих и скорбных; и многие околевают от голода и холода», — сказано в «Мемуарах» от 1403 года. На долгом пути из Индии в Трансоксиану Джагатаиды вели за собой такое огромное количество мужчин и женщин, что на каждого ратника в среднем приходилось по полторы сотни невольников, коих половина, говорится в источниках, умерла по дороге. Правда, войско само страдало от недоедания… Удивительно? Так вспомним, как обращались с вырванными из Африки неграми в наш «просвещенный век»!..
Теперь остается определить величину жертв Тимуровых войн, разделив их на две категории и отнеся к первой воинов, павших с оружием в руках, а ко второй лиц гражданских, убитых случайно или намеренно. Для историков важны обе, но для жизнеописателей Тамерлана интерес представляет лишь вторая. Заметим, что в данном случае классификация жертв сложна. При первом приближении возможно допустить, что военные преступления касаются единственно казненных пленников и горожан, умерщвленных в ходе преднамеренных избиений в тех или иных городах.
В некоторых средних городах, где, как уточняют летописцы, были преданы смерти одни мужчины, количество убитых не превышало нескольких сотен. Так произошло в Радкане (1388), в Такрите (1393), Дипальпуре (1398), Аксу (1400). В «Упоминаниях о Сивасе» говорится о четырех тысячах христиан, заживо погребенных по десять человек в каждой яме, к которым добавляют некоторое число женщин и детей, раздавленных лошадьми. В Тусе погибло десять тысяч горожан. Эти цифры велики, но, да будет мне позволено заявить, остаются в пределах разумного.
Совсем иная ситуация в таких столичных городах, как Ургенч, Сарай-ал-Джадид, Исфаган, Багдад, Алеппо, Дели и нескольких им подобных метрополиях. Здесь мы имеем дело с величинами совсем другого порядка, хотя они и кажутся малозначительными в сравнении с теми, что мусульманские историки называют, говоря о Чингисовых побоищах. Ибн аль-Атир насчитал в Мерве семьсот тысяч убитых, другие исследователи — больше; в Герате Сейфи насчитал миллион шестьсот тысяч убитых, а Джувейни — два миллиона четыреста тысяч! Результаты Тимуридовых побоищ не менее значительны, хотя данные могут показаться сомнительными — столь они округлены, неточны, близки друг другу и столь огромны массы городского населения, коих они касаются. Количество убитых в Сарае оценивается в сто тысяч; в Багдаде—в девяносто тысяч; в Исфагане — в семьдесят тысяч, если верить «Зафарнаме» и Хафизи Абру, тогда как другие источники говорят о ста — двухстах тысячах; повествуя о Дели, «удовлетворяются» десятками тысяч жертв. Если придерживаться самых малых цифр, то обнаружится, что Тимуровы войны унесли «всего лишь» около миллиона жизней. Однако продолжительность военных конфликтов и протяженность земель, на которых они развертывались, не только принуждают эту цифру принять, но даже ее увеличить.
В этом случае главной проблемой, встающей перед историком, является проблема демографическая. Были ли города достаточно многолюдны для того, чтобы «обеспечить» такое количество жертв? Существует тенденция в этом сомневаться, но я убежден, что недооценка величины городского населения ошибочна. Мусульманская цивилизация — цивилизация городская, и ее города всегда, включая эпохи, предшествовавшие Новому времени, имели населения больше, чем города западнохристианские. В главной европейской метрополии, Париже при Карле V насчитывалось двести пятьдесят тысяч душ; до Великой чумы 1348 года во Флоренции жило сто двадцать тысяч человек; более чем до ста тысяч обреталось в Венеции, Неаполе и Лионе. Все историки сходятся на том, что в разные периоды такие крупные мусульманские столицы, как Кордова, Багдад, Каир, Газни, Константинополь, давали приют не менее чем семистам тысячам человек, и до миллиона, если не больше. Фрескобальди полагает, что в год наибольшего благополучия, а именно в 1384 году, в египетской столице жило под открытым небом, за неимением жилья, целых сто тысяч человек. В Тебризе Марко Поло насчитал двести тысяч домов; историческая демография уверена, что в каждом таком доме, то есть у каждого очага, можно было найти не менее пяти человек. В свое время предпринятые мною максимально (насколько это было возможно) скрупулезные подсчеты позволили мне определить население Тимурова Самарканда: двести пятьдесят — пятьсот тысяч душ, не считая пригородных поселений. Утверждают, что в Сарае жило всего лишь сто тысяч человек, но площадь его развалин и заявление Ибн Баттуты, называвшего его «необычайно большим», позволяют думать, что указанная цифра до смешного мала. Если вспомнить, что в делийской резне приняло участие пятнадцать тысяч солдат и что многие охваченные ужасом индийцы поджигали свои дома и семьями бросались в пламя, то сведения о десятках тысяч погибших, упоминаемых в наших источниках, подтверждаются.
Исфаган тоже дает возможность изучить проблему попристальнее. Некоторые полагают, будто бы его население могло насчитывать от ста до ста пятидесяти тысяч человек. Когда бы это было так, для постройки «минаретов» добыть семьдесят тысяч голов было бы невозможно, что очевидно. Хорошо известно, что для бойни предназначены были только мужчины, убитые женщины — «случайность». Однако преданы смерти были далеко не все представители мужского пола: многие убежали в горы еще до прихода Тимура, другие — всякого рода протеже — были пощажены; третьим остаться в живых просто повезло. Ясно, что число уцелевших можно определить половиной погибших, то есть цифрой тридцать тысяч. Итак, в городе, скорее всего, проживало сто тысяч взрослых мужчин, столько же представительниц слабого пола и еще больше детей, что в сумме дает не менее полумиллиона душ. Мы даже вправе полагать, что население было многочисленнее, ибо в 1393 году город оказался в состоянии выплатить свою подать. В самом деле, был бы на это способен город, потерявший 70 процентов мужского населения? Явно напрашивается вывод: или Хафизи Абру обманывает и нарочито завышает количество жертв, или Исфаган действительно являлся очень крупным городом. Дать окончательный ответ мы еще не можем, но все говорит в пользу второго предположения. Если оно верно, то приведенный масштаб избиений может считаться допустимым; в противном случае — нет.
Как ни велика доля преувеличений, каковы бы ни были смягчающие для Тимура обстоятельства, как ни многочисленны были меры, которые он, возможно, принимал для предотвращения трагедий, как ни часто прибегал он к снисходительности, как ни остро было его чувство сожаления, и даже если ответственность за преступления следует возложить и на иных, правдой остается то, что Тамерланова эпопея не обошлась без не поддающихся определению избиений, гнусного насилия, чрезмерных разрушений, а также то, что Великий эмир являлся их первым и главным действующим лицом. Его теперешние жизнеописатели не находят для него достаточно жестких слов особенно после того, как Рене Груссе в своей «Степной империи» сформулировал для него самый суровый приговор, сказав о «симбиозе монгольского варварства с мусульманским фанатизмом», об «убийстве во имя абстрактной идеологии, совершаемом как священный долг и миссия». «Он убивал, — заключал Груссе, — из коранической набожности». Такое суждение неточно, оно должно быть более нюансированным.
Живя в мире просвещенном и привыкшем к размышлениям, Тимур — человек, наделенный восприимчивым сознанием и острым умом, «интеллигентный», по выражению Кестлера, или, скорее, рассудочный — без идеологической поддержки действовать не мог. Однако ни национализм, ни расизм, ни религиозный фанатизм, противостоящий алтайской традиции терпимости, дать ее не могли, и ему пришлось искать в ином месте.
Он нашел ее одновременно и в исламе, и в Чингисхановом наследии, но не совсем так, как утверждает Груссе. Мусульманский архетип он мог открыть для себя во многих сурах Корана: «А самудян Мы вели прямым путем, но они полюбили слепоту вместо прямого пути, и постиг их молниеносный удар наказания низкого за то, что они приобретали!!» (41, 16). «Вот послали Мы на них ветер губительный, который не оставляет ничего, над чем пройдет, не превратив его в прах» (51, 41–42). «И убивайте их, где встретите… ведь соблазн — хуже, чем убиение!» (2, 187). Вот зачем он столь часто прибегает к
Что до Чингисовой идеологии, то следование ей было само собой разумеющимся: миссия монголов состояла в том, чтобы возвести единого монарха на трон мира, в насаждении «вселенского мира» (Котвич); и они преуспели и в том, и в другом ценой самого грандиозного кровопролития, когда-либо имевшего место.[21]
В последней трети XIV века человеческая жизнь стоила недорого. Погибать преждевременной смертью вошло в своего рода привычку. В продолжение менее чем полутора столетий произошло два грандиозных катаклизма, напоминавших собой конец света: монгольские нашествия 20-х годов XIII века и Великая чума 1346–1347 годов (та самая, что обрушилась и на Запад), уничтожившая в некоторых регионах 50 процентов населения, — так случилось, если верить подсчетам, в Сирии и Египте. Эти две катастрофы не обошлись без осложнений. Чума внезапно возвращалась; голод убивал тех, кого пощадила болезнь; монгольскому владычеству наследовал беспокойный феодализм, раздираемый постоянными конфликтами, а также абсурдные и жестокие тираны, не знавшие дисциплины племена, засевшие в недоступных горах разбойники, которые периодически совершали набеги на долины.
Все, или почти все, мечтали о порядке, покое, возобновлении хозяйственной деятельности и, кажется, были готовы пожертвовать для этого чем угодно. Эту точку зрения разделял Тимур. Его миссия (одна из многих) состояла в том, чтобы восстановить мир и обеспечить процветание. Дело было нешуточным, и он это знал лучше, нежели кто-либо. Платить предстояло дорого, и он заплатил сполна. Я убежден, что Великий эмир не любил ни крови, ни огня, и это отвечает истине, даже если благодаря привычке вкус к ним у него развился, и он с этим сжился. Он должен был убивать во имя «справедливого дела»: лучше сто тысяч смертей в один день, чем тысяча раз тысяча смертей на протяжении недель и годов. Не ошибаются те, кои утверждают, что он хотел поразить воображение посредством «хорошо поставленного спектакля о его разрушительной мощи» (Обен) и что, дабы реже прибегать к силе, он должен был ее демонстрировать чаще. Когда Тимур отдавал приказ уничтожить ту или иную столицу, он должен был рассуждать приблизительно так же, как американцы перед атомной бомбардировкой. К его несчастью, употреблявшиеся им меры были менее устрашающи, и каждый раз ему приходилось все начинать сначала. Однажды запустив процесс, остановить его он уже не мог. Когда бы японцы не капитулировали, разве американцы не бросили бы третьей, а затем и четвертой бомбы?
Однажды было учинено избиение особенно отвратительное, поскольку, если даже среди всеобщего возбуждения ему и не предшествовало хладнокровно принятое решение, то по меньшей мере оно не было вызвано ни необходимостью репрессивных мер (как, например, в Исфагане, где местное население предало смерти три тысячи Джагатаидов), ни бунтом, ни даже каким-либо инцидентом; речь идет об избиении в Лони, что неподалеку от Дели, когда было казнено несколько тысяч пленных индусов из-за того, что они представляли собой опасность для Тимурова воинства накануне сражения.
Предложение было выдвинуто не Тамерланом, однако он с ним согласился, когда выслушал мнение совета, и, стало быть, сознавал, насколько оно было чудовищным. Чувствуется, что он колебался, что в один момент остановился на краю пропасти, догадываясь, что многие из его окружения остановились бы тоже. Затем, не найдя другого выхода, решение принял: действительно, иметь у себя в тылу такую массу людей перед началом боевых действий означало подвергать себя значительному риску.
Оправдательные идеологии, безразличие к смерти, рожденное привычкой, вера в действенность примера, абсолютный прагматизм, убежденность в том, что цель оправдывает средства — таковы глубинные (и осознанные) причины Та-мерланового террора. Существовала еще одна причина — простая и непосредственного действия.
Обнаружить в армии Тимура сливки средневекового рыцарства невозможно. В основном она состояла из кочевников, ненавидевших город и в силу тысячелетнего атавизма стремившихся его разрушить и разграбить; из полудиких всадников, хмелевших от боя, о физической силе и выносливости которых нельзя даже догадываться, пока не убедишься в этом лично, как это произошло со мной, когда в Афганистане я первый раз присутствовал на бузкаши.
Надо видеть эту свирепую и великолепную игру, когда лошади сталкиваются на всем скаку, арапники хлещут по лицам, завязывается жаркое соревнование за болтающуюся на вытянутой руке овцу, чтобы понять, каковы были эти люди лет пятьсот назад и более, когда, не знавшие никакого удержу, хмельные от самих себя, они врезывались в перепуганную толпу горожан: великолепные дикари, с мощными руками, стальными мышцами, с лицами, покрытыми еще розовеющими шрамами. Тимур держал их в кулаке безусловной дисциплиной, требуя от них самообладания и умения делать усилие, что позволяло им выдерживать экстремальное напряжение. Они повиновались; они скрывали полыхавший в душах огонь под маской безразличия. Но внезапно он отпускал узду, посылая их убивать и умирать. Вдруг стряхнув с себя чары и получив свободу быть самими собой, они буквально взрывались. Тимур мог лишь устанавливать границы, через которые они не были вольны переступать: время, отведенное для грабежа; час его начала; лиц, коих надлежало пощадить, и т. д. Что удивительно, так это то, что ему удавалось заставить их эти ограничения соблюдать. По поводу остального… Не из лукавства или страха Тимур однажды предупредил свою камарилью: «Вскоре я уже не буду способен удерживать моих воинов».
Тимур понимал, знал, извинял и любил своих ратников, потому что их кровь текла в его жилах. И были моменты, когда этот приобщенный к культуре человек, друг художников и грамотеев, кондотьер Ренессанса становился, опьянев от сознания своей силы и бродящих в его крови атавизмов, просто одним из этих всадников.
Тимур исповедовал ислам и, разумеется, был привержен ему всем сердцем. Приписываемая его отцу набожность, частое посещение шейхов и дервишей во времена отрочества, глубокое знание шариата, им нарочно демонстрируемое, вполне достаточны для того, чтобы это доказать. Но это не означает, что, хотя Тамерлан и полагал себя ортодоксом, то есть суннитом, его ислам был чист от примесей. Обретаясь в Трансоксиане, тюрки и монголы в той или иной степени добровольно подверглись влиянию ислама. Иные, восприняв душою коранические наставления, приняли его по убеждению. Другие — и они составляли большинство — восприняли от него то, что могли, и создали в своем сознании некую смесь собственных верований и законов ислама. Среди наиболее честолюбивых и предусмотрительных имелись и такие, кто понял, что немусульманам на землях, глубоко исламизированных и, как мы еще увидим, после периода нестроений переживавших религиозную перестройку, сделать карьеру будет трудно, если вообще возможно. Не так просто заглянуть в душу человеку, чтобы понять, чего в ней кроется больше: искренности или лицемерия, веры или притворства. К примеру, не запрещено думать, что хан-Джагатаид Тоглуг-Тимур, желавший отвоевать Трансоксиану, чтобы полностью восстановить стародавний улус, перешел в другую веру из оппортунизма, но и ничто не доказывает, что принятый им до того закон не оказал влияния на его сознание. Тимур был мусульманином: эпоха Чингисхана миновала. Если бы Великий эмир им не был, ему пришлось бы им прикинуться.
Своими корнями Тимур все еще держался древней религии тюрок и монголов, того, что мы называем, за неимением более подходящего термина, шаманизмом, хотя он являлся, как сказал Мирче Элиаде, «архаической техникой экстаза» и объять собой всю суть религиозного феномена не мог. Это вероисповедание, история которого насчитывает тысячелетия, легло в основу Чингисова свода законов, если, конечно, сей кодекс, яса, не являлся его простым оформлением. То, что его приверженцы видели в нем религию, доказывает продолжатель «Всемирной истории» Рашидаддина, когда воспроизводит ответ монгольских вождей кипчакскому хану Узбеку, принявшему ислам и его пропагандировавшему. Они спросили его: «Так что же для вас наша религия? И для чего отказались вы от ясы ради закона арабского?» Ибн Арабшах узрел в Тимуре «плохого мусульманина», «предпочетшего Чингисханов закон закону ислама».
Для монголов вообще и для Джагатаидов в частности, считавшихся «сберегателями ясы», он был основой основ, без чего обойтись они не могли, не без причины видя в нем фундамент своей культуры и цивилизации, самое драгоценное наследство, гаранта сплоченности и национальной личности, и они с трудом выказывали снисхождение к тем, кои его не чтили или поступали с ним вольно. Разумеется, в землях, географически далеких от Монголии, там, где, будучи меньшинством, монголы находились в постоянном соприкосновении с другими культурами — китайской или исламской, они оказались частично ассимилированными и были вынуждены, как когда-то Сельджукиды после проникновения в мусульманский мир, искать компромисс между своим и чужими законами, уступая в одном, оказывая сопротивление в другом, а в третьем — создавая синтез. Напротив, на территории джагатайской империи, где монголы составляли большинство, а также на землях, отвечавших особенностям их кочевого образа жизни и где никакая другая религия не успела насадить свои этику и веру, они оказывались значительно менее терпимыми или, если угодно, более правоверными.
Несмотря на то, что Тоглуг-Тимур стал мусульманином, и ислам, так сказать, двинул вперед свои пешки, Трансоксиана, Хорасан и особенно Моголистан по-прежнему насчитывали немалое количество племен, крепко державшихся своих старых позиций. В период своей «постыдной» юности Тимур состоял на службе у «язычников» с Или, и общение с ними не могло не разбудить в нем, мусульманине, его атавизмов, как и не дать понять, что надлежало в значительной мере учитывать их убеждения и ритуалы, если он хотел привязать их к себе и привлечь к осуществлению своих замыслов. Сотрудничество с ними являлось для него условием, sine qua non,[22] поскольку они составляли ядро его войска. Таким образом, в лоне тимуридской цивилизации, представляющейся нам сугубо мусульманской, в этом человеке, из уст которого постоянно слышались такие слова, как «Аллах» и «джихад», в чьих руках сутки напролет обращались четки и в чьем стане неизменно находилась мечеть, мы волей-неволей ощущаем присутствие языческого субстрата.
Очертить места выхода наружу этого субстрата не очень просто, потому что между шаманизмом и исламом существует множество точек соприкосновения и уже давно некоторые элементы шаманизма сумели прижиться на мусульманской почве. Сугубое единобожие ислама не противоречит политеизму язычества, ибо, несмотря на своих многочисленных богов, легко ассимилируемых с ангелами и духами, шаманизм прежде всего акцентирует внимание своих приверженцев на могуществе Великого Бога, Неба, коего единственность, понятно, доказуема. Проведенные мной исследования позволили мне обрести почти абсолютную уверенность в том, что уже в IX веке тюркские традиции сделали необходимым развитие погребального искусства, порицаемого исламом, которое сумело тем не менее утвердиться на мусульманском Востоке. Возник интерес к художественному изображению человека и животных — вопреки абстрактным тенденциям искусства исламского, — по меньшей мере к многочисленным иконографическим темам. Во всяком случае, культурных фактов, свидетельствующих о действенности доисламского субстрата на мусульманском Востоке в эпоху Тимура, слишком много, чтобы мы питали сомнение на их счет, хотя до определенного времени это более предчувствовалось, нежели изучалось.
Невзирая на то, что Тимуриды вслед за средневековыми тюрками-мусульманами восприняли персидский язык и иранскую культуру, чингисидская культурная традиция, в значительной степени перенятая монголами у тюрок-уйгуров современного Синьцзяна, жизнестойкости не утратила.
Еще не имея письменной литературы, во времена царствования Чингисхана монголы усвоили уйгурский алфавит, чтобы использовать его для нужд своего языка, тем самым создав для него аудиторию дотоле ему не доступную, хотя уже имелось множество рукописей, доказывавших его жизнеспособность. Сильный преданностью Тимура, он выступал как достойный соперник алфавиту арабскому, обычно использовавшемуся всеми мусульманскими народами для транскрипции своих языков. Известно, что Великий эмир велел написать две официальные истории своего царствования — одну тюркскими стихами и уйгурской графикой (ныне утраченной), другую персидской прозой и арабской письменностью (пером Шами), один экземпляр которой уцелел. Древний тюрко-монгольский алфавит успешно боролся за свое существование и при Тимуровых последователях, несмотря на высокие темпы исламизации и аккультурации.[23] На нем написаны два
Мусульманский лунный календарь, по которому летоисчисление ведется от даты переселения (в 622 году) пророка в Медину (хиджра), имел серьезного соперника — древний календарь двенадцатилетнего цикла животных, происхождение которого, как мы теперь совершенно точно знаем, китайское, хотя тюрки переняли его довольно давно и с такой готовностью, что по прошествии времени сочинили несколько мифов о его изобретении и признают его не иначе как своим собственным. Это двойное летоисчисление, кстати, вовсе не облегчило работу хронистам, не всегда успешно справлявшимся с переходом от одного к другому, тем самым множилось количество сомнительных и ошибочных датировок.
Двойственность языковая (фарси и тюрки), алфавитная (азбуки арабская и монголо-тюркская), хронологическая (летоисчисления мусульманское и китайское), религиозная (ислам и шаманизм) вполне дает представление о двойственности цивилизации эпохи правления Тамерлана.
Очень характерно, как Тимур и его дети пытались доказать, что монголы — это всего лишь одно из тюркских племен, а также связать себя с Чингисханом. Отрицание монгольского этнико-лингвистического фактора, похоже, никогда не смущало и самих монголов. Оно громко прозвучало также в устах великого историка Рашидаддина, везира монгольских Ильханов, который неоднократно заявлял, что ни в Монголии, ни в Сибири сосуществование рас тюркской и монгольской никогда не имело места, и что всегда существовала только одна раса, тюркская, и что название «монгол» есть измышление. «Народы, коих нынче именуют монголами, в древности так не назывались, а данное название было придумано после того, как их время уже минуло… Да и сегодня монгольская нация представляет собой один из тюркских народов. Все другие тюркские племена получили это прозвище лишь благодаря славе и могуществу, добытым монголами. По этой же причине те же самые племена ранее носили прозвание татар. Татары сами являлись одним из наиболее прославленных тюркских племен».
Такое уравнение лишь облегчало Тимуридам решение задачи установления родства с Чингисханом. Они придумали себе предка по имени Карачар-нойон, прадед которого был братом Чингисхана, а коли он действительно существовал (что можно предположить, так как Рашидаддин знал его имя), то они установили его генеалогическое древо и великими деяниями изукрасили его историю.
Допустить, что Тамерлан являлся потомком Карачар-нойона, — это то же самое, что допустить истинность Чингисовой генеалогии, предшествовавшей жизни этих двух персонажей, и заодно мифа о происхождении великого завоевателя, мифа оригинального, впрочем, во всех отношениях соответствующего ментальности тюрко-монгольского шаманизма. Это немного напоминало то, как если бы вдруг католический король стал серьезно претендовать на свое происхождение от Зевса. Для такого мусульманина, как Тимур, и для всех мусульман вообще здесь имелось нечто, приводившее в смущение. Летописцы это чувствовали и попытались объясниться, правда, довольно неуклюже. Зато, согласно высочайшей воле, генеалогия, как и миф, были представлены наияснейшим образом в надписи, сделанной в Гур-Эмире, Тамерлановой гробнице, сопроводив их цитатой из Корана и сноской на Али, «человека несравненной красоты»,[24] что позволило мусульманам воспринять оные без особого труда. Впрочем, тому имелись прецеденты, так как обращенные в мусульман монголы уже неоднократно тщились доказать принадлежность их семей к родне пророка; кстати, не последний раз.
Надпись в Гур-Эмире содержит в себе восходящий перечень предков Чингисхана и Тимура, доведенный до персонажа, известного по монгольским источникам как Бодончар (или Бозончар), и уточняет: «Отец сего славного мужа не известен, разве что его мать Алан Гоа
Попытки установления родства Тимура с Чингисханом через побочные линии, похоже, удались не полностью, и наследникам Великого эмира пришлось развить эту линию, но без большого успеха. Как бы сознавая, что получить право на трон еще недостаточно, Тимур нашел разумным прятаться за марионеточных ханов. Однако, несмотря на прецедент, явленный эмиром Казаганом, данная мера предосторожности имела свои недостатки. Даже слепой способен понять, когда его дурачат. Противник, а также осторожный подданный могли увидеть несостоятельность ханов и ничтожность их положения; настоящий человек ясы почувствовал бы себя униженным. Тимурова пропаганда была вынуждена доказать, что он действовал согласно традиции и, в некоторой мере, следуя воле самого Чингисхана; с этой целью было придумано, будто бы Карачар-нойон получил от своего кузена приказ возвести на трон ханов-Джагатаидов, а также действительно управлять улусом. Для вящей убедительности она даже процитировала письменный договор, заключенный задолго до рождения обоих мужей и затем постоянно возобновлявшийся.
Летописец Али Язди так объясняет сложившееся положение вещей: «Когда Чингисхан отдал турецкую страну вплоть до Джихуна, отделяющего Туран[25] от Ирана, своему благородному сыну Джагатаю, он поручил его вместе со своим царством и войском, коим его взыскал, Карачар-нойону, потомку одного из своих дядей. Чингисхан рекомендовал ему своего сына настойчиво, поелику знал по своему опыту цену помощи, которую Карачар мог оказать его сыну. Так что хан Джагатай, уважая волю своего отца, не предпринимал никакого дела, не испросив совет и мнение
Этот текст показывает, до какой степени Тимуру хотелось вписаться в Чингисову линию; он же (текст) заканчивается фразой, перекликающейся с одним из языческих верований. Действительно, доисламские тюрко-монгольские народы верили, что человеческая душа орнитоморфна, то есть подобна птице, что она поселяется в том или ином теле, по смерти которого его покидает и вновь принимает свою первоначальную форму (форму одной из птиц, из которых самой большой является кречет), для того чтобы улететь на Небо. В надписях, обнаруженных в Монголии (VIII век), зачастую смерть описывают просто: «Он улетел» — или: «Он удалился, взмахнув крыльями» — почти всегда вкладывая эти слова в уста сына или брата. Позднее нашли более уместным называть то пернатое, в которое превратился покойник. В XVI столетии шах Бабур, будучи слишком мусульманином, чтобы верить в птицеобразную душу, тем не менее не постеснялся сказать о своих отце и деде, но только о них: «Они превратились в кречетов».
Особые отношения государя с Богом, — которые на христианском Западе подразумевают понятие единовластия в силу божественного права, а в Китае понятие божественного происхождения императора, Сына Неба, — предстают как нечто неотделимое от идеи царства. Они имеют место почти у всех народов и, естественно, у монотеистов. Было бы затруднительно сказать, — касаясь отношений Тимура с божеством, — в какую перспективу включал он себя: в мусульманскую или языческую (затруднительно тем более, что, подобно своим османским современникам, он называл себя «тенью Бога на земле»,
В начале грамот и царских указов (точно так же, как на некоторых монетах) называются, как у монголов, так и у Тимуридов, те горние силы, на которые ссылается государь, и замечательно то, что оба случая накладываются друг на друга с довольно значительной точностью. Начальные формулировки, используемые монголами, — при некотором их разнообразии, — вполне стереотипны; они хорошо известны и изучены. Из них следует, что Чингисхан говорит как от своего имени, так и повинуясь Небу, и что его наследники изъясняются от имени Неба и основателя династии — или, скорее, от имени чего-то, ему принадлежащего, именуемого
Как ни были парапсихологические способности Тимура спрятаны под исламской маской, они обладали коннотацией явно шаманического характера и проистекали из тех особых сношений, которые Эмир поддерживал с Небом в контексте, напоминавшем ситуацию, создавшуюся в сибирских и монгольских округах до прихода ислама. В обстановке постоянного соперничества между шаманами, специалистами по духовной части, привыкшими к «космическим странствиям» и контактам с духами, с одной стороны, и политическими властями с другой, эти последние могли взять верх над шаманами, всего только продемонстрировав превосходящую религиозно-магическую силу. Впрочем, их победа не обязательно бывала гарантированной. Был период (XI век), когда шаманы правили в большей части монгольских кланов. В другие времена «миряне» были вынуждены, преодолев страх, внушавшийся шаманами, их убивать. Говоря вообще, полезнее было им льстить и наделять различными привилегиями; именно так поступал Чингисхан со своим главным шаманом после того, как покончил с первым.
В Моголистане XIV века шаманов было много. Мы не уверены, что их нельзя было найти в Трансоксиане. Под личиной пользовавшихся всенародным доверием дервишей скрывалось немало шаманов, в большей или меньшей степени приобщенных к мистическим практикам ислама. «Я видел, — рассказывает некий современник, —
Ситуация была приблизительно такой, какая сложилась в эпоху Чингисхана, когда ему пришлось бороться за свой авторитет среди многочисленного и могущественного шаманского племени. И, как Великий завоеватель, Тамерлан тоже был вынужден осыпать священнослужителей милостями, объявлять себя Божьим избранником, пользующимся горней защитой, человеком, наделенным сверхъестественными способностями, и давать тому доказательства.
Сверхъестественными способностями Тимур обладал. Он поддерживал контакты с потусторонним миром посредством снов и с помощью посещавшего его существа, ангела, по понятию благожелателей, или демона, в представлении недругов, в действительности же некоего шаманического духа или чего-то по меньшей мере имеющего все его характеристики.
Несмотря на то, что Тамерлановы сношения с невидимым миром осуществлялись и существовали в тесной связи с трансоксианским суннитским дервишизмом, — благодаря чему в мусульманской среде он славился посвященным, а также, как таковой, имел право демонстрировать свои предсказательские способности и способность читать чужие мысли, — они явно носили характер шаманических пережитков.
Его спонтанные реакции были реакциями язычника. Когда, например, одержав победу над Тохтамышем, Тимур прямо на поле боя упал на колени, чтобы возблагодарить Небо, он напоминал собою Аттилу или любого иного вождя кочевников первой половины первого тысячелетия нашей эры. Как великий шаман, он мог совершить вознесение на Небо с помощью лестницы, по которой поднимался на сороковую ступеньку; как все языческие монгольские государи, он восходил на холмы, чтобы выразить Создателю признательность за дарованную победу — именно это сделал Тимур в сопровождении принцев и нойонов после битвы 28 мая 1393 года под Ширазом. Каков был ритуал восхождения — факта замечательного с точки зрения религиозного опыта человечества, о котором христиане предоставили столь яркие свидетельства, — можно догадаться по довольно путаному рассказу о том, как в апреле 1391 года Тамерлан поднимался на Сюбюр-Тенгиз, смысла чего автор повести не уловил и объяснил его желанием увидеть следы постоянно скрывавшегося врага. Помимо прочего в повести сообщается, что перед спуском с горы Великий эмир велел сложить из камней башню и написать на ней дату нахождения в том месте его армии; возможно, она еще сохранилась. Сей удивительный памятник, вероятно, представлял собой башню исключительных размеров или нечто памятное и магическое, подобное тем сооружениям, возводить которые имели традицию жившие в Монголии уйгуры. Неизвестно, последовал ли по этому случаю Тамерлан монгольскому обычаю снимать шапку и вешать на шею пояс в знак подчинения божеству (так поступали монголы, когда хотели объявить о признании своей вассальной зависимости), но несомненно то, что ритуал забыт не был, поскольку он оставался в силе и позднее, во времена Бабура.
Одной из наиболее замечательных особенностей древней тюрко-монгольской религии была ее крайняя терпимость, а также интерес, который ее адепты проявляли к иным вероисповеданиям, равно как уважение, оказываемое ими их священникам. Подобное любопытство подтолкнуло многих тюрок к переходу во вселенские религии. Так среди них появились несториане, даосцы, буддисты, манихеи и иудеи. Сельджукиды и монголы довольно ловко умели убеждать в их особенной симпатии к тому или иному учению и в непременном их скором обращении… когда из этого могли извлечь некоторую выгоду. Сделавшись мусульманами, они, казалось, принимали всем сердцем ислам, ратовали за «священную войну», но об обращении других, за редким исключением, заботились мало и, одержав победу, оставляли новых вассалов свободно исповедовать их веру. Не приходится удивляться тому, что такой способ действий избрал и Тимур, который, однако, был более сдержан, чем ему подобные, скорее всего потому, что при всем своем желании следовать ясе он должен был выглядеть прилично в глазах своих мусульманских подданных.
Уважительное отношение к служителям культа теоретически основывалось на убеждении, прекрасно выраженном Чингисидами, в том, что их единственным предназначением было молить Бога, в частности (поскольку их просили, а они обязательно это делали), о продлении жизни императора. В действительности же уважение в значительной части держалось на страхе, внушавшемся людьми, якобы находящимися в сношениях с божеством и, следовательно, наделенными особенными способностями. Как ни велико было это почтение, оно имело свои границы. Когда вспыхивал конфликт между политическими властями и авторитетами культовыми, одна из сторон должна была уступить, и случалось так, что победа первой достигалась посредством умерщвления одного или нескольких представителей второй. Естественно, делалось все, чтобы до этого не доходило, и, когда вырабатывался приемлемый для обеих сторон modus vivendi,[26] политические власти проявляли немалую заботу об удовлетворении священнослужителей, прежде всего освобождая их от поборов и принудительных общественных работ. У нас в руках имеется значительное количество монгольских указов о «льготах», касавшихся различных общин, таким образом оказывавшихся под защитой государства.
Мы уже упоминали об отношениях Тимура с дервишами, о том, как он использовал их в целях пропаганды, а также об охранных мерах, принимавшихся им для того, чтобы их не убивали и не притесняли. Особенно любопытно отметить, что руководство к действию он находил в тех же источниках, что и монголы-«язычники». Он верил, что аскеты, богословы и дервиши — это люди, озабоченные только размышлениями о будущей жизни и божественных предначертаниях. Из религиозной элиты своего государства он выбрал несколько наиболее набожных людей и поручил им оказывать ему помощь своими молитвами и, судя по его словам, был ими весьма доволен.
Нет ничего, что указывало бы на то, что под свою защиту он брал священников немусульманских, но наши сведения об этом вопросе могут быть неполными. Ибн Арабшах обвиняет Тимура в том, что в его армии — в той самой, которую он именовал армией ислама, — служили нечестивцы, носившие с собой своих идолов. Да, восточнохристианские Церкви пострадали очень, но больше ли, чем мусульмане? В том, что по окончании боев они оказывались в более притесненном положении, уверенности нет. Тимур брал на службу христиан-грузин точно так же, как хорасанцев. Клавихо собственными глазами видел возле входа в царский шатер большую красивую икону святых Петра и Павла с Евангелием в руках, отнятую у османов, которые, в свою очередь, отобрали ее у византийцев — терпимость, какую ни тогда, ни сегодня не позволил бы себе истый мусульманин. Визит в Канабин, местонахождение маронитского патриархата в Ливане, явил нам Тимура в ситуации весьма оригинальной: встреченный как государь, он отстоял службу и, приняв участие в трапезе священников, объявил, что их жизнь ему понравилась. Иоанн Султанийский в своем «Libellus»’е заявил, что боязнь того, что Тимур испытывал ненависть к христианам, рассеялась после того, как он побеседовал с двумя доминиканцами.
Но, как уже отмечалось, забота Великого эмира о благополучии «мэтров от ислама» не мешала ему при случае вступать с ними в конфликт и даже предавать смерти. Он выказал полную безжалостность к остаткам слишком знаменитых аламутских исмаилитов. В 1383 году он приказал уничтожить саидов
Что касается солдатни, то она, если не получала специального приказа, о сохранности жизней священнослужителей и священных предметов заботилась мало. Так, в 1393 году в предместьях Багдада воины сожгли
Нам неизвестно, сохранил ли Тимур привилегии, назначенные монгольскими ханами христианам и буддистам, оказавшимся в его государстве, и у нас в руках не имеется ни одного указа о льготах, подписанного им; но, похоже, что враждебности к ним он не испытывал (возможно, и более того), если судить по тому, что его последователи эти указы издавали, и как раз они до нас дошли. Как по форме, так и по сути они почти ничем не отличаются от указов Чингисовых. Один из указов Шахруха, адресованный некоему буддийскому монастырю в Маймане (север Афганистана), гласит: «Да не потребует никто от держателя сего указа денег, не нашлет на него мытарей, не принудит его к ловецким облавам».
Один из способов проявления тюрко-монголами своего любопытства и интереса к религиозным вопросам заключался в организации диспутов между приверженцами различных конфессий. В этом отношении Тимур не отступил от традиции, хотя и ограничивался приглашением богословов суннитских и шиитских. Скорее всего материальные условия той эпохи не позволяли обеспечить участие в диспутах христиан, буддистов и шаманистов; впрочем, утверждать это можно лишь с оговоркой. В Дамаске, например, Тамерлан организовал дискуссию между теологами персидскими и сирийскими. В Байлакане он созвал ученых и знатоков-законоведов, предложив им подискутировать о Божественном, о жизни, о смерти и человеческой судьбе. Завоевав Анатолию, он «каждый вечер» собирал шейхов и ученых с тем, чтобы они вели споры в его присутствии. В бытность в Алеппо он потребовал от писцов назвать имена его воинов и мамлюков, погибших в сражениях, которые были бы достойны звания мучеников.
Али Язди писал, что Тимур постоянно находился в окружении мусульманских теологов, юристов и уйгурских
Как мы уже отмечали, между ясой и шариатом имеются точки соприкосновения, однако существуют и непреодолимые противоречия. Они были и оставались главным препятствием для исламизации тюрок и монголов, хотя эти народы, принимая ислам, порой обходили трудности, ловко находя компромиссы или продолжая тайно исповедовать традиционные культы. Доказательства этого я получил, когда работал в Анатолии в шиитских племенах (алеви) лесорубов тахтаджи, много веков назад вошедших в состав уммы. Что касается Тимуридского государства, здесь пока больше предположений, чем определенности.
Исходя из общей идеи, что душа (или одна из душ) содержится в крови, ислам и тюрко-монгольская религия пришли к выводам прямо противоположным. Ислам требует, чтобы перед употреблением в пищу из животного выпускали всю кровь, дабы в желудок человека она не попадала; алтайская религия требует, чтобы не было пролито ни единой капли крови как животных, так и знатных людей (государей, членов их семей, шаманов, священнослужителей).
Как обстояло дело в Тимуровом царстве с животными, неизвестно. Но там практиковалось принесение в жертву лошади, что является основным ритуальным чином у степняков. Так, во время очередной болезни, в 1392 году, Тамерлан велел зарезать одну лошадь ездовую и одну вьючную, разумеется, в надежде на выздоровление. Принесение в жертву лошадей в исламском мире не практикуется, и мусульманское богословие в отличие от народных верований какой-либо пользы для правоверных в этом не видит.
Очень строго соблюдался при Тимуре, как у всех тюркских народов, запрет на пролитие крови лиц вельможных. Их умерщвляли посредством повешения или удушения, дабы обеспечить их будущую жизнь или, скорее, чтобы дать им возможность воскреснуть, что было бы невозможно, когда бы душа покинула тело. Увы, о судьбе простолюдинов post mortem[27] не заботились; их можно было резать, обезглавливать, отрубать им руки, ноги…
Насколько мне известно, каких-либо сведений о том, как Тимур решил задачу основополагающего различия между установками ясы и шариата относительно нечистоты, коей причиной являются кровь, экскременты и половые отношения, не существует. Напомним, что шариат полагает омовение обязательным, тогда как яса его запрещает категорически из боязни загрязнения воды. Это стало причиной многих осложнений, возникших в Тамерлановом войске, точно так же, как нынче они присутствуют во взаимоотношениях между ревностными мусульманами и их поверхностно исламизированными соседями, что было мною отмечено у вышеупомянутых тахтаджи.
Кажется сомнительным, чтобы объявившее себя исламским Тимурово царство было воспринято как таковое попавшим туда правоверным мусульманином, сведущим в своей религии. Увиденное им должно было его удивить. Тюрбана, прославляемого Кораном, и основную часть мусульманской одежды, не носил никто, зато у всех имелись монгольские шапки. Волосы не стриглись, а заплетались в косицы, которые спускались до самых плеч или укладывались на голове в виде шиньонов. В этом был некий символический смысл, и не случайно, когда Тимуров племянник под Дамаском, предав своих, перебежал к арабам, ему тут же обрезали косы и переодели. Пили много и вина, и
То же самое происходило в ходе церемонии введения во власть государя
Чаша появлялась и во время развертывания знамен, предшествовавшего каждому походу и являвшегося одной из главных церемоний по меньшей мере с периода правления Чингисхана, практиковавшегося и при Бабуре, который оставил для нас его подробное описание. Хотя речь и идет о ритуале, священные знамена флагами не являлись, вместо них были туги: длинные древки, верхний конец которых венчали хвосты яков или лошадей (в странах, где яки не водились), которых могло быть до девяти штук. Туг, очевидно, являлся наследником тех бунчуков, кои у древних тюрок украшали головы или фигуры волка, животного-предка; у скифов его место занимали различные статуэтки из бронзы или золота, по которым сегодня мы можем изучать анималистическое искусство степняков. Уже было сказано о той силе, которая приписывалась черепам; во многих цивилизациях она признавалась и за хвостами, которые были призваны заменить собой мертвые головы.
Церемония протекала так: в землю втыкался туг; к большой берцовой кости быка, которого за рога держал жрец, привязывался лоскут белой ткани; государь и иные присутствовавшие на действе плескали кумысом на хвосты туга, звучали барабаны и трубы; издав хором громкое восклицание, воины принимались кружиться на лошадях вокруг туга, испуская звуки, похожие на завывание.
Все эти ритуальные действа уходят корнями в тюрко-монгольские языческие традиции. Каждый элемент церемонии: плескание перебродившим кобыльим молоком; крики; скачки по кругу; почитание силы, содержащейся в костях, — известен из наблюдений, предпринятых в других местах; что касается мистической берцовой кости именно быка, то здесь наверняка есть о чем поговорить, и скорее всего это связано с некими космологическими мифами или, вернее, с па-ратотемическими корнями, которые могли существовать между Джагатаидами и данным видом животных. Небезызвестно, что многие центральноазиатские народы считают быка своим предком. Коли это так, то, наверно, можно объяснить, почему Тимур пользовался золотым скипетром, навершие которого имело вид бычьей головы, тогда как других изображений рогатого скота в его гербе не было.
Разобраться в эмблематике, использовавшейся Тимуром и Тимуридами, довольно сложно, и все, что можно сказать определенно, — это то, что она основана на мифологии степных народов. Гербом самого Великого эмира, скорее всего, был увенчанный солнечным диском лев; подобная композиция встречается, начиная с сельджукидского XII века, на керамических изделиях и зданиях; в Иране она используется еще и сегодня. Совершенно напрасно иные видят в ней «идущего на фоне солнца льва», «сидящее на львиной спине солнце»; на тюркском языке это светило называется «шир сувар», то есть «едущий на льве». Почти наверняка здесь мы имеем дело с иллюстрацией к мифу об оплодотворении льва (львицы) небесным светом, мифу, возможно, успевшему исламизироваться: звание «Божьего Льва» было присвоено Али.
На первых Тимуровых знаменах было изображено три кольца, объяснения чего я нигде не нахожу. В 1392 году перед походом на Иран он обзавелся черным знаменем, украшенным серебряным драконом. Память об этом не утратилась: чудовище и позднее служило навершием тугов; его можно увидеть на штандартах, изображавшихся на миниатюрах XVI века, иллюстрирующих жизнь Тимура, которые хранятся в Стамбуле. Даже если дракон был принят в знак верноподданнических чувств по отношению к Китаю, он не был чужим — по меньшей мере со времен Сельджукидов — и в мусульманском мире, где он представлял (если судить по тому, как и где его помещали архитекторы, а также по извивам его тела) годовой цикл смены сезонов (дракон, как явствует из мифов, зиму проводил под землей, а лето на небе), а также космическое вращение («Посмотри на дракона: он крутится не переставая», — говорится в одном из тюркских текстов XI века).
Центральноазиатские мотивы широко использовались в свадебных и погребальных церемониях. Для будущих супругов ставили новый шатер и во время свадьбы им девять раз меняли одежды и венцы. Траур мог длиться, как и у древних тюрок, сорок дней; заканчивался он общей тризной,
Женщины лиц не закрывали и от мужчин не отделялись. Каждая украшала себя высокой прической, напоминавшей собой шлем с гребнем, в действительности же — лоскутами ткани с золотой ниткой и венками; все это венчала диадема с высоким султаном из перьев, в чем легко узнается монгольская, изготовлявшаяся из ивовых прутьев бокка, в которой иные склонны видеть прообраз остроконечного хеннинка европейских средневековых дам. Женщины были вольны уходить и приходить; они участвовали в устройстве празднеств, принимали мужчин и женщин и иногда возглавляли трапезы. Они ездили на лошадях, охотились, на скачках выступали соперницами мальчиков; если верить Ибн Арабшаху, некоторые из них сражались в Тимуровой армии. Во время парадных шествий их можно было увидеть танцующими в образе косуль, тогда как одетые в соответствующие шкуры мужчины изображали тигров и леопардов.
Женщины могли делить между собой одного и того же мужчину, так как полигамия была распространена как в традиционных тюркских обществах, так и в мире мусульманском. Ислам попытался ввести определенные ограничения: до четырех законных жен, — но в этой этической борьбе победы не одержал. Степняки всегда тяготели к моногамии, и если, скорее по политическим причинам, они и обзаводились несколькими женами, несмотря на требования шариата, равных прав все женщины не получали: всегда имелась «госпожа», как при императоре императрица. При Тимуровом дворе, где все его четыре жены были одеваемы одинаково, лишь одна носила титул величества,
Охотно брали в жены дочерей поверженных врагов, а также, как в стародавние времена, их жен, предварительно предав смерти самих мужей. Похоже, это делалось не только затем, чтобы превратить побежденных в союзников и обрести вожделенное звание зятя (единственное действительно почетное звание Тимура), но более для того, чтобы ритуальным образом отметить победу и перенять некоторые достоинства униженных государей. Браки такого рода были в ходу в XIV столетии как в кругах Тимуридов, так и у их соседей. Подобным образом Тамерлан женился на дочерях джагатайских и моголистанских ханов; своему сыну он дал в жены дочь хорезмшаха, Хан-заде. Точно так же поступил в 1380 году кара-коюнлу Кара-Ахмед, который, разбив мардинского тюрка-артукида Малика Ису, привел на супружеское ложе его дочь.
Другой матримониальный обычай, заведенный взамен древнего правила, требовавшего убивать жену, когда умирал ее муж, чтобы дать ему возможность оставить ее при себе для потусторонней жизни, обязывал оную выйти вторым браком за сына своего мужа, если она не доводилась ему матерью, или, за неимением такового, за одного из молодых деверей. Данный обычай, должно быть, пользовался успехом, ежели судить по тому, что он был применен к достославной Хан-заде, вышедшей замуж сначала за Джахангира, а затем за Мираншаха; она, в самом деле, была красавицей.
Яса, как и шариат, карали адюльтер смертной казнью. Но следует видеть вот какую разницу. Кораническое законодательство усматривало в данном случае преступление только применительно к женщине, правда, делая все, чтобы оно не стало достоянием площади. Яса считала преступниками обоих партнеров, и всякому заставшему оных на месте блудочинения позволялось их убить. В свое время я допустил ошибку, когда высказал мысль о том, что у тюрко-монголов адюльтер был наказуем лишь в случае, если он совершался внутри племени или клана, и допускался за его рамками — у чужестранцев или врагов. Сегодня более тщательный анализ показывает, что он был запрещен во всех случаях, что побуждало убивать и того, кто не смог удержать похотливых чувств по отношению к чужой жене.
Невзирая на строгость тимуридского закона в том, что касалось нравов,[29] снисходительное отношение сохранялось к особым традициям некоторых подчиненных народов: сакральная проституция, предложение супруги гостю и т. д. Похоже, был в обиходе еще один странный обряд, который в свое время красочно описал Марко Поло: имеется в виду посмертное бракосочетание двух юных существ, скончавшихся до наступления брачного возраста.
Содомиты и колдуны, должно быть, карались смертью, как это предусматривалось Чингисовым законодательством. Но что касается первых, то во время разграбления городов на них смотрели сквозь пальцы: в нашем распоряжении имеется слишком много свидетельств о принародном изнасиловании мальчиков и девочек. Что же до вторых, то шаманы и прочие доброжелательные маги свободно практиковали насилие над девочками; очевидно, наказания ждали магов черных, зловредных, которые своими действиями наносили какой-либо урон.
В Тимуровом царстве имелась целая когорта магов, ядаджи, специализировавшихся на вызывании дождя, когда надо было прекратить пожар или засуху, а также помешать передвижениям противника. Хотя они были известны давно, еще с эпохи монгольских завоеваний, в списке Тимурова воинства их не значилось; зато они присутствовали у монголов, а также у последователей Тамерлана. Известно, как пострадали от них Великий эмир и его союзник Хусейн во время так называемой «битвы в трясине».
Портрет Тамерлана. Миниатюра XV в. Возможно, копия с более раннего оригинала.
Силуэт и внешний вид мазара Чашма-Аюб
Строительство здания при Тамерлане.
Взятие Самарканда войсками Чингисхана.
Самарканд — любимая столица Тамерлана. Общий вид руин Биби-Ханым.
Двор мечети Биби-Ханым. Реконструкция.
Ансамбль Шахи-Зинда.
Шахи-Зинда. Внутренний дворик одной из групп мавзолеев.
Шахи-Зинда. Входной портал ансамбля Мухаммед-султана (внука Тамерлана).
Шахи-Зинда. Мавзолей одной из жен Тамерлана Туман-Ака — самый красивый и трогательный из всех существующих на Земле мавзолеев.
Главная святыня Шахи-Зинда — надгробие надо могилой Кусама ибн Аббаса, почитаемого мусульманского святого.
Шахи-Зинда. Мавзолей Казы-заде Руми, редкого ученого-астронома — обладателя собственного мавзолея.
Бабур — Тимурид, основатель династии Великих Моголов в Индии.
Бабур закладывает «Сад верности» в Кабуле, который он покорил в 1504 году, в начале своего пути к могуществу. Любитель природы, Бабур устраивал сады повсюду, чьи бы земли он ни завоевывал.
Внук Тамерлана Улугбек.
Остатки секстанта обсерватории Улугбека
Самарканд. Медресе Улугбека. 1420.
Гробница Хафиза, великого персидского поэта, с которым, возможно, встречался Тамерлан.
Страница из дивана Хафиза.
Серебряный подсвечник из мечети Ясави — великого мистика Центральной Азии, над чьей могилой по воле Тамерлана был воздвигнут мавзолей.
Портрет художника. Копия с работы Джентиле Беллини, приписываемая Бехзаду.
Коран Аргус Шаха.
План и макет мечети.
«Шелковый путь»
«Красный» мост на реке Храмчай, через который проходил караванный путь.
Охранник у ворот караван-сарая. В нем можно было погреться, переночевать, укрыться от врагов.
Комплект из шахматных фигур: вверху — пешки, ферзь, конь; внизу — слон, ладья, король.
Фрагменты керамики.
Поливной изразец из Самарканда.
Деталь деревянной двери из Гур-Эмира.
Усыпальница Тамерлана Гур-Эмир.
В XIII столетии над исламом нависла смертельная угроза. Он полностью лишился политической власти как в Центральной Азии, так и на Среднем Востоке, за вычетом нескольких провинций. На идеологическом фронте он перешел к обороне без особой надежды на успех, тогда как латинский Запад с его Крестовыми походами наступал удручающе напористо. Годы 1256–1258 выдались особенно тяжелыми. В 1256 году монголы окончательно расправились с сектой шиитов-исмаилитов (в борьбе с которой обнаружили свое бессилие Сельджукиды), разорив их «орлиное гнездо» в Аламуте, где спасался их верховный вождь, тем самым положив конец террористическому режиму, основанному на политическом преступлении. В 1258 году они заняли Багдад, предали смерти халифа и уничтожили аббасидский халифат, наследники которого бежали в Египет. Так, впервые сунниты были лишены власти в Азии и оказались принужденными повиноваться немусульманскому правительству, к тому же зачастую враждебному исламу. Для них это явилось уроном, вроде бы непоправимым, так как они лишились мирского авторитета и главенствования, которыми всегда пользовались для утверждения своей духовной гегемонии. Шииты, чьи средства политического воздействия тоже ослабли, страдали от этого в меньшей степени. Согласно их учению, всякая власть была узурпированной и править ими мог лишь некий сокровенный имам, существо умозрительное, но живое, от которого они ждали — по его явлении — спасения для своей общины. Упразднение халифата их огорчило не слишком: страдая от постоянного неприятия его, шииты полагали, что он чрезмерно их преследовал.
Оказавшиеся в большой прибыли в результате этой операции, христиане незамедлительно примкнули к монголам, поддержали их военные предприятия и возгласили им хвалу. При всей их многочисленности они являлись вассалами с самого первого дня арабского нашествия. Сказать, что вкупе с латинянами они составляли большинство населения арабской страны, нельзя; однако их прослойка была значительной: исламизация не то же самое, что арабизация. И потом не обязательно все были арабизированы, разве что армяне! Еще восемь столетий спустя по-прежнему там имелись египетские копты, ливанские марониты и прочие якобиты, что позволяет нам тешить себя догадками о жизнестойкости христианства в сложных условиях средневекового Востока.
Иной обстановка была только в Иране. Арабизация в нем провалилась и народ все так же говорил на фарси. Исламизация, напротив, достигла серьезных успехов: в XII и XIV веках Иран являлся наиболее исламизированной страной, несмотря на присутствие тюркских племен, которые там закрепились еще в XI столетии и продолжали прибывать во все возрастающем количестве. Таким образом, он более всех пострадал от откровенно антимусульманской политики, проводившейся в продолжение полувека Ильханами, чьи государи Хулагу (1255–1265), Абака (1256–1282) и Аргун (1282–1291) являлись буддистами или благосклонными к нему и были женаты на христианках-несторианках.
Несомненное превосходство мусульманской цивилизации, очевидно, стало главной причиной того, что ислам в конце концов оказался привлекательным для всех монгольских правителей Западной Азии и, следственно, — его победы. Хотя это было странно для общества, основанного на терпимости и любопытстве по отношению ко всем религиям. Было ясно, что обращение ханов не могло не повлечь за собой, по крайней мере в долгосрочной перспективе, обращение их подданных. Часто ошибавшиеся в своей восточной политике латиняне это поняли; так, Рикольдо де Монте Кроче утверждал, что христианизация татар осуществлялась через их государей и государыней и что Запад отнесся к принятию исламского закона Ильханом Газаном (1295–1304) как к событию чрезвычайной важности для христианского мира. Политика cujus regio, ejus religio[30] не была политикой тюрко-монголов. И все же, невзирая на страстность их встречи с исламом и сдержанность, необходимо рождающуюся при сопоставлении свойств таких разных цивилизаций, они прилеплялись к нему с легким сердцем. Переходя в ислам, Ильханы приказывали монголам следовать за ними; монаха делает облачение: они велели своим подданным впредь носить тюрбаны. Когда в 1381 году Тимур спросил Хваджу Али, правителя сербадарской «республики», каковы его религиозные убеждения, тот ответил, как хороший придворный, но явно откровенно: «Люди веруют в то, во что верует их государь; моя религия та же, что и у эмира». Словно эхо, Бабур в свое время заявил: «Как правило, народы следуют вероисповеданию своего монарха».
Обращение в ислам монгольских государей в различных улусах происходило в разное время, но повсеместно закончилось еще при Тамерлане. Первыми исламизировались Ильханы Газан и Ольджу (1304–1316), хотя последний родился христианином. В Золотой Орде исламизация пошла полным ходом, начиная со времени правления Туда Менгу (1280–1287), который был набожен, соблюдал посты, практиковал самоистязания, постоянно окружал себя шейхами и
Некоторые источники настойчиво указывают на разгул мусульманского насилия (как в Алмалыке, так и в других местах), направленного против инаковерующих. Его факт несомненен, но оно явно не являлось более злостным, чем злодеяния, совершенные христианами в предыдущем столетии; и то и другое объясняется одинаковым стремлением к реваншу. К примеру, во времена правления Газана эмир Науруз отдал приказ разрушить в Тебризе церкви, синагоги, алтари огнепоклонников и все пагоды; по улицам носили иконы и изображения Будды якобы в ритуальных целях, но потом их побросали в костры. Увы, за несколько десятилетий невозможно искоренить ту или иную веру, культуру и философию, особенно когда их исповедуют высшие круги. Преследования патриарха Map Ябаллаха Третьего кончились его полной реабилитацией — по меньшей мере на некоторое время, ибо в 1310 году он подвергся нападкам снова.
Авторами реставрации ислама, особенно интенсивной в Иране второй половины XIV столетия, были вовсе не тюрко-монгольские правители, эти неофиты, зачастую оппортунисты, а иранские феодалы, а также мусульманские мистические ордены. Некоторые историки вслед за турецким ученым М. Ф. Кёпрюлю полагали, будто бы эта реставрация совершалась против ясы, но анализ фактов не позволяет поддерживать сей тезис. В действительности она была нацелена на лаксизм, примиренчество и попустительство, порожденные Чингисовым законом, но никак не против ясы, она критиковалась лишь для проформы. Муизаддин Пир-Хусейн, в 1349 году объявивший себе султаном Герата, при этом рискуя нарушить положения ясы, поддерживал самые лучшие отношения с ханом Тугай-Тимуром, женившись на одной из его дочерей, которая со временем родила ему наследника. Его воззвание к населению провинций, где говорилось о необходимости возвращения к шариату, касалось только мусульман, кои, опираясь на него, вели себя слишком вольно. «Мы повелеваем, — говорил он, — чтобы во всей стране соблюдались наши приказы и запреты, чтобы было покончено со всеми обычаями неверных, доселе остающихся на землях ислама, и чтобы законными считались только дела, совершающиеся согласно кораническому закону».
Одной из наиболее в ту пору активных религиозных конгрегации была совершенно новая конгрегация накшбандийцев, основанная в Трансоксиане Накшбандом (1317–1389), целью которой являлось насаждение почтительного отношения к шариату и ни к чему другому, кроме него. Ее суннизм сохранил свою строгость до наших дней, и ее члены сумели это доказать многократно, как, например, после синкретического эксперимента Великого Могола Акбара в Индии, на который они отреагировали с решительностью, нимало не ослабевшей с XIV века. На персидском языке они общались с таджиками. Что касается глубокой мусульманской культуры, то апостольствовать в народе они предоставили ясавитам, сторонникам великого мистика Ахмеда Ясави (ум. 1166 или 1167), некоторые духовные принципы которого они разделяли, несмотря на ритуальные и доктринальные расхождения. Исламизированные или нет, племена чтили память Ясави и зачастую ему поклонялись, как святому, что делало возможным определенное сближение обеих цивилизаций, на что Тимур не преминул опереться; со всем этим, как ни благоволил он дервишам, его симпатия к ясавитам была заметнее и, быть может, беря в рассуждение, что шейхи-накшбандийцы принадлежали к их философской школе, так уважительно к ним относился.
Параллельно с суннитским движением существовали, порой более мощные и многочисленные, движения шиитские, в той или иной мере экстремистские и существенно лучше приспособленные к восприятию языческого субстрата тюрко-монголов. Некоторые конгрегации, как, например, конгрегация хальватийцев, созданная в Хорезме усердием Мухаммеда Хальвати, умершего в 1350 году, и распространившая свое влияние в Восточном Иране, считаются мистическими братствами, а также проявлениями дервишизма второго порядка, существующими на грани принадлежности к исламу; опираясь на сочувствие, которым пользовались мистические ордены и все шейхи, извлечь пользу из реставрации они сумели.
Подобно почти всем тюркским государям, Тимур отдавал предпочтение суннитам; однако он не производил впечатление истового ортодокса и умел, следуя необходимости, использовать как суннитов, так и шиитов. В Хорасане он казался безупречным приверженцем сунны; в Сирии он изобразил из себя покровителя алидов; в Нижнем Ираке, где шиизм был весьма живуч (но также и в Багдаде, где шиитов имелось меньше), он посадил на управление вождей сербадаров-шиитов, справедливо рассудив, что они могли привлечь на его сторону наиболее умеренных из местного населения.
Многие из этих религиозных движений демонстрировали откровенную враждебность к сильным мира сего, богачам и власть предержащим, не в духе классовой борьбы, конечно, но из обиды на то, что те не баловали их ни вниманием, ни уважением, по их убеждению, ими заслуженными. Будучи удостоенными того или другого, они коренным образом меняли свои идеологические воззрения и изъявляли готовность поддерживать тех, коих накануне поносили. Невзирая на то, что они служили постоянной мишенью для недоверчивых и подозрительных ортодоксальных кругов, уши народа, которому они так долго льстили, были в их распоряжении, и Тимур со временем прекрасно понял, как полезно было бы их поддерживать. Села и города изобиловали людьми, выдававшими себя за верующих, на деле являвшимися таковыми в очень малой степени. Поскольку монголы их одаривали привилегиями и освобождали от налогов, принадлежность к ним была соблазнительна. Вероятно, оттого, что она оказалась соблазнительной слишком, конгрегации уже не могли прокормить своих членов. Однако оживление дервишизма и проявленный к нему интерес со стороны Тимура привели к тому, что служители культа вновь оказались в первых рядах государственных чиновников. Даже когда они были совершенно безразличны к исламу, им, втянутым в игру, не оставалось ничего другого, как служить ему так же усердно, как это делали истинные мусульмане.
В первые века христианской эры иудеи распространились по всей Азии, иногда добиваясь значительных успехов, в частности среди тюрок-хазаров (ок. 840). Их появление в китайском Туркестане восходит по меньшей мере к VIII столетию, как свидетельствует некий древнееврейский манускрипт, найденный в Турфане. Укоренение их в Иране и Трансоксиане совершилось, естественно, ранее и отличалось прочностью. Особенно многочисленны они были в уделах Золотой Орды, в том числе в Сарае, где, как отмечает географ аль-Омари, они вели себя весьма активно. Финансисты, менялы и лекари, они сделались необходимыми благодаря своим финансовым возможностям, умению обращаться с деньгами и международной сети, которую сформировали вкупе с единоверцами из других регионов мира; ценили иудеев и за действенность проводимого ими лечения. Вот почему монголы доверяли им важные должности, нередко самые ответственные, и те, в свою очередь, пристраивали на «теплые» места своих родных и клиентов. Известно, например, что лекарь-еврей Саадад-Даула, советник и врач Аргуна, получил от него часть верховной власти и, пользуясь его абсолютным доверием, исполнял ее с 1281 по 1291 год.
Все это не вызвать зависти и ненависти не могло. Реставрация ислама очень скоро возвела перед евреями барьер, и им пришлось обращаться в мусульман, чтобы сохранить возможность вхождения во власть. Одни совершали это по убеждению, другие — из корыстных интересов. Для установления искренности их веры вошло в обычай (скорее всего не без подсказки одного из них, а именно знаменитого Рашидаддина, который выказал себя столь же зловредным человеком, сколь успешным администратором и гениальным историком) давать им съесть суп из верблюжатины, сваренной в кислом молоке, на что мозаичный закон накладывал двойной запрет, что, впрочем, не помешало состояться многим большим карьерам, например карьере того же Рашидаддина.
Хотя позиции иудаизма и поколебались в результате падения монгольского улуса в Иране, евреи оставались самыми благополучными в XIV столетии, и если они оказались жертвами Тимура, то в не большей мере, чем остальные богачи, подвергшиеся вымогательству во всех захваченных городах. Согласно одному малонадежному преданию, в занятой трансоксианцами Брусе евреев согнали в синагогу и заживо сожгли. Так это было или не так, сказать трудно, однако положение евреев в международной торговле, являвшейся предметом главных забот Тамерлана, и их принадлежность к наиболее привилегированной финансовой прослойке позволяли им находиться довольно близко к власти — и необязательно ей во благо.
В Восточном Иране, современном Афганистане, буддизм располагал очень солидной базой. В Бамиане, что посреди Гиндукуша, в продолжение периода с I по VII век был создан хинайянистский (Малой Колесницы) буддистский удел, который укрепился в VII столетии с приходом монахов-махайянистов (Большой Колесницы). В IX веке под давлением ислама начался его упадок, приведший, по мнению некоторых исследователей, к его быстрому исчезновению. Однако у нас имеются доказательства существования буддийских общин в XV веке: сохранились два союргала (указа о льготах), выданных в 1422 и 1428 годах двум монастырям, один из которых находился в районе Маймана, а другой располагался близ дороги, ведшей из этого города в Бухару через Герат, для того чтобы освободить их от налогов, принудительных изъятий и охоты на их землях. Множество подобных документов оказалось утеряно; бесспорно также, что две эти религиозные организации были не единственными.
Каково было положение буддистов в Центральном и Западном Иране, в частности в Тебризе и Султании (в этих столицах Ильханов), мы знаем плохо. Провозгласив себя адептами индийской религии, первые Ильханы обрели популярность, какую не имели бы, поступив иначе. Определенное число монахов пришло из Уйгурии (то есть из Синьцзяна) — где буддизм и христианство еще благоденствовали, — а также из различных частей Индии, возможно, и из Китая с Тибетом, чтобы воздвигнуть «многие пагоды». Согласно Рикольдо де Монте Кроче, в 1320 году не кто иной, как баксисты, сиречь бакши, или бакси, стали одним из препятствий, не позволивших татарам принять истинную веру; однако выяснить, были ли то шаманы или буддийские монахи, возможности не имеется. Преследования, предпринятые Наурусом, министром Газана, в ходе которых некоторое число монахов было умерщвлено, другие были принуждены к отступничеству, а третьи, более многочисленные, сосланы (благодаря «снисходительности государя», как выразился Рашидаддин), нанесли буддизму весьма чувствительный удар. Однако нам не верится, что он исчез вовсе; во всяком случае — не сразу. Как бы там ни было, Тимур в современном ему Афганистане с сектантами-буддистами дело имел, и ничто не говорит о том, что он обошелся с ними строго.
Самое интересное в скоротечной карьере буддизма в Иране затрагивает отношения, сложившиеся между клирами мусульманским и буддистским, отношения далеко не исключительные, но более тесные, нежели те, что сложились между мусульманскими служителями культа, с одной стороны, и христианами и иудеями — с другой. Впрочем, все тут очень сложно. Когда такой мистик, как Бахааддин Накшбанд, говорит о любви к животным и уроках, которые они могут преподать людям, позволительно предположить некое индийское влияние, но оно не обнаружено; вот почему столь же позволительно сделать предположение о влиянии францисканском. Говоря проще, дервишу, вероятно, хотелось указать на то, что в глазах Бога все твари ничего не значат и что та, которая, казалось бы, превосходит другую, стоит не больше — что весьма по-мусульмански.
Подлинные взаимопонимание и сочувствие устанавливаются между людьми, равно занятыми поисками самосовершенствования на пути к Богу и познания Его. В мусульманских текстах говорится о некоем аскете-буддисте, помогшем одному суфию преодолеть трудности, которые тот встретил на своем духовном пути. Вот удивительное признание, могшее иметь тяжкие последствия, если бы конфликт продлился! При всей ее скоротечности эта конфронтация существенно способствовала тому, что ислам сделался более требовательным к своим адептам, а также принудила его к поискам, основанным на самой строгой ортодоксии. Великий шейх Алааддин Даулат Симнани со временем пришел к заключению, что его мистический опыт в той мере, в какой он совпадал с опытом буддистов и иудеев (что подчеркивает важность деятельности последних не только в областях торговой и финансовой), относился к наивысшему жанру, без чего ислам не имел бы превосходства, согласно его постулатам, принадлежащего ему априорно: состояние, которое способен достичь немусульманин, может представлять собой лишь состояние, которое надо преодолеть.
О маздакизме и манихействе не известно ничего, кроме того, что их адепты обретались в ближневосточных тимуридских и монгольских империях. Эти религии, игравшие столь важную роль в древнем Иране, оказали исламу сопротивление слабое, однако некоторые позиции за собой сохранили. Первая, хотя и была доведена до состояния пережитка, жива по сей день: известно, что ее более чем теплящиеся очаги можно найти в Кире, но прежде всего в Язде. Примечательно то, что Тимур пощадил именно этот крупный центр фарси.
Что касается манихейства, то оно сильно пострадало в X веке от преследований калифом-Аббасидом аль-Муктадиром, и большинство манихейских общин оказалось вынужденным бежать в Хорасан; некоторые другие продолжали процветать в Трансоксиане. Согласно общепринятому мнению, могущественная уйгурская манихейская Церковь китайского Туркестана, действовавшая вплоть до монгольских нашествий, прекратила свое существование, как только они начались; однако в подобном утверждении сколько-нибудь разумного основания нет: монголов вероисповедание их подданных заботило мало, к тому же они в Уйгурии не воевали, так как она быстро к ним примкнула и стала поставщицей большей части их административных кадров. Наличие этого контингента в Тамерлановой державе делает правдоподобной мысль о существовании там манихейской прослойки.
В регионах, по которым прошел Тимур, существовали и другие религии; насколько известно, он уважительно отнесся и к ним. Не имеется ничего, указывающего на то, что какие-либо общины пострадали по религиозным причинам: разрушение храмов солнцепоклонников (сабейцев?) в Тур-Абидине (юго-восток нынешней Турции) — событие чисто военное.
Как и в наши дни, в Средние века на Ближнем Востоке христианских Церквей было несколько; вместо того чтобы объединиться и встать единым фронтом перед лицом ислама, они воевали друг с другом самым нещадным образом. Но их положение существенно отличалось от нынешнего вследствие того, что численность их адептов была значительно большей.
Некоторые из таких Церквей называли себя православными; их ритуалы мы довольно неточно называем греческими, тогда как следовало бы говорить: византийские. Речь идет о Церкви греков Малой Азии, подданных Османов, и княжеств, вышедших из лона сельджукской империи, с которыми Тимур встретился до и после битвы за Анкару; о Церкви грузин и кавказских зихов (черкесов), тогда еще не утративших своей мощи и с которыми ему предстояло воевать довольно долго; наконец, о Церкви мелькитов, коих европейцы называли сирийцами и которые пользовались автономией, когда у кормила власти стояли патриархи Иерусалимский и Антиохийский.
Многие Церкви, особенно с началом Крестовых походов, отрицали главенство Византии и склонялись к сохранению союза с Римом даже тогда, когда политическая нестабильность пагубно сказывалась на прочности связи со Святым престолом. Главной оставалась Церковь маронитов, действовавших под водительством патриарха, жившего в Ливане, в стране, где их община была самой многочисленной и где ее навестил Тимур.
Третья группа христианских Церквей включала в себя несториан, или халдеев, еретиков, чей предводитель носил имя католикоса Селевко-Ктесифонского и обретался в Багдаде. Они были отлучены от христианской общины после Эфесского (431) и Калкидонского (451) Соборов за то, что ими был принят тезис патриарха Нестория, который в Иисусе Христе различал природу человеческую, принадлежавшую ему естественно, и природу Божественную, которая всего лишь в нем воплотилась, в то время как Церковь ортодоксальная утверждает, что в Иисусе Христе обе натуры соединены в одну личность.
Наконец, существовало несколько Церквей, называвшихся монофизитскими, потому что, стремясь избежать несторианской западни, они учили, что в Иисусе Христе имелась всего одна природа, созданная соединением Божественного и человеческого. Двумя наиболее значительными из их числа являлись иаковитская Церковь и национальная армянская Церковь, где служба велась на языках сирийском и армянском и чьи адепты были разбросаны по государствам Леванта, Месопотамии и, малочисленными группами, по территории, что доходила до центра Азии. Патриарх первой спасался в марбарканском монастыре, близ Кургана, а католикос второй — в Такрите, затем в Моссуле. Очень похоже на то, что Тимур иаковитов не беспокоил. Что до Армении с ее национальной Церковью, то джагатаидские орды накинулись на эту страну в то время, когда она простиралась от Кавказа до Средиземного моря, и нанесли ей огромный ущерб.
Все перечисленные Церкви изрядно натерпелись от мусульманского владычества и, как было сказано, приход монголов встретили с большим удовлетворением, если не с восторгом. Они радостно приветствовали взятие Багдада (1258) и расправу над халифом. «Сей город был заложен пятьсот пятнадцать лет назад… Подобный ненасытной пиявице, он поглотил весь мир. И тогда он возвратил то, что взял. Он был наказан за пролитую им кровь, за причиненное зло. Тирания мусульман продолжалась шестьсот сорок семь лет», — написал армянский хронист Кирагос Гандзакский. Когда первые страхи улеглись, христиане вступили в переговоры с захватчиками; удивленные присутствием в рядах монголов единоверцев, они поддержали их своим оружием. Армянский царь Хетум даже совершил путешествие в Каракорум, стольный град Великих ханов в Монголии. Вознаграждение за это армян ждать себя не заставило.
Период владычества монголов в Иране (1258–1295) был для христианства временем довольно необычным. Не испытывая более принуждений со стороны ислама и получая поддержку от ханш, которые были христианками, оно стало бурно процветать. «Благодаря посредничеству Докуз-катун, жены Хулагу, — пишет Рашидаддин, — христиане были осыпаны благодеяниями и всевозможными знаками уважения. На всей территории державы каждый день возводились новые храмы, а у врат ставки ханши была сооружена постоянная часовня с колокольным звоном». Вчерашние угнетенные, христиане слишком часто вели себя, как угнетатели. В Алеппо они предали огню главную мечеть; в Дамаске устраивали попойки в мечети Омейядов…
То, что Тимуриды не продолжили старую монгольскую политику сотрудничества с армянами, вызвало удивление, и заговорили о смене альянсов. Если Тимур создал некую державу в Малой Азии и ежели бы он был Баязидом, быть может, он так бы и поступил, но он занимался закладкой фундамента империи в Иране, и ему приходилось заниматься нестроениями его. Судя по тому, как он обращался с мусульманами, можно лишь радоваться тому, что во сто раз хуже он не обошелся с христианами. К ним Тамерлан более снисходительным, разумеется, не был, но и более строгим тоже. Существует немало рассказов о том интересе, какое он к ним проявлял: так, он побывал у маронитов; в Мардине он оплатил из собственной казны восстановление свода над его обоими святилищами, а именно над гробницами Ионы и святого Сергия; после битвы за Анкару он освободил трех пленных красавиц благородных кровей и отослал их в Кастилию; овладев Брусой, Великий эмир в нарушение собственных принципов отпустил на свободу всех плененных христиан. Иоанн Султанийский писал, что Тимур «охотно видится с христианами, в частности, с франками, которым позволяет расселяться в его империи и исповедовать свои религии» и что он предает смерти всех, кто противится его воле, будь то мусульманин или христианин. Ничего другого не сказал и Клавихо.
Византийцы так жестоко преследовали несториан, что тем пришлось искать спасение в сасанидском Иране, где их епископы съехались в Селевкию на Собор (498) с намерением создать собственную Церковь под водительством католикоса. Невзирая на враждебность маздакизма, потом и ислама, несторианство укоренилось там прочно и создало плацдарм для апостольской деятельности в Индии и Центральной Азии. Оно добилось замечательных успехов в бассейне Тарима, где в симбиозе с буддизмом и манихейством родилась блистательная цивилизация, о чем, к примеру, свидетельствуют манускрипты. Одной из наиболее древних рукописей является «Похвала Святой Троице», датируемая VIII веком, в которой приводится список тридцати пяти произведений, переведенных несторианином Кин-сином, или (по-латински) Адамом, коему мы обязаны сооружением в 781 году знаменитой трехъязычной стелы в Си-нган-фу. Из поречья Тарима несторианство проникло в Монголию, где в 1000 году приступило к обращению тюркоязычных племен, таких, как найманы, онгуты и кераиты; в 646 году оно уже обозначило свое присутствие в Китае.
В Монголии несториане жили скромно, однако в начале XIV столетия новые обстоятельства вдруг все изменили. Архиепископ Иоанн де Монте Корвино писал: «Они обрели такую силу, что не позволяют прочим христианам иметь даже мало-мальскую часовенку, как и исповедовать никакого другого учения, кроме ихнего». Как в Китае, так и в Иране монголы проводили по отношению к ним одну и ту же политику. Несмотря на свою склонность к буддизму, Хубилай выказывал симпатию к ним всегда, а в 1284 году даже учредил нечто вроде управления делами христианской религии.
Дело было в том, что несториане и Чингисово семейство поддерживали друг с другом связи давние и прочные. Тюркский правитель Онгут оказал завоевателю в начале его карьеры замечательную услугу, он не только отказался вступить в созданную против него коалицию, но и примкнул к нему. Чингисхан отблагодарил его тем, что отдал ему в жены одну из своих дочерей. Она управляла его племенем, воспитала, как своих, трех дочерей, которых ему родила его наложница, и всех выдала замуж за принцев из числа Чингисовых родственников. Одна из них родила сына, Кёргюза (Георгия), который женился на внучке Хубилая.
Подобные матримониальные связи обеспечили онгутам и, следовательно, несторианам завидное место в структурах монгольской империи, где они сыграли роль тем более заметную, что их общины старались поддерживать друг с другом связь и, делая визиты, пересекали из края в край все пространство подвластной территории. У монгольских принцев — шаманистов и буддистов — практически вошло в обычай жениться на христианках, что укрепило несторианскую Церковь еще более.
Но покровительство, которое такие личности, как Докуз-катун, жена Хулагу, оказывали несторианам, и та польза, которую они из этого извлекли, пребывая в мусульманской стране, стали причиной их слабости, проявившейся во время исламской реакции в XIV веке. То, что могло бы стать преимуществом и короткое время им было, в конечном итоге оказалось фактором невзгод и опалы. Нами уже упоминались преследования, от которых в Иране пострадал патриарх Map Ябаллаха Третий, который тем не менее сумел благополучно умереть собственной смертью в 1317 году; однако он был не единственной жертвой; к тому же христиан лишили их цитадели, Ирбиля.
В Джагатаевом улусе, где напряженность такой сильной не была, а позиции ислама были менее прочными, христиане пострадали, пожалуй, только раз, во время алмалыкского избиения 1339–1340 годов. Груссе и его единомышленники утверждают, будто бы старый несторианский очаг на Или «не должен был вынести Тимуридовых преследований». Нет ничего хуже, чем это мнение. Если несторианство и исчезло, то, конечно, позднее и тихо вследствие усилившейся изоляции Центральной Азии, минской ксенофобии и значительных успехов, достигнутых исламом в XV и XVI веках. Тимур тут явно был ни при чем.
История католического миссионерства на Востоке XIV века, которая нам известна лучше, нежели история восточных Церквей, проливает свет на отношения Тамерлана к различным религиозным общинам и обязывает нас скорректировать бытующее мнение о его так называемой нетерпимости, чуть ли не мусульманском фанатизме.
В начале XIII столетия венгерские миссионеры из тогда еще нового ордена доминиканцев приступили к евангелизации Кумании, то есть Кипчакии, находившейся севернее Черного моря, и, видя их успехи, папа Григорий IX в 1229 году взял под свое покровительство созданную там Церковь. Казалось, Кумания вот-вот станет венгерским протекторатом и христианской страной. Более того: расширяя поле деятельности, в 1231–1237 годах миссионеры достигли берегов Волги, и они же первыми узнали о появлении там монголов, путь которых был повсеместно отмечен разрушениями.
Громкие победы Чингисхана разбудили в сердцах европейцев невыразимый страх. Римский папа и западные монархи понимали, что следовало бы собрать максимум сведений о пришельцах и направить к ним посольства. Обоснованные, но чрезмерно преувеличенные, слухи о частичной принадлежности монголов к христианству их ободрили. По дорогам Центральной Азии потекли францисканцы и доминиканцы, за которыми вскоре последовали негоцианты и искатели приключений. Монгольский Мир делал путешествия если не легкими, то, во всяком случае, возможными, и успехи, достигавшиеся в делах душеспасительных, политических и экономических, были значительными. Когда же миссионеры утратили иллюзии о быстрой и массовой христианизации Востока, что повлекло бы за собой обращение монгольских вождей, и осознали, сколь огромен мир и как велика в нем численность нехристиан, они заключили, что их первоочередным долгом является оказание помощи депортированным европейцам и людям наиболее страждущим, а также объединение Церквей, когда-то отложившихся от Рима. Что касается последнего, то здесь они имели серьезные неприятности, но также и добились положительных результатов, хотя в некоторых случаях временных, в частности, имея дело с несторианами и армянами, самыми многочисленными и наиболее расположенными к возможному союзу с папством христианами. Организация подлинной католической миссии в Западной Азии была завершена в последние годы XIII века. В 1289 году Рикольдо де Монте Кроче поселился в Багдаде среди латинян и был хорошо принят несторианами, с которыми из-за чрезмерного усердия в конце концов рассорился. В 1295 году во время погрома христиан он бежал, переодевшись погонщиком верблюдов.
Несмотря на этот кризис, в начале XIV столетия во многих городах были учреждены католические епархии: в 1310 году в Ургенче, в 1318 году в Султании, куда был назначен Иоанн де Кор в 1322 году (туда он прибыл только в 1333 году); еще до наступления 1329 года — в Алмалыке, на Или, в самом центре джагатайских земель, где в 1336 году объявился Паскале де Витториа; в 1329 году — в Самарканде усердием Фомы Манкасолы де Плезанса. Нам не известно, как долго просуществовала последняя епархия, особенно интересная в данном контексте: самое последнее упоминание о ней датируется 1342 годом, когда было отмечено прибытие в Авиньон некоего епископа из этого города. Сообщение Клавихо о проживании в Тимуровой столице в XV веке армян, иаковитов и греков-католиков мало что значит, если иметь в виду совершенные Великим эмиром депортации.
В тот же самый период многочисленные миссионерские центры открылись в Кипчакии, чтобы продолжать там дело, когда-то начатое венграми; однако не только в ней, но также на Кавказе, в Иране, Марате, Тебризе, Нахичевани, Тбилиси, Эрзуруме и многих других городах, установить названия которых невозможно. В 1328 году французский монах-миссионер Каталани де Северак подвел итоги: от пятисот до шестисот крещений в Султании, около тысячи в Мараге и столько же в Тебризе.
Учиненное в 1339 году в Алмалыке побоище стоило христианам жизни трех монахов, трех послушников, одного генуэзского негоцианта; тогда же была разрушена их церковь.
Что касается храма, то он был отстроен заново в следующем году державшим путь в Китай Иоанном де Мариньоли, который смог без помех проповедовать в этом городе и даже крестить «множество правоверных», что указывает на то, что преследования к тому времени прекратились. Однако, начиная с 1360 года, исчезли всякие упоминания об илийской миссии; поскольку Тимуру тогда было всего лишь двадцать четыре года, упрекать его в чем-либо неправомочно; принятие Тоглуг-Тимуром нового вероисповедания ответственным за это равно быть не могло.
Дело в том, что в те годы миссионерство начало утрачивать былой размах. Причину этого следует искать в Великой чуме 1347–1348 годов. На Востоке она унесла жизни множества монахов, тративших свои силы, не считаясь ни с чем, как поступали они и в Европе, где перепуганное белое духовенство, подобно простым мирянам, думало лишь о спасении своей жизни. На Западе чума привела к такой смертности, что желавших посвятить себя служению Богу резко убавилось по причине фантастического ухудшения демографической ситуации. Тем не менее миссионерская деятельность возобновилась через десяток лет, когда угроза катастрофической повальной болезни стала постепенно отступать. В 1352 году епископская кафедра появилась в столице Золотой Орды, Сарае; другое епископство было учреждено в Нахичевани в 1356 году; возглавил его сначала армянин, а затем француз Иоанн Гельфонтенский (1377); еще одна епархия появилась в 1374 году в Мараге. С 1373 по 1390 год францисканский монастырь действовал в Астрахани. В 1375 году папа римский поручил епископам Тебризскому, Марагскому и Нахичеванскому самим избрать епископа для Султании.
На то, что Тимуровы войны заметно повлияли на деятельность миссионеров, не указывает ничто. В 1392 году Рогерий Английский и Амвросий Сиенский запросили у Святого престола подкрепление, и папа направил к ним четырнадцать францисканцев.
Имеются данные о том, что в 1393 году было учреждено епископство с центром во многострадальном Ургенче.
В 1398 году Его Святейшество направил в Султанию вместе с двумя десятками монахов епископа, известного под именем Иоанна Султанийского. Датируемое 1401 годом письмо Бонифация IX сообщает нам, что в Сарае пребывал оберегатель дарохранительницы. Как весьма красноречиво доказывает Ж. Ришар, «Libellus», составленный Иоанном Султанийским в 1404 году, пессимистической картины положения восточного христианства в себе не содержит. Разумеется, архиепископ жалуется на опустошительные набеги Тимуровых войск, виновных в разрушении церквей и обращении в рабство многих христиан, особенно на Кавказе, в Армении и на Нижней Волге, там, где миссионеры потрудились более всего, но в то же самое время он говорит о наличии католиков в Багдаде и Курдистане, коими занимались доминиканцы. Он утверждает также, что находящийся в Моссуле сирийский католикос к латинянам расположен доброжелательно; что Армения является территорией весьма плодородной; что большие успехи получены в краю зихов; что деятельность монахов оказалась очень эффективной в Грузии. Более того: он клянется, что Тамерлан благоволит Западу. По его словам, его работе ничто не мешает. В письме от 19 августа 1398 года к францисканцам и доминиканцам Бонифаций IX призывает их восстановить те многочисленные храмы, что разрушила война (это будет сделано в первые десятилетия XV века). В 1410 году попавший на Кавказ немецкий рыцарь Иоанн Шильбергер рассказывает о францисканских монахах, правивших службу на татарском языке.
Итак, при всей неустойчивости положения латинских миссий они сумели пережить, пусть не без потерь, но сохранив главное, трудную эпоху Тимуровых войн. Извести их не составило бы никакого труда. Но этого не произошло. Позволительно ли в таком случае утверждать, что Тимуру захотелось пощадить Запад? Ответить можно утвердительно, если иметь в виду 1400 год, когда Великий эмир вступал в Восточное Средиземноморье и Анатолию (тогда же он использовал Иоанна Султанийского в качестве посла). Чем же являлись, в его представлении, латиняне? Самое большее — малозначительной картой в игре против Османов и Мамлюков; быть может, нечто большее в том, что касалось реструктуризации международной торговли. А если иметь в виду события, имевшие место до 1400 года? Можем ли мы вопреки действительности позволить себе, подобно Тамерлановым подданным, поверить блефу «священной войны»?
Не исключено, что у кого-то возникнет желание найти причины затухания миссионерской активности католиков на Востоке. Победа Османской империи, несомненно, явилась одной из них; затем — и особенно — истощение сил Европы вследствие Столетней войны, а позднее — открытие новых горизонтов, сначала африканских, а потом (усилиями конкистадоров) — американских.
Есть нечто несправедливое в общепринятом мнении, что тимуридское Возрождение — то есть культурное движение, оказавшее животворное воздействие на изящную словесность, пластические искусства и науки и придавшее восточному исламу XV столетия неслыханное значение в истории мусульманской цивилизации, — развернулось по смерти Тимура, в правление Шахруха, Улугбека, Байкара и их наследников; нет, тимуридский Ренессанс зародился еще при Великом эмире, когда в некоторых областях культуры были достигнуты высоты, которые для потомков оказались недоступными.
Разве он ничего не произвел на свет ранее 1410–1430 годов, этих свидетелей появления первых шедевров в живописи, архитектуре и науке (к примеру, в 1422 году завершилось строительство большой обсерватории в Самарканде), и разве не ясно, что все их авторы родились в предыдущем веке, то есть во времена Тамерлана? Пороки и достоинства того или иного поколения проистекают из свойств тех, кто его породил и затем сформировал. И поэт Джами (1414–1492), и художник Бехзад (прибл. 1450–1520) были воспитаны на примере их предшественников из 70-х годов XIV века.
В конечном счете в основе всего находится Тимур. Именно в созданном им обществе — сначала в Самарканде, где он собрал лучших мастеров, свезенных со всего Востока, а затем в других городах Ближнего и Среднего Востока (это указывает на то, что он не лишил их художников вовсе) — родились и прошли школу такие художники, как, например, Гиятаддин (автор знаменитой миниатюры «Гумай и Гумаюн», сохранившейся в парижском Музее декоративного искусства), который в 1420 году совершил путешествие в Китай приблизительно с теми же настроениями, с какими живописцы наши отправлялись в Италию; архитекторы, построившие в 1417 году в Мешхеде мечеть Гоухар Чад и в 1435 году медресе Улугбека; один из блистательнейших математиков исламского мира по имени Аль-Каши, получивший известность благодаря успешно завершенному систематическому анализу десятичных дробей (ум. 1437); такие астрономы, как скончавшийся в том же году Казы-заде Руми, который принадлежит к кругу редких ученых — обладателей собственного мавзолея (усыпальница его находится в мемориале Шахи-Зинда, что в Самарканде, среди гробниц Тимуридов.
Видимо, есть необходимость рассеять недоразумение, которое, возможно, возникает при использовании понятия «ренессанс». Согласно западной терминологии, данное слово имеет в виду возврат к утерянной Античности, страстное желание разобраться в достигнутом, а также в основах, на которых зиждется общество. Ничего такого не наблюдалось в Иране Треченто и Кватроченто, то есть в Иране XIV и XV веков, где никто не собирался отказываться от недавнего прошлого или от богатейшего вклада в культуру мусульманской цивилизации; вопрос был в том, чтобы, опершись на то и другое, им же придать блеск и энергию после периода, как полагают, упадка или по меньшей мере неопределенности и нестроения как результатов кочевнических набегов, совершавшихся с территории Центральной Азии, так же как следствие злобного отношения к новшествам: именно это явствует, например, из заявления, сделанного в 1349 году Муизаддином Пир-Хусейном, гератским маликом, одним из «сберегателей» иранизма.
Изучение пластических искусств, изящной словесности и наук времен тимуридского Ренессанса убеждает нас в том, что его миновали фундаментальные новации, коренным образом изменившие культурный пейзаж ислама, как, например, в абассидском IX веке в Самарре или позднее, когда в Османской империи была разработана идея больших мечетей; зато он принес с собой некоторое изменение вкусов, а также определенное усовершенствование технических средств, равно как и заметное повышение качества и количества произведений искусства, в которых выразилось состояние души потомков Тимура и визирей и которые придали новый импульс общественной жизни и открыли перспективы, если не новые, то более широкие.
Преемственность упрочилась во всех областях знания. Возьмем для примера самаркандскую обсерваторию, от которой сохранились одни величественные руины. Историки науки доказали, что ее прародительницей была обсерватория Марагская, что в Азербайджане (1259), слава о которой гремела в продолжение нескольких столетий и которая, вне всякого сомнения, предоставила Улугбеку, этому гениальному астроному, некоторую часть научного персонала, а также собрала группу единомышленников вокруг пришедшего из Кашана мэтра Казы-заде Руми, известного и под именем Гасана Челеби. Ниже мы увидим, что это же происходило в архитектуре, живописи и керамическом производстве.
Итак, таланты имелись. Для того чтобы они себя проявили полностью, были нужны меценаты и финансовые средства. Соединить и тех и других позволили уже первые Тамерлановы завоевания, и ничего более удачного создать никогда потом не удавалось. Благодаря счастливым историческим обстоятельствам, меценатов оказалось множество, и я с удовлетворением констатирую, что таковыми были многие наследники Тимурова дома. Гром побед, одержанных Великим эмиром, его политические и ратные способности, отсутствовавшие у его потомков, как бы затмевают совершенно очевидное: у Тамерлана действительно имелось все то, из чего рождались «принцы Возрождения», а именно: уважение к писцам и художникам, любовь к строительству и декоративному искусству, знание таких интеллектуальных дисциплин, как история, богословие, а также большой интерес к музыке…
Присмотревшись к состоянию литературного процесса, мы обнаруживаем, что он находился в нижней части синусоиды: среди сочинителей, писавших по-тюркски или на фарси, не было никого, которого можно было бы выделить из толпы прозаиков и поэтов. Известно, что диктатура не является тем режимом, который способствует расцвету талантов такого рода. Продолжающие волновать умы и поныне великие историки Рашидаддин и Джувейни к тому времени почили в бозе. Прославившие тимуридский Ренессанс мэтры, а именно Джами, пользовавшийся языком фарси, и Мир Алишер Навои, пользовавшийся также языком тюрки, родились потом: первый в 1414 году, а второй в 1441 году. Однако рифмачей имелось великое множество. Что до Тимура, то он, хоть и предпочитал музе не досаждать, прочитать стихи при случае умел. Из многочисленных менее крупных поэтов, таких, как Сайфаддин Барлас, владевший обоими языками, лишь с большим трудом можно выделить кого-то, имевшего религиозно-мистические претензии. В этом плане некоторой репутацией пользовался при жизни и вплоть до XVI века тюркский поэт, хан-дервиш Кабул-шах. Наиболее плодовитым был Саид Ниматулла (1330–1431) из Алеппо, который, может быть, своей славой более всего обязан основанию мистического ордена, носящего его имя.
Таким образом, жизнь в этой области культуры поддерживалась, но благодаря ренте, получаемой от классического наследия. Наиболее ценимыми по-прежнему были: Фирдоуси (ум. 1020): автор «Шахнаме» («Книги о царях»), великой поэтической эпопеи Ирана, которую любят и ставят рядом с «Илиадой» и «Одиссеей»; Низами, скончавшийся в 1209 году; Аттар и Джалаледдин Руми, почившие соответственно в 1230 и 1273 годах, а также персидский поэт, уроженец Индии, Амир Хосров (1253–1325). Сохранял свою популярность «Калила ва Димна», старинный сборник басен, главным действующим лицом которых является шакал; с санскрита его перевел в VIII веке Ибн аль-Мукаффа. Из всех великих тогда был жив один Хафиз из Шираза; о его популярности в Трансоксиане ничего не известно.
Сегодня мы обладаем весьма ограниченным количеством изделий тимуридских ремесленников. Из этого можно было бы заключить, что объемы кустарного производства были невелики, когда бы письменная информация не указывала на обратное, а качество тех нескольких предметов, что дошли до нас, не свидетельствовало о высоком мастерстве трудолюбивых ремесленников той поры. Никакой медник и никакой столяр не сможет произвести шедевр в обществе, где медницкое и столярное дело не пользуется большим уважением.
Искусство хорасанских металлургов, трудившихся в Нишапуре, Мерве и Герате, обеспечивало иранским литейщикам, работавшим с бронзой, превосходство над всеми мусульманскими странами между первыми веками хиджры и первыми монгольскими набегами, спровоцировавшими бегство мастеров в Ирак, главным образом в Моссул, а также, как выяснилось совсем недавно, в Фарс. От этого превосходства кое-какое наследство сохранилось в Восточном Иране, редким, если не единственным, и важным свидетельством чего является весящий две тонны огромный бронзовый котел, доставленный в Эрмитаж из Самарканда и, возможно, изготовленный по распоряжению Тамерлана. Уникальным его делают не только невиданные размеры, но и простота формы вместе с красотой декора, позволяющие считать его одним из самых красивых предметов, когда-либо отливавшихся в мусульманском мире.
Столяры оставили нам свой шедевр в виде сделанной из орехового дерева и покрытой резьбой двери некрополя Шахи-Зинда, датируемого последними десятилетиями XIV века. Не являясь результатом сложной технологии, когда используются небольшие квадраты, скрепляемые сеткой из багета (так называемая техника «кассетенстиль»), она представляет собой несколько плоскостей, покрытых рельефами редкого изящества, изготовленных согласно канонам двуплоскостной скульптуры. Ее можно назвать одним из лучших произведений иранского прикладного искусства XV века, отдававшего предпочтение изображению цветов, изгибающихся стеблей и всевозможных «травок», в чем легко угадывается влияние искусства народов Дальнего Востока.
Родство изделий второй половины XIV столетия с изделиями XV века принуждает усомниться в верности датировки шелковых и атласных тканей, в грандиозных количествах производившихся в бесчисленных ткацких мастерских тимуридского Ирана, где Язд, несомненно, являлся одним из самых знаменитых центров. Иные исследователи, не колеблясь, утверждают, что некоторые прекрасные творения мусульманских ткачей восходят ко времени царствования Тимура. От заявлений по этому поводу мы воздержимся; однако любовь Великого эмира к роскоши, равно как сделанные доном Рюи Гонзалесом де Клавихо описания облачений с пронизками из золота вельможных дам, царских шатров, покрытых темно-красными полотнищами, украшенными вставками из разноцветного шелка, пышных платьев невест, а также одежды на персонажах миниатюр свидетельствуют в пользу таких утверждений. Посол Кастилии в свою очередь говорит о расстилавшихся на земле коврах. На что они были похожи, мы точно не знаем, но, исходя из известного, можно предположить, что на многих из них имелись так называемые «драконы», весьма стилизованные и зачастую вплетенные в орнамент из ромбов и остроконечных листьев, как правило, считающийся характерным для XV столетия; почти все подобные ковры привозились с Кавказа. Тамерлан мог их добыть во время походов на Грузию и Азербайджан.
Из факта создания в Герате Академии книги Шахрухом и его сыном — меценатом Бай Шунгкуром (ум. 1434) явствует, что в начале XV века книга, написанная изящным каллиграфическим почерком, забранная в красивый переплет и иллюстрированная миниатюрами, пользовалась большой любовью. Учреждение подобного заведения, аналог которого не замедлил появиться в Самарканде, предполагало существование передовой технологии, о чем свидетельствует техника изготовления бумаги, переплетов, наличие каллиграфов и живописцев. Производительность академий была высока, и именно их продукция, неизменно высококачественная, многочисленные образцы которой дошли до наших дней (как минимум две дюжины великолепных манускриптов), обеспечила иранскому XV веку славу Возрождения, или Ренессанса.
Своим рождением иранская живопись Тамерлану не обязана. Первая художественная школа появилась в Тебризе между 1330 и 1340 годами, в период владычества монголов. Когда основанная ими династия пала, распались и придворные мастерские, чтобы затем, уже при Джалаиридах, возникнуть в Ширазе, Мараге и Багдаде, где они успешно работали вплоть до воцарения Тимура, как о том свидетельствуют два найденных в Багдаде джалаиридских манускрипта: «Книга о чудесах этого мира», датируемая 1388 годом (хранится в Национальной библиотеке), и «Диван» Хваджи Кирмани, последнюю точку в котором поставил Мир Али Тебризи, а также «Шахнаме» Фирдоуси, в 1370 году иллюстрированная в Стамбуле, и эпические произведения, датируемые 1397 годом, которые поделили между собой British Museum и Chester Beatty Collection. Предположить, что Тамерлан не пригнал в Самарканд живописцев и мастеров книжного дела, невозможно. Увы, из их трудов до нас не дошло ничего, разве что «Калила ва Димна», датируемая 1390 годом.
Известно, что Великий эмир живо интересовался монументальной живописью и тем, что можно уверенно назвать живописью станковой, когда картина, сделанная для того, чтобы стоять на подрамнике, не была на китайский манер написана на шелке. Подобно тюркам Газневидам и Сельд-жукидам, коллекционер древностей, и на этот раз картин, но не скульптур, Тамерлан собрал настоящую галерею «манийской живописи», то есть работ манихейцев, а также, надо полагать, произведений буддийских, обнаруженных им в оазисах Тарима. Однако при его жизни неизмеримо лучшими считались творения, по его заказу созданные казенными мастерами. Ибн Арабшах утверждает, что Великий эмир приказывал изображать его баталии, осады, аудиенции, дававшиеся правителям-вассалам и послам, дворцовые сцены, равно как иные многочисленные события, имевшие место во времена его правления, для того чтобы «увековечить память о его подвигах и дать возможность тем, кои о них не знали ничего, стать их очевидцами». Если эта информация верна — включая выводы, — то позволительно думать, что Тимура интересовало точное воспроизведение действительности. Когда, например, он заказывал свой портрет «важный и улыбающийся», его целью было предстать таким, каким являлся в реальности, — даже если картина была для него лестной, — а не неким безымянным образчиком государя. Возможно, именно по этой причине подобные произведения, не совсем отвечавшие исламскому идеалу, и исчезли. Во всяком случае при нем и его потомках никогда не было недостатка в истовых верующих, способных их уничтожить. Так, например, утверждают, будто бы багдадец Абд аль-Хайи, работавший на Тимура в Самарканде, собственноручно истребил плоды своих трудов перед тем, как умереть.
Мы можем легко проследить эволюцию иллюстративно-книжной живописи со времени зарождения тебризской школы до появления великих шедевров XV столетия, таких, как «Шахнаме» из тегеранского дворца Гюлистан (1430), и того, что хранится в Лондоне, в Королевском Азиатском обществе; их творцы еще не разорвали пуповины, в продолжение веков соединявшей их с азербайджанскими мастерами, программу коих они сохранили, но сумели развиться, свободно черпая из различных традиций и совершенствуя свой вкус и технику. Пейзаж играл основную роль вплоть до середины XV века, то есть пока не взял в руки кисти такой недюжинный гений, как Бехзад. Сцены, изображенные без какой-либо заботы о реализме, но преисполненные чувства движения и острой наблюдательности, все более тяготели к элегантности, утонченности. Художники неукоснительно следовали канонам так называемой вертикальной перспективы, когда персонажи не выстраиваются, как в миниатюрах, именуемых арабскими, а располагаются один над другим с очевидным стремлением к упорядоченности и равновесию, ведя между собою беседу элегантную и сдержанную. Эффект глубины рождается из наличия какого-нибудь холма или склона горы, из-за которых выходят другие персонажи, или же воздушно-легкой архитектуры, выделяющейся на фоне высокого темно-голубого неба. Тела людей узки и вытянуты, головы невелики и слегка наклонены; лица круглы; глаза миндалевидны, а их взгляд, неизменно направленный куда-то вбок, кажется подозрительным. Цветы пестрым ковром покрывают землю или объединяются в букеты, яркие краски которых соперничают с красками платьев.
В керамике, как и в живописи — и, возможно, в других видах искусства, знай мы их лучше, — китайское влияние заметно и бесспорно, хотя и достаточно дискретно, чтобы не бросаться в глаза плохо подготовленному зрителю, а также чтобы не отнимать у Ирана того, что является его собственностью. Данное влияние на искусство не ново: оно давно достигло и берегов Средиземного моря, хотя эпоха Средневековья оказалась чувствительной к нему более прочих. Долгое время считалось, что оно современно монгольским нашествиям ХШ столетия. Теперь уже ясно, что во временном отношении оно, по меньшей мере, восходит к тому периоду, когда тюрки-Сельджукиды совершали свои набеги на соседние страны, но также возможно, что и ко времени, когда Аббасиды набирали в свое войско толпы наемников из Центральной Азии. В эпоху Тамерлана это воздействие было особенно ощутимо в изображении гор, облаков, деревьев, рек и ручьев, которое в значительной мере оказалось восприимчивым к условностям дальневосточного искусства и понуждает нас вспомнить о китайских расписных тканях. Менее очевидное, но более тонкое, это влияние явно проистекает из той духовности, что пронизывает произведения китайского искусства, из изящества, с которым они сделаны. Что касается керамики, то здесь мы видим, как, начиная с 1368 года, трансоксианские мастера тщатся воспроизводить сочетание белого с синим, являющееся отличительной чертой стиля китайской династии Мин.
Разбивка садов была одной из самых постоянных забот Тамерлана и его последователей, в частности Бабура, а затем Моголов Индии. Самарканд, чьим древним центром являлся холм-городище Афрасиаб, полностью разрушенный Чингисидами, мало-помалу отстраивался заново. Безгранично влюбленный в Самарканд Тимур постановил превратить его в метрополию, достойную его величия. Не находя ничего хорошего в гармоничном беспорядке восточных городов с их узкими и кривыми улочками, он разработал настоящий градостроительный план и прорезал город проспектами один шире другого (рассказывают, что всего за сутки по его велению были снесены все дома, стоявшие вдоль некоего бульвара, который ему захотелось расширить), расходящимися, подобно лучам, от центральной площади ныне существующего Регистана, три стороны которого украшают построенные позднее медресе Улугбека, Шир-дор и Тилля-кари. По его же слову была возведена цитадель, Арк, с запада опирающаяся на городскую стену, с расположенным в центре Кёк-Сараем, или Голубым Дворцом, резиденцией монарха. Город окружали покрытые газоном участки и сады, которые летописцы находят (возможно, несправедливо) чрезмерно большими; так, например, болтали, что в одном из них заблудилась лошадь и что на ее поиски ушло несколько дней.
Степи служили местом сбора войск, проведения празднеств, как всегда, необычайных, а также для установки шатров государя и свиты — в нее входило более двадцати тысяч человек! — ибо Тимур, хотя у него и было дворцов более, чем нужно, любил жить так, как если бы он все еще был кочевником. В садах имелись павильоны, дополнительные резиденции Великого эмира, куда, по словам Ибн Арабшаха, в его отсутствие могли входить все, независимо от социального положения. От этих садов не осталось и следа, но они хорошо известны по старинным описаниям, в которых, сверх прочего, сообщаются и их названия. Севернее города находился Баг-и Шамаль (Северный сад), где в 1397 году по приказу Тамерлана построили павильон, облицованный фаянсовой плиткой; по свидетельству летописцев, это сооружение по своему великолепию равных не имело. В том же 1397 году Тимур приказал разбить в степи Кан-и Гуль сад, который своими размерами должен был превзойти все остальные, и, посвятив его своей очередной жене — дочери Хизир-ходжа из Моголистана, — назвал Садом, открывающим сердце (Баг-и Дилафша). Длинные аллеи сикомор и фруктовых деревьев вели к небольшой центральной беседке, окруженной беломраморными колоннами, где он любил принимать послов. Баг-и Нов (Новый сад) представлял собой обширный квадратный участок, окруженный высокой стеной, на четырех углах которой имелось по круглой башне; в зеркале длинного бассейна отражался декорированный синими с золотом плитками, покрытыми глазурью, дом, стоявший посреди фруктовых деревьев. Баг-и Чинар был, как следует из его названия, платановым садом. В Баг-и Бе-хеште (Райском саду) над обрамленным кустами цветником возвышался очередной павильон.
Подобно своим далеким потомкам, Великим Моголам, царствовавшим в Индии, Тамерлан был усердным строителем; увы, за редким исключением, возведенные по его слову памятники — в отличие от построек Акбара, Джахангира и Шахджахана, — до наших дней не дожили. То, что история повествует об исчезнувшем, и то, что можно прочитать о сохранившемся, — все это позволяет утверждать, что здания, построенные позже, в период тимуридского Ренессанса, не только их не превосходят, но даже не достигли их уровня.
Говорят, будто бы Тимур строил слишком быстро, не заботясь о прочности сооружений, и находят в этом главную причину их полного исчезновения. Да, памятники вырастали из земли всего за несколько лет, как по волшебству, и амбициозность программы Великого эмира заставляла работать на пределе возможного. Однако он желал иметь здания прочные и для этого принимал все необходимые меры: делались глубокие фундаменты, массивные опоры и стены, контрфорсы (для предотвращения распора арок); применялся строительный раствор, нечто вроде цемента на основе гипса — все это к тому же должно было усиливать впечатление мощности, если не грандиозности, затеянных им сооружений. Но верно и то, что крайняя дерзость арок, сводов и куполов не соответствовала ни свойствам архитектуры, использовавшей обожженную глину, ни возможностям строительной техники той поры. Говорят, будто бы кирпичи падали на голову правоверных с высоты Биби-Ханым уже в первые годы после постройки; правда или нет, но утверждают, что эта мечеть не была способна выдерживать страшные землетрясения, столь частые в Трансоксиане; то, что произошло в 1897 году, уничтожило часть портика этого святилища. Более пагубными, несомненно, оказались набеги, которым при Улугбеке подвергло этот город узбекское воинство, равно как то, что он был отдан на расправу времени на целых двести лет, предшествовавших русскому вторжению. Остальное доделали разорение и изоляция провинции, а также расхищения, практиковавшиеся не утруждавшими себя размышлениями людьми, искавшими дешевый строительный материал.
От построенных в Самарканде для Тимура дворцов не осталось никакого следа, и всего несколько стен сохранилось от Ак-Сарая (Белого Дворца), что возвели в Кеше. Этот большой дворец, подобно Кёк-Сараю (в Арке), представлял собой многоэтажное сооружение с одной-единственной тягой, построенное под влиянием культовой архитектуры, и, следственно, коренным образом отличавшееся от небольших, легких и изящных павильонов, красовавшихся в садах. Войти в него можно было через портик пятидесятиметровой высоты, из которого попадали в вестибюль, куда выходили двери кордегардий, и далее на центральный двор, куда, в свою очередь, выходили двери жилых помещений, расположенных по обе стороны большого свода в виде пологой арки, сооруженной по оси здания, и наконец в квадратный зал.
Что касается культовой архитектуры, то до наших дней в более или менее приличном состоянии дожили всего три памятника или, точнее, три монументальных ансамбля, так или иначе представляющие собой шедевры, а именно мечеть Биби-Ханым, усыпальница Тимура, известная под названием Гур-Эмир, а также некрополь Шахи-Зинда (Живой царь). Мы о них поговорим ниже.
Превратив Самарканд, свой стольный град, в основную строительную площадку империи, Тимур не упустил возможности заняться архитектурным творчеством и в других населенных пунктах. Так, в Бухаре между 1380 и 1385 годами велись восстановительные работы на мавзолее Чашма Аюб; в Яссе по его велению отреставрировали гробницу и построили мавзолей святого Ахмеда Ясави и большую мечеть, которая к ней примыкала и была построена в 1404 году; в его родном городе Кеше, который он думал сделать столицей, кроме вышеупомянутого Белого Дворца, были восстановлены мавзолеи отца и сыновей Джахангира и Омар-шейха. Стремясь к тому, чтобы в каждом городе имелось по медресе, он настроил их множество, но все они или успели разрушиться, или пока что не идентифицированы. Следует добавить, что Тимуровы войны градостроительной деятельности в Иране не остановили, разве что сократили ее темпы. Плодов оной до нас дошло мало. Большая мечеть Язда (1375), несомненно, занимает важное место в истории искусства, благодаря как красивейшим изразцам и расписанной под мрамор штукатурке, так и своей архитектуре с ее подчеркнутой вертикальностью, особенно в линиях портика, узкого и высокого, дерзнем сказать, непропорционального. Тут можно было бы усмотреть зарождение тех тенденций, которые стали впоследствии столь дорогими для самаркандского искусства, разумеется, если бы оно не уходило корнями в пышную архитектуру гробницы монгола Ильхана Ольджейту Ходабенде, что в Султании.
Что более всего поражает нас в тимуридской архитектуре, так это бросающееся в глаза противоречие между гигантоманией и откровенной помпезностью, доходящей до грубости, с одной стороны, и легкостью и красивостью керамического декора — с другой. Ничем не скомпрометированное изящество последнего и излучаемая им одухотворенность кажутся совершенно не вяжущимися с эпохой войн и насилия. Тем не менее абсолютно очевидно, что в этой области тимуридский Ренессанс ничего более совершенного не создал. Вершина была достигнута в 80-х годах XIV века, и, если памятники сефевидского Ирана, Исфагана Шах-Аббаса Великого производят на нас впечатление более приятное, то единственно благодаря виртуозности строителей, а также сохранности (они моложе Тимуровых построек на две сотни лет), превосходящей их собственные достоинства. Как и в живописи, в керамографии времен Тимура связь с прошлым не была утрачена; та и другая шли одним путем, испытывая одно и то же влияние и стремясь к технологии и вкусу более совершенным, требовавшим более чуткого отношения к нюансам и деталям, более уверенного использования цвета, более скрупулезной работы, вплотную приближающейся к поэзии.
То, что носит название Биби-Ханым, является одним из тех архитектурных ансамблей, включающих в себя мечеть и медресе, которые Сельджукиды впоследствии распространили во всем мусульманском мире. Предания ошибочно связывают эту мечеть с Тамерлановой женой Сарай-Мульк-Ханым, по прозвищу Биби. Строительство святилища началось 11 мая 1399 года по возвращении Тамерлана из похода на Индию и все еще продолжалось, когда Великий эмир скончался в начале 1405 года. Тщеславный Тимур мечтал о постройке грандиозного здания, «самой просторной мечети из всех, когда-либо существовавших», хотя иллюзий на этот счет у него не должно было быть, поскольку он знал, по крайней мере, об исфаганской большой мечети и, вполне возможно, о руинах мечети, построенной в Самарре, в Ираке, площадью 240 на 156 метров. Предание о том, что Биби-Ханым была ужасно велика, все еще живет, и мне довелось услышать его в Узбекистане. Хотя утверждение, что она превосходит все остальные мечети, не точно, она тем не менее является зданием воистину огромным и очень красивым.
Мечеть представляет собой прямоугольник, обнесенный стеной
На куполе, минаретах, арках и частично на стене сохранилась изразцовая мозаика, являющаяся главным элементом декора; мраморные же плиты покрывал только низ. Краски тонкие, цвета яркие; бирюзовые, зеленые, желтые, коричневые, темно-вишневые и черные, они искусно разбросаны по поверхности эпиграфических фризов и флористическим поясным карнизам, несущим на себе отпечаток самой изысканной элегантности. Подсчитано, что общая площадь кладки глазурованного кирпича и изразцов равна без малого десяти тысячам квадратных метров.
Усыпальница под стать персонажу: есть нечто варварское в ее величайшей утонченности! Самаркандский мавзолей Тимура — один из трех наиболее красивых памятников его царствования. Пережив реставрацию, он тем не менее сохранил оригинального, первоначального больше, нежели мечеть Биби-Ханым, в частности не имеющий себе равных купол. Своими размерами с большим святилищем он не сравнится, но после мавзолея Ольджейту, что в 1306 году возвели в Сольтание, он является первым крупным мусульманским погребальным зданием; его появление возвестило строительство настоящих дворцов для покойников, которым занимались Великие Моголы в Индии; напомним хотя бы о всемирно прославленном Тадж-Махале в Агре.
Гур-Эмир поначалу должен был служить вовсе не мавзолеем, а мечетью или даже молельней, включенной в комплекс, посвященный памяти Мухаммед-Султана, Тимурова внука. На отведенной под него площади в 24 на 25 метров строительные работы начались в 1403 году и в основном закончились в 1404 году, чтобы возобновиться позже, чем и объясняется то, что его датируют временем более поздним. Стоящий в центре участка, обстроенного довольно низкой балюстрадой, сделанной из ажурного мрамора по образцу мусульманских claustra, мавзолей имеет монументальный портик в виде айвана, по бокам которого возвышаются два минарета, верхняя часть которых была перестроена, но их низ (вернее почти половина) по-прежнему покрыт изразцами, где доминирующим элементом является синий цвет. Второй айван, перенесший более значительную перестройку и не сохранивший ничего, кроме кое-каких следов первоначального декора, прорезанный в двухэтажной стене с плоскими нишами, тоже разрушенными, открывает доступ в погребальный зал. Имеющий снаружи вид восьмиугольника, он опирается на фундамент, утопленный в грунт на целых четыре метра, и уходит вверх на все 40 метров, благодаря чему гармонично сочетается с портиком и минаретами, одни из которых достигают высоты 12 метров, а другие — 25,3 метра. Восьмиугольник внизу опоясан мраморным цоколем, выше него расположены желтоватого цвета кирпичи, между ними вкраплены другие, покрытые голубой и ультрамариновой глазурью, которыми на разных размеров геометрических панно коричневого цвета выложены имена Аллаха и Мухаммеда.
Внутри этот квадратный в плане зал производит впечатление крестообразного, благодаря глубоким нишам, увенчанным сводами, имеющими выступы в виде сталактитов. Декор состоит из плинтуса из зеленого оникса, восьмиугольных алебастровых плиток, барельефов из расписного штука и майоликовых изразцов, покрытых темно-синей глазурью. Украшенная мраморными кружевами балюстрада установлена вокруг саркофагов, один из которых, Тамерланов, вырезан из глыбы черной яшмы и является действительным или предполагаемым подарком моголистанской княгини Улугбеку, сделанным в знак уважения к его деду.
Самым красивым элементом архитектуры Гур-Эмира является его ребристый купол (60 скругленных ребер), имеющий вид приплюснутой фиги, высота которой (12,8 метра) на 1,1 метра превосходит диаметр ее базы; купол сложен из майоликовых кирпичей бирюзового цвета, на которые нанесены желтые и ультрамариновые пятна, образующие весьма элегантный рисунок. Купол покоится на высоком барабане, в диаметре имеющем 14 метров; декорирован он многократно написанным угловатым куфическим шрифтом словом «Аллах». Купол двойной, что позволяет составить себе два разных впечатления о памятнике. Внешний купол образует его силуэт и акцентирует устремленность вверх; другой, внутренний, устанавливает равновесие между поверхностью зала и его высотой. Между ними находится система тяг, закрепленных железными якорями в кирпичном центральном столбе, подпирающем самую высокую часть купола.
Не увидев мемориала Шахи-Зинда, судить о Тимуре нельзя. Это красота в ее совершенном и чистом виде. Здесь не выказываются ни величие, ни могущество, ни державность, как в других памятниках, а демонстрируются изящество, хрупкость, тонкость и, я бы сказал, женственность, столь характерная для женских усыпальниц, отчего они лишь выигрывают в красоте. Конечно, это не назовешь рукоделием Тарагаева сына, но было заказано именно им; он лично следил за ходом работ, следил так же внимательно, как наблюдал за разбивкой садов и строительством других зданий, планы которых визировал, и, заботясь об удовлетворении своих желаний, использовал всю свою тираническую власть.
Согласно преданию, двоюродный брат пророка, Кусам ибн Аббас, приведший войско аравитян в Самарканд, там был обезглавлен (676–677); он взял голову в руки и спустился по самому глубокому колодцу в чрево земли, с намерением там продолжить свою жизнь и дождаться Страшного суда. Как нередко случается в истории религий, легенда о Кусаме ибн Аббасе является всего лишь переложением на религиозно-мусульманский лад доисламского мифа, содержащегося в «Авесте», согласно которому легендарный центральноазиатский герой Афрасиаб (его имя Самарканд носил сначала), прежде чем умереть, глубоко под землей построил для себя гигантских размеров жилище, чтобы там найти укрытие, в том числе от смерти.
Это место давно считалось священным, и арабы, едва захватив Самарканд, возвели мартириум (культовое сооружение), посвященный страстотерпцам, на предполагаемом месте Кусамовых мучений. Впоследствии возле него нашли упокоение многие, великие и не очень великие. В эпоху Сельджукидов, когда произошло если не зарождение мусульманского погребального искусства, то как минимум его бурное развитие, охотно строили мавзолеи, а надгробные стелы множились, как цветы на холме.
Пришли монголы и все разрушили за исключением этого святилища, хотя, казалось бы, к подобной снисходительности их не понуждало ничто. Как бы там ни было, памятник в его современном состоянии не имеет ничего от первоначального облика и далек от описания, сделанного Ибн Баттутой в 1330 году. Известно, что перестраивали и переоборудовали его неоднократно; иные, говоря о времени выполнения основных работ, называют 1334 год, другие — период царствования Тимура, третьи — XV век. 1380 годом может быть датирована лишь часть декора. В ту эпоху трансоксианцы взяли в обычай устраивать захоронения подле Кусамова мартириума, превратив его в псевдомавзолей с кенотафом,[33] подобных которому на Ближнем и Среднем Востоке можно было встретить сотни.
Автора плана современного некрополя назвать точно невозможно; однако многие склонны считать им Великого эмира. Осью «города мертвых» служит узкая аллея, начинающаяся у Кусамовой усыпальницы; медленно спускаясь в южном направлении, она завершается довольно крутой лестницей из тридцати четырех ступенек. Слева и справа тянулись две почти не прерывавшиеся шеренги усыпальниц. Многие разрушились или полностью, или частично. Среди сохранившихся наиболее старая, — сооруженная для увековечивания некоего Ахмеда-ходжи, — отмечена 1360 годом. Наибольшее количество гробниц (целая дюжина), замечательной архитектуры и удовлетворительной сохранности, датируется временем царствования Тимура. Остальные были построены позже, как и вход на кладбище и стоящие по бокам здания. Таким, каким он дошел до нас, Шахи-Зинда является, по общему мнению, одним из самых красивых и впечатляющих в мире некрополей, а некоторые входящие в его состав постройки — подлинными шедеврами.
Он находится севернее города, на склоне холма Афрасиаб. Входом в него служит монументальный портик, по соседству с которым стоят небольшая мечеть и медресе, обязанная своим возникновением Улугбеку; миновав этот портик, посетитель оказывается на лестнице, ведущей к осевой узкой аллее. Одно из первых сооружений, которое он видит слева от себя (относительно крупных размеров и менее старое, чем все другие, 1437 года), состоит из двух куполов, опирающихся на барабаны, столь вытянутые вверх, что невольно вспоминаешь погребальные башни, воздвигнутые в Иране приблизительно в 1000 году. В нем почиет не какой-нибудь сильный мира сего, а ученый, астроном Казы-заде Руми. Чуть дальше в тесном соседстве (или отделенные друг от друга пустырями, где можно различить следы исчезнувших памятников) ярусами расположились заказанные Тимуром мавзолеи, некоторые из которых дополнены погребальными часовенками, таковы усыпальница одного из выдающихся его военачальников, Тоглуг-Текина (1375), возможно, самая старая из относящихся к тому времени; мавзолей его сестры Ширин-бика-Ака, именовавшейся также Чучук-бика (1385); усыпальница некоего
Простая и благородная архитектура мемориала дает возможность проследить, как на протяжении лет тридцати менялся подход к организации горизонтальных и вертикальных плоскостей. Все это небольшие кубические залы, вход в которые оформляют портики, высокие и глубокие, выступающие над плоскостями фасадов; своды их украшены сталактитами или сотами (мукарна) чисто декоративного назначения, то есть не имеющими каких-либо архитектонических функций. Залы увенчаны высокими куполообразными сводами, довольно заостренными, гладкими или ребристыми, непосредственно положенными на стены залов, то есть без барабанов. В 1385 году купол усыпальницы Ширин-бика-Ака стал двойным, каким позднее сделали купол Гур-Эмиpa; изнутри он видится приплюснутым, снаружи представляет собой нечто, слегка напоминающее плод смоковницы. В то же самое время продолжалось строительство сводов простых; для облегчения сооружения их отделяли от стен залов и придавали им очертание немного пологой арки. В начале XV века, возводя мавзолей Туман-Ака, снова вспомнили о двойном своде; на этот раз его поставили на высокий барабан, а внутреннему своду придали ту же овальную форму, что и своду наружному. Подобные варианты, освобождая памятники от монотонности, дают им довольно много общих черт, позволяя создавать весьма гармоничные и единые по духу ансамбли.
Однако совершенными их делает керамический декор, воистину не имеющий себе равного; по меньшей мере таков декор следующих архитектурных шедевров, а именно мавзолеев Туман-Ака, Туркан-Ака (произведение двух трансоксианских архитекторов: бухарца Заинаддина и самаркандца Шамсаддина), а также Ширин-бика-Ака, может быть, самого великолепного из всех. Здесь, кроме кирпича с майоликовым торцом, использована самая разнообразная керамика: отлитые из гипса части колонок, сталактиты и розетки, изразцы и фаянсовая керамика. Всевозможных оттенков синее выделяется на фоне, создаваемом кирпичами из очень тонкой розовой пасты, обрызганными белой и черной краской. Работа выполнена мастерски, как в том, что касается использования колорита, так и в распределении декора. Подобные тщательность и точность типичны лишь для труда ювелиров.
В своем горячо любимом городе Тимур оставил для потомков три монументальных ансамбля, которые по тем или иным соображениям признаются шедеврами. Нет ни одного учебника по истории исламского искусства, в котором, как бы краток он ни был, не имелось бы их фотографий, равно как не существует книг о путешествиях в те края, где бы о них не упоминалось. Они являются частью его биографии, возможно, играя роль неоспоримых свидетельств, не подверженных ни фальсификации, ни пропаганде, а также выступая в качестве защитников.
Именно поэтому мне захотелось о них рассказать, пусть вкратце, позволяя себе не следовать обычаю биографов, которые охотно разглагольствуют о состоянии искусства в той или иной державе, но коим претит описывать памятники, воздвигнутые соответствующими государями. Без Версаля Людовик XIV определенно не был бы Королем-Солнцем. Без архитектурных чудес Самарканда, о которых, повторимся, Тимур заботился постоянно и самолично, он не был бы собой. Заодно вспомним о любви, что он питал к сестрам! Да, человек, который был способен на такое чувство и выражал его посредством самого изящного и яркого из всех мыслимых букетов, будучи страждущим калекой, неустрашимым полководцем, жестоким деспотом и кровавым захватчиком, в своем сердце хранил нечто совсем иное…
Иоанн Султанийский написал о Тимуре следующее: «Он не называет себя ни королем, ни императором… Отдавая распоряжения, он делает это от имени хана, занимающего самое почетное место при дворе». Да, известно, что Тамерлан являлся всего лишь Великим эмиром, «царским зятем», но со всем этим он исполнял обязанности главы государства и делал это максимально строго. Хан же при нем был всего лишь фигурантом, который, от времени до времени находясь в действующей армии, всегда состоял под его началом, и его, хана, имя в лучшем случае могло быть упомянуто в
Хозяином державы бесспорно был Тимур. Противиться его воле не смел никто. Если кто-то пробовал давать ему отпор, он его ломал через колено. Высказанные вельможами суждения, шедшие вразрез с его мнением, им пренебрегались. Решения о войне и мире принимал он. Он же был главнокомандующим. Чиновники находились у него в кулаке: он их назначал и смещал; когда было надо, уничтожал. Правосудие чинилось им одним, даже тогда, когда отправление его он делегировал другому. Когда имелась возможность, Тимур судил сам; его вердикты обжалованию не подлежали. Подобно всем добрым тюркам, он постоянно искал способы, как извлечь выгоду из ислама, и с этой целью провозглашал себя его ревностным служителем. Он покупал дервишей за золото, за дружбу, но главным образом прельщая похвалами. Он ставил себя над толкователями закона, заявляя, что получает от Бога послания. Он поставил во главе мусульманской общины верховного владыку. «Из потомков пророка я выбрал, — объявил он, — самого достойного, коему передал всю власть над мусульманами; он управляет всем
В 1370 году Тамерлан одержал победу над Хусейном. Держа ситуацию под контролем, он сделал вид, будто бы хотел быть избранным на курултае, в соответствии с обычаем, установленным Чингисханом. Фактически речь тогда шла о плебисците. В дальнейшем Великий эмир регулярно созывал такие «пленарные заседания», чтобы создать впечатление коллегиального правления. Но иллюзий на этот счет не было ни у кого.
Кажется, никто и ничто не могло воспротивиться его воле. Однако находиться вне пределов законности он не мог, тем более вне рамок шариата и ясы. Будучи юридически неизменяемыми, они оставляли возможность законодательствования только в строго определенных областях, на которые сами не распространялись; или интерпретирования некоторых постулатов, что дозволялось одним богословам, а они, разумеется, состояли у Тимура на содержании и, закрывая глаза на его действия, самоуправствовать ему не мешали, а то и просто благословляли на тот или иной незаконный поступок. Со всем этим отсутствие законодательной власти является для любого деспота помехой, ставя его в рискованное положение, когда он пытается ее себе присвоить незаконными средствами.
Далее. Понятие священной монархии очень глубоко проникло в сознание Тимура, что, впрочем, характерно для всех самодержцев в мире, равно как и для тюрко-монгольской традиции и ислама. Он прочно усвоил идею об идеальном государе, каковой вдохновлялись все единодержавные правители, но еще больше тот, кого царствование вознесло над всеми другими самодержцами. Понятие священной монархии предполагает отправление правосудия, защиту народа от злоупотреблений чиновничества и нищеты; короче говоря, — ответственность полную и за всё.
В актив Тимура можно записать его внимательность к простому люду, контроль за ценами и действиями сборщиков налогов и иных государственных служащих, его царскую щедрость. Я уверен, что прекрасные человеческие качества действительно были ему свойственны. Будь он человеком несправедливым, скупым, безразличным, ничего такого он не делал бы.
Чтобы быть Тамерланом, Гаруном аль-Рашидом, Сулейманом Великолепным, надобно держаться ближе к простонародью; как для того, чтобы побеждать, следует быть великим ратоводцем. Сознавая необходимость этого, Великий эмир превращал каждое свое появление в зрелище, и его биографы скрупулезно воспроизводят все его «мизансцены». Вот он горстями черпает золото из сундуков и ходит среди пожарищ им же сожженного города, налево и направо раздавая милостыню. Вместе с тем, почти тайно, избегая показухи, он восстанавливает, исправляет содеянное, помогает казной… Однажды аки Мухаммед-шах, мелкий колдунишка из хорасанского Кухистана, предал проклятию некоего бедного крестьянина; Тимур выдал несчастному пятьсот овец и полтысячи ягнят. Сей кодекс царской чести обременительным для Тамерлана не был, но он существовал, являясь таким же обязательным, как шариат и яса, и втискивая его абсолютную власть в рамки целого комплекса норм, обычаев и обязанностей.
Тимурово правительство состояло из министров, визирей, коих он собирал на совет, диван (когда в наличии их имелось не менее четырех) под председательством диван-бека. Штатный докладчик информировал совет о возникших важных проблемах, после чего начиналась дискуссия, на которой присутствовали глава управления мусульманских дел, два главных судьи гражданских и столько же религиозных, секретари, казначеи и «господа большой руки». Государство одновременно было сильно централизованным, состоя в непосредственном подчинении у Самарканда и Великого эмира, и децентрализованным, однако в той мере, в какой провинции пользовались большей или меньшей автономией. Во многих округах Тамерлан оставлял если не старый персонал, то прежние управленческие структуры обязательно. Где-то государственный контроль бывал строгим, где-то вялым, на далеких территориях мог просто отсутствовать. Великий эмир вполне довольствовался теми знаками признания его сюзеренитета, которые в мусульманском мире всегда были привилегией государей, например, нанесением его имени на металлические деньги и упоминанием в пятничной молитве, кутбе. Он по праву мог считать себя владетелем Египта с того момента, когда мамлюкский посол сообщил ему, что в Каире в его честь была отслужена служба; а также царем Индии после того, как 20 декабря 1398 года то же самое совершилось в Дели.
«Степная империя» — так в своем шедевре Груссе определяет Тимурову державу. Рассуждая в своей книге о политических формациях, возникавших в Центральной Азии и так часто властвовавших над седентарными странами, он говорит: Тимур — это Джагатаид, отюреченный монгол, выходец из бескрайних степей Евразии. Однако Рене Груссе рискует ввести читателя в заблуждение: Великий эмир как личность сформировался не в степи и по-настоящему там не властвовал. По сути, его государство было иранским, сконцентрированным вокруг Трансоксианы, со столицей, где была подлинная архитектура, а вовсе не большим кочевым станом. Кроме того, вовсе не факт, что оно было империей. Говорят — частенько повторял эту мысль и я, — что Тамерлану хотелось восстановить Чингисову империю, что он в этом частично преуспел и что лишь смерть помешала ему довести дело до конца. Сегодня я спрашиваю себя: не стали ли мы в очередной раз жертвой его пропаганды?
Из истории его завоеваний вовсе не явствует, что у него имелось амбициозное желание объединить под своей эгидой все огромные территории, по которым он прошел с мечом в руках, земли такие разные по нравам, языкам и этническому составу. Он овладел Индо-Гангской долиной, Ираком, Сирией, Анатолией, Золотой Ордой, он мог заложить там основы постоянного оккупационного режима, но сделать это даже не попытался. Он уходил, как приходил, оставляя наместника здесь, удовлетворяясь невнятным признанием сюзеренитета там, и часто происходило так, что не успевали остыть пожарища, а пыль, поднятая конницей, осесть, как появлялись прежние хозяева. Признали было, что Тимур обладал способностью завоевывать, но не сохранять завоеванное; что он разрушал, но не строил; что его администраторские дарования были столь же посредственными, сколь замечателен был его ратный гений. Однако факты все это опровергают.
Всюду, где Тимур оставался, он создавал надежный управленческий аппарат, о котором управляемые могли только мечтать. Заподозрить в предвзятости армянского летописца, который нашел необходимым, поведав об ужасах войны, констатировать процветание и благоденствие страны, наступившие в последующие годы, невозможно. Оставленное им свидетельство тем более значимо, что Армения являлась страной более прочих выдвинутой в сторону запада, не по отношению к Ирану, а относительно традиционной зоны влияния, той самой, которой, как нам представляется, Великий эмир намеревался ограничить сферу своего непосредственного контроля.
Прежде всего Тамерлан считал себя (хоть он и не носил соответствующего титула) государем Трансоксианы, которая навсегда осталась объектом его основных забот, его настоящей родиной. Во-вторых, он постарался распространить свое влияние на Хорезм и на все иранское плоскогорье, то ли полагая себя последователем Ильханов, то ли намереваясь заполучить наследство хорезмшахов. Покой в Трансоксиане и его величие, как впоследствии благоденствие Ирана, требовали: от кочевников — чтобы они не грабили городов и деревень, не наносили ущерба экономике; от властей — обеспечить процветание стране и счастливую жизнь народу. Решение этих двух задач было одно. Оно предусматривало проведение превентивных кампаний manu militari[34] против орд Центральной Азии, Моголистана или Золотой Орды; и кампаний наступательных с целью ограничения передвижений номадов, их удаления из Трансоксианы, обогащения, изъятия богатств, получения многочисленной рабочей силы, к тому же квалифицированной и дешевой, ибо рабской.
Можно называть Трансоксиану царством. Можно назвать империей Иран, хотя эта страна тоже скорее являлась царством. Но было бы ошибкой применять к Тамерланову государству термин «империя», так как за ним кроются территориальная экспансия за пределы иранского мира и аннексия таких огромных стран, как Индия, Золотая Орда, Анатолия, Сирия, возможно, и Ирак, где Тимур удовольствовался грабежами и уничтожением гипотетичных соперников в славолюбии.
Эскиз политического проекта уже представлен. Следует его уточнить. Тимур оказался на стыке двух культур, уже давно друг с другом враждовавших, виной чего еще с древнейших времен была сама их природа — одна оседлая, другая кочевническая. Усугубила этот конфликт религиозная составляющая: оседлая культура была мусульманской, другая — языческой или поверхностно исламизированной. Раздираемый изнутри этим противоречием, Тимур тщился найти какой-нибудь средний вариант. Воспитанный на иранской культуре, он оставался тюрком; обращенный в исламскую веру, он оставался шаманистом. Кочевник, он любил жить в юрте и мог сутками скакать по степи, не покидая седла; горожанин, он строил дворцы и владел неведомым для любых бродников искусством захвата городов. Личность незаурядная, он переженил своих антиподов, разумеется, не избежав всех тех трудностей, которые возникают даже в счастливых браках; человек умный и проницательный, он понял, что другие не столь легко придут к осознанию необходимости этого неизбежного, хоть и не уютного, союза. Суть его проекта заключалась в том, чтобы добиться такого союза в государстве, какой он уже построил в своем сердце.
Времена стали существенно меняться после монгольского нашествия, когда Чингисхан, вняв наставлениям даоса Чань-Чуня и, видимо, советам своих уйгурских сановников, понял, что конфликт между кочевниками и оседлыми народами не должен решаться уничтожением вторых, стиранием с лица земли городов и превращением возделываемых земель в степи. Теоретически оба вида экономики друг друга дополняли: одна производила мясо, кожи, молоко и могла защищать горожан и поселян; вторая должна была давать пастухам то, в чем они нуждались. В реальности же все обстояло иначе. Существовали победитель и побежденный, завоеватель и завоеванный, аристократ и разночинец, тот, у кого имелось оружие, и тот, у кого его не было. Тысячелетний инстинкт принуждал не обменивать, а брать, получать немедленно, так как завтра ты можешь не получить ничего. Оседлые народы, естественно, искали средства самозащиты и старались организоваться. В землях с высокой цивилизацией тюрки и монголы находили все более привлекательного в городах, в их роскоши и развлечениях. Тем не менее они сохраняли нарочито презрительное отношение, о чем было сказано выше, к тем, кого называли таджиками, и презрение это было так же старо, как первые контакты номадов с оседлыми народами. Разве не говорил еще в XI столетии Махмуд Кашгарский, что стоило тюрку оказаться над животом таджички, как он тут же его вспарывал? В странах, где городское население было малочисленным, мирного сосуществования оседлого и кочевого народов не получалось: племенная структура оставалась прежней, и кочевник продолжал считать город податной структурой, не достойной поблажек. В Трансоксиане, Хорасане и в иных местах недостатка не имелось ни в старых, ни в новых племенах, сохранявших идеалы, которые исповедовали их братья с берегов Или.
Трансоксиана отложилась, потому что у нее было довольно собственных племен, и зависеть от племен северных ей не было нужно. Она предалась эмиру-тюрку Казагану (ставшему, насколько можно судить, главным борцом с Ираном за счастье тюрок), потому что он делал хоть какие-то усилия, чтобы умерить буйность племен, а еще потому, что она находила его способным защитить ее границы. Когда его дела пошли плохо, она предложила себя Тимуру в надежде найти в нем нового Казагана.
Надо было отбросить илийцев и заставить иранцев и кочевников сотрудничать. Решение этой труднейшей задачи требовало немалой дипломатичности и изворотливости; вот почему Тимур предстает перед нами в образе не слишком откровенного человека и, дерзнем произнести это, коли мы уже на пороге Кватроченто, в большой степени макиавеллиевском. Приглядевшись к нему поближе, мы спросим себя: был ли он таковым в той мере, в какой его столь охотно подозревают? Для примера рассмотрим его двукратное воссоединение с Тоглуг-Тимуром, из-за чего его стали считать предателем. Отложись Тимур от него раз и навсегда, быть бы ему в гробу или в ссылке, заодно монголам были бы развязаны руки. В ту пору Тамерлан являл собою нечто слишком малозначительное, чтобы стать воплощением духа сопротивления. Он защищал права тюрок и, как мог, сдерживал грабежи. Как всякий другой, он постарался извлечь из своего положения максимум выгоды. Однако, увидев, что монголы перешли к репрессивной политике, усугубив ее презрительным отношением к эмирам и населению, он тут же от них отошел, не смутившись утратой положения, в конечном итоге завидного. Во всем этом я не усматриваю ни хитрости, ни коварства, а в его отношениях с шурином вижу действия тонкого политика, но никак не притворщика или подлеца. Ему пеняют на то, что в момент опасности он сбежал и где-то там укрылся. Неужели ему надо было добровольно положить голову на плаху? Разумеется, его политика не была чиста, но она никогда не была низкой. Он шел к своей цели на удивление открыто, решительно и с ясным пониманием состояния вещей. Его упрекают в том, что, устанавливая свое правление в каком-нибудь городе, он делал прямо противоположное тому, что прежде советовал Хусейну. Зная, что племена не желали иметь вождя-горожанина, он обратил на это внимание мужа сестры. Впоследствии, должным образом оценив необходимость оседлости, он взял на себя риск ее учредить. Имея иную, чем у Хусейна, закалку, Тимур вполне мог преуспеть там, где шурин оказался беспомощным.
Тамерлан ненавидел беспорядок, анархию и несоблюдение субординации. То было свойство его натуры. Но он ненавидел их еще и оттого, что они представляли собой главную преграду на пути к осуществлению экономических планов, в его представлении более важных, чем планы политические, являвшиеся, в сущности, лишь их предпосылками. Цель Тимура заключалась в восстановлении полномасштабной международной торговли.
Территориальная раздробленность способствовала росту численности таможни, уровня дорожных пошлин и беспредельному повышению цен на товары. Сидящие в своих неприступных замках феодалы, не поддающиеся уговорам племена, оседлавшие большие дороги бандиты, локальные войны — все это превращало товарный обмен в чрезвычайно опасное предприятие. Украденное по дороге и не дошедшее до места назначения еще больше удорожало уцелевшее. Поняв, что потери слишком велики, негоцианты бойкотировали опасный регион. Именно так поступила Генуя в 1340 году, запретив своим купцам ездить в Тебриз.
Тимур решил изменить ситуацию. Наличие при нем постоянно действующей армии, почти всегда бывавшей в деле, не оставляло мужчинам времени для бандитских потех и вытягивало из своевольничавших племен их живую силу. Эффективны были непрекращавшиеся карательные экспедиции против грабителей, воинственных родов, банд всевозможных бродяг. Утверждают, будто бы Тимур пользовался каким-нибудь нападением на купеческий или паломнический караван как поводом для того, чтобы продолжить свою завоевательскую деятельность. То бывало не поводом, но причиной. Естественно, его служба пропаганды не упускала случая возвестить о том, что Великий эмир наказал плохих, освободил хороших или отомстил за них, тем самым восстановив покой в крае. И она против истины не грешила: минуло всего несколько лет, как воцарились мир и безопасность, а преступность начала снижаться, за что признательность Тамерлану была всеобщая. Хафизи Абру рассказал о случае, произошедшем с вдовой некоего кандагарского купца, которая в сопровождении всего двух малолетних рабов-индийцев отправилась из Симнана в Диярбакир, чтобы там продать семнадцать штук дорогой ткани, при этом не испытывая ни малейшего опасения даже на земле «владетелей белых овец», монголов-ойратов и бедуинов-аравитян из рода Бени-Асад.
Одновременно с обеспечением безопасности дорог Тамерлан усердно трудился над их благоустройством: устанавливались верстовые столбы, перебрасывались мосты, обозначались броды, строились караван-сараи. Следует помнить, что в те далекие времена товары могли годами идти от места изготовления или их приобретения торговцем до места их продажи потребителям. Даже новости расходились медленно: так в Венеции узнали о взятии в 1453 году Константинополя Османами только через двадцать пять дней. Тимур, следуя монгольскому правилу, заботился о быстроте передвижения гонцов, благодаря чему, например, вестник, спешивший уведомить Тимура, находившегося в Ширазе, то есть в двух с половиной тысячах километров от Самарканда, о нападении Тохтамыша на Трансоксиану, проделал этот путь всего за семнадцать суток, в среднем преодолевая за день сто сорок километров. Караваны, конечно, шли медленнее, но при Великом эмире их шествию не мешало ничто.
Стремясь завлечь негоциантов на свои дороги, Мамлюки делали все для развития морского пути из Индии, заканчивавшегося или на землях севернее Красного моря, или в Персидском заливе, откуда он продолжался по суше до Ливана, следуя вверх вдоль Евфрата, а затем по сирийской пустыне и Пальмирскому оазису. Как ни усердствовал Тимур, значение Египта и Сирии на мировом рынке продолжало возрастать. В 1359 году через Черное море было доставлено только индиго семь с половиной тонн, в то время как из Бейрута и Александрии прибыло двести семьдесят три тонны перца, сорок восемь тонн имбиря, одиннадцать тонн ладана и прочее. Кто может сказать, в какой мере конкуренция Египта стала причиной нападения Тимура на Мамлюков? Все историки признают, что состояние торговли весьма заботило Великого эмира, но никто не догадался, что эта озабоченность являлась одним из факторов, способных объяснить, для чего он предпринимал свои войны. Походы на Моголистан? Обеспечить доступ к Китаю. Походы на Золотую Орду? Разрушить ее торговые центры и взять под контроль ганзейский путь. Уничтожение Ургенча? Для того, чтобы избавиться от опасного для развития Самарканда соседа, каким являлся этот торговый центр. Поход на Индию? Чтобы расчистить для специй дорогу через Киберские теснины. Переговоры с Западом? Для того, чтобы уведомить латинов о том, что путь в Иран безопасен… Конечно, все сводить к экономике — шаблонно и чрезмерно, однако она тоже сыграла определенную роль.
В сферу интересов Трансоксианы входили два главных пути: во-первых, Шелковый; во-вторых, Пряностный, — то есть дороги Китайская и Индийская. Первый путь брал начало в Чаньнгане (Чаньяне), пересекал Канчеу (Гунзу) и Сучеу (Сузу) и заканчивался в Туен-хуане (Дунхуане), где раздваивался. По его главному ответвлению можно было попасть в Хами, Турфан, Карашар, Кучу, Шарки, Аксу, Тум-шук и Кашгар, а там перейти на второе, более южное ответвление, проходившее по Черчену, Хотану и Яркенду. Миновав Кашгар, путник оказывается в Фергане или на Памире, а затем спускается в Трансоксиану, держа направление на Ургенч, имея в виду богатство этого города и то положение, которое он себе обеспечил. Путь мог проходить по Самарканду; после того как Тимур разорил старую столицу Хорезма, так и сталось.
Следуя по дороге, ведшей из Индии на запад, караван, миновав Киберские теснины, попадал в Газни, а оттуда в Герат, затем, повинуясь обычаю, направлялся в Ургенч. Задача достижения Запада решалась двумя способами; первый заключался в том, чтобы обойти Каспийское море с севера, второй — чтобы обогнуть его с юга. В первом случае необходимо было прежде пересечь пустынный район, чтобы попасть в Сарайчук, стоявший на реке Урал. Ездили на арбах с высокими колесами, периодически останавливаясь на пару часов (по словам Ибн Баттуты); путешествие длилось двадцать дней (как утверждает Пеголлини, итальянец, специалист по средневековым странствиям) или все тридцать, по мнению других. Путь от Сарайчука до Самарканда продолжался ровно неделю. Далее по Волге плыли в Сарай, откуда добирались до Дона, затем или до Тана-Азака, что в северо-восточном конце Азовского моря, или в Каффу (современная Феодосия), в Крым, где итальянцы развернули свои торговые колонии. Те, кои выбирали путь южный, шли вдоль Эльбурса, через Султанию, Тебриз и наконец попадали в Эрзурум и Трабзон, где товары грузились на суда, которые доставляли их в Константинополь. Из Тебриза можно было добраться до Киликии, проделав часть пути по анатолийскому плоскогорью. Из Султании дорога шла прямиком в Сирию. В Астрахани заканчивался другой путь, по которому везли товары, едва ли менее желанные для европейцев: северные меха — лисий, рысий, беличий, соболий (прежде всего), а также очень редкий горностаевый.
Экономическая политика, проводившаяся Тимуром, оказалась плодотворной, но менее, чем ожидалось. Возродить прежние связи Европе хотелось очень, так как в тот период иранский шелк ценился выше китайского, — надо заметить, обоснованно. Увы, торговый обмен все же оставался на уровне ниже былого, поскольку Тамерлан никак не мог найти времени для того, чтобы создать для западноевропейских купцов абсолютно надежные условия, хотя в своих посланиях, кроме всего прочего, и тщился побудить их к более активному участию в торговле на трансоксианском рынке. Если, как позволяет думать одно вовсе не смехотворное предположение, он стер с лица земли города Золотой Орды и довел до убожества итальянские торговые колонии в Крыму, чтобы уничтожить торговые сношения через Северное Прикаспье и обеспечить практически полную монополию для торговли, ведшейся через южное побережье озера-моря, тогда его затея была с самого начала обречена на провал. Действительно, Крым все так же экспортировал не только местные товары: шерсть, пеньку, кожи, лен, рабов, высокоценную каспийскую икру (случаи ее продажи датируются 1392 и 1399 годами), причерноморскую пшеницу, а также хлеб, выращивавшийся в волжском Булгаре, в этой житнице Золотой Орды, и те пряности и шелка, что не проходили через руки Мамлюков.
На уровне более скромном товарообмен внутри экономической зоны, простиравшейся от Индии до Сирии, развивался зримо и динамично, что не могло не стимулировать тимуридского Возрождения. В этом пункте своей программы Великий эмир достиг существенных результатов. Купцы, естественно, к нему тянулись, даже невзирая на то, что его стражам порядка и случалось припечь огнем их натруженные ступни.
Ядро Тамерлановой армии состояло из ратников караунасского войска эмира Хусейна. «Караунасами», или «беспородными», называли этническую прослойку населения, образовавшуюся во второй половине XIII столетия как плод любви монголов и индийцев (обоих полов), выведенных из Индии во время многочисленных грабительских набегов, и являющуюся самой динамичной из всех западных тюрко-монгольских родоплеменных туманностей до создания Тамерланова государства. Однако очень быстро это определение распространилось на все проживавшие в амударьинском поречье монголо-тюркские племена, а в дальнейшем, с середины XIV века, — на большую часть Джагатаидов-кочевников, включая барласов, конечно, из-за их нечистокровности и приобщенности к иранской культуре. Это указывает на то, что между всеми трансоксианскими кланами существовало подлинное культурное единство, что они имели общие идеалы и что их объединял один и тот же modus vivendi. Так же, как и Хусейна, они нашли Тимура схожим с ними, тем более что он действительно был одним из них. Однако, следуя примеру Чингисхана, Великий эмир поспешил расчленить родоплеменные сообщества и упразднить наследственные владения, уже начавшие терять свои позиции под натиском новой общественной прослойки и все более утверждавшегося нового образа жизни, прочно связанного с городом и иранской знатью.
Зачисление в тот или иной полк не зависело от принадлежности к тому или иному роду или округу. Наоборот — офицеров и солдат предпочитали записывать в части, сформированные из людей различного происхождения, что придавало войску особую однородность, не имеющую связи с родоплеменной структурой. Возросшие потребности, связанные с ведением войн, человеческие потери, сократившаяся рождаемость вследствие мобилизации молодежи, — все это заставило Тимура прибегнуть к широкомасштабным рекрутским наборам в тюркоязычных племенах Хорасана, а затем среди иранцев, прежде всего из того же Хорасана, где воинские традиции оставались прочными. Эта провинция во времена аббасидского владычества, когда мусульмане воевать не желали и предпочитали платить наемникам (Мамлюкам), неизменно поставляла сильных и умелых ратников. Маньелли говорит, что, когда Тимур пришел в Дамаск, «ко-расени (хорасанцы) были многочисленнее чиакатазиев (джагатайцев)». Очень похоже, что в армии они занимали действительно привилегированное положение, что не мешало Тимуру расхваливать тюрок за их, по его мнению, лучшие воинские качества; они же пользовались его сугубым доверием. В Тамерлановом войске можно было увидеть и христиан, в частности грузин.
Армия была поделена на части по десять и сто воинов и на соединения по тысяче и десять тысяч (тюмен. —
Денежное довольствие было приличным, выдавалось неукоснительно раз в год или раз в полгода, иногда — авансом, но лишь в тех случаях, когда намечался долгий и опасный поход. К этому следует прибавить добычу, которая могла оказаться огромной и обогатить воина раз и навсегда. Разброс величины должностных окладов был велик: рядовому платили в зависимости от имевшихся у него лошадей (от одной до четырех); десятник
Оборонительная экипировка включала в себя остроконечный шлем с наносником и назатыльником из стальной кольчуги, короткую кольчужную рубаху, иногда легкие латы, а также круглый щит, тоже легкий. Воинам хотелось иметь средства защиты не слишком тяжелые, и потому они искали для них соответствующие материалы; щит из плетеной лозы не имел надежности щита железного, но с ним было легче управляться, да и рука уставала меньше. Подвижность и быстрота главенствовали над всем.
Наступательное вооружение состояло из сети, аркана (веревочной петли, прикрепленной к длинному шесту), сабли, кинжала, палицы, а также из лука со стрелами и довольно тонкого копья. Для защиты лошадей применялись стеганые попоны. Одежды воинов были чисты и изысканы. Тимуру хотелось, чтобы его войско выглядело браво. Любитель эффектности, он верил, что элегантность придает ратникам и горделивости, и уверенности и что это способно деморализовать противника.
Тренировки были интенсивными; дисциплина поддерживалась строжайшая. Еще до боя каждый знал свое место и роль в предстоящем деле. Когда случалось непредвиденное, приказы военачальников исполнялись с безупречной быстротой. Сверх пехоты и конницы армия располагала «инженерным» корпусом и отрядом скалолазов (им же поручалось взбираться на стены). Она славилась быстротой передвижения, скорой разбивкой лагерей и снятия с них, возведением оборонительных сооружений (таких, как гуляй-города) и наступательных. Похоже, для постройки плотины, отгородившей Смирну от моря, Тимуровым воинам понадобилось всего четверо суток. То, как Великий эмир расположился в окружающих Самарканд степях, привело Клавихо в изумление: «Тамерланова орда быстро и четко установила более двадцати тысяч палаток, разместив их на манер городских домов, предусмотрев улицы, площади и базары».
Несмотря на то, что семьям сопровождать воинов не позволялось (возможно, в некоторых случаях они это делали), за армией следовала целая толпа самого разного люда: менялы, ремесленники, торговцы и паломники. Надо было удовлетворять потребности солдат, покупать или обменивать то из добычи, что им мешало или их не интересовало. Перемещение и обеспечение значительной массы людей ставили серьезные проблемы, полностью решить которые удавалось не всегда. Порой лошади и вьючные животные оказывались менее выносливыми, чем люди. Предусмотрительности не хватало как ратникам, так и командирам; довольствие не расходовали, а транжирили; потому армии случалось ужасно голодать. Во время длительного перехода по кипчакским степям пища выдавалась редко, отчего моральный дух воинства упал так низко, что пришлось устроить большую охоту. В походе на Индию продуктов питания было недостаточно всегда, а в октябре закончилась крупа. Иногда приходилось есть собак. Оружие, вьючные животные и провизия отбирались в каждом населенном пункте. Страны, оказавшиеся театром военных действий, бывали практически обескровлены, ибо войско продовольствовалось тем, что находило на месте пребывания. Оно грабило селения, отнимало стада у кочевников. Когда оно ушло из Мазандерана, как записано в местных хрониках, не осталось «ни одного петуха, чтобы петь, ни одной курицы, чтобы нестись».
Назвать, не колеблясь, количество людей, поставленных Тамерланом под оружие, не может никто. Еще недавно его определяли как огромное. Говорили о семистах тысячах Джагатаидов, приведенных под стены Алеппо, тогда как Тимур упоминал только о сорока тысячах. Один из его биографов, Шандор, не моргнув глазом утверждает, что в Анатолии под началом Тимура было аж восемьсот тысяч солдат, в то время как другие считают доказанным, будто бы под Анкарой он командовал полумиллионным войском. Старинные документы придерживаются этой же точки зрения. Джустиниани, венецианский посол в Тимуровой ставке, насчитал их восемьсот тысяч; греческий аналитик Францес — восемьсот двадцать тысяч; хронист-иудей Рабби Иосиф — миллион: четыреста тысяч ратников конных и шестьсот тысяч пеших; немецкий рыцарь Шлитбергер, очевидец, — миллион четыреста тысяч. Единственный современный исследователь, изучивший ту грандиозную сшибку, свел численность Тамерлановых сил к «минимуму в сто сорок тысяч сабель»; однако эта цифра, предложенная, исходя из данных, полученных неким турецким специалистом, проявившим здоровую реакцию на явные преувеличения, я бы сказал, слишком мала.
Средневековые хронисты, привыкшие к немногочисленным европейским армиям, видно, были так напуганы армиями азиатскими, что невольно ударились в гиперболизацию численности их живой силы. Нынешний же западный историк, столь же потрясенный этим контрастом, скорее, поступит наоборот и попытается ее преуменьшить. Кстати вспомним, что во время Столетней войны англичане высадили в Нормандии десять тысяч солдат (1414), что французы в 1415 году под Азенкуром собрали двенадцать тысяч рыцарей и что определяют как крупную военную акцию — развертывание Францией двадцатитысячного войска. Восточные армии, быть может, действительно казались более грандиозными, нежели были на самом деле, но они и вправду являлись более грандиозными, чем можно было подумать. Что касается прочих народов, то, как утверждается в западных источниках, на другой день после Никопольской битвы в Мезии у Баязида имелось от ста тысяч до пятисот тысяч воинов; а стопятьюдесятью годами ранее, при Чингисхане, для того чтобы остановить набег на Кипчакию, русские подняли восьмидесятитысячное войско; тогда же хорезмшах пришел в Газни с шестьюдесятью тысячами ратников.
Увы, все эти выкладки представляются мне весьма сомнительными. Они откровенно обнаруживают свою несостоятельность, например, когда приступаешь к изучению положения дел в армии Чингисхана, сведения о которой можно найти как в китайских, так и персидских источниках. Принято считать, будто бы монголы овладели Китаем, приведя туда от ста десяти до ста тридцати тысяч воинов, потом еще двести тысяч, а то и больше. Выдающийся русский историк Бартольд думает, что те же самые монголы использовали в Иране равноценную живую силу. Поскольку в тот период Китайская кампания была в самом разгаре, а названные два фронта были не единственными, Чингисхан, определенно, имел под своим началом не менее полумиллиона воинов.
Теоретически Тимур такое количество войск иметь мог, но не имел. Так, в 1392 году он отправился в поход с десятью
Выше мы сказали, что Тамерлан предпочитал захватывать города не разрушенными, и надо было доводить это до их сведения. Когда они соглашались платить дань, наступал черед выработки процедуры капитуляции, и тут начинала действовать служба пропаганды, оперируя вперемежку уведомлениями и угрозами. «Самые дерзкие переходы и жесточайшие осады перемежались, — пишет Жан Обен, — переговорами и торгами». Первые шаги делались дипломатами, однако чаще всего исход дела зависел от герольдов, монахов и сановников.
Совсем другими были отношения Тимура с иностранными державами. Преследуя интересы политические и торговые, они также подготавливали военные операции, иногда задолго до их начала; Тимур придавал этому величайшее значение и, являясь наследником Чингисхана и приверженцем ясы, считал послов личностями священными, неприкосновенными и почетными. Пленение и тем паче убийство дипломата служили поводом для объявления войны, а также для наказания смертью виновных, равно как и одностороннее расторжение договора, несоблюдение условий пакта. Он так и не простил Мамлюкам убийство своих посланцев во времена правления Баркука и содержание их в зиндане при Фарадже. Сам же Великий эмир обращался очень хорошо с теми, коих к нему направляли его враги, даже если их дерзкие заявления приводили его в ярость. Когда перед ним предстали послы Мамлюков, ужасно обеспокоенные характером порученной им миссии, он принял их любезно и, одарив золотом, отпустил. Прибывших эмиссаров Тохтамыша он поначалу осыпал бранью, но, быстро взяв себя в руки, задал в их честь пышный обед и одарил шелковыми халатами.
Одним из козырей в руках правящих семей средневекового Запада было заключение политических браков, приносивших им новые землевладения или, за неимением таковых, союзников. На Востоке, где женщины, за редким исключением, самодержавными правительницами не бывали, произвольно распоряжаться улусами они не могли, но были властны укрепить союз; увы, опыт свидетельствовал, что поставленная на них карта слишком часто бывала бита. То, что Хусейн и Тимур были шурьями, естественно, их союзнические отношения упрочило, но не спасло от разрыва, который в конце концов произошел. Вместе с тем войти в семью, стоявшую на ступеньку-другую выше семейства собственного, являлось делом почетным; вот почему Тимур любил титуловать себя «царским зятем». Начиная с первых лет христианской эры, вся китайская иностранная политика вращалась вокруг обмена женщинами между императорским двором и родоплеменными вождями «северных варваров», и последние к этому заметно привыкли. Разумеется, Великий эмир тоже попробовал создать сеть союзов на основе перекрестных династических браков, однако результат оказался мало убедительным. В 1378 году он высказал гератскому малику пожелание укрепить их старинную дружбу посредством брака. Тогда сын малика женился на Тимуровой племяннице, что тем не менее не помешало разразиться конфликту всего через несколько месяцев. Красавица Хан-заде, став снохой владетеля Самарканда, тоже спасала Ургенч весьма ненадолго.
Еще до восхождения на высшую ступень власти, когда Тимур был всего лишь бродячим наемником, его неустанной заботой являлось поддержание тесных сношений, за развитием которых проследить очень трудно, с племенными вождями и соседними владетелями, правившими Моголистаном, Гератом, сербадарской «республикой», и, разумеется, с многими другими. Единственная дипломатическая миссия того периода, о которой мы располагаем мало-мальскими сведениями, — это посольство, направленное им в столицу Хорасана весной 1367 года и возглавленное одним из его родственников, человеком верным, а именно эмиром Чаку-барласом.
Избрание Тимура в 1370 году не только не положило конец этой деятельности, но существенно ее активизировало. В указанном году — возможно, и раньше — он вновь имел контакты с сербадарами и, как свидетельствует Хафизи Абру, послал им подарки; его же эмиссары оказались достаточно убедительными для того, чтобы «республика» не замедлила примкнуть к Тимуру. Переговоры с Гератом происходили все чаще; в документах они датируются 1372 годом, однако могли иметь место и ранее. По мере того как государство укрупнялось, а границы раздвигались, набирала темпы дипломатия, которая в конечном итоге охватила весь мир: установились связи (о них нам известно довольно мало) с Китаем, Византией, Османами, Кастилией, Италией, Англией и Францией.
В то время как Тимурова пропаганда тщилась убедить всех в том, что Китай управлялся Джагатаидами, наследники Юань, Мин не преминули востребовать полностью все монгольское наследство. Мы уже пытались, увы, безуспешно, найти ответ на вопрос: отчего Тимур согласился принять унизительный для себя сюзеренитет Китая? Как бы там ни было, вассальное положение при всей его кажущейся стеснительности стоило Тимуру лишь эпизодической уплаты оброка, более символического, нежели действительного: например, в 1394 году, как явствует из китайских источников, Тарагаев сын поклонился Сыну Неба двумястами сорока лошадьми…
В китайских анналах упоминается о посольствах, направленных Пекином в Самарканд в 1391 и 1395 годах, а также в Трансоксиану (1404). В тех же источниках говорится о Тимуровых посольствах, побывавших в Китае в 1388, 1391 и 1394 годах; вероятно, направлялись и другие. В письме от 1412 года к Шахруху китайцы не забыли напомнить: «Твой отец Тимур-Курган, повинуясь указанию Высочайшего Бога, признал себя вассалом Тай-цу, Его Величества нашего Императора. Он постоянно направлял к нему своих послов с дарами, подобным поведением доставляя покой людям твоей далекой страны».
Мы располагаем более многочисленными сведениями о взаимосвязях Тамерлана и христианского мира, несмотря на всю фрагментарность наличествующей документации. Похоже, Тамерлан положил им начало в 1398 году, направив епископа Нахичеванского, будущего Иоанна Султанийского, доминиканца-итальянца, в Геную и Венецию, у которых в Леванте имелось несколько торговых колоний. Отец Иоанн воспользовался этим для поездки в Рим, где папа Бонифаций IX произвел его в архиепископы. Великий эмир, готовившийся к войне с Османами, усматривал потенциальных союзников в Византии, равно как в европейских державах и в управляемых итальянцами торговых колониях, в частности в Пере (Константинополе). Что до европейцев, коих Баязид незадолго до того (1396) разбил под Никополем и в Византии, которую удушил блокадой, то они уже надеялись только на силы Тимура, могшего нанести туркам удар с тыла. Следственно, дипломатическая работа велась относительно активно.
Зимой 1399/1400 года Тимур принял первое великое посольство византийцев, а в начале 1401 года из Перы явилось посольство к его сыну. Франция, которая незадолго до тех событий озаботилась интересами Генуи, унаследовала от нее несколько восточных торговых колоний, управлять которыми 23 марта 1401 года был поставлен маршал Де Бусико, участник Никопольской битвы. Придя на смену человеку явно неспособному, этот по-своему замечательный человек срочно составил досье на Тимура, наведя справки в колониях в Крыму, Азаке, Кио, Фамагусте и Пере. Именно тогда в Перу прибыла из Трабзона галея с двумя посланцами от Великого эмира, один из которых, некий отец Франциск, обратился к Генуе с требованием не вести с Османами никаких переговоров; он же повез Тамерлану письмо Карла VI.
Немного позже Генрих III Кастильский поручил Гомесу Сата и Хернану Санчесу переговорить с Османами и Тимуридами. Оба посла весной 1402 года достигли Турции и вместе с Баязидом отправились в Анкару, где стали очевидцами знаменитой баталии. На другой день они уже стояли перед победителем. Момент был найден счастливо: Тимур принял их так хорошо, что, когда по возвращении домой они принялись славословить его рыцарство, гостеприимность и щедрость, похвалы били из них фонтаном. Они привезли с собой Тамерланову дипломатическую миссию, во главе с Мухаммедом аль-Кази, состоявшую из трех христиан и шести татар, а также ларец с драгоценными украшениями, в дар от Эмира, и сверх того — трех прекрасных уведенных в полон турками христианок благородного происхождения, коих он нашел в Баязидовом гареме. Одна из них, Ангелина, жена испанского гранда, прославилась: ее романтическое приключение вдохновило поэтов, а Л. Керен составил ее краткое жизнеописание. Миссия в январе 1403 года прибыла в Кадис, а оттуда отправилась в Сеговию, где в то время находился король.
В течение нескольких месяцев до и после сражения за Анкару дипломатические контакты между Византией, франками и Тимуром были особенно интенсивными: в конце 1402 года посольство было отправлено из Византии, 18 и 21 мая 1402 года посланники Джагатаидов ездили в Перу, а также в сентябре; затем в январе и августе 1403 года. Ища, где остановиться, Бусико подходящее место нашел; и совершенно точно, что оно не являлось лагерем Баязида. Касаясь поведения жителей Перы, можно спросить, действительно ли они зашли так далеко, что, если верить Г. Стеллеру, сделавшему соответствующую запись в хронике города Генуя, украсили крепостные стены бунчуком Тимура. Увы, подтверждение этому в других источниках не обнаружено. Как бы там ни было, посланцам Джагатаидов всякий раз устраивался пышный прием, их одаривали дорогими изделиями, лошадьми и нарядным платьем. Тем не менее нет никаких указаний на то, что город признал себя вассалом и согласился платить дань.
Отвечая на письма Карла VI, Тамерлан снова призвал Иоанна Султанийского, и тот убыл в Париж в 1403 году, чтобы прибыть на место в июне. Там он написал и распространил свой «Libellus». В обратный путь (в Иран) он повез очередные королевские послания. Что до Генриха Кастильского, то он, удовлетворенный хорошими результатами своего посольства и очарованный рассказами о Тимуре, направил к нему второе посольство, снова включив в него аль-Кази. В числе дипломатов находился и Рюи Гонзалес де Клавихо, который, к нашему великому удовольствию, сподобился написать повесть о своем путешествии на Восток. 21 мая 1403 года посольство поднялось на борт судна, отправлявшегося в Константинополь, город, где оно провело всю зиму в ожидании возможности отплыть в Трабзон. Сойдя на сушу, послы оказались во власти Тимуровых эстафетных всадников, которые взяли такой темп, что один из дипломатов по дороге умер от переутомления. Проделав обычный путь: Эрзурум, Тебриз, Султания, Рей, — они к исходу третьего месяца очутились в Самарканде, проделав две тысячи километров степных и горных дорог. На аудиенцию Клавихо и его спутник были приглашены 8 сентября 1404 года.
Финансовая политика Тимура основывалась на максимальном облегчении налога — конечно, того, что платили его подданные, а не того, каким облагался побежденный враг, — согласно принципу, гласившему, что обнищание народа влечет за собой оскудение казны, из чего неизбежно следуют сокращение расходов и, значит, падение авторитета правителя, ослабление безопасности и сокращение доходов как коммерческих, так и сельскохозяйственных, что, в свою очередь, порождает анархию и утяжеление налогового пресса. Подобная точка зрения, вовсе не оригинальная, со всей очевидностью отвечала классическому экономическому учению ислама. Еще Аббасиды провозгласили: «Нет процветания — нет государства. Нет торговли — нет процветания». Через столетия данный постулат слово в слово повторяли Османы. Правды ради следует заметить, что Тимурова экспансия и те ресурсы, которые она обеспечивала, делали подобную финансовую политику легко осуществляемой.
Налогом облагался доход, определявшийся в зависимости от того, что давала земля. Как правило, он равнялся трети (или четвертой части) сельскохозяйственного продукта и, взимаемый только после сбора урожая, выплачивался натурой или исчисленным эквивалентом. Многие были от него освобождены. Когда военная добыча бывала значительной, налог просто-напросто отменялся, иногда на несколько лет, например на три года, как это случилось по возвращении из похода на Тохтамышеву Золотую Орду. В целях поощрения земледелия было учреждено, что тот, кто решил обзавестись хозяйством или распахать целину, не должен был платить казне ничего в первый год, на второй год давал только то, что мог, и лишь на третий год его вносили в список налогооблагаемых лиц. Купцам, разорившимся или оказавшимся в стесненных обстоятельствах, помогал выбираться из затруднения сам Тимур, предоставляя денежную ссуду. Применявшиеся к неплатежеспособным должникам санкции были немногочисленны; сборщики налогов не имели права прибегать к помощи палки, пускать в дело веревку, кнут или цепи.
Государство на свои средства содержало войско и чиновничество. Оно финансировало общественные работы и престижное строительство, само собой разумеется, строительство таких зданий, как дворцы и мечети, но также и (прежде всего) медресе, то есть школ, лечебниц и караван-сараев. Оно обустраивало и охраняло дороги. Оно поддерживало сельское хозяйство как фискальными средствами, так и развитием оросительных систем. Чиновники были обязаны снабжать земледельцев нужным инвентарем и следить за тем, чтобы крупные землевладельцы не использовали свою силу во зло бедным: тот, кто несправедливо обошелся с человеком бедным, лишался имущества, которое передавалось пострадавшему. Еще строже они контролировали производство и распределение, согласно прочно укоренившейся в исламе традиции, гласившей, что первым долгом государства является довольствование населения по справедливым ценам, а также защита его от спекулянтов и мошенников.
В принципе мусульмано-тюркское общество — это общество, где не было бедных. Тимур делал невозможное, чтобы свести на нет нищету и попрошайничество; он создал кассы вспомоществования для самых обездоленных, организовал раздачу им бесплатной еды, а также богадельни. Во всех новозавоеванных провинциях бедняки обязаны были явиться в «социальные службы» для получения специальных знаков, дававших право на бесплатное питание. Самые крупные состояния составляли себе не производители, а распределители, торговцы, процентщики, которые чаще всего были немусульманами, так как ислам давать деньги в рост запрещает.
Основные ресурсы Тимур получал от разграбления городов, от сбора дани с побежденных, а также от конфискации личного имущества правителей и наместников. Дань распределялась между казной, эмирами и воинами; порой, как, например, в Алеппо, ее целиком отдавали солдатам. Она бывала огромной: ту, что собрали в Дели, некоторые оценивают в пятнадцать миллиардов золотых франков; дань, собранную в Дамаске, по словам Иоанна Султанийского, погрузили на восемьсот верблюдов. Али Язди утверждает, что масса реквизированного добра была так велика, что для его транспортировки не хватило всех тех животных, которых начали отбирать у населения еще в Сивасе.
Рассказы обо всех этих богатствах вызывают определенный скептицизм: действительно ли Восток был так обилен? Однако, начиная с античных времен, его экономика постоянно процветала; в частности, он обогащался благодаря весьма прибыльной торговле с Западом. Если Индия представляла собой неистощимый кладезь, то и Золотая Орда с Османской империей тоже располагали значительными ресурсами, которые обеспечивались экономической деятельностью и грабежами. В течение более ста лет Золотая Орда обирала славян; к тому же она унаследовала, по крайней мере частично, то, что Чингисиды добыли в Центральной Европе; что касается Османов, то на Балканах они добились успехов достаточно внушительных, чтобы в «клубе богатых стран» выглядеть прилично.
Кочевники составляли заметную часть населения. С началом сельджукских набегов землепашцы мало-помалу уступали свои позиции скотоводам, и часть оседлого люда возвратилась к пастушеской жизни. Кто они были, эти номады? Отюреченные монголы и тюрки Трансоксианы, Хорасана, большинства провинций Ирана и анатолийского Востока; иранцы, такие, как иракские курды и их соплеменники из Ирана и Анатолии, а также афганцы; наконец, арабы, бедуины с Ближнего Востока. Сельское население было многочисленным в хорошо орошавшихся областях. Так, говоря о Кухистане, горной области, простирающейся от Балха до Герата, арабский географ Якут в 1207 году, накануне монгольского нашествия, отметил, что этот край был усеян «многими селениями и изрядно населен… а также имеет множество пустынь». После Чингисхановых опустошительных набегов и Великой чумы 1348 года рождаемость в Кухистане возросла настолько, что уже к 1370 году демографическая ситуация практически сравнялась с той, что имелась там в начале XIII века.
Во времена Тимурова владычества сельское население разделилось на три категории, а именно: на крупных землевладельцев, называвшихся
Темпы урбанизации беспрецедентно возросли одновременно с развитием градостроительства на Западе. Ислам — это прежде всего цивилизация городская. Богатые ростовщики — немусульмане (чаще всего евреи), руководители импортно-экспортных предприятий, ремесленники, лекари, астрологи, влиятельные чиновники и эмиры составляли высшие круги общества. Остальная масса городского населения включала в себя лавочников, коих на Востоке всегда имелось в достатке, кустарей, мелких чиновников и прочих служащих.
Похоже на то, что рабство особенно распространенным явлением не было, хотя невольников имелось множество. Если не понимать буквально свидетельства Али Язди, согласно которому после взятия Дели каждый воин вел за собой в среднем по сто пятьдесят пленных (следовательно, армия в девяносто тысяч человек взяла в плен более тринадцати миллионов индийцев!), то легко обнаружится, что их численность равнялась нескольким миллионам. При этом надо иметь в виду, что до Трансоксианы добиралась лишь малая часть этих несчастных как из-за трудностей перехода, так и по причине недоедания. Так что масштаб переселения производит впечатление головокружительное… Рабы направлялись на сельскохозяйственные работы; однако часть их поглощал город. Впрочем, следов пребывания в Трансоксиане невольников не сохранилось. Были ли они отпущены на свободу? Возможно, поскольку ислам это поощряет. Увы, дополнительных сведений все еще недостаточно.
Мы не знаем, чем питался простой народ. Что касается правящей верхушки, то она, вполне возможно, особо привередливой не была и при необходимости довольствовалась бульмаёй, смесью рубленого мяса с мукой и дикорастущими травами, но по праздникам любила себя побаловать. Включавшийся в состав многих угощений рис тогда не являлся повседневной пищей, как, например, в сегодняшнем Иране. Жареная баранина и конина являлись основным питанием тюрок, равно как старый добрый кумыс. Распространенным блюдом являлись мясные шарики. Когда открывался сезон охоты, на столах появлялась дичь. В рацион входили ячмень, пшеница (в виде хлеба или ядрицы), а также фрукты и иные плоды, из которых, как видно, особенно ценились дыни, виноград и миндаль. Сладости, к которым номады испытывали отвращение, заполняли столы как десерт, подававшийся перед фруктами, или в виде выпечки и
Единственными по-настоящему организованными были корпорации ремесленников и купцов: первые, хорошо структурированные и могущественные, пользовались как привилегиями стародавними, так и новообретенными; вторых государство любило особенно, поскольку считалось, что торговля обеспечивает благосостояние государства и граждан. В письме к Карлу VI Французскому Тимур заметил, что мир процветает усердием купцов. Интерес Великого эмира к экономике и торговле volens-nolens[36] сделал торгашей привилегированной категорией людей, которые его поддержали, по меньшей мере, в начале его карьеры. Они предпочитали иметь сильную власть, способную защитить как общественный порядок от свойственной племенам анархии, так и от деспотизма местных мелких тиранов; а также им хотелось иметь рынок, величиной равный крупной державе, а не территории какой-нибудь провинции. Разумеется, в продолжение времени их взгляды менялись в связи с введенными режимом строгостями и злоупотреблениями, жертвами которых они стали. Все же самые влиятельные из них, те, кои руководили торговлей и крупными мастерскими, умели довольно ловко устроить свои дела и преданность Тимуру сохраняли. Им очень хотелось, например, чтобы Тимур ввел свои рати и занял те крепости и замки, которые превратились в логова разбойников: экспедиция, имевшая целью Такрит, действительно, была предпринята по просьбе «богатых гостей и землепроходцев из Багдада». Негоцианты финансировали формирование ополчений или создавали их самолично для блокирования некоторых городов.
Когда заводят разговоры о разграбленных лавках, разоренных складах, о припеченных подошвах ног, надо помнить, что речь идет не о самых богатых… Кто знает, не являлись ли превращенные в ничто колоссальные состояния имуществом конкурентов, коих требовалось убрать? Жан Обен, изучив совершенные Джагатаидами вымогательства, пришел к следующему категорическому выводу: «Те, чьи жизни и добро не пострадали, принадлежат к привилегированным классам. Если отбросить всегда возможные отдельные недоразумения, то можно сказать, что верхушка городской знати из побоищ вышла счастливо; так было в Исфагане, а также в Шахр-и Систане, откуда, по словам Натанзи, «все богачи были вывезены в Трансоксиану».
В Тимуровом царстве разница между тем, как жили иранские женщины, и образом жизни женщин тюркских была огромной. Первые должны были терпеть все ограничения, проистекавшие из мусульманских законов и обычаев; вторые подчинялись кочевническим тюрко-монгольским традициям. Первые носили чадру, а в высшем обществе содержались в гаремах; вторые свободно занимались своим делом и не прятали ни лиц, ни причесок. В иранском обществе проституция была явлением банальным; в мире тюркском женщины были слишком свободны и уважаемы, чтобы торговать телом. Все это говорит о вещах более важных, чем кажется.
Ценные свидетельства о жизни тюркских женщин в первой половине XIV столетия сообщает Ибн Баттута, являвшийся не только внимательным исследователем мира, странствовать по которому он не уставал, но и вдумчивым мусульманином, видевшим разницу между существованием тех, кто исповедовал шариат, и тех женщин, кои следовали установлениям ясы. Так, он безоговорочно восхвалял ширазских иранок: «Ширазцы — люди достойные, верующие и целомудренные; их жены отличаются этим особенно. Они носят башмаки и выходят из дома, накрывшись плащом и паранджой, так что никакой части их тела не видно». Наблюдая за тюркскими женщинами, с коими встретился сначала в Анатолии, а потом в Золотой Орде, он то возмущается, то восхищается: «Я видел нечто совершенно замечательное, а именно уважение, каким женщины пользуются у тюркских народов: воистину они занимают там место более высокое, нежели мужчины». Прогуливаясь, он подмечает сценки, не лишенные пикантности: «(На базаре) женщина часто бывает сопровождаема своим мужем, и всякий видящий его принимает его за слугу». Рассмотрев положение тюркских женщин в Тамерлановом царстве, мы можем в то же самое время констатировать, сколь малоуважительно относились Джагатаиды к обладательницам паранджи и какого рода внимание они на них обращали.
За полустолетие, отделившее Ибн Баттуту от Тимура, нравы не изменились. Законы шариата, скорее всего, соблюдались по-старому, но следовали ли им, к примеру, при распределении наследства, поскольку он требовал, чтобы две трети передавались сыну и всего одна треть — дочери? Мы также знаем, как шариат уважался в вопросах матримониальных и как в то же самое время его обходили: так полигамия была сведена до четырех жен, наделенных далеко не равными правами. Доказательств того, что Тимур потщился изменить положение своих компатриоток, не имеется. По меньшей мере в этой области взаимопроникновения мусульманского и шаманистского обществ не произошло. Свобода тюркских женщин — перед лицом ислама — говорит в пользу тюркского гения, добавим — для вящей славы Тамерлана.
Дерево узнают по его плодам. О человеке судят по делу, каким он занимается. Оно может не иметь никакого плана, может заключаться в использовании благоприятных обстоятельств или в постепенном расширении масштабов предприятия. Однако люди только post factum начинают понимать, в каком направлении действительно шли. Чаще всего, особенно тогда, когда речь идет о крупном деле, направление находится в прямой зависимости от намеченной цели, даже если она была пересмотрена в тот или иной период жизни. Несомненно, Тимур с недюжинным мастерством сумел извлечь выгоду из всех обстоятельств, с коими ему довелось столкнуться, но утверждать серьезно, что уже на двадцатом году от рождения он предопределил, кем станет и к чему следовало бы стремиться, невозможно. И все же этот рассудочный и расчетливый человек, этот игрок в шахматы, предать себя случаю не мог: он поставил перед собой цель (которой, возможно, еще четко не различал), желая добиться некоторого количества результатов, при этом зная, каких именно. Но как понять, каковы были его подлинные намерения и замыслы? Задача эта тем более трудна, что Тамерланова служба пропаганды систематически заметала его следы.
Уверенно можно говорить лишь об одном — о том, что ему хотелось достичь высшей власти любыми способами, как посредством мира (достоинства которого он, несомненно, видел), так и через войну (к которой его неудержимо влекло). Власть была ему нужна для властвования, а не для наслаждения почестями, которые его практически не интересовали, равно как и блага, коими пользоваться он умел, но с которыми обращался так расточительно. Он, несомненно, испытал глубокое удовлетворение, когда ее обрел. И в этом смысле жизнь его удалась. Умевший добиться успеха во всяком деле, взять верх над любым соперником, не проигравший ни одного сражения, не захмелеть от добытого успеха он не мог; одновременно он был уверен, что в этом больше заслуг Всевышнего, нежели его собственных.
Сделала ли власть его счастливым? Этого никто и никогда не узнает, но черты его лица радости не выражают. Сказано, что в существовании человека сокрыты две трагедии: успех и неудача. Первой Тимур явно не избежал. Если над ним никогда не было хозяина, разве что в отрочестве; если он познал свободу в ипостаси всемогущества; если он полными пригоршнями черпал в море наслаждений и хмелел от гордости за самого себя, то это не уберегло его от ужасных трагедий, таких, как смерть тех, коих он любил более всего на свете — обоих сыновей и нескольких внуков, — а также безумие Мираншаха. Быть может, это было справедливо; возможно, их кровью он заплатил за ту, что была пролита по его приказу, но от этого страдания его были не менее сильными. Он передал потомкам то, что каждый из нас подсознательно имеет в виду, мечтая оставить хоть какой-то след на земле; он оставил память о себе как об одном из величайших в истории завоевателей, как о деспоте, пользовавшемся непререкаемой властью, как о гении.
Что касается остального, за вычетом носящего его имя Ренессанса (фактически того, что, по сути, являлось его целью), то здесь Тимур потерпел неудачу. Не то чтобы его пребывание на Земле ничему не послужило; нет, в некоторых самых важных областях человеческой деятельности он изменил — а кое-где повернул вспять — ход событий, однако ни разу в желаемом направлении. Из всех стран, где ступала его нога, самой вожделенной была Индия, но именно она менее прочих затрагивала его интересы, оставаясь территорией, пригодной для разграбления, и не более того. Но именно она окажется в руках у его далеких потомков…
Теперь я уже не верю, что Тимур действительно хотел восстановить Чингисханову империю, но отогнать от себя тень Покорителя Вселенной ему так и не удалось; она преследовала его неотступно. Монгол оставил по себе память воистину вечную, некое подобие ностальгии, которая позволила Марко Поло сказать поразительную фразу: «Он умер, и это печально, понеже то был человек безусловно честный и мудрый». И не просто так империя, основанная Тимуридами в Индии, впоследствии получила название империи Великих Моголов.
Упрекать Тамерлана в том, что он не сумел объединить Азию, как это сделал Чингисхан, значило бы проявить мелочную предвзятость. Пределы его собственные ему были известны; практически их не существовало, но он не знал, на каком рубеже могла пресечься его власть. В отличие от Чингисхана, которому не понадобилось по нескольку раз совершать одни и те же кампании, он постоянно расходовал силы на переходы по уже пройденным путям, на взятие городов, когда-то им же захваченных. Тамерлан четырежды ходил на Хорезм, пять раз ходил в поход на Моголистан и два — на Золотую Орду, а также несметное количество раз воевал на Кавказе, что жизнь ему явно не облегчало. Более того, Чингисхан не был единственным строителем гигантской монгольской империи: начатое им дело продолжили и завершили его дети и внуки. Без них державы не существовало бы. Чтобы подвиг, совершенный Тимуром, имел продолжение, надо было бы его наследникам нести его знамя дальше.
Все позволяет думать, что Великий эмир на это надеялся. Для обеспечения их будущности он сделал максимум того, что было возможно. Все государства, которые он разгромил, но аннексировать не стал, были совершенно не в состоянии отразить набеги, которые могли иметь место уже вскоре и стать решающими. Анатолия была разделена; Золотая Орда — разорена; Индия находилась в руках у султанов — Джагатаидов; Мамлюки пребывали в состоянии униженности. Да, оставался Китай, одна из прекраснейших жемчужин в короне монгольской империи; эту страну Тимур не покорил, но успел подготовить все подступы к ней и имел все основания думать, что его армия, ведомая уже кем-то другим, ею овладеет.
Тимур был отличным сеятелем, но его наследники собрать урожай так и не смогли. В том, что империя построена не была, вина их, но не Тимура.
Если когда-либо «священная война» и насаждение ислама в его программе существовали, — в чем мы сильно сомневаемся, но что он неустанно повторял, — то здесь он потерпел страшное поражение. Да, мы знаем Тимура довольно хорошо, чтобы не видеть в нем фанатика и понимать, что он использовал мусульманскую идеологию в политических целях. И все же он был мусульманином сознательным, усердным и образованным, даже если в его исламе содержалось немало шаманистcкого, а также языческого субстрата. Но вот парадокс: наиболее очевидным результатом Тимуровых «священных войн» стало ослабление и уничтожение наиболее могущественных мусульманских держав того периода: он привел Османов на самый край их гибели и дал пятьдесят лет жизни Византии и Восточной Европе, что, по правде говоря, в то время было немало; он подложил под Золотую Орду достаточно большую мину, чтобы, подорвавшись на ней, она оказалась уязвимой для готовившихся русскими ударов и превратилась (не напрямую) в могильщика ислама в степях Восточной Европы; он вверг исламскую часть Индии в состояние полубезвластия на целых полвека, если не больше; унизив Мамлюков, он частично подорвал авторитет сирийско-египетского союза.
Быть может, скажут, что действовать по-другому он не мог, так как его соседями были только мусульманские страны, и что в своих экспансионистских устремлениях миновать их ему было невозможно. Однако нельзя не признать того факта, что, достигнув рубежей исламских территорий, он никогда не проходил их насквозь. Кто смог бы помешать ему, имей он желание действительно вести «священную войну», двинуться на немусульманские государства Индии или овладеть Византией и Восточной Европой? Отчего он не напал на Москву и русские княжества? Всякий раз он останавливался на пороге того, что ему было чужим, как если бы один ислам являлся его законным полем деятельности. Единственными фактами его борьбы с «неверными» стали действия в Моголистане, а также операции, предпринятые против афганских кафиров, христиан Кавказа и Смирны, если оставить в стороне то печальное событие, в которое превратилось разграбление итальянской торговой колонии в Тане. И еще: где и когда ставился им вопрос обращения в «истинную веру»? Нельзя же серьезно рассматривать в этом плане отступничество грузинского царя и кашмирского раджи-индуиста…
Если Тимур и послужил делу распространения ислама, то опосредованно, через вынужденное мирное сожительство шаманистов и мусульман, мирволение дервишам и, может быть, главным образом, поддерживая международную торговлю: точно известно, что мусульманские купцы расходились по ближним и дальним странам с Кораном в руках…
Вместо империи Тамерлан построил прекрасное, мирное, процветающее, авторитетное, хорошо управляемое и относительно монолитное государство; по меньшей мере такое, каким оно тогда могло быть, имея своим населением тюрок и иранцев, живших в границах обширного Ирана; и ничто не указывало на то, что из чрева его не возникнет великой империи и что он сам не будет долгожителем. Ничего не упуская из виду и заглядывая далеко вперед, учитывая способности сыновей и внуков, Тимур пытался создать систему наследования, наиболее удовлетворяющую условиям тюрко-монгольского мира, который (и это один из его главных недостатков), как мы теперь знаем, таковой не имел никогда и нигде на своих землях, даже в Османской империи.
Ничто не сделалось так, как хотелось Великому эмиру. На трон взошел вовсе не назначенный наследник. Без распрей из-за наследства не обошлось. Не только были оставлены в покое ранее обескровленные страны, некоторые из которых становились опасными, но сама держава не смогла сохранить единство и очень скоро потеряла часть земель; через сотню лет от нее не осталось ничего. Но здесь тоже возлагать на Тимура всю вину нельзя; впрочем, не надо забывать и того, что дети представляют собой то, какими их сотворили родители и что они в них вложили.
Соблюдая верность тюрко-монгольской традиции, Тимур выделил по отдельному уделу каждому сыну и внуку. Вместе с тем им было высказано пожелание, чтобы у кормила власти встал его внук Пир-Мухаммед, старший сын Джахангира, его собственного старшего сына. Этот порядок, когда наследника назначают согласно принципу первородства (кстати, весьма плодотворному), для тюрок традиционным не был, и Великий эмир в данном случае более руководствовался общепризнанными достоинствами юного наследника, чем его местом в семейной иерархии. Когда бы Тимурова воля была исполнена, весь ход истории Тимуридов — и, как следствие, история мира — возможно, принял бы совершенно иное направление.
В Отраре смерть Великого эмира вызвала всеобщее смятение. Одни никак не желали отказываться от похода на Китай; другим хотелось устроить покойному грандиозные похороны. Голова шла кругом у всех. Вместо того чтобы кончину государя сохранить в тайне, весть о ней разгласили всем городам и всему миру. Пир-Мухаммед был далеко, в Кандагаре, в нынешнем Афганистане, и трагическую новость узнал последним. Халиль, сын Мираншаха и Хан-заде, находился ближе, в Ташкенте, и был уведомлен прежде всех. Посредством интриг добившись того, что подчиненные ему войска провозгласили его государем, он вступил в Самарканд, а в марте 1405 года уже сидел на троне. Эмиры, братья — единоутробные и двоюродные, — объявив его узурпатором, отказались ему повиноваться и восстали. О китайской кампании говорить уже не приходилось: надо было восстанавливать порядок в стране, что в основном удалось.
Халиль был молод, красив, элегантен, щедр, ласков и любезен. Очаровав всех поначалу, он быстро, благодаря немыслимому поведению, сделался ненавистным. Безумно влюбленный в бывшую наложницу по имени Шади-Мульк, взятую в каком-то гареме, он превратил ее во владычицу всей империи. Она разорила казну, сделала своего слугу министром и раздала высшие должности оставшейся прислуге. Нажив себе врагов среди вельмож, она решила помириться с ними, раздав им в жены наложниц и вдов Тамерлана. Разразился грандиозный скандал. Шахрух, младший сын Тамерлана, не любивший ни войн, ни власти и вступивший в некое религиозное братство, решил вмешаться: он покинул свою гератскую резиденцию, сбросил с престола племянника и ко всеобщему одобрению занял его место (1407). Поручив управление Самаркандом своему сыну Улугбеку, будущему астроному, в ту пору еще очень юному, он возвратился в Хорасан.
Опаснейший кризис был преодолен; однако, при всей его скоротечности, он оказался чреватым серьезными последствиями. В степях севернее и восточнее Трансоксианы вновь появились кочевники. Возглавившие после Тохтамыша Золотую Орду ханы удержаться в Азии, то есть на землях восточнее Урала, ранее принадлежавших Синей Орде, не смогли. Эти территории перешли к потомкам Шайбана, сына Джучи, то есть внука Чингисхана. Шайбаниды стали называть себя узбеками. Под водительством энергичного вождя Абулхайра (1422–1468) они захватили почти весь край восточнее Урала и севернее Сырдарьи. Они свели на нет власть Тимуридов в степях и закрепились на границе Трансоксианы, и с той поры их давление на нее не прекращалось.
Находившиеся еще восточнее моголистанские ханы, несмотря на превентивную кампанию, осуществленную Улугбеком, проявив выдержку и осторожность, перегруппировали свои силы и отвоевали когда-то утраченные территории; они уничтожили все базы, созданные Тимуром в ходе подготовки нападения на Китай, восстановили свою власть над поречьем Или и сделались владетелями Ташкента, Кашга-рии и бассейна Тарима.
В Золотой Орде никакого возрождения не наблюдалось, лишь какие-то предсмертные судороги. В свое время Тимур нанес ей сокрушительный удар и на ее трон посадил Тимура-Кутлуга (1389–1400), который, получая от него поддержку — по меньшей мере моральную, — одержал над литовцами крупную победу на Ворскле (1399). Его последователи, Шадибек (1400–1402) и Пулад (1402–1412), успели какое-то время пожить в свое удовольствие, тогда как власть фактически перешла в руки временщика Едигея. В 1408 году он потребовал от русских княжеств уплаты оброка, сжег Нижний Новгород, Городец и двинулся на Москву, откуда ушел, удовлетворившись расплывчатыми обещаниями, что позволяет нам сделать предположение о его силе и уверенности в себе. Именно тогда Москва возглавила славянский Крестовый поход против тюрок, оказавшийся таким успешным. В 1430 году начался распад Орды: один из потомков Джучи создал свой собственный улус, Крымский, простиравшийся от верховья Дона до низовьев Днепра; пятнадцать лет спустя Тохтамышев внук объявил себя единовластным хозяином Казанской области; в 1466 году еще более мелкий улус сформировался вокруг Астрахани. Ни у одного из них не имелось средств для сопротивления возраставшему давлению русских, что усугублялось упрямым непризнанием их авторитета кочевыми племенами. Ведать всей Индией Тимур поставил наместника, выбранного из числа афганских военачальников и называвшего себя родственником пророка. Его имя было Хизир-хан. Далее Пенджаба его власть так и не распространилась. По кончине «хозяина», решив, что руки у него свободны, он принялся за переустройство себе во благо разрушенного Тимуром Делийского царства. Вступив в свою столицу в 1414 году, афганец основал династию Саидов. Но то было только подобие восстановления: тюрки лишились всех своих должностей, государство осталось слабым, а политическая обстановка была неопределенной. Саиды очень скоро уступили свое место династии Лоди, людей более энергичных, которые, однако, как ни силились, так и не смогли привести к покорности мусульманские государства Северной Индии, зачастую созданные в античные времена. Казалось, что на Индийском субконтиненте ислам утратил свой престиж навеки. Однако по странной прихоти Его Величества Случая не кто иной, как последний потомок Тамерлана, Бабур, в начале XVI века стал не только «автором» его возрождения, но и основателем одной из блистательнейших империй на земле. Нет, не Делийского царства, а именно Индийской империи, более известной, как империя Великих Моголов.
На западе обстановка была сложнее. О Сирии, куда Мамлюки возвратились на другой день после ухода Тамерлана, пока что помолчим. В Малой Азии один из сыновей Баязида, Сулейман, сбежал с поля боя незадолго до окончания сражения за Анкару и благополучно добрался до европейских владений Османской империи; принужденный к уплате Тимуру дани, он не только поспешил отдать требовавшееся, но и направил к нему послов. Два других сына свергнутого государя, Иса и Мехмед, получили право — первый — поселиться в Брусе и — второй — в Амасие или Токате; что касается четвертого, Мусы, взятого в плен вместе с отцом, тело которого ему было доверено доставить в Брусу, то он прибыл слишком поздно, чтобы получить какой-нибудь улус. Однако Османская империя уничтожена не была: нимало не потревоженная в Европе, где находились ее главные силы и казна, она сохраняла за собой огромные территории в Анатолии и — что было ценнее — безоговорочную преданность ее населения.
В свое время Тимур возвратил власть примкнувшим к нему эмирам, таким, как Гермиан, Караман, Джандар, Сарухан, Теке и Ментеше, при этом отдавая первенство Караману. Четыре враждующих между собой брата и семь княжеств, не считая владений Османов! Воистину он сделал все для того, чтобы можно было спокойно уйти. Осенью 1413 года Мехмед восстановил империю в ее целостном виде, и менее чем через пятьдесят лет после битвы за Анкару Османы принудили Константинополь сложить оружие. Эти полвека имеют свою цену: будь град Константина взят в 1402 году, кто знает, сколь далеко продвинулись бы Османы в Европе?
Ситуация в Иране, Армении и Азербайджане была неясной. Терзаемые взаимной ненавистью Тимуровы внуки, Абубекр и Умар, дети Мираншаха, рвали друг друга в клочья. Два старых врага Великого эмира, Ахмед-Джалаирид и Кара-Юсуф из племени кара-коюнлу, когда-то брошенные Мамлюками в узилище, оказались на свободе и, воспользовавшись соперничеством принцев, делали все, чтобы вернуть себе утраченное. Ахмед-Джалаирид занял Багдад почти без единого выстрела (1405), а через несколько месяцев Кара-Юсуф вторгся в Азербайджан, разбил Джагатаидов под Нахичеванью и занял Тебриз (1406). В 1408 году Абубекр и его отец Мираншах попытались нанести ответный удар, но лучше бы они этого не делали: в той сшибке Мираншах нашел свою смерть. Так было покончено с владычеством Тимуридов в Северо-Западном Иране. Затем Кара-Юсуф освободился от Ахмеда-Джалаирида и присоединил к своим владениям весь Ирак (1410), потом Султанию и Казвин (1419). Его держава, простиравшаяся от Бассоры (в Персидском заливе) до Кавказа, стала одним из могущественнейших государств Востока. Когда в 1469 году Абусаид, внук Мираншаха, вознамерился отвоевать утраченные территории, он пал смертью храбрых и лишился всего Ирана, Шираза, Исфагана, Кирмана и Рея. Тимурова царства более не существовало; на его месте возникло множество беспрестанно воевавших друг с другом мелких княжеств с нечеткими границами, властители которых, дабы создать хотя бы видимость единства, сошлись на том, что следовало бы одного из своего круга провозгласить падишахом. Они, эти княжества, полностью исчезли с политической карты в первые годы XVI века.
Хотя путь Тамерлана — это в основном непрерывная череда побед, завоеваний и ратных подвигов, и его многогранный гений предстает перед нами главным образом как гений военный, надобно помнить, что Великий эмир проявил себя на таком же высоком уровне и в иных областях деятельности, где так же одерживал победу за победой. Гибкий и энергичный дипломат, умевший находить союзников, усыплять бдительность врагов красивыми речами, с помощью переговоров добиваться успехов столь же конкретных, как и посредством оружия; сильный правитель, с каким управляемые могли только себя поздравить; тонкий политик, сумевший примирить два таких непохожих законодательства, как шариат и яса; плодотворный зодчий — всем этим, а также многим другим, был Тимур. Единственное, что ему не удалось, — это передать наследникам свои недюжинные способности и преданность делу семьи (что удивительно для человека, столь глубоко любившего родичей). Не то чтобы его единокровные наследники были людьми посредственными — в жизни они чаще всего доходили до степеней крайних, — но, выйдя далеко за пределы нормы, они начинали утрачивать власть над рассудком, а их незаурядная талантливость, если не гениальность, концентрировалась только на чем-то одном, что никак не вязалось с представлениями народа о хорошем правителе.
Наиболее ярким примером поразительной одаренности является Тамерланов внук Улугбек. Этот бездарный ратоводец и более чем посредственный государь был просвещенным меценатом: достигнув величайших высот в самообразовании, он сделался одним из выдающихся астрономов своего времени. Удивительно, что в семье, где расцвели два таких выдающихся таланта, помимо нескольких других, несколько меньшего масштаба, не появилось ни одного выдающегося государя вплоть до рождения Бабура, личности, наделенной всеми мыслимыми дарованиями.
Откуда брались эта ненасытная любознательность, эта любовь к прекрасному, гармонии красок — цветы в садах, изразцы на стенах, рисунки акварелью, — эта поразительно тонкая эмоциональность? Благодаря какой биологической случайности такое количество основных черт характера великого предка было отвергнуто, тогда как некоторые другие оказались доведены до крайних пределов? Воистину, Тимур носил в себе человеческого гения значительно больше, чем можно было бы предположить, исходя из анализа его жизни. За отца говорят его дети.
Более поразительно другое, именно то, что и у Джагатаидов было много наследников, из круга которых вышли математики, астрономы, живописцы, поэты, музыканты, архитекторы, керамисты. Верно и то, что в Самарканд было свезено столько талантливых людей, что город мог лишь порождать новых; к тому же огромные финансовые возможности не могли не способствовать процветанию пластических искусств, изящной словесности и науки. И все же, чему послужило столько выигранных сражений, усилий, затраченных на походы и контрпоходы, израсходованной энергии, унижений, вынесенных адептами ислама, а также все жестокое величие Тамерлана и наконец — столько трупов? Послужило тому, что родился тимуридский Ренессанс, с его способностью создавать все новые и новые шедевры; послужило расцвету творчества великого иранского поэта Джами, а также одного из величайших тюркских поэтов всех времен (служившего в должности визиря) Алишера Навои; послужило появлению несравненного живописца Бехзада и, наконец, математика Гиятаддина аль-Каши. Короче говоря, тимуридский Ренессанс стал одной из прекраснейших жемчужин в короне мусульманской цивилизации. Однако можно ли было предугадать, что невольники, уничтоженные в Дели; «пирамиды» голов, воздвигнутые в Исфагане и Багдаде; погибшие под конскими копытами дети станут тем, следствием чего будет то, что однажды в Самарканде или Герате некая рука нанесет на бумагу строфы прекрасного стихотворения или положит костью золотистое или голубое пятно, а взор утонет в восхитительной глубине изображенной тверди?
Календарь является делом государственным, и монголы постарались ввести свой, правда, он был всего лишь древнекитайским календарем двенадцатилетнего цикла животных, уже давно к тому времени перенятым тюрками, которые начали пользоваться им с 1201 года. Тимуриды его сохранили, несмотря на конкуренцию календаря мусульманского. Исламский лунный год короче солнечного года двенадцати животных, из чего следует, что солнечный год как бы накрывает два лунных. Хронология зачастую искажается из-за неумения персидских хронистов установить, когда мусульманский календарь совпадает с календарем монголо-тюрко-китайским, использовавшимся в джагатаидской среде. Это усложняется тем, что если, как в Китае, год начинается с новолуния, когда солнце оказывается под знаком Рыбы, стало быть, в январе или феврале (средняя дата григорианского календаря: 4 февраля; даты крайние: 21 января и 21 февраля), то под влиянием Ирана некоторые народы в конце концов согласились с тем, что, в принципе, началом можно считать иранский Навруз (Новый год), наступающий в день весеннего равноденствия (средняя дата: 21 марта). Ниже мы приводим этот календарь, а также общепринятые тюркские названия двенадцати животных (речь пойдет только о годах, имеющих отношение к жизни Тамерлана):
| 1. | Крыса, | 1336[37] | 1372 | 1384 | 1396 |
| 2. | Бык, | 1337 | 1373 | 1385 | 1397 |
| 3. | Тигр, | 1338 | 1374 | 1386 | 1398 |
| 4. | Заяц, | 1339 | 1375 | 1387 | 1399 |
| 5. | Дракон, | 1340 | 1376 | 1388 | 1400 |
| 6. | Змея, | 1341 | 1377 | 1389 | 1401 |
| 7. | Лошадь, | 1378[38] | 1390 | 1402 | |
| 8. | Баран, | 1379 | 1391 | 1403 | |
| 9. | Обезьяна, | 1380 | 1392 | 1404 | |
| 10. | Петух, | 1381 | 1393 | 1405 | |
| 11. | Собака, | 1370 | 1382 | 1394 | 1406 |
| 12. | Свинья, | 1371 | 1383 | 1395 | 1407 |
Алан-Гоа,[39] Бодончар,[40] Эмир-Буха,[41] Туменай-хан,[42] Карачар-нойон[43]
Архивы, имеющиеся в Иране и в странах Центральной Азии, беднее тех, которыми располагает Европа и Турция (если там и писали больше, то меньше сохранили); однако наихудшее состоит в том, что они не все открыты и обработаны. Что же касается Тимура, то имеющие к нему отношение документы довольно многочисленны, а их различное происхождение делает возможным сравнения и сопоставления.
Влюбленный в историю Тимур, заботясь о том, чтобы память о его подвигах дошла до будущих поколений, окружил себя своего рода секретарями, которые сопровождали его во всех походах и заносили на бумагу сведения обо всех его поступках и высказываниях, а также обо всем, произошедшем в его государстве. По его приказу «писцы», основываясь на их записях, создали две официальные истории царствования Тимура, «ничего не прибавив, не убавив, а также не позволяя себе никакой отсебятины», вроде лести. Одна из них была написана тюркскими стихами, но уйгурскими буквами; другая — прозой и на фарси. Первая утеряна; экземпляр второй, вышедшей из-под пера Низамааддина Шами и озаглавленной «Зафарнаме» («Книга о победах»), хранится в Британском музее. Составление персоязычной версии, особенностью которой является строгий стиль, началось в 1401–1402 годах и завершилось в 1404 году; она же была издана в Праге в 1937 году неким Тауэром (История Тамерлановых завоеваний, озаглавленная «Зафарнаме, искусства Низамуддина Сами»), который поделился результатами ее изучения в 1956 году (т. II, введение).
Тимур был автором двух небольших трудов: «Мемуаров» («Мальзу-фат») и свода законов, озаглавленного «Установления» («Тузухат»), переведенных в 1787 году на французский язык Лангла. Однако эти тексты, о которых нет упоминания ни у одного стародавнего автора, могут быть апокрифичными; их даже датируют XVI веком.
Лет через двадцать после смерти Тимура, а именно в 1424–1425 годах, принц Ибрахим-Султан, сын Шахруха, внук Тамерлана, заказал Шерифаддину Язди составление новой «Зафарнаме», о которой сегодня можно сказать не только то, что она многим обязана старой «Книге о победах», — хотя ее документация была собрана с очевидным усердием, а дух ее почти научный, — но также и то, что ее отличают помпезность и претенциозность. Данное жизнеописание имело шумный успех, так как лучше предшествующего соответствовало литературным устремлениям Ирана. В 1722 году его перевел на французский язык Пети де Ла Круа, и уже на другой год переложил на английский язык Дж. Дарби, использовав французскую версию.
В XV веке, кроме разнообразных поэм и написанных стихами эпосов, вышло в свет несколько толстых книг исторического содержания. В период между 1423 и 1427 годами первую из них написал по велению знаменитого Тимурида Байсункара Хафизи Абру; увы, его «Зубдат ал-Таварих» («Краткое изложение хроник») на деле оказалась этакой многостраничной компиляцией; сохранилась эта книга не полностью; она плохо изучена, и всего лишь часть ее была переведена на французский язык К. Баяни в 1936 году («Хроника деяний монгольских ханов в Иране»). За первой книгой последовала вторая, получившая название «Матля’аль-Саддейн» («Соединение обоих счастий»), она вышла из-под пера Авд аль-Разака (Абд ар-Раззака) Самаркандского, который последнюю точку в ней поставил в 1471 году. Сей опус тоже до сих пор не издан во Франции, хотя у нас имеется несколько его рукописных копий, а Антуан Галлан, автор известнейшего переложения на французский язык «Тысячи и одной ночи», перевел его полностью (перевод хранится в парижской Национальной библиотеке), но до читателей довести не смог. «Раузат аль-Сафа» («Сад чистоты») Мирхонда (ум. 1498) представляет собой всемирную историю, шестой том которой — невеликой ценности — посвящен Тимуру (наличествует в английском переводе Рехацека). «Хабиб аль-Сияр» («Друг биографий»), книга, которую написал его внук Хванд-Амра (Хондемир), вызывает интерес значительно больший. Этот труд был издан в четырех томах в Тегеране в 1955 году, но прежде в Лондоне в 1856 году усердием лорда Дж. Элфинстоуна.
Своего рода противовесом этим жизнеописаниям, заказанным Тимуридами, служит пропитанное злобою произведение человека, знавшего Тамерлана как врага и угнетателя, а именно сирийца Ибн Арабшаха, скончавшегося в Каире в 1450 году. Речь идет об «Аджаиб аль-Макдур фи Наваиб Тимур» («Странности судьбы в приключениях Тимура»). С арабского языка на французский его перевел П. Ваттье (Париж, 1658). Среди работ, появившихся позднее, достойны упоминания также: «Шаджарат аль-Атрак» («Генеалогия турок»), анонимное сочинение, вышедшее в свет в XVI веке, переведенное на английский язык Майлзом (1838); «Тарик-и Рашиди» Мирзы Хайдара Дуглата (XVI век), опубликованная Н. Элиасом и переведенная на английский язык Э. Денисоном Россом (Лондон, 1895), две работы, написанные на тюрко-джагатайском наречии хивинским ханом Абул Гази Бахадур-ханом: «Седжере-и Теракиме» и «Седжере-и Тюрк» (первая обрела доступность благодаря Кононову, который издал ее под названием «Родословная туркмен» (Москва—Ленинград, 1956); вторая — тщанием барона Демезона, чей перевод «Истории монголов и татар» вышел в свет в виде двухтомника в Санкт-Петербурге в 1871–1874 годах. Изложенные ясным и на редкость простым языком, эти книги позволяют составить представление о том, что помнили из своего прошлого и как его понимали их тюркские величества и высочества, жившие в Центральной Азии в XVII веке.
Несомненно заслуживают упоминания и многие другие тексты, изданные и неизданные, зачастую малоизвестные, например: вышедшие из-под пера Фазаллаха Муреви (1412–1414), Фара’иди Гияти, Фарию-мади и, наконец, Му’инуддина Натанзи, чья работа была издана Жаном Обеном в 1957 году в Тегеране, но часть которой Барбье де Мейнар поместил в «Журналь азиатик» (Париж, 1869) под заголовком «Гератская хроника». См. также «Исторические пролегомены», изданные на французском языке в Париже в 1862 году, и главное — «Автобиографию» (Париж, 1844).
Не лишены ценности как хроники региональные, так и те, что имеются в соседних с бывшей Тимуровой державой государствах. Османские летописи используются давно, по меньшей мере частично: фон Хаммер. История османских государств. В Ют. Будапешт, 1827–1835 (на нем. яз.); Эллер Ж.-Ж. История Османской империи. В 18 т. Париж, 1835–1843 (фр. пер.). В работе Хаммера изложена, помимо прочего, самая суть византийских хроник, несомненно, достойных внимания. Благодаря работе Ф. Неве стал вполне доступен «Очерк войн Тамерлана и Шахруха в Центральной Азии, согласно армянской хронике Фомы из Медзофа» (Брюссель, 1860). Документы, касающиеся Золотой Орды и Руси, в своем большинстве изучены историками. См., в частности: Греков, Якубовский. Золотая Орда и ее падение. Москва, 1950; Ковалевский П. Учебник русской истории. Париж, 1948;
Что касается индийских источников, см.: Eliot Н. Н. The History of India as told by Its Own Historians. The Mohammedan Period. Londres, 1867–1877. Относительно Мамлюков см., прежде всего: Маризи. История египетских Султанов-Мамлюков / Пер. Э. Катремера. Париж, 1837 (на фр. яз.).
Европейские документы тоже не лишены интереса. Уроженец Мюнхена Й. Шильтбергер, состоявший на службе у Тимура, оставил очерк своего путешествия на Восток: Reisen in Europa, Asien und Afrika von 1392 bis 1427. Munich, 1859. Архиепископ Иоанн Султанийский, посол Тамерлана во Франции, написал Libellus de notitia orbis, изданный А. Керном в Archivum fratrum praedicatorum. VIII. 1938 (P. 82—123) и использованный А. Моранвиллем в «Воспоминаниях о Тимуре и его дворе» (Б-ка Дипломатической школы. LV. Р. 433–464). Наконец, имеются кое-какие свидетельства, оставленные маршалом Бусико: Книга о деяниях доброго мессира Иоанна Ле Менгра, по прозванию Бусико. Париж, 1785 (на фр. яз.). Главным европейским источником, незаменимым уже по своей этнографичности, остается отчет о поездке, сделанный кастильским послом доном Рюи Гонзалесом де Клавихо и опубликованный (или переведенный) в Мадриде в 1782 и 1943 годах, в Буэнос-Айресе в 1952 году, в Лондоне — благодаря С. Р. Маркхе Уг в 1959 году. Отличный перевод на французский язык этого отчета сделан Л. Кереном (Париж, 1990).
Как явствует из вышесказанного об источниках сведений о Тамерлане, в XVII и XVIII веках к нему проявляли большой интерес, если судить по тому, что Ибн Арабшаха перевели в 1658 году, Самарканди — в 1715 году, Али Язди — в 1722 и 1723 годах, а «Установления» — в 1787 году. Все эти переводы и, в значительной мере, результаты непосредственного изучения иных источников широко использовались биографами и авторами серьезных исторических трудов, написанных во Франции и Англии. Среди наиболее ранних «житий» Тамерлана первоочередного упоминания достойны «История великого Тамерлана, извлеченная из одного отличного манускрипта» Сенктиона (Париж, 1677) и «История Тамерлана, императора монголов и покорителя Азии» Р. П. Марга (Париж, 1739).
Из числа значительных работ общего характера выделим хотя бы следующие:
Guignes de. Histoire générale des Huns, des Turcs, des Mongols et autres Tatares orientaux. Paris, 1756. V. 4.
В наше время, к счастью, переводится много всевозможных манускриптов; однако, если судить по практически полному отсутствию переводов новых и по относительной малочисленности жизнеописаний Тамерлана, равно как и посвященных ему исследований, то обнаружится, что наших современников эта личность интересует не слишком сильно. Главным источником сведений о Тимуре остается «Энциклопедия Ислама», 1-е изд., 4 тома + 1 том дополнительный (Лейден, 1913–1943); 2-е изд. в производстве (Лейден, 1960) и поcл. турецкая версия (Islam Ansiklopedisi. Istanbul, 1940–1986) содержит в себе развернутые статьи о тюркском мире. Более или менее пространные работы обобщающего характера таковы:
Необходимо упомянуть важнейшие из биографий, которые нам довелось цитировать:
La Vie de Tamerlan. Paris, 1931.
Единственная работа, немного затянутая, посвященная тимуридской цивилизации, — это исследование Л. Бува «Очерк тимуридской цивилизации» (Париж, 1926); увы, она не только поверхностна, но и грешит неточностями. Сделать набросок общей картины Ренессанса я попытался в работе: Бабур, история Великих Моголов. Париж, 1986. С. 51–93. Книга Брауна
Все историки, занимающиеся исламским искусством, уделяют то или иное внимание тимуридской цивилизации, в частности, тому, что было построено Тимуром в Самарканде. Следующие работы достойны первоочередного упоминания:
L’etude de Blochet, Les Inscriptions de Samarkand, Paris, 1897. (Важнейшая работа. О денежных системах см.: Poole.)
Catalogue of Oriental Coins in the British Museum. Londres, 1881.
Что касается воссоздания внешнего облика Тимура см.:
Наибольшее внимание Тимуру, несомненно, уделил французский иранист Жан Обен, автор многих замечательных статей, позволивших сделать ряд значительных шагов по пути познания личности Тамерлана и его времени:
Tamerlan à Bagdad // Arabica. 1962. IX/3. P. 303–309.
Comment Tamerlan prenait les villes // Studia Islamica. Paris, 1963. P. 83—122.
Un santon qushanite à l’époque timouride // Revue des Études islamiques. 1967. P. 185–216.
L’ethnogenèse des Qaraunas // Turcica. I. P. 65–94.
Deux sayyids de Bam au XVе siècle. Wiesbaden, 1956.
La fin de l’État sarbadar au Khorasan // Journal asiatique. CCLXII. 1974. 1–2. P. 95—118.
Le khanat de Djaghataï et le Khorasan // Turcica. VIII, 2. P. 16–60.
Можно назвать имена нескольких других французских и иностранных исследователей, авторов работ, сложных для неспециалистов. Вот те, которые помогли мне особенно:
Существует ряд замечательных работ, содержащих в себе немало ценных сведений частного характера. Нами были использованы главным образом нижеуказанные:
Для описания тюрко-монгольских традиций я часто пользовался собственными работами, опубликованными ранее, общее представление о которых, а также выборочную библиографию можно получить из:
Полезные данные были получены из нижеследующих работ:
Русский летописец XIV века так характеризовал этого человека: «…Велми нежалостив и зело немилостив, и лют мучитель, и зол гонитель, и жесток томитель».
У народов тюркской языковой группы слово «темюр» обозначает «железо», что, естественно, только усилило легендарность биографии великого завоевателя. К тому же в молодости во время одного из откровенно грабительских набегов его ранили в правую ногу и был изувечен указательный палец правой руки. В связи с этим у персидских историков он получил прозвище Тимурленг — Хромой Тимур, которое в Европе стало именем завоевателя и звучало как «Тамерлан». Называли его также Железный Хромец. Русские летописцы именовали его Темир-аксак, что является турецким переводом персидского Тимурленг. Постоянно находившиеся при своем повелителе придворные историки никогда не называли его по имени, предпочитая высокопарные титулы типа: Сотрясатель Вселенной, Покоритель Мира, Властелин Поднебесной и т. д.
Естественно, что легенды вокруг имени Тимура рождались как бы сами собой, подчеркивая не только его жестокость, но и талант полководца, и великодушие, и щедрость, и даже справедливость. Одна из легенд гласит: после успешного штурма одного из иранских городов Сотрясателю Вселенной доложили, что здесь живет поэт Хафиз, широко известный на Востоке. Оказалось, что Тимур слышал его знаменитые любовные газели и приказал привести к нему сочинителя. И вот в шатер грозного эмира доставили дряхлого старика в стоптанных чувяках и драной чалме. Уставившись на него, Тимур прорычал: «Как ты смел в стихах написать, что за родинку на щеке своей любимой ты готов отдать Самарканд и Бухару — мои столичные города!» Хафиз взялся за ворот своего грязного, засаленного халата и ответил: «Повелитель, вот видишь, до чего меня довела моя расточительность». Удивленный находчивостью великого лирика Востока, завоеватель приказал наградить его и отпустить с миром.
Далеко не для всех встреча с Тимуром кончалась столь благостно. Сложенные им «башни» из отрубленных голов — не легенда, стертые с лица земли города — не выдумка. И те два воина, что застыли на картине В. Верещагина «У дверей Тамерлана», через секунду после того, как распахнулись резные створки, могли остаться без головы из-за какой-нибудь безделицы, не понравившейся владыке мира.
Его биография хорошо известна и достаточно скрупулезно изучена, что позволяет отделить легенды от исторических фактов, хотя многие из них откровенно приукрашены придворными историками, кормившимися с ладони своего благодетеля.
Родился Тимур 8 апреля 1336 года в кишлаке Ходжа Ильгар, неподалеку от города Шахрисабз (нынешний Узбекистан). В то время эта территория входила в Чагатайский улус, образовавшийся после распада империи Чингисхана. Отец Тимура, Тарагай, был беком (князем) племени барлас, пришедшим из Монголии во время завоевания Средней Азии Чингисханом. К середине XIV века барласы фактически утратили монгольский язык и говорили на тюркском наречии, известном под названием чагатайского. Ни особой знатностью, ни богатством бек Тарагай не отличался, и его отпрыску было уготовано такое же сытое и спокойное существование феодала среднего достатка, если бы не его выдающиеся организаторские способности, неуемное честолюбие и непомерно жесткая воля настоящего восточного тирана.
Первая ступенька карьеры Тимура — сколачивание шайки разбойников, которую он и возглавил. Держава, основанная сыном Чингисхана Чагатаем, к этому времени пришла в полный упадок — любой феодал чувствовал себя ханом, и в этих условиях откровенный бандитизм стал признанной нормой внутриполитической жизни. В одном из разбойничьих налетов при попытке угнать стадо баранов Тимуру и искалечили ногу и руку.
Коварство, двуличие, предательство и жестокость — основные инструменты овладения Тимуром верховной властью. Верно также и то, что его удачливость при явном полководческом таланте буквально притягивала в ряды набираемого им войска все большее и большее число чагатаев-кочевников, умевших только воевать, в отличие от оседлого исконно земледельческого населения, жившего восточнее Амударьи, на территории, называвшейся Мавераннахр (то есть земли за рекой). В 1370 году Тимур объединил под своей властью весь Мавераннахр, но при этом себе он оставил титул «эмир», а ханом объявил настоящего Чингисида — Союргатмыша, который стал откровенной марионеткой, жил в неге и беззаботности, не был обременен никакими государственными проблемами. В этом поступке Тимура видна его тайная долгосрочная стратегия, конечной целью которой было восстановление территориального и политического величия и мощи империи Чингисхана. Больше того, страдая от своей относительной «худородности», он сделал одной из своих жен даму почтенного возраста, но зато с бесспорным документальным подтверждением принадлежности к роду Чингисхана. После этого к своему скромному титулу «эмир» он присоединил второй — кюрген (зять), намекая тем самым на родство с династией Чингисхана. Основатель Монгольской империи был образцом для подражания и кумиром, которому Тимур пытался следовать даже в мелочах. Главную же идею — воссоздание империи Великого завоевателя — он твердо и осознанно проводил всю свою жизнь.
Подчинив своей власти земли между Амударьей и Сырдарьей, Тимур во главе огромного войска начинает с 1381 года совершать откровенно грабительские походы сначала на соседей, а затем и в более отдаленные регионы. Первыми жертвами его нападений стали города Ирана, жители которых содрогнулись от жестокости новоявленного завоевателя мира. В городе Себзеваре 2 тысячи связанных пленников сложили штабелями в виде «башен», перекладывая их кирпичами и глиной. Жители другого иранского города — Исфагана восстали против порабощения, перебив оставленный завоевателем гарнизон. Узнав об этом, Тимур вернулся в непокорный город и приказал казнить 70 тысяч человек. Из их отрубленных голов была воздвигнута огромная кровоточащая «пирамида», которая должна была навсегда устрашить всех непокорных. По части зверских и изощренных казней изобретательность Тимура не знала границ, о чем можно судить на примере малоазиатского города Себастии, жителям которой он обещал не пролить ни капли крови в случае добровольной сдачи. Завоеватель «сдержал» свое слово, приказав задушить всех доверчивых горожан, гостеприимно распахнувших крепостные ворота.
Отряды Тимура дошли до Палестины и берегов Эгейского моря, разграбив один из центров ислама — Дамаск. Дважды Тимур совершал походы против Золотой Орды, где в это время правил его выкормыш — Тохтамыш. В 1391 году армия Тимура появилась на левом берегу Волги у Самарской излучины, где наголову разбила войско Тохтамыша. В 1395–1396 годах Тимур вторично вторгся во владения Тохтамыша через Дербентский проход на Кавказе и уничтожил практически все золотоордынские города, которые так и не смогли возродиться. В этом походе он задумал разгромить и Москву. Но по каким-то причинам отказался от похода на Русь, дойдя лишь до Ельца, где до сих пор существует братская могила защитников города, павших при его обороне в августе 1395 года.
Не давали покоя Тимуру и рассказы купцов о сказочных богатствах Индии, куда он совершил поход в 1398–1399 годах. Здесь он не только разрушил и разграбил Дели, но и безжалостно уничтожил 100 тысяч пленных индусов. Вернувшись из Индии, неутомимый завоеватель вступил в борьбу с турецким султаном Баязидом. В 1402 году их войска встретились в решающей битве при Анкаре, где Тимур не только разгромил Баязида, но и взял его в плен.
Из всех победоносных походов в столицу Тимура Самарканд стекались бесчисленные богатства, сгонялись тысячи пленников, большинство из которых были ремесленниками высшей квалификации. Их отбирали по специальному приказу Тимура для работ по украшению его столицы. Многочисленные дворцы, мечети, медресе, мавзолеи, крытые базары возводились в Самарканде и Бухаре руками пленных мастеров. Завоеватель любил окружать себя учеными, поэтами и богословами. Ему льстила слава покровителя наук и искусств, хотя сам он, по некоторым данным, так и не сумел осилить премудростей арабской грамоты и не умел писать и читать.
Последний свой поход, пожалуй, самый грандиозный по размаху, Тимур задумал незадолго до своего семидесятилетия. Серьезно подготовив и хорошо вооружив двухсоттысячное войско, он повел его в декабре 1404 года в далекий Китай. Никаких трений и конфликтов с этой страной у державы Тимура не было и быть не могло, и поход имел чисто грабительские цели. Но на этот раз армия завоевателя дошла лишь до одного из окраинных городов его империи — Отрара (ныне г. Туркестан в Казахстане). Здесь Тимур заболел и скончался 19 января 1405 года, после чего все воины были распущены по домам. Приближенные тайно доставили тело грозного эмира в Самарканд, не сообщая широко о его кончине, поскольку опасались волнений не только покоренных народов, но и многочисленных пленных, находившихся в крупных городах империи. В Самарканде Тимура похоронили в роскошном мавзолее, который Великий эмир построил для своего любимого внука. Другой его внук, знаменитый астроном Улугбек, занявший самаркандский престол, установил на могиле деда роскошное надгробие из нефрита, на котором приведены все титулы покойного.
В мае-июне 1941 года известный советский антрополог М. М. Герасимов вскрыл гробницу Тамерлана для восстановления его скульптурного портрета по черепу. Кости скелета покрывала темно-синяя парча с вытканными серебром изречениями из Корана. Изучение останков подтвердило не только хромоту завоевателя, но и то, что его правая рука не сгибалась в локте, пребывая постоянно в полусогнутом положении. Судя по останкам, Тимур был среднего роста, около 170 сантиметров, имел широкие и крепкие кости скелета, что позволяло ему переносить тяжести походной жизни в седле до глубокой старости. Облик завоевателя дополняет клиновидная рыжая борода с проседью и рыжие волосы на голове, частично сохранившиеся в захоронении.
Империя Тимура распалась сразу же после смерти ее создателя. Зримая память о ней сохранилась лишь в роскошно украшенных затейливыми изразцами великолепных зданиях — мавзолее Гур-Эмир, мечети Биби-Ханым, погребального комплекса Шахи-Зинда и других. Ни один из наследников Тимура не сделал даже попытки сохранить территориальные приобретения своего предка.
Что же касается книги Жан-Поля Ру, то это биография, изложенная ученым с блестяще выраженным поэтическим даром. Французский востоковед, взявшийся за биографию Тимура, писал ее от всей души, опираясь на знания, приобретенные в Сорбонне. Он показал того Тимура, который соответствует его восприятию, его душевному настрою и его историческому впечатлению от этой личности после преломления в исключительно собственном воображении.
Ум и знания Жан-Поля Ру стремятся к объективному изложению истории, стараясь вести его по дороге исторической объективности, но душа, которая водит его пером, постоянно склоняется к восхитительно поэтической оценке в общем-то страшных событий, связанных с деяниями Тимуpa. При этом автора нельзя обвинить в искажении фактов, — они изложены четко с точки зрения хронологии и событийности. Да другого и быть не может, ибо подобных фактов не в силах выдумать ни один романист. Деяния Тимура буквально заворожили автора своим размахом: если льется кровь — то это реки; если отрубаются головы — то из них воздвигаются целые «башни». Вспомним знаменитую картину В. Верещагина «Апофеоз войны», которая навеяна кровавыми походами Сотрясателя Вселенной.
Книга французского ученого основана не только и не столько на восточных источниках, но в первую очередь на их западных переводах и интерпретациях. Это ее достоинство и в то же время слабость. Слабость потому, что автору, к сожалению, не известны работы российских и советских историков, писавших о Тимуре. Два похода Тимура против Золотой Орды описаны в книге как бы на втором плане. И не выглядят чем-то исключительным. А ведь это были события, без преувеличения, повернувшие мировую историю. Ж.-П. Ру об этом обмолвился одной строчкой. Вернувшись после похода на Золотую Орду в столь любимый Великим эмиром Самарканд, Тимур отменил налоги в своем государстве на целых три года. Сколько же богатств его войско привезло с собой и сколько из них были выкачаны из русских княжеств, если этих денег хватило на три годовых бюджета огромной империи!
Не знает французский ученый и о том, что знаменитая надпись Тимура, сделанная в походе на Тохтамыша в 1391 году, хранится в Государственном Эрмитаже Санкт-Петербурга. Текст ее такой: «В стране семисот черных токмак в год овцы, в средний весенний месяц султан Турана Тимур-бек шел с двумястами тысяч войска, имени своего ради, по кровь Тохтамыш хана. Достигнув этой местности, он воздвиг этот курган, дабы он был знаком. Бог да окажет правосудие! Если Богу будет угодно! Бог да окажет милосердие людям! Да вспомнит о нас с благословением!»
Второй поход Тимура на Тохтамыша в 1395–1396 годах фактически уничтожил Золотую Орду — мощное государство, которое являлось угрозой не только для России, но и для всей Европы. Было разрушено около 100 городов Золотой Орды и захвачены фантастические трофеи, а десятки тысяч пленников были уведены в Самарканд. Можно утверждать, что именно золотоордынские ремесленники воздвигали знаменитую мечеть Биби-Ханым, поскольку ее архитектурные предтечи обнаружены археологами при раскопках городов в Нижнем Поволжье. И именно этот поход Тимура подарил России знаменитый православный праздник — Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы. Икона Богоматери в августе 1395 года была привезена из Владимира в Москву и чудесным образом отвратила Тимура от похода на Белокаменную, заставив его повернуть от Ельца на юг.
Что же касается современного отношения к Тимуру в российской науке, то его концентрированно выразил видный советский историк А. П. Новосельцев. Если читатель возьмет журнал «Вопросы истории» № 2 за 1973 год, то найдет там серьезную и обоснованно доказательную статью этого автора под заглавием «Об исторической оценке Тимура».