Вадим Прокофьев
Петрашевский
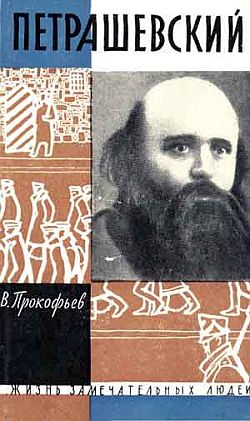
Кружковую деятельность «петрашевцев» император Николай I назвал «заговором идей». Буржуазные историки видели в ней только проявление оппозиционных настроений либералов, жаждущих реформ. И долгое время «петрашевцы» выступали на страницах исторических сочинений с подобными ярлыками. Но деятельность «петрашевцев» вышла за рамки теоретических споров, и не либеральные иллюзии привели их на путь революционной борьбы. Среди многих десятков людей, посещавших кружок Петрашевского, были настоящие революционеры, пропагандисты социалистических и даже коммунистических идеалов.
Петрашевскому и его соратникам были присущи колебания, непоследовательность во взглядах, доставшиеся им от дворян-революционеров. Но вслед за Белинским «петрашевцы» уже знаменовали собой появление на арене классовой борьбы революционеров-демократов, и они положили, по словам В. И. Ленина, начало социалистическим кружкам в России.
Книга В. А. Прокофьева — научно-художественная биография Михаила Васильевича Буташевича-Петрашевского, а также людей, близко стоявших к нему.
В. А. Прокофьев — преподаватель истории, 15 лет читал ее в различных вузах Москвы, автор ряда исследовательских работ по истории СССР. В серии «Жизнь замечательных людей» вышли его книги «Степан Халтурин», «Желябов», биографический очерк о М. Михайлове.
Когда по улице Ришелье проходят солдаты, невозможно усидеть на месте. По крайней мере мэтр Фурье не имеет на это сил. Ведь недаром же он в свои шестьдесят пять лет ежедневно ходит к Тюильрийскому дворцу, чтобы посмотреть на смену караула.
Пока шагают солдаты, нужно успеть залить две жалкие головешки в камине, прикрикнуть на кошек. А потом вниз! Вниз по узкой, извилистой лесенке.
Часы на камине отсчитывают двенадцать. Трубы торжествующе глушат все звуки. Но, боже, уже двенадцать? Двенадцать!
Вот уже десять лет Шарль Фурье, не пропуская ни одного дня, ровно в двенадцать садится в кресло у камина и ждет.
Ждет «кандидата». Так среди последователей мэтра принято называть миллионера, который, проникнувшись учением «социэтарной школы», явится к Фурье и выложит миллион на организацию пробного фаланстера.
Мэтр с сожалением прислушивается. Трубы поют уже где-то далеко, на другой улице.
И сегодня «кандидат» не спешит. А к его приходу давным-давно все готово.
Миллионера могут заинтересовать детали «открытия» Фурье. Об этом «открытии» ныне не так-то легко прочесть что-либо путное. Ведь в последнее время последователи мэтра почти не печатают его статей, заполняя страницы журнала «Фаланга» своими. Фурье страдает подозрительностью. Когда он был моложе, страдал отсутствием скромности. Но это только наедине с самим собой или в кругу двух-трех близких друзей.
Лет пять назад попробовали обойтись и без «кандидата». Несколько приверженцев Фурье создали своего рода акционерное общество для организации «социэтарной колонии». В департаменте Сены и Уазы общество приобрело большой участок земли.
Как это было радостно! И сколько вспыхнуло надежд!
Увы, спустя год стало ясно, что необходимого капитала в 1 миллион 200 тысяч франков не собрать, а тех 318 тысяч франков, которые были получены от 48 акционеров…
Э, да что вспоминать!
Выстроили какую-то нелепую ферму. Переругались. И не только фалангу, а производственно-потребительскую кооперативную общину организовать не смогли.
А ведь все так просто, так понятно, и иного пути у человечества нет.
Он не устает повторять это людям, он, мэтр Франсуа Шарль Мари Фурье.
Часы показывают уже вторую половину дня. Гулять поздно.
Кошки съели его завтрак? Но они, слава богу, ничего не понимают в винах. Полбутылки хорошей мадеры к остаткам рыбного филе… Мэтр всегда был в еде умерен.
Странно устроено современное человеческое общество — сплошная дисгармония. А люди, как чванливые букашки, кричат о прогрессе и цивилизации! Какая уж тут цивилизация, когда наперекор природе личное противоречит общественному. Счастье одних — залог бедствия для других.
Спросите адвоката: о чем он мечтает?
Чтобы в мире было как можно больше убийств, ограблений, мошенничеств.
А врач?
Болезни, эпидемии — вот путь к обогащению лекаря.
А для архитектора — пожары.
И все, буквально все ненавидят друг друга, объединяясь в классы, чтобы легче было ненавидеть.
Миром правит «меркантильный дух». Торговцы — вот вампиры, современные корсары, которые эксплуатируют и бедного и богатого, пожирают друг друга и во многом являются виновниками общественных бедствий.
Мэтр разволновался. И зачем ему вспомнились эти вурдалаки, зачем он бредет пройденными тропинками? Или это старость? О, в молодости он много поработал на «торговцев»! Только это и позволило ему потом с таким сарказмом, с такой силой обрушиться в своих книгах на «торговых паразитов». И он действительно был гениальным сатириком.
Что бы там ни говорили друзья, а мэтр доживает свои дни, и, увы, не в фаланстере.
Но у него есть маленькая тайна, он никому ее не откроет.
Когда никто не мешает мэтру, он умеет внутренне сосредоточиться, и тогда уже неважно, что его окружает. Он в мире гармонии. В мире, открытом им для человечества.
Он столько раз посещал этот мир фантазии, что уже с трудом видит в нем только идеал будущего.
Бог, создавший природу, создал гармонию в ней, и он же предопределил для людей идеальный общественный строй. Фурье «познал» божеское предначертание и по закону всеобщей аналогии обрисовал контуры идеального общества.
В нем все должно обеспечить нормальное развитие и удовлетворение естественных человеческих страстей.
Страсти… Как отпугивает это слово буржуазных моралистов! А Фурье под страстями понимает «причины человеческой деятельности», «коренные стремления его духа и тела, приводящие в движение все существо его», «а вовсе не те воплощения, те разрушительные порывы чувств, которые, затемняя рассудок, побуждают человека употреблять все средства к их удовлетворению».
Это уже не страсти, это «злоупотребления страстей».
Страсти сами по себе ни добры, ни злы, но могут порождать и добро и зло.
Значит, общество должно быть так организовано, чтобы «страсти одних людей не сталкивались враждебно со страстями других, чтобы удовлетворение стремлений одного человека не влекло за собой нарушение интересов другого», чтобы личное не противостояло общественному, а совпадало бы с ним.
Но как этого добиться? Мечтаниями? Человечество устало от обессиливающих иллюзий. Чем мечта зримее и влекущей, тем дальше старается держаться от нее современный «испорченный человек».
Его развратил чистоган.
А Фурье отдает людям мечту, проверенную точнейшими математическими и логическими выкладками.
Вот оно, гармоническое общество!
Весь шар земной поделен между фалангами. Фаланга — производственно-потребительская ассоциация. Она объединяет 1600—2 000 человек. Капитал фаланги акционерный. На этот капитал приобретаются земли, орудия труда, возводятся необходимые постройки.
Фаланга распадается на ряд серий по характеру производимых работ. Серия плотников, серия ткачей, садовников, огородников. Серии, в свою очередь, делятся на группы, образуемые людьми «со взаимными симпатиями».
Труд радостный, труд разнообразный, соревнующийся. Каждый член фаланги может трудиться в нескольких сериях: часа два у плотников, два — у огородников, два — у ткачей.
И труд превращается в наслаждение.
Доходы фаланги делятся на двенадцать равных частей.
А его еще обвиняют в том, что он стрижет всех под одну гребенку!
Доходы фаланги будут столь велики, что дивиденды, выплачиваемые на акции, значительно превысят современную прибыль с капитала.
Есть над чем задуматься, господа богачи!
Члены ассоциации имеют возможность получить доход и от труда и от капитала. Художники и писатели могут рассчитывать, что, получая за талант в одной фаланге, они получат за него же и в другой, если там распространятся их произведения.
Все обитают в одном доме — фаланстере. Это дворец. Огромный, каких еще не знает современная архитектура. В нем жилые помещения, различные по кубатуре, обстановке и, конечно, плате, взимаемой за них. Мастерские, столовые, театр, библиотека.
Семьи, в узкомещанском смысле этого слова, нет. Есть более или менее длительные брачные союзы. Родители не воспитывают детей, этим занимаются специальные педагоги. Воспитание трудовое, в процессах игр, но и дети приносят доход, выполняя работы, не слишком привлекательные для взрослых.
Самые тяжелые работы оплачиваются выше остальных.
В фаланге нет ни богатых, ни бедных, так как прожиточный минимум чрезвычайно велик. Труд — такое наслаждение, что им будут заниматься все, богачи не смогут остаться в стороне от работ.
Фаланга управляется «ареопагом» — выборным органом, и не столько административным, сколько совещательным. Даже титулы сохранятся, вплоть до монарха земного шара — «омниарха», но титулы эти чисто почетные. Фурье их сохранил, как кость для собак, чтобы привлечь внимание современных правителей к обществу будущего.
И никаких войн, революций, грабежей, банкротств. Особенно революций. Во время Великой французской революции 1789–1793 годов мэтр несправедливо пострадал и на всю жизнь сохранил неприязнь к революционному действованию.
Никакого классового антагонизма, так как постепенно исчезнут и классы: богачи станут трудящимися, а трудящиеся — богачами.
И настанет всеобщая гармония.
Как легко, мечтая, переступить границы земного! Фурье смотрит на землю из глубин марцающего космоса.
Пусть смеются маловеры.
Он-то знает, что всеобщая гармония на земле произведет изумительные превращения в природе. Засияет «северная корона» и расплавит вечные льды. Появятся пять новых спутников. Мир населится добрыми существами: антильвами, антикитами, антиакулами, которые станут верными помощниками человека. В морях соленая вода исчезнет и появится лимонад, а ночи будут лучезарными, как дни.
Мэтр очнулся ночью. Октябрьский ветер задувал в камин. Фурье давно болеет. Ничего не ест и только пьет и пьет воду со льдом.
Друзья и последователи — Консидеран, Вигуре — уговаривают его переехать куда-нибудь, чтобы за ним был уход. Но мечтать можно только в одиночестве.
С него хватит привратницы. Только что он пожелал ей доброй ночи, хотя уже скоро два часа.
Утром 10 октября 1837 года привратница долго не могла достучаться. Вошла. Шарль Фурье стоял на коленях, уткнувшись головой в постель. Он был мертв.
Мокрый снег с дождем. Дождь с мокрым снегом! И ветер. Ветер. Он крепко хватает в объятья, душит, не хочет выпускать, оттаскивает в сторону от домов. 16 марта 1840 года. В Царскосельском лицее днем тускло горят люстры. А в парке, под голыми сучьями, так и не наступил день.
Промозглый сквознячок выдувает торжественность из рекреационного зала.
Двадцать юношей продрогли в ожидании. Ждут прибытия на выпускной акт высоких гостей и боятся, что в этакую непогодь никто не приедет.
Михаил Петрашевский, крепко скроенный, среднего роста, стоит последним. Он задумчиво смотрит в окно, как будто провожает взглядом ветер.
— О чем мечтаешь? — шепот откуда-то спереди, не поворачивая головы.
А он не мечтает, он думает — всякая мечтательность ему чужда, даже противна. Но, может быть, шептали не ему? За долгие лицейские годы можно было вдоволь насмотреться на бесплодных фантазеров, и особливо из немцев. Они любят золотую серединку, как тот вон белобрысый барон Николай или Мишка Рейтерн. Полет их фантазии напоминает куриное хлопанье крыльями. Вот уже пять лет как остзейцы не разговаривают с Петрашевским. И только потому, что он всегда готов напроказить, досадить воспитателям. И всегда, увлекаясь, Михаил переступал границы. Так бывало у него и с гувернером Кохом.
Эта остзейская швабра тоже тут. Любит поболтать, а думать-то не научился. Ну и злился, визжал до истерик, когда замечал, что над ним потешаются.
Восемнадцатилетний граф Сивере стоит не шелохнется. Уколоть его иголкой, что ли? Он, видите ли, шокирован. А чем? Его сиятельство шокирует всякое искреннее проявление чувств, пусть даже в шалостях. Э, все они трусливая серединка!
К черту их! Даже сегодня смотрят в рот директору Гольтгоеру, как будто ждут от него чуда. А Гольтгоер из кожи вон лезет, чтобы угодить родителям своих именитых воспитанников.
Петрашевский косит глаза на кресла, в которых восседают увешанные аксельбантами и звездами, лентами и эполетами чиновные родители. Аристократическая спесь заменила им чувство собственного достоинства. О, они умеют, когда нужно, польстить, дать, взятку, умеют и благочестиво принять ее! Ум для них не обязателен. Образование и вовсе. Зато чинами и орденами пожалованы куда как! И все они немцы, немцы!
Римским и русским правом их пичкал, как сухой булкой, барон Врангель. Француз Жилле настолько пропитался немецким духом в стенах русского лицея, что не хотел знать французской школы романтиков. Не прочел ни одного романа Гюго, а ведь Жилле — «профессор» французской литературы.
Где-то там, в задних рядах, заслоненный сиятельными тушами, сидит и его отец Василий Михайлович Петрашевский—отставной штадт-физик С.-Петербурга и губернии, доктор медицины и хирургии. Он не ловил наград, зато и в столице и в уездах его попечением и хлопотами открыто несколько больниц. А сколько раненых в годину 12-го обязаны своей жизнью главному хирургу армий Багратиона и Милорадовича!
Эх, Милорадович, Милорадович! Отец и по сей день горюет, вспоминая графа, убитого декабристами. Отставной штадт-физик не может слышать имен «бунтовщиков».
А вот Михаил не чувствует симпатий к генералу, хотя тот был заместителем самого императора Александра I на его крестинах.
Петрашевского вызывают для вручения бумаг. Михаил, немного вразвалку, подходит к директору. Он последним получает аттестат. Возвращается в строй. Не спеша читает:
«Оказал успехи: в Законе Божием, нравственных и юридических науках, в географии, статистике, истории, французской словесности и в английском языке — весьма хорошие; в математике, физике и латинской словесности — удовлетворительные; в немецкой словесности — хорошие; в политической экономии и русской словесности — отлично хорошие; сверх того обучался рисованию, фехтованию и танцеванию…»
«По высочайшему повелению» от января 20-го числа сего 1840 года ему присвоен XIV класс — коллежский регистратор.
Лицейское начальство дождалось случая, чтобы отомстить предерзостному воспитаннику. Он единственный выпущен XIV классом. Но кто заступится за сына отставного штадт-физика?
Отец уже знает и смотрит в сторону, сдерживая слезы.
Михаилу, конечно, наплевать на эту выходку лицейских солдафонов. Они хотели его унизить. Нет, господа, наоборот, ведь сейчас все подумали о том, что за всю историю лицея только он да Пушкин были выпущены с низшим классом. Хотя Пушкин получил не XIV, а XIII.
Он и Пушкин! Что же, остается только расшаркаться за честь, оказанную ему Гольтгоером.
Но отец убит горем. Ведь сколько препон пришлось ему преодолеть, чтобы поместить сына в этот великосветский заповедник по выращиванию высшей чиновной знати! И вот тебе — XIV класс, жалованье, на которое нельзя даже прокормиться. А ведь Петрашевские небогаты, отец имеет два дома — каменный и деревянный в Коломне, на Покровской площади, да имение в Новоладожском уезде Петербургской губернии с 250 душами крепостных. Правда, у матушки есть еще два каменных дома в Петербурге и имение в Вологодской губернии, но они не в счет. Если с отцом что-либо случится, она все приберет к рукам. Нет, мать никого не любит, только себя. А ведь Михаил не один. У него четыре сестры, и наследством, если умрет отец, нужно будет поделиться и с ними. Директор лицея с недоумением смотрит на Петрашевского. Почему он вышел из строя? Обрадовался, что его уже нельзя засадить в карцер?
Петрашевский кланяется преподавателям и воспитателям.
Отвешивает поклон публике.
Не сошел ли он с ума? Что он делает? Петрашевский собирается произнести речь? В стенах императорского лицея?
Это почти кощунство!
Гольтгоер делает протестующий жест. Но Петрашевский не смотрит на директора.
Серьезно, без тени улыбки, Михаил Васильевич благодарит учителей и воспитателей за их попечение, труды, потраченные на то, чтобы сделать из воспитанников настоящих людей и верноподданных монарха. Он вспоминает о собственных выходках с сожалением. Да, он вел себя отвратительно, доводил милейшего Коха до истерик своими вопросами и возражениями… Нужно забыть все эти школьные ссоры и пожелать процветания лицею, его директору, учителям и воспитателям, всеподданнейше припасть к стопам императора, столь заботливо и всемилостивейше заботящегося о лицее…
Директор не верит своим ушам. Последний ученик, чиновник XIV класса, вольнодумец… и такие слова!
Петрашевский-отец растерянно улыбается.
Николай Ахшарумов отвернулся, чтобы не расхохотаться. Ужели эти идиоты не понимают, что Михаил издевается над ними? Да как ловко, как тонко! Фарс, комедия, а ведь они, чего доброго, хлопать будут. О, Петрашевский плохо пишет, но оратор превосходный! Какое воодушевление в голосе! И сколько иронии в глазах!
А они и в самом деле хлопали. Директор так расчувствовался, что публично выразил сожаление о том. что ему раньше не были известны истинные чувства, наполнявшие господина Петрашевского.
Николай Кайданов крепко пожал руку, когда Петрашевский вернулся в строй. Он тоже понял.
Михаил отомстил, отомстил за все обиды и унижения, за муштру и коверканье мальчишеских душ в угоду монарху, чиновническому чинопочитанию.
…И наступило время, о котором лицеисты мечтали столько лет.
Рейс из Петербурга в Гельсингфорс на сей раз мало походил на приятную морскую прогулку. Море катило крутую волну.
За завтраком и обедом дамы ели неохотно, но неизменно выходили к столу, чтобы еще раз посмотреть на загадочного пассажира.
Когда он появлялся, умолкал стук ложек, звон вилок. Дамы рассматривали его с откровенным восхищением, мужчины хмурились.
Он позволял любоваться своим цветущим правильным русским лицом, спадающими на плечи темно-русыми кудрями. Но при этом его огромные серые глаза были подернуты грустью.
Он нелегко переносил качку. Иногда поднимался на палубу, чтобы подышать свежим морским ветром.
Ни с кем не знакомился, не разговаривал.
В судовой книге он был записан просто «помещик Курской губернии Николай Александрович Спешнев».
Это имя ничего не говорило любопытным. Кто-то припомнил, что у Спешнева крупные имения, что-то более 500 душ. Вот и все. Ни чинов, ни званий.
Всеобщее внимание раздражало Николая Александровича, хотя он и привык к тому, что всегда и всюду становится центром. А ведь он неразговорчив и не «теплая душа». Любезен, предупредителен. Это от хорошего светского воспитания. Но и только. У него нет любопытства к людям. Мантия многодумной непроницаемости держит их на расстоянии, хотя он никого не отталкивает…
Он рад, что море бурное и можно подолгу лежать в каюте. Когда лежишь, качка не так заметна. Впрочем, сейчас он мало что способен замечать. Лучше всего постараться забыться во сне.
Засыпая, он видит один и тот же сон. Он видел его, лежа в гостиницах, на съезжих дворах, в карете. Для этого нужно только закрыть глаза.
…Веранда барского дома. Сквозь плющ и дикий виноград едва пробивается свет из окна. В окне женский силуэт. Легкий ветерок теребит тюль занавески. И кажется, что женщина струится. Потом темнота. И дни, наполненные цокотом копыт…
Скорее, скорее, скорей же! Он убегает.
Убегает и не может убежать.
За спиной легкое, горячее дыхание, и сейчас его шею обовьют руки…
Стена каюты. Поскрипывают переборки, И приглушенно, через равные промежутки, осыпается шум обессилевших волн.
Но разве его можно догнать? Разве обнимают через море?
Спешнев выходит на палубу. Ветер рвет легкую накидку, отбрасывает копну волос, разгребает ее.
Сон исчез. Остался внизу, в каюте. Спешнев больше не спустится туда. Да и Гельсингфорс скоро.
Скоро Гельсингфорс, и не будет снов.
Но в последний раз зайти в каюту и закрыть глаза?!.
Ветер подхватывает тюль занавески. Струится женщина…
Анна!
Это имя можно повторять только про себя.
Он бежал потому, что Анна замужем и муж ее — Савельев — приятель, так гостеприимно открывший ему двери своего дома.
Он бежал потому, что она мать двух детей.
Он бежал потому, что нет ничего прекраснее, желаннее Анны Цехановецкой.
Жизнь раскололась на две, на три, а может быть, и больше частей.
Департамент внутренних сношений министерства иностранных дел, где Петрашевский служит с марта 1840 года третьим переводчиком.
Петербургский университет, вольнослушателем которого Михаил Васильевич стал осенью того же года по праву, предоставленному бывшим лицеистам.
Маленький деревянный домик в старой Коломне, с резным коньком на крыше, покосившимся крылечком и большим кабинетом вечно неприбранным, утопающим в пыли и тишине.
Между департаментом, университетом, Коломной — Петербург, знакомые, Россия.
Петрашевский никак не может сложить эти части. Они не подгоняются одна к другой.
В департамент можно являться и не каждый день. Тем более что коллежскому регистратору платят всего 114 рублей 29 копеек серебром в год. Его обязанность — сопровождать иностранных подданных в их хождениях по присутственным местам и чаще всего по судам и полицейским участкам.
Тупые рожи полицейских офицеров, которых так ненавидит весь без исключения Петербург.
Судейские крючки, никогда не говорящие ни да, ни нет, пока не зашуршит в потной ладони бумажка. Иностранцы, старающиеся выколотить из варваров русских как можно больше чистогану.
Отупение к концу дня.
И только изредка выпадали «праздничные недели». Это случалось, когда Михаила Васильевича направляли делать опись выморочного имущества иностранца и оказывалось, что у покойного осталась библиотека.
В двадцать лет трудно разобраться в пестром калейдоскопе названий. Списывать их механически, с тем чтобы потом книги лежали на складах в ожидании возможного наследника?
Нет. Книги не должны залеживаться мертвым грузом, их место на полках живых людей.
Романы, водевили, новеллы — в сторону, если только среди них нет Жорж Санд, Гюго, Бальзака, Беранже. Беллетристика обычно не привлекала внимания Михаила Васильевича. Ему просто не хотелось тратить на нее время. Правда, Пушкина и Лермонтова, запрещенного всеми запретами Радищева и стихи Рылеева Петрашевский переписывал, заучивал наизусть. Но он и не относил их к беллетристам.
Гражданственность, гимн свободе, яростное обличение, любовь к народу — вот что прежде всего ценил Михаил Васильевич у этих писателей. А достоинства музы? Тут он не ценитель. Но Пушкин и Рылеев — русские. Их сочинения почти отсутствуют в библиотеках иностранцев.
Зато Шарль Фурье, Прудон, Кабе, Сен-Симон, Консидеран, Фейербах в самых различных изданиях, часто не разрезанные, упрятанные куда подальше, — частые гости на полках покойных владельцев. Они-то и примиряли Петрашевского с не слишком приятной обязанностью копаться в рухляди усопшего иноземца.
Вначале Михаил Васильевич, наткнувшись на заинтересовавшую его книгу, тут же, в развороченной библиотеке, отыскивал уголок и усаживался читать. Но интересных книг было много, а времени в обрез. И Петрашевский решил, что не совершит большого должностного преступления, если будет подменять эти книги другими.
Можно было и не подменять — никого не интересовало, сколько томов оставил умерший, тем более что большей частью не находилось и наследников на эти тома. Но Михаил Васильевич был щепетилен.
Теперь, направляясь на опись, он обязательно забегал в книжную лавку.
Торговцев иностранной литературой в столице было немного. И среди них — конечно, не самый известный — Лури. Лавка у него тесная, пыльная Здесь нет столиков для чтения и не подают кофе. Зато хозяин имеет прекрасно налаженные связи с заграничными поставщиками, и любая запрещенная в России книга беспрепятственно доставляется Лури.
Петрашевский очень скоро сделался здесь своим человеком. Лури снабжал Михаила Васильевича всевозможной иностранной макулатурой для подмены, сообщал ему списки запрещенных книг, выписывал из-за границы все, что бы Петрашевский ни пожелал.
Библиотека в коломенском домике быстро пополнялась, вытесняя из кабинета хозяина лишние вещи.
Время уплотнилось до предела.
Вольнослушатель юридического факультета столичного университета Михаил Петрашевский не слишком баловал профессоров посещением лекций.
Да и стоило ли терять время, слушая Калмыкова, читавшего русское государственное право, или Шнейдера, жевавшего римское, Баршева — профессора русских уголовных и полицейских законов? В лучшем случае эти «ученые мужи» могли сообщить кое-какие факты, дать некую, очень незначительную сумму знаний, но не за этим пришел в университет Михаил Васильевич.
Ему необходимо было утвердить свое миросозерцание, найти философское обобщение тем знаниям, которые он уже приобрел.
Поступая в университет, Михаил Васильевич некоторое время колебался. Ему казалось, что юриспруденцией он сможет заниматься и сам, а вот философское образование поможет ему обрести целеустремленность, утвердить складывающиеся убеждения.
Но философский факультет столичного университета походил на заштатную богословскую семинарию. Дух Рунича витал в его стенах. А о Руниче и его попечительстве Петербургским учебным округом знали все. Это он изгнал естественные науки, это он приказал преподавать математику на основе священного писания.
Юридический же факультет имел хоть одну светлую личность. Если в Москве гремело имя профессора Грановского, то в Петербурге с ним соперничал Виктор Степанович Порошин.
Он читал политическую экономию и статистику.
Виктор Степанович не отличался красноречием, не в пример Грановскому. Но ясность мысли и убежденность, удивительная гуманность воздействовали на слушателей лучше всяких громких фраз и красивых оборотов речи.
Аудитория напоминает залу театра. Студенты сидят, словно заранее купили абонементы на места. В передних рядах, прямо против кафедры, «белоподкладочники». И хотя никто не носит студенческих мундиров на белой подкладке, сынков дворянской аристократии и чиновной знати иначе не величают. Здесь — светские манеры, французская речь, чопорность. «Центр» редко аплодирует, считая это не комильфо. Среди «белоподкладочников» нет казеннокоштных. В университет они приезжают на собственных лошадях. Обедают в лучших ресторанах. И считают чуть ли не своим долгом ежедневно устраивать пирушки, петь гусарские песни и хвастаться своими похождениями.
Но таких немного, а на лекциях Порошина их и вовсе единицы.
Зато задние скамьи, подоконники забиты казеннокоштными и вольнослушателями. Мундиры тут засаленные, затасканные, много раз заложенные, с чужого плеча. Вольнослушатели в сюртуках, а иногда и в тужурках и даже пледах. Инспектор с помощником зорко наблюдают за входящими в аудиторию, но пледы ухитряются пробраться и спрятаться за спины впереди сидящих. Фуражки можно носить только в стенах университета, на улице нужно быть в треуголках. А если мундир в таком непотребном виде, что не миновать разноса какого-нибудь штатского или военного генерала, то, вместо того чтобы надеть треуголку, стаскивают мундир, закручиваются в плед и, уже не приветствуя ни штатских, ни военных, закоулками спешат по своим конурам. Это тоже дворяне или сыновья чиновников.
Но у этих дворянских сынков за душой ни крепостных, ни имений — только и есть что одно звание. Император Николай I терпеть не может студентов. И не дай бог попасться ему на глаза в пледе или даже мундире, но с плохо начищенными пуговицами!..
Юристов кто-то окрестил «богачами», но на лекциях Порошина сидят математики, философы и филологи. Они обычно «побогаче» «богачей» и придают аудитории приличный, с точки зрения инспектора, вид.
Пока не началась лекция, болтают, читают. Ожидая Порошина, усиленно судачат о его причудах. Ведь он, доктор философии, экстраординарный профессор, имеет в Брест-Литовском уезде Гродненской губернии свыше 800 душ крепостных да под Новгородом и Петербургом еще полторы сотни, а живет, как студент: в одной комнате, ходит пешком, не курит и не пьет, всегда готов помочь нуждающимся, о внешности своей и вовсе не заботится. Инспектор как-то признал его за студента и не хотел было пускать в аудиторию.
Петрашевского все эти пересуды только злят. Почему о «приличном» и «неприличном» должно судить только с точки зрения аристократического бомонда? И так уже в России стараниями императора регламентированы все стороны жизни. Не страна, а какая-то огромная казарма. Даже по внешнему облику города похожи друг на друга, как сторожевые будки, выкрашены в два, много — в три цвета, с преобладанием серого, солдатского. Даже штатские чиновники организованы по-военному — корпус лесничих, корпус горных инженеров…
Чиновник не имеет права носить бороду, длинных волос.
Михаил Васильевич хорошо понимает Порошина — профессору претят эти дикие рамки монаршей солдатчины.
Петрашевский тоже протестует чем и как может. Он носит длинные волосы и густую бороду. Когда начальство «советует» ему постричься, он смиренно выслушивает нотацию, немного укорачивает шевелюру и подрезает бороду, зная, что директор департамента слишком спесив, чтобы вступать в обсуждение того, насколько точно выполнил чиновник его распоряжение. А уж ежели и сделает новое замечание, Михаил Васильевич молчать не будет. Он докажет директору, что постригся, что законы не запрещают человеческого естества, и в конечном итоге директор будет выглядеть дурак дураком, как это и было совсем недавно, когда он разорался на Петрашевского за то, что тот плюнул на пол.
— Ваше превосходительство, но я человек религиозный, а меня сейчас сглазили. Так что, ваше превосходительство…
Превосходительство поспешило убраться в свой кабинет.
И в университет и в департамент Михаил Васильевич считает нужным и возможным являться в той одежде, которая его больше устраивает. А если это кому-либо режет глаза, то пусть отвернется. Он не позволит никому посягать на личную свободу.
Профессор Порошин ходит в стареньком, потрепанном мундире. Это его дело.
Петрашевский всем одеяниям предпочитает широкий плащ и шляпу типа сомбреро. А дома у него есть заветный халат с оторванным рукавом. Рукав натягивается отдельно.
Но Порошин уже начал лекцию. Как трудно в иносказаниях, на примерах древней истории говорить о сегодняшнем дне, его нуждах!
А нужда прежде всего одна — ликвидация крепостного права. Порошин осуждает его почти открыто. Трудно кого-либо обмануть рассуждениями о положении рабов в древнем Риме. Тем более что прежде чем произнести слова «раб», «Рим», профессор подробно анализирует проблему имущественного неравенства. Если и можно говорить о имущественном неравенстве, то только имея в виду помещика и крепостного, ведь раб был вовсе лишен имущества и сам являлся только говорящим орудием — имуществом рабовладельца. Порошин упорно развивает свою мысль:
— Есть существенная разница между неравенством природным и тем, которое порождается произвольным действием людей, влиянием гражданских учреждений. В первом мы не властны, второе зависит от нас и, следовательно, лежит на нашей ответственности; иногда эти учреждения явно узаконяют неравенство, например, там, где существует и признается законом рабство; там не только имущество рабов принадлежит другим, но и сами они, их силы, их природные способы и все, что они могут произвести; из всего этого на их долю, для собственного их развития, не достается ничего.
Вспомнил и о рабах, но это для отвода глаз. Все поняли, что речь не о них. Да и профессор заключает:
— В европейских обществах право личной свободы и другие права признаны неприкосновенными и пользуются безопасностью. Каждый может располагать собою, своею собственностью, это право собственности считается основанием
Как это сложно и как просто. Отношение к собственности, ее видам определяет мировоззрение и феодала и буржуа, отличает социалиста от коммуниста. А гражданские свободы?
Петрашевский еще не задумывался над связью между собственностью и гражданской свободой.
А Порошин ведет слушателей за собой в мир идей, которые так тщательно охраняются сторожевыми псами цензуры. И все это, не выходя из рамок взгляда на право собственности.
Михаил Васильевич уже знаком с сочинениями французских социалистов. Но, признаться честно, Шарль Фурье, например, пишет очень заумно. Его «Новый мир» пестрит совершенно непонятными словами, коих не найдешь ни в одном словаре: «унитеизм», «гармонический селадонизм», «гастрозофия».
Или появляются вдруг какие-то причудливые подсчеты «страстных серий». Вид у книги наукообразный.
Но Порошин вовсе не склонен высмеивать Фурье. Наоборот, он детально излагает его социально-экономическое учение, оставляя в стороне космогонию.
— Очевидно, что в этих гипотезах и мечтаниях есть нечто грандиозное и не чуждое истины. Это учение, с одной стороны, обнаружило все невыгоды настоящего положения вещей, изобразив …все те злоупотребления, кои кроются в праве неограниченной частной собственности, с другой стороны, оно выставило все выгоды, кои могут произойти от общежительного потребления, из которых некоторые возможны и осуществляются перед нашими глазами. Нет надобности прибавлять, что вполне это учение не принято и не могло перейти в практическое применение. Во Франции оно имело и имеет своих последователей…
Порошин сочувственно относится к социалистическим учениям, хотя далек от мысли, что частная собственность должна быть ликвидирована. Он даже плохо верит в возможность ее замены общественной собственностью и ратует только за искоренение злоупотреблений.
Но Петрашевскому важно, что профессор систематизировал его собственные понятия и знания, а выводы он уже сумеет сделать и сам. Жалко только, что Порошин, сочувствуя социальным учениям, ничего не пожелал говорить о теориях коммунистов. Видимо, он не одобряет их, считает вредными. Пусть даже так, но Петрашевский почти ничего не знает об их доктрине.
Надо разобраться.
Ночью на него наступают книги. Кажется, они соскакивают с полок, выстраиваются в боевые порядки и идут атакой. Их оружие — мысли, факты. Петрашевский едва успевает отбиваться. И только серый рассвет разгоняет полчища переплетов и корешков.
Додумывать приходится многое. Он прочел почти всего Фурье, Сен-Симона и теперь старается отделить фантазию от существенного, жизненного. Его все больше и больше привлекает та часть сочинений этих мыслителей, где они говорят не о будущем, а бичуют настоящее.
Как остро, как язвительно, с каким сарказмом писал Фурье о «меркантильном духе», правящем Францией!
Этот маклер из Лиона, человек, который глубоко ненавидел «торговлю», долгое время вынужден был сам «разносить чужую ложь, прибавляя к ней свою собственную». Какой нужно было обладать наблюдательностью, чтобы разглядеть надвигающийся на Францию экономический кризис и обобщить на примере кризиса 1825 года неизбежность подобных катаклизмов в будущем! А его описания положения рабочих? Кровь в жилах стынет!
Михаил Васильевич иными глазами стал смотреть на жизнь, окружавшую его. Скептицизм к мероприятиям русского правительства, устройству судов, образования укрепил в нем политический радикализм.
И он не скрывал его, часто отпугивая от себя новых университетских приятелей.
Петрашевский еще не столкнулся с жизнью лицом к лицу, его выводы были скорее умозрительными и не имели опоры в практике, в наблюдениях над окружающим.
Для этого он был еще слишком молод.
Зато Александр Пантелеймонович Баласогло — надворный советник и мелкий чиновник архива министерства иностранных дел — с жизнью успел познакомиться не только из книг.
Жизнь уготовила ему одни барьеры. И сколько бы он ни перескакивал через них, на пути возникали все новые.
Эта скачка началась в юности, когда он был еще гардемарином. Потом стал мичманом.
Тонул, чтобы вовремя доставить депешу, на которую никто не обратил внимания. Отсиживал на салинге за прегрешения других. В турецкую кампанию 1828–1829 годов остался единственным волонтером, не получившим ни орденов, ни чинов, ни подарков, ни даже причитающегося за это время жалованья.
Увлекаясь всю жизнь Востоком, стремясь во что бы то ни стало хоть простым палубным матросом попасть в кругосветное плаванье, семь лет вышагивал в Кронштадте офицерские эполеты, к которым не стремился, которых не добивался.
После 14 декабря 1825 года даже мечтать о научной деятельности исследователя Востока стало опасно. Император знать не хотел о науках, а ученых называл тунеядцами и мерзавцами.
Баласогло начал посещать университет, чтобы пройти курс восточных языков. Но в это время его стали ежедневно гонять на фрунтовую службу.
Бросил флот — на суше те же мели, те же рифы. Отказался от места адъютанта при штаб-офицере корпуса жандармов в Ставрополе ради вакансии в Институте восточных языков. Вакансия досталась другому, в Третьем отделении не стали ждать.
Наконец попал в счетное отделение хозяйственного стола министерства просвещения на 750 рублей ассигнациями в год. Ворошил связки бумаг, наблюдал, как его столоначальник берет взятки. И мрачнел.
Жил на казенной квартире — в одной тесной комнате, питался пирожками и сайками с Гостиного двора. Потбм в течение шести лет не мог брать их в рот.
В три часа кончалось присутствие в департаменте, и Баласогло оставался наедине со своими мыслями. Он не мог пойти к знакомым, так как не имел выходного платья. Книг купить тоже было не на что.
И он чувствовал, как нервы натягиваются до предела. Бывая на людях, замечал, что порой не понимает, о чем говорят.
Состояние, близкое к помешательству.
Тогда он начал доискиваться до причин своего бедствия. И невольно пришел к убеждению, что во всем виноват тот общественный порядок, который царит в России.
Отрицать всегда легче. Идеальный мир строился в воображении по камушку. Мысли как капли. Но когда-то еще водоем наполнится до краев.
Нужно было как-то жить. Тем более что Александр Пантелеймонович женился.
И опять барьеры, опять скачка, обещания, посулы, требования взяток и обманы, обманы!
Наконец свалилось на голову манной — место в архиве министерства иностранных дел.
С замиранием сердца читал архивариус доклады графов Воронцова, Румянцева, отчеты об экспедициях Шелехова, Сенявина, донесения Ермолова, Потемкина, подлинные бумаги Петра I, Екатерины.
И ему открылась иная Россия — страна великих свершений.
Но ведь он копался в прошлом. А будущее по-прежнему рисовалось в мрачных красках. В России как будто забыли о ярких цветах жизни — зеленом, красном, золотом, — и, размешав архивную пыль в водичке, мазали и мазали этой грязью все вокруг.
Иногда появлялись люди, на которых Александр Пантелеймонович смотрел, как на выходцев из других миров. Они заражали его энтузиазмом и прельщали обещаниями. По не собирались их исполнять.
Баласогло уже не восторгался и не жил прошлым величием отечества. Он утвердился во мнении, «что в России пошло все вверх дном, что в ней готовится какая-то катастрофа и что это уже ни для кого не тайна».
Приметы надвигающейся бури заметны на каждом шагу: «отсутствие всякого понятия о своих обязанностях, пренебрежение разума религии и законов, с одним насмешливым или тупым сохранением обрядов и пустых приличий, всеобщее недоверие друг к другу, исчезновение капиталов, которые как бы ушли в землю, вера в одни деньги, наконец… бессилие власти к одолению бесчисленных беспорядков и злоупотреблений…»
Баласогло заметался. Заметался в поисках выхода.
Он уже слышал грозный гул надвигающегося урагана. Его фантазия, обогащенная знанием истории, рисовала страшные картины.
«Воины будут сражаться, ораторы возбуждать народ к резне, чернь — разбивать кабаки, насиловать женщин, терзать дворян и чиновников; немцы будут изрезаны в клочки, Польша изобьет всех солдат до единого или сама погибнет до последнего человека под их штыками; Малороссия, вероятно, отложится; казаки загуляют по-своему, по-прежнему, по-старинному; Кавказ забушует, как котел, и, может быть, растечется в зверских набегах в Крым, до Москвы, до Оренбурга, подымет всех татар, калмыков, чуваш, черемис, мордву, башкир; киргизы и монголы, только того и ожидая, станут врываться из степей Средней Азии до Волги и далее, внутрь России; Сибирь встанет и заварит кашу с Китаем; а тут-то, когда по всей России будут бродить шайки новых Разиных и Пугачевых, которые сами себя будут производить в генералы, англичане отхватят под шумок и наши американские колонии, и Камчатку, завладеют Амуром…
Все это может быть и будет непременно, если только (будут) лица, злоупотребляющие десятки лет во всей безнаказанности, и власть, даруемую им законами, и доверие государя, и пот и кровь народа, и все священные преимущества заслуг, седин, имен, выражающих народную славу, и — что всего ужаснее — преимущества образования и познаний! Но если оно будет — что тут будет делать писатель? Тут не возьмут ни крест, ни штык, ни кнут, ни миллион, ни ум, ни слеза, ни красота, ни возраст, ни самое высшее самоотвержение!.. Тут будут свирепствовать одни демагоги, которых, в свою очередь, каждый день будут стаскивать с бочек и расшибать о камень; о писателях тут уже не будет и помину, потому что все они гуртом будут перерезаны заблаговременно в виде бар и чиновников…»
«Чем же помочь этой страшной беде, которая у всех висит на носу, о которой все чуют и от которой никто и не думает брать мер? Кричать о ней? — посадят в крепость; писать? — ценсура, гауптвахта и опять-таки крепость; доносить? — в том-то и беда, что некому: зашлют туда, куда Макар телят не гонял!..
Остается только плакать и посыпать главу пеплом, и то не на улице!..
Нет! — мужчина не должен плакать, а должен действовать, пока не ушло время».
«…Смягчать нравы, образумливать, упрашивать, чтоб полюбили истину; найти себе точку опоры и действовать с нее на все стороны, имея в виду уже не классы или звания, не лица или титулы, а одного человека — ум, душу, инстинкт самохранения».
Он стал бродить из дома в дом. Он искал людей, деньги, он спешил, он хотел через журнал, посредством библиотек, с помощью писателей и художников «пустить в общество… круг идей, дать ему в руки целый свод учебников» и смягчить ожесточившиеся человеческие сердца.
Он сортировал в уме тех, с кем встречался. С негодованием отшвыривал в сторону литераторов-либералов, «для которых все равно, что бог, что сапог; что мир, что жареный рябчик; что чувство, что шалевый жилет; что всемирная идея, что статейка Булгарина».
Он искал Молодых, свежих и с крепкой душой.
Их не было среди «порядочных».
Александр Пантелеймонович стал присматриваться к тем, над кем насмехались, кто слыл среди «порядочных» «беспокойным, пустым».
Это была хорошая рекомендация в глазах Баласогло.
С такой рекомендацией рядом с Александром Пантелеймоновичем в министерстве иностранных дел работал Петрашевский.
Она вошла в номер, как к себе домой, и ничего не объясняла. Да и нужны ли объяснения, когда Анна в Гельсингфорсе и не может оторвать губ от его лица?
Спешнее не убежал.
И два года не вспоминал о России, имении, не думал о Европе и никуда не выезжал из Финляндии. Только изредка приходили письма от лицейского товарища Владимира Энгельсона. Тогда воскресали знакомые лица былых друзей.
Но Спешнев не всматривался в них.
«Петрашевский блестяще выдержал магистерский экзамен в университете и теперь кандидат…» «А из лицея выпущен XIV классом!» Потом забыл и о Петрашевском.
Да, университетская премудрость почти целиком вписана в матрикул. На это понадобилось немногим более года. Не так уж много, если вспомнить вольнослушателей, которые успели за время своего студенчества обзавестись семьями, детьми и даже получить по службе один-два очередных чина.
Осталась только кандидатская диссертация да кое-какие нетрудные экзамены, которые он может сдать в любое время.
Близится лето. Пустеет столица. Помещики, зимой живущие в Петербурге, разъезжаются по своим имениям. Студенты пристраиваются к знакомым в нахлебники, воспитателями, гувернерами, стремятся попасть в леса, на берег моря или, если повезет, укатить с подопечными «на воды» за границу.
Самое время взять отпуск и месяц пожить у себя в деревне.
В министерстве никто не возражал. Четырехнедельный отпуск был оформлен тут же. Отец оставался в Петербурге, здоровье его все ухудшалось. Матушка при нем.
В последнее время Петрашевский замечает, что мать ждет не дождется, когда болезнь окончательно доконает ее супруга, а тогда она полная хозяйка не только своих домов и имений, но и… детей.
Ну нет, с матушкой он всегда почтителен, но быть ее рабом или управляющим движимой и недвижимой собственностью госпожи Петрашевской он не намерен. С отцом отношения так и не наладились. Старый служака, воспринявший кое-какие либеральные идеи начала александровского правления, он растерял их в войнах, непрерывных хлопотах по устройству госпиталей, в борьбе с холерой. Сын не оправдал его надежд. Он не стад медиком, из него не получится и исправный чиновник, делающий карьеру. Вольнодумство сына более всего тревожит отца. Вот и главный инспектор по медицинской части баронет Виллье, при котором с этого года старший Петрашевский состоит по особым поручениям, как-то, проговорив с Михаилом Васильевичем вечер, заметил: «Продуло, продуло вашего сынка, уважаемый Василий Михайлович, сквознячком с Сенатской площади».
А ведь баронет так хорошо относится к Василию Михайловичу да и сыну его при рождении «дал на зубок» круглую сумму. И вдруг — Сенатская…
Воспоминания о Сенатской площади всегда вызывают у Василия Михайловича слезы. Друг и покровитель его граф Милорадович, будучи уже смертельно раненным, потребовал к себе не кого-нибудь, а доктора медицины и хирургии Василия Петрашевского. И он не отходил от графа до самой его кончины.
А сын? Тот и не скрывает своего преклонения перед декабристами.
Михаил Васильевич уже давно чувствует себя страшно одиноким в семье. Сестры малы, Да и «думают из рук матери». Друзей у него нет. А ему нужно, наконец, разобраться в самом себе и, быть может, разрядить пистолет, который вот уже два месяца лежит заряженный в письменном столе.
Решено, он едет в деревню.
Сборы не заняли, много времени. А дорогой можно думать, наблюдать и снова попытаться решить давно занимающий его вопрос о взаимоотношениях между человеческим разумом и природой. Рационализм философов Прошлого столетия никак не укладывается в сознании, рассыпается прахом, как только мысль вступает в борьбу с фактом.
А это значит, что человек не обладает «свободою произвола», все, что происходит в нем, все зависит не от разума его, а от общих законов природы.
Как тяжело расставаться с горделивыми мечтаниями и признать свое ничтожество перед лицом природы!
Но это так.
Вот он едет и едет вдоль опушки нескончаемого старого бора. От сосны к сосне, от ели к ели. И нет исполинам до него никакого дела. И природа, ее высший разум, создавая этот лес, не заботились о нем, Петрашевском Михаиле Васильевиче, будущем кандидате юридического факультета.
У деревьев свое назначение, у него свое. Значит, его личное состоит в том, чтобы как можно полнее развить в себе «это свое», те свойства, которые в него заложила природа, — в этом счастье, в этом смысл жизни и в этом гармония природы.
Но гармония природы еще и в тесной взаимосвязи всех явлений.
И если он разрядит пистолет — в себя ли, в кого другого, то будет нарушена гармония.
Черт возьми, природа эгоистична, она не оставляет существам, ею созданным, даже право распоряжаться собой. Ведь если проникнуться этой мыслью, то наступит безразличие. Жизнь или смерть — только непостижимая логика природы.
Нет, дорога так и не помогла разобраться в философском назначении человека. Все, что он наблюдает в природе и особенно среди людей, в обществе, противоречит философскому понятию гармонии. И пистолет по-прежнему лежит под рукой. Петрашевский часто разряжает его в стену старого деревянного дома. Выстрелы вспугивают навязчивые мысли, и часто он с какой-то болезненной страстью всаживает пулю за пулей, пулю за пулей, разгоняя дворовых девок, прохожих мужиков.
Потом часами бродит по берегу маленькой извилистой речушки. На песчаных отмелях, в мелкой воде греются полусонные рыбы. Но нет гармонии и в этих ленивых водах. Всюду борьба, всюду жизнь и смерть. Воду, как ножом, располосовала бросившаяся врассыпную речная мелюзга. Всплеск, и только расползающиеся круги свидетельствуют о новом нарушении гармонии, новой смерти.
И так везде, везде…
Не решив вопроса о «гармонии», он приобрел равнодушие к жизни. Мысленно перебрал знакомых, случайных приятелей, родных и решил, что никто из них не достоин его привязанности, любви.
И только все человечество, живущее вот так же, как эти рыбы, в дисгармонии, нуждается в людях, которые, забыв об эгоизме, должны служить ему бескорыстно во имя «всеобщего блага».
Это был кризис, и он пережил его. Кризис юности, не нашедшей себе конкретной цели в жизни и иаивно верившей, что сможет добиться «всеобщего блага».
Забыты рощи, реки, поля. Петрашевский знает, что там нет гармонии, как нет ее нигде, — ведь она только идеал природы и достичь его могут существа разумные.
Разумные живут тут, по соседству, в этих хатах под соломенными грибами, на людской половине его барского дома.
Раньше он никогда о них не вспоминал. Если речь заходила об имении, то оно вставало перед глазами пашнями, помещичьим домом и садом, соседним лесом, пахло сушеными травами сенокосов. А люди были где-то там, за занавесом памяти и воображения.
Но они-то и составляют человечество. И незачем ходить вдаль, чтобы наблюдать его, быть ему полезным. Петрашевский ни на минуту не сомневается в своих способностях служить людям, и это не самомнение, а вывод трезвого ума.
Вот только как это сделать, с чего начать, к чему стремиться? Над этими вопросами нужно еще много думать. Уже более года он ведет что-то вроде дневника своих мыслей, записывает в него все, что его тревожит, рассуждения, решения. Он так и назвал этот дневник: «Мои афоризмы, или обрывочные понятия мои обо всем, мною самим порожденные».
Эти афоризмы помогают Петрашевскому понять самого себя. Он часто перечитывает сделанные записи, смотрит на себя как бы со стороны.
И «со стороны» он разглядел в себе одну особенность. Ум его не задерживается на частностях, он суммирует их и стремится охватить целое, сделать обобщение. Его не занимают мелочи. Это и хорошо и плохо.
Петрашевский уже достаточно пригляделся к сельскому быту. Он видел у соседнего помещика роскошные псарни, где щенков выкармливают грудным молоком несчастные крепостные молодухи. А их дети умирают с голоду. Видел он ослепших кружевниц, для которых вся жизнь была мельканием пальцев и бесконечным плетением узора изо дня в день, с утра до ночи, от лучины до лучины. Он насмотрелся на прикованных к плугам пахарей, отведал крестьянских крапивных щей.
Негодование, стыд гнали его из деревни. В афоризмы он записал: для улучшения крестьянского быта необходимо улучшить помещичье хозяйство и в первую очередь подсчитать, какое количество земли должно быть у помещика, для того, чтобы тот мог прокормиться сам с семьей и с дворовыми. Он подсчитал, что помещичья запашка не должна быть меньше всего крестьянского клина, наивно полагая, что если у помещика будет изобилие собственного хлеба, то он не станет отнимать у крестьянина последний кусок.
Но это частность. Она записана, а его уже мучает общий вопрос. И в этом общем — главное, первостепенное: освобождение крестьян, забота об «образе устройства» их.
Об этом он будет думать всегда.
Но пора и возвращаться. В деревне Петрашевский отдохнул, хотя и не разрешил ни одной проблемы. Зато пополнил запас наблюдений, почерпнул новые идеи.
В Петербурге его ждет защита диссертации. Уезжая из столицы, он договорился со своим хорошим знакомым Орловым, что тот за 100 рублей ассигнациями напишет ему диссертацию на тему о развитии духа аристократии в России. Орлов человек исполнительный, к тому же нуждающийся в деньгах.
В деревне он совсем забыл о диссертации и экзаменах. А если Орлов подведет? Что же, неприятно, но у него есть сочинение, написанное уже давно. Пожалуй, оно вполне отвечает требованиям кандидатской диссертации.
Июльская жара начисто вымела Петербург. На улицах сонные городовые да дворники. В университете пусто, профессора не вылезают из своих дач и только изредка собираются на заседания совета.
Орлов не подвел, диссертация написана, и можно отправляться к профессору Рождественскому.
Петрашевский спешит с диссертацией. Он должен еще в августе ее защитить.
Совет университета, рассмотрев диссертацию, нашел ее неудовлетворительной и предложил Петрашевскому написать новую. Но писать некогда. Петрашевский вытаскивает студенческое сочинение «Теория образования юношества в России». Профессор Рождественский дает одобрительный отзыв. Окончательное решение зависит от профессора международного права Ивановского, ведь он является главою ученого совета.
Петрашевский знаком с ним по лицею, тогда Ивановский читал политическую экономию и статистику. Читал живо, интересно, не то что остальные лекторы.
Но Ивановскому диссертация не понравилась, он счел, что она не проникнута «довольно духом учености».
Петрашевский разозлился. В конце концов он не может угодить на всех, и его сочинение ничуть не хуже остальных диссертаций. Профессор Ивановский покровительствует студенту Гейнрихсону, за уши тащит его в кандидаты. А Гейнрихеон тупица тупицей.
Он даже не умеет молчать, когда нужно. Сам и рассказал, что Ивановский дал ему из архива чью-то работу, велел своей рукой переписать, и теперь Гейнрихеон спокоен, профессор тоже. Ну, ничего, Петрашевский еще напомнит профессору о себе. Он напишет такое сочинение, от которого за версту будет нести «духом учености».
Прежде всего его работа должна пестрить ссылками. И он будет ссылаться на сочинения, никогда в природе не существовавшие. Во-вторых, в пику профессору он проведет в работе мысль о том, должен ли ученый «основывать свои мнения на сочинениях других, в которых нет здравого смысла, или на собственном здравом смысле». И пусть Ивановский попробует отказать ему в степени.
19 августа 1841 года Михаилу Васильевичу был вручен кандидатский диплом. В отличие от лицейского в нем было написано, что Петрашевский признан «достойным степени кандидата юридического факультета» «во уважение примерного поведения и отличных успехов».
Кандидат юридического факультета ожидал теперь некоторого повышения по службе и особенно увеличения жалованья. Матушка стала просто невозможна в своей скупости. Сестра Александра так плохо питается, что едва держится на ногах. Михаил Васильевич несколько раз обращал на это внимание матери, но в ответ слышал только брань. Вообще отношения с матерью расклеились вконец. Она запретила ему являться в дом, когда у нее гости, дает три рубля и требует расписку. Хорошо, что у него имеется свой скромный домик, куда мать демонстративно не заходит.
Теперь, когда он кандидат юридического факультета, можно сделать попытку войти в большую литературу. Нет, не романами и не стихами, а научными статьями, критическими обзорами.
У него накопился большой запас положительных знаний, и он даже наметил ряд тем, которые разовьет в первую очередь.
Самый лучший выход — это основать собственный журнал.
Для этого нужны деньги. Они найдутся. Найдутся и нужные люди, он познакомится со многими писателями.
Их заинтересуют его наброски, которые так и названы — «Запас общеполезного».
В Швейцарию, в Швейцарию!
Спешнев как будто очнулся от паточной сладости этих двух «медовых лет». Нет, он не разлюбил Анну и очень любит маленького кудрявого сынишку. Он похож на отца. Мать утверждает обратное. Но это неважно. Два года в Финляндии подготовили Спешнева к тому, чтобы окунуться в жизнь общественную. Он пополнил пробелы в своем образовании, стал убежденным демократом-республиканцем.
И теперь хочет своими глазами увидеть республику, подышать ее воздухом. Тем более что Анне необходимы горы Швейцарии. А Швейцария пока единственная страна, в которой, во всяком случае, нет монархической власти и идет борьба между демократами-республиканцами и консерваторами.
Спешнев должен участвовать в ней.
Шикарный, щеголеватый Петербург. Среди других городов Российской империи он выглядит, как сверкающий гвардеец в безликой массе армейской серости.
«Казовою его улицей был Невский проспект, на котором весь Петербург собирался от 2 до 3-х часов. Эго было действительно что-то блестящее, нарядное, праздничное. Особенный блеск Невскому придавали кавалергарды, кирасиры, гвардейская кавалерия с ее золотыми и серебряными касками, медвежьими шапками гусар, цветными киверами улан, лязгом сабель, которые для шику кавалеристы волочили по земле, звоном шпор. Штатские… на Невском как-то совсем не были заметны. Они исчезали среди военных.
Невский оканчивался Аничковым мостом, и блестящий Петербург, высыпавший на Невский для прогулки, за Аничков мост не переходил».
Утром и после трех проспект горбится казенными шинелями, тускнеет и очень спешит.
Но в начале 40-х годов был один день, когда от двух до трех на Невском в сверкание золота и серебра вкрапливались серые, черные, бежевые пятна. Они походили на нелепые заплаты. К трем часам заплаты исчезали, и Невский вновь сиял. Это бывало 25-го числа каждого месяца.
В этот день от двух до трех в кофейных получали очередной номер «Отечественных записок» с очередной статьей Виссариона Белинского.
И кофейные напоминали потревоженные улья. «Тяжелый нумер рвали из рук в руки. „Есть Белинского статья?“ — „Есть!“ — и она поглощалась с лихорадочным сочувствием, со смехом, со спорами… и трех-четырех верований, уважений как не бывало».
Рушились старые кумиры, былые авторитеты на глазах линяли, теряли свое пышное парадное оперение.
Белинский говорил о литературе, но все время имел в виду российскую действительность.
Еще совсем недавно, в конце 30-х годов, он готов был ее оправдывать, но потом понял свою ошибку, очнулся от тяжелого сна, навеянного философией Гегеля, и яростно взялся за критику этой действительности.
Но разве можно было ее осуждать вслух, публично? Конечно, нет. Приходилось хитрить, прибегать к эзопову языку. Иногда от этой гнусной действительности критик готов был «лаять собакой, выть шакалом», а обстоятельства заставляли его «мурлыкать кошкою, вертеть хвостом по-лисьи».
Но он «мурлыкал» так, что умевшим читать и думать становилось ясно: в литературе, в общественной жизни только то достойно уважения, признания, всяческой поддержки, что служит делу освобождения народа, осуществлению его вековых чаяний.
Белинского читали и друзья его и враги. Читать умели и писатели-шпионы вроде Булгарина. Умели думать и те, кто готов был зубами и когтями цепляться за монархию, крепостничество. Читали Белинского Дворянчики-либералы, торжественно провозгласившие себя защитниками и поборниками истинно славянских начал. Они пели гимн православию, были готовы освободить крестьян, лишь бы крепостные не освобождались сами, и мечтали собрать в единую федерацию все славянство под скипетром русского самодержца.
Их называли «славянофилами». Они тянули Россию к допетровским временам, ханжески противопоставляли все русское всему западному, отращивали бороды и одевались в старомосковские длиннополые ферязи. И пуще всего боялись, чтобы в России по примеру Запада не вспыхнула революция. Заклинаниями, травлей всего передового хотели ее предотвратить.
Читали Белинского и «западники». Среди них Виссарион Григорьевич имел много друзей, корреспондентов, но не единомышленников.
Белинский приветствовал революционный Запад, революционный народ. «Западники» указывали на пример европейских буржуа. Из революций на Западе они сделали четкие выводы: чтобы предотвратить народные восстания, нужны буржуазные реформы. «Западники» нападали на «славянофилов», «славянофилы» на «западников», но и с теми и с другими, равно как и с откровенными мракобесами-монархистами, боролся только Белинский. Кроме Герцена, у него почти не было помощников, но зато день ото дня росло число людей, сочувствующих его идеям, проникающихся сознанием необходимости борьбы, и прежде всего борьбы с крепостничеством и самодержавием.
Отнять у Петрашевского книжку «Отечественных записок» не так-то легко. Михаил Васильевич обладает недюжинной силой. А потом это борьба в шутку, и от смеха противники падают на стулья. «Отечественные записки» летят на пол. Петрашевский встретил в кофейной лицеиста Михаила Салтыкова. Когда Петрашевский уже кончал лицей, Салтыков был только в младших классах. Но, несмотря на разницу в летах, они по лицейскому обычаю говорят друг другу «ты».
В кофейню обоих заманил Белинский. Для Салтыкова этот поход может обернуться крупными неприятностями. Лицеисты только что получили разрешение на отпуска домой или к родственникам, и если кто-либо узнает, к каким «родственникам» забрел Салтыков, скандала не миновать.
Но всем хочется скорее прочесть памфлет Белинского на Шевырева. Шевырев в статье «Взгляд на современное направление русской литературы…» взялся обозреть «черные ее стороны». К ним он отнес такие журналистические рептилии, как Булгарин, Греч, Сенковский. И в ту же кучу свалил Белинского. На его описание Шевырев не пожалел красок. Виссарион Григорьевич у Шевырева выступает в облике «безыменного рыцаря, в маске и забрале, с медным лбом и размашистою рукою, готового на всех и на все и ни перед кем не ломающего шапки».
Критик негодовал, что Белинский «не хочет уважать никаких преданий, не признает никакого авторитета, кроме того, который он сам возведет в это звание».
Ну и отделал же его Виссарион! Памфлет называется «Педант». Шевырев — учитель словесности, поэт и критик Лиодор Ипполитович Картофелин. А громит Белинский реакционеров из когорты министра народного просвещения Уварова, «славянофилов». Он создал тип злобного юродивого, подвизающегося в литературно-критических кругах. Как он их: «Слог его… дик до последней степени. Желая поднять до седьмого неба повести своего приятеля, он говорит, что его приятель выдвинул все ящики в многосложном бюро человеческого сердца». Ну, конечно же, Белинский намекает на рецензию Шевырева о Н. Павлове. «Начиная восхищаться родиною, он делает вопросы, вроде следующих: что если бы наша Волга, забрав с собою Оку и Каму, да соединившись с Леною, Енисеем, Обью и Днепром, влезла на Альпы, да оттуда — у-у-у-у-у! на все концы Европы: куда бы девались все эти французишки, немчура?..»
Пух летит ото всех этих русофилов, для которых патриотизм в том и состоит, что «если бы да кабы» да трахнуть по Европе.
Петрашевекому хочется следовать за Белинским и именно со страниц журнала донести до слушателей все те идеи и мысли, которые накопились и которые многим откроют глаза на многое. Конечно, он не обладает ни знаниями, ни опытом Белинского, ни его метким пером.
Но разве Петрашевский собирается соперничать с великим критиком? Нет, его задача скромнее. Журнал, об основании которого он мечтает, будет «…Журнал русский и для русских, а потом для Европы. Показать общие начала всех наук и обратить наибольшее внимание на те науки, которые имеют наибольшее значение в общежитии и влияние на его развитие, как-то: история, словесность, политическая экономия и философия и т. п. Главное же возбудить, разбудить, вызвать чувство народности и самобытности во всех отношениях, главной мыслью, главной идеей, главным предметом должна быть Русь. И это начало должно быть развиваемо во всех направлениях».
Эту мысль Петрашевский вынашивал давно, делился ею пока только с Орловым, с ним обсуждал и планы будущего издания. Но, конечно, Петрашевскому и Орлову вдвоем его не поднять. На это у них нет денег, не хватает и литературных связей. А без них трудно рассчитывать хоть на какой-либо успех журнала.
Встреча с Салтыковым была как нельзя кстати. Через полтора года Михаил Евграфович заканчивает лицей. Уже сейчас он один из претендентов на лицейский престол муз. Его стихи появляются в «Библиотеке для чтения», и что главное: Салтыков знаком с Белинским.
Конечно, Петрашевский и не мечтал о том, чтобы привлечь известного критика к участию в предполагаемом издании, но мысли Виссариона, его взгляд на явления жизни общественной во многом могут служить путеводной звездой для начинающих журналистов.
Белинский не имеет возможности высказывать в печатных статьях свои идеи. Зато в кругу людей близких он рассыпает их, как жемчуг.
Салтыков хороший собиратель, и он вхож в дом М. Языкова, где частенько бывает Виссарион Григорьевич. Михаил Евграфович должен стать «лазутчиком» в стане друзей.
Конечно, эти сборища совершенно напрасно окрестили «петербургским кружком» Белинского. Людей, близких к Виссариону Григорьевичу, там почти не бывает. Но Салтыков приходит не ради них, даже более того, он уверен, что эти люди, лезущие, набивающиеся к Белинскому в приятели, в любой момент предадут его и вообще они потенциально «стадо свиней». Но слушать Белинского, пусть даже из комнаты, противоположной той, где собрались гости, никем не замеченным, обдумывать каждое его слово — это ли не наслаждение, это ли не университет!
И, конечно, Салтыков с удовольствием поделится всем, что услышит.
Петрашевский втайне надеется, что через Салтыкова он сможет познакомиться и с Виссарионом Григорьевичем.
На примете у Михаила Васильевича еще два лицеиста — Засядко и Степанов. Особыми талантами они не блистают, зато могут помочь деньгами, связями. Наезжая в лицей, Петрашевский никогда не отказывал себе в удовольствии собрать группу молодежи и убежать с нею куда-либо в чащу парка, где нет расчищенных дорожек и подстриженных клумб.
Слушали жадно, ведь большей частью Петрашевский говорил об идее братства, общего труда, общей жизни, полного удовлетворения всех потребностей. Говорил без обиняков и очень красноречиво. Лицеисты чувствовали себя немного заговорщиками, пробравшимися в царский сад и поносящими деяния царя.
Целый год бился Михаил Васильевич, пытаясь создать журнал. Нелегко расставался он с задуманным, проявляя похвальное упрямство. Верил, что рано или поздно сумеет заговорить полным голосом.
И к этому тщательно готовился.
Журнал или кафедра. Для пропаганды передовых, прогрессивных идей нет других способов. Но и в журнал и на кафедру нужно прийти уже с готовыми решениями.
«Запас общеполезного» пополнялся мыслями и набросками.
В первом номере журнала обязательно должна быть программная статья.
Статью Петрашевский условно озаглавил «Критика критик». Заглавие было не случайным, ведь в журналах именно критические обзоры заменяли собой отсутствующие отделы внутренней и международной жизни, публицистику. Это была кровавая дань цензуре, не пропускавшей никаких статей, где бы говорилось о насущных явлениях общественной жизни.
Петрашевский замахнулся широко. Теория критики, ее назначение, «какой она должна быть и может быть, мимоходом, какою она была или бывала». От глубокой древности и до наших дней. Древность интересна тем, что позволяет дать уничтожающий обзор «деяний апостольских», на примерах показать, как верования заменяют убеждения и оставляют людей в темноте и невежестве.
Статья так и не была написана. Но наброски иных тем продолжались.
Петрашевского интересовало буквально все. И судьбы Польши, если бы последняя получила автономию, и проблема необходимости уничтожить наследственность духовного звания, упрощение механизма государственного управления и женский вопрос. О Польше и духовенстве он вспомнил, тайком читая донесения следственной комиссии по делу декабристов. Ну, а что касается женщин, то Петрашевский был невысокого мнения о них. Ведь недаром же в русском языке все «худые свойства» обязательно женского рода: «зависть», «злоба», «ненависть», «ревность».
Хотя, перечитав Жюля Лешевалье, последователя Сен-Симона, ставшего затем фурьеристом, Петрашевский несколько смягчился и признал за женщинами право на эмансипацию.
С журналом так ничего и не получилось. Да и могло ли быть иначе, когда правительство не только не разрешало новых изданий, но всячески старалось сократить число старых.
Это была первая и очень чувствительная неудача. Петрашевский за годы после окончания университета, за годы запойного чтения, лихорадочных поисков своего жизненного поприща убедился, что прежде всего необходима пропаганда и пропаганда.
Задумывался ли в эти годы Михаил Васильевич над средствами, с помощью которых можно изменить российскую действительность? Конечно, думал. Думал он и о революции. Его духовный учитель — Фурье — отрицал революционное действие. Но другой учитель и «властитель дум» — Белинский, нигде не обронив этого слова, всем ходом своих размышлений над явлениями русской литературы как бы подводил читателей к невысказанному выводу — да, только революция, только «маратовская любовь» к человечеству может очистить авгиевы конюшни российского царства.
Не случайно Михаил Васильевич читал и перечитывал, настоятельно рекомендовал своим знакомым плохонький перевод не слишком чистоплотной книжицы аббата Баррюэля «Вольтерианцы, или история о якобинцах, открывающая все противухристианские злоумышления и таинства масонских лож, имеющих влияние на все европейские державы. С французского последнего издания в 12 частях».
Аббат отрицал революцию как закономерность исторического развития, как действие народных масс и все сводил к злоумышлениям заговорщиков.
Но Петрашевский в такую революцию не верил. Пример декабристов был еще очень свеж.
И недаром Михаил Васильевич задумывался прежде всего над средствами пропаганды идей социалистических. Пропаганда предшествует революции. Она и только она подготавливает ее.
Но как вести пропаганду?
Чиновничья карьера ему окончательно опротивела. После защиты диссертации он стал коллежским секретарем, жалоцанье его увеличилось до 495 рублей серебром, а впереди маячил чин титулярного советника. Но тупая, невежественная, за редким исключением, среда чиновников, вечная беготня по делам иностранцев, столкновения с полицией надоели. Он тратил время, оилы, нервы, а толку никакого.
Если не удалось создать журнал, то остается еще кафедра. Преподавание тоже могучее средство пропаганды.
Некоторые прекраснодушествующие интеллигенты полагают, что просвещение народа — забота, лежащая исключительно на одном правительстве. Это утопия. В лучшем случае уваровское министерство «народного затмения» введет школы первоначального обучения. Впрочем, Петрашевский в этом тоже сомневается. Во-первых, школ таких должно быть множество, во-вторых, было бы глупо надеяться на царское правительство, царские министерства, которые «под видом покровительствования образованности и просвещения тысячами тайных инструкций и инквизиционных учреждений стараются всячески остановить умственное развитие тех народов, забота о благе которых должна бы была составлять их единственное и исключительное старание…».
Недаром он еще в студенческие годы писал: «Презрение и ненависть к ним должны священным долгом быть каждого человека, в сердце которого не умерло сознание человеческого достоинства».
А что, хорошо сказано!
Петрашевский перебирает свои старые заметки. Они лежат пока мертвым грузом. А ведь сколько дельных мыслей записано тут! О свободе книгопечатания, без которой невозможно развитие образования. Да и гласность судопроизводства совершенно необходима. Быть может, повседневное ознакомление самых широких кругов общества с судебными делами, при гласности суда, подскажет мысль, что большинство преступлений совершается именно по невежеству. Необразованные не знают, как законным путем достичь «своих целей».
Нет, он верит в силу просвещения, как верили в него лучшие умы человечества. И ему невыносимо чванство тех, кто кичится своим невежеством. Господи, а ведь невежд на самых высших ступенях государственной службы хоть отбавляй. Это он заметил еще в первые годы своего пребывания в министерстве иностранных дел. Российский канцлер, глава министерства Нессельроде — карлик с карликовым умом и злобой великана. Для него Россия — мачеха, хотя и родная мать не могла бы его обласкать больше, чем российские императоры. Но он мстит России за ее силу, ее могущество. А для мести не нужно быть слишком просвещенным. Да что Нессельроде! Если взглянуть на «любого министра — можно сказать, что всякий из них почти совершенный невежда по своей части. Так что, право, иногда кажется, что будто бы у нас совершенное неведение в каком-нибудь предмете есть наилучший патент к публичному признанию знающим в этой части и несомненный путь к общественному почету и уважению».
Стоит ли хранить эти обрывки статей, разрозненные записи? Ведь они могут случайно попасть в руки недоброжелателей, и тогда еще один тупоумный генерал с удовольствием узрит в них «сокрушение основ» и упечет раба божьего Михаила в тартарары.
Но Петрашевский не уничтожил записей. К ним только прибавилась еще одна:
«И горька бывает часто судьба того, кто, подобно проповедникам первых веков христианства, осмеливается убеждать нравственных язычников в ничтожестве предметов их боготворения, кто осмелится называть их идолов не богами, а идолами. Миллионы рук на него поднимутся, дождь камней польется на него, и его, как учеников истинного Христа, обвинят в проповеди безбожия, проклянут всенародно, как атеиста, и причтут в заключение к сонму святых антихриста. Просим покорно после этого рассуждать и думать, говорить истину! Что станешь делать с предубеждениями, где найти тот суд, где была бы принята на него апелляция противу приговора, им произнесенного?.. Страдай, гибни, несчастный, осмелившийся вернее других смотреть на предметы. Ты осужден на мучение. Зачем осмелился подумать об истине, дерзнул внимать словам разума? Кто осмелится за тебя, осужденного как преступника, молвить слово защитительное, где найдется тот смелый адвокат, который дерзнет если не сказать, то хоть подумать о запретительном слове истины, приговоренной к торговой казни, к ссылке на каторгу прежде предварительного следствия о действительности ее виновности? Вот образчик общественного правосудия, сатанинской насмешки над природой и человечеством. Вот кодекс общественной добродетели, вот сама добродетель — идеал высокий, истинный, начертанный рукою древних философов человеческого совершенства в его осуществлении. Вот вам патент, за который не взыскивается нигде привилегиальной таксы, грамоты на общий почет и уважение».
Петрашевский твердо решил начать педагогическую деятельность. Вот тогда-то эти записи станут бесценными, воскресят в памяти прочитанное, пережитое, выношенное.
16 октября 1844 года Михаил Васильевич вопреки обыкновению явился в министерство к началу присутствия. Сегодня начальство должно решить вопрос о предоставлении ему права на преподавание. Формально кандидат юридического факультета обладал этим правом и без начальственного благословения, но ведь он чиновник и, оставаясь таковым, должен на все испрашивать разрешение. Ну, а если начальство откажет?
Это может означать многое, и притом неприятное.
Свидетельство о дозволении «заниматься в свободные от службы часы преподаванием уроков в казенных учебных заведениях» секретарь передал ему с какой-то кривой улыбкой.
Ужели и здесь стало известно о неприятностях в лицее? Они еще далеко не окончились и могут навсегда закрыть Петрашевскому дорогу к кафедре.
Еще не имея в руках этого свидетельства, Петрашевский написал главнозаведующему лицеем принцу Ольденбургскому письмо с просьбой принять его на должность преподавателя юридических наук. Теперь, когда лицей перевели из Царского Села в Петербург, он легко может совмещать исполнение своих служебных обязанностей в министерстве с преподаванием.
Принц был несказанно удивлен прошением. Петрашевского он не знал, но знал о Петрашевском все, что можно вычитать в лицейской канцелярии. Он отказал в должностях преподавателей куда более достойным, нежели этот бывший лицеист.
Правда, Петрашевский имеет великолепную рекомендацию университета и уж, наверное, возлагает надежды на милейшего генерал-майора Броневского, сменившего на посту директора Гольтгоера. При старом директоре Петрашевскому рассчитывать было бы не на что, новый известен всему Петербургу своей добротой, служебным рвением и типичной генеральской безграмотностью.
Ну что же, пусть новый директор войдет в «ближайшее сношение» с Петрашевский.
Хоть Броневский и недалек, но должен же он понимать нежелательность пребывания этого господина в стенах Александровского лицея.
А
Начальство, ничего не подозревая, но следуя уже заведенному после разгрома лицеистами царскосельского сада и избиения инспектора Оболенского обычаю, учинило обыск. И, о ужас! У одного лицеиста найдено остроумное, меткое и «возмутительное» либретто к опере-буфф «Поход в Хиву». Кого только не высмеивал автор, но особливо лиц власть предержащих.
И, конечно же, брата нынешнего министра внутренних дел — предводителя хивинской авантюры Василия Перовского.
Начались повальные допросы. Занятия срывались.
Наконец, воспитанник младшего курса Алексей Унковский признал себя автором.
Допросы продолжались, «следователей» интересовало, где этот пятнадцатилетний юнец мог набраться «суетных идей», проникнуться скепсисом в отношении веры, дерзновенным осуждением существующих общественных порядков?
Генерал Броневский принял Петрашевского.
Над огромным письменным столом склонились две лысины. Одна — маленькая, розовенькая, слегка обрамленная седым пушком, другая — огромная, величественная, искусно замазанная краской — и есть и нет ее. Одна принадлежит генералу Броневскому, сидящему за столом, другая аляповато-помпезному портрету императора Александра I, висящему над, столом.
Петрашевскому кажется, что он разговаривает с портретом. У того надтреснутый голос, а лицо холодное и неподвижное.
Генерал знает силу воздействия портрета на собеседников и охотно прячет за царской порфирой свою глупость. Если бы не его императорское величество, в бозе почивший государь, то генерал просто не знал бы, о чем говорить с Петрашевским. Как-никак кандидат юридического, а генерал из всей юриспруденции только и усвоил: провинившихся в карцер, на гауптвахту.
Этим шалунам лицеистам частенько приходится одумываться в карцере.
Принц задал генералу задачку — поговорить с Петрашевским. О чем с ним говорить? Ведь выяснилось же, что безнравственный мальчишка Унковский сговорил его внука Константинова да Александра Бантыша. И эти бездельники, отправляясь на праздники к родственникам, по пути забегали к нему, Петрашевскому.
От него, от него они набрались предерзостных настроений. Он прельстил их умы обаянием новых идей.
— Бываете ли вы у святого причастия?
Или генерал действительно глуп, или все говорится с задней мыслью. Петрашевский смотрит на портрет императора. Царь немного склонил голову набок, и приятная полуулыбка раздвинула его рот.
Это плохо. С полуулыбкой, император отправлял людей на казнь.
Генерал встал.
О беседе с господином Петрашевским он будет иметь честь доложить принцу.
Петрашевский понял, что ему отказано.
«Происшествие» в лицее могло плохо окончиться для начальства. Хотя лично принцу Ольденбургскому ничего не угрожало, но «либеральные выходки» учеников, состоящих под его попечительством, накладывали тень и на члена императорской фамилии.
Константинова высекли, Бантыша исключили еще до всей этой истории с либретто, ну, а Унковского «за безнравственное поведение» изгнали, хотя сам виновный считал, что отделался легко.
Но как донести властям об этих прискорбных событиях? Ведь если с. — петербургский генерал-губернатор Кавелин назначит ревизию в лицее, то мало ли еще какие прегрешения откроются. Лицеисты читают запрещенные книги, и воспитатели никак не могут обнаружить, где они их добывают. Захаживают учащиеся и в дома, которые давно состоят на подозрении у полиции.
И принца осенило. Петрашевский! Всему вина этот человек. Обратить внимание генерал-губернатора и Третьего отделения на Петрашевского и отвлечь их взоры от лицея.
Генерал-губернатор до сей поры никогда не слышал фамилии Петрашевский. Принц считает, что пребывание этого человека в Петербурге даже опасно для воспитанников учебных заведений. Принц в личной беседе с Кавелиным настаивает на своем мнении и очень глухо при этом ссылается на «происшествие».
Кавелин ничем не обнадежил инспектора лицея.
Но, помимо генерал-губернатора, есть еще и Третье отделение.
Шеф жандармов, граф Орлов, отнесся к доносу принца более внимательно. Как-никак член императорской фамилии просит «унять» «говоруна».
За Петрашевским был учрежден секретный надзор, с тем чтобы разведать, какого он «поведения, какие знакомства, кто бывает у него в гостях и чем занимаются».
Два месяца шпионы личной канцелярии его императорского величества принюхивались к домику в Коломне, подслушивали в министерстве, выспрашивали… и ничего предосудительного обнаружить не смогли.
Петрашевский чувствовал что вокруг него увиваются какие-то подозрительные личности, плетется паутина. Он стал немного осторожней и уже больше не делал попыток получить преподавательское место в казенных учебных заведениях.
Комнаты дома на Морской у Синего моста напоминали картинную галерею. Мифологические сюжеты, портреты в романтической манере Кипренского. Обольстительные «вакханки». «Купальщицы» брызгаются водой и свежими, сочными, яркими красками. Все картины подписаны одним именем — Николая Аполлоновича Майкова, академика живописи. Дух классицизма и обеспеченности царит в этом доме.
Два сына, академика — Аполлон и Валериан — не унаследовали от отца ни склонности, ни таланта живописца. Оба они одержимы страстью к литературе.
Аполлон пишет «антологические стихи». Традиционные мифологические образы. Немного слащавые, но, бесспорно, оригинальные строки как бы иллюстрируют полотна старшего Майкова. Валериан не интересуется античностью, зато прекрасно знает политическую экономию. В 1842 году он закончил юридический факультет Петербургского университета. Потом семь месяцев прожил в Германии, Италии, Франции, продолжая совершенствовать свои познания в философии, политической экономии, истории.
Валериан Майков готовится стать литературным критиком. Будучи человеком самонадеянным, он всерьез рассчитывает на славу не меньшую, чем у Белинского, но достичь ее собирается иными путями, разрабатывая новую «экспериментальную эстетику», требующую от искусства пропаганды практических знаний.
Майков скептически относится к современным системам социалистов, не верит в возможность и необходимость уничтожения частной собственности, частного дохода и даже считает, что это противоречит прогрессивному развитию людей.
В 1844 году Валериан еще не успел поведать свои взгляды читающей публике, но искал к этому случая.
И случай подвернулся. В 1844 году группа литераторов, в том числе и Аполлон Майков, задумала издать энциклопедический словарь.
Валериан взялся за составление словника.
Он предъявлял очень высокие и серьезные требования к энциклопедическим словарям. Тем более что потребность в них остро ощущалась в эти годы пробуждения интересов читающих людей ко всем явлениям общественно-политической, научной и философской мысли.
Майков задумал словарь с явно философским уклоном, чтобы оповестить всех о новых идеях и способствовать «уничтожению устарелых» представлений.
Валериан Николаевич считал необходимым пронизать всю энциклопедию «единой общей мыслью», то есть дать освещение слов, понятий, явлений с определенных философских позиций. У него перед глазами был пример энциклопедии Пьера Леру и Ж. Рейно. Пьер Леру использовал энциклопедию для пропаганды социалистических и демократических идей и менее всего заботился, насколько его издание отвечает справочному назначению.
Но Майкова постигла неудача. Издатели были знакомы с учением Леру и отнюдь не сочувствовали ему.
Валериан вынужден был прекратить сотрудничество с консервативными литераторами. Но идея издать пропагандистский энциклопедический словарь продолжала занимать и тревожить его.
Петрашевский анализировал свои неудачи. Почему ему не доверили ведение журнала, почему он оказался неподходящим лицом для преподавания в лицее?
Ответ напрашивался сам. Видимо, образ его мыслей, его убеждения, столь резко расходящиеся с официальной идеологией, стали известны не только ближайшим знакомым, но и лицам, от которых во многом зависят судьбы верноподданных Российской империи. Он должен был честно признать, что не делал попыток скрывать эти мысли и убеждения. Они ничего бы не стоили, если бы оставались только при нем и не стали достоянием многих.
Но разве он делал какие-либо сознательные попытки пропагандировать эти идеи? Нет! Не скрывать мысли — это еще не значит их пропагандировать. А между тем те, кто умеет слушать, очень быстро их восприняли и сделали насчет Петрашевского соответствующие выводы.
Но ведь должны же быть люди, которым так же, как и ему, близки идеалы социалистического переустройства человеческого общества, кто видит страшные, гангренозные язвы отечества и болеет за него душой. Есть, есть такие люди! И их немало. Но они, вероятно, до поры до времени таятся. Быть может, присматриваются к Петрашевскому.
Он должен собрать их вместе.
И Петрашевский не стал осторожничать, прятаться. Он продолжал «открывать» людей. Это было не так-то просто — многие не хотели быть откровенными, приглядывались к «неутомимому говоруну», стараясь разобраться в нем. Не дай бог попасться на какую-либо провокацию.
Петрашевский искал людей повсюду. Он терпеть не мог карт и редко посещал гостиные, где жизнь сосредотачивалась вокруг зеленых ломберных столиков. Но уж если садился за карты, играя «по маленькой», то делал это с увлечением, с азартом. В клубах, где без карточной игры не знали, куда себя девать, Петрашевскии заводил разговоры и внимательно следил, кто прислушивается к его словам, кто им сочувствует.
У него еще не было какого-либо определенного плана, но не пропагандировать он не мог. И здесь тоже сказывалась его порывистая, увлекающаяся натура.
Потомственный дворянин Петрашевскии охотно посещал мещанское танцевальное общество, хотя не мог похвастаться успехами в искусстве шарканья по паркету. Бывал он и в танцевальных классах. И всюду вглядывался в людей.
Обедая в отелях или у знакомых, он часто забывал о еде, пускаясь в споры. И спорил с задором, взахлеб, но без обидных для собеседника выпадов, с неизменным радушием. Вступая в спор, Петрашевскии иногда нарочно высказывал крайние мнения, чтобы его оппонент разгорячился и выговорился до конца. Это была разведка боем. Поэтому-то Петрашевскии спокойно выслушивал любую критику в свой адрес и забывал о человеке, если тот оказывался глупцом, рутинером или просто равнодушным.
Круг знакомых расширялся день ото дня. Петрашевскии вспоминал лицейских однокашников и неожиданно после нескольких лет совершенного о них неведения, никогда не встречаясь с ними в обществе, вдруг забредал к обеду, шел с визитом в праздник. У него не было близких друзей, да он и не стремился теперь их завести. Где-то когда-то Михаил Васильевич вычитал, что «в характере животных слабых ходить стадами, сильных — одиноко».
А Петрашевскии был сильный. Одиночество его не угнетало, хотя иногда тоска по близкой «теплой» душе прорывалась и у этого железного человека. Никто не знал, что ночами, читая, думая, он вдруг останавливался на какой-то поразившей его мысли, фразе, слове, начинал их повторять, повторять, пока не находил внутреннего ритма. И его тянуло записать этот ритм на бумаге, выразить словами. Так складывались немного неуклюжие и очень рационалистические строфы. «И никто обо мне, как седой старине, не расскажет потомкам далеким. Умру я, как жил, средь людей одиноким».
А молодость подкарауливала на каждом шагу. Она скрашивала неряшливость костюма, светилась в прищуре умных черных глаз, любила шутку, острое слово. Родители втайне мечтали женить сына и нет-нет да присматривали «подходящую партию».
Петрашевскии и сам иногда чувствовал брожение в крови, становился задумчив, тщательно расчесывал бородку и изменял сомбреро, но уверял себя, что если он и заведет «интрижку», то только «с чисто политической целью, чтобы увлечь женщину своими идеями».
Невысоко ставя умственные способности прекрасного пола, Михаил Васильевич отдавал должное пропагандистскому искусству женщин. Не красноречие, не убежденность, а какая-то дьявольская сила сидит у них внутри. И если сами женщины для осуществления идеалов были непригодны, с его точки зрения, то как разносчики идей они, бесспорно, превосходили мужчин.
Богатая вдовушка с 5 тысячами крепостных охотно стала бы женою Петрашевского. Но ее приданое имело один изъян. Оно заключалось в рабских душах. Петрашевскии хотел их использовать «для общего блага», вдовушка заботилась только о своем.
Свадьба не состоялась.
Штабс-капитан Николай Сергеевич Кирилов служил в гвардейской артиллерии, но к пушкам имел отношение самое косвенное. Он служил «по учебной части» Павловского кадетского корпуса, не был чужд изящной словесности, а также состоял секретарем Общества посещения бедных.
Кто внушил штабс-капитану мысль предпринять издание «Карманного словаря иностранных слов, вошедших в состав русского языка», Петрашевский не знал, но объявление о начале этого издания, появившееся 24 декабря 1844 года в «Русском инвалиде», его заинтересовало.
Михаил Васильевич навел справки и, к своему удовольствию, убедился, что в издании «Словаря» участвуют Валериан Майков и Роман Штрандман. Оба учились в Петербургском университете. И если окончить университет Роман Штрандман не сумел по обстоятельствам семейным, то, во всяком случае, был другом Валериана Майкова. А с Валерианом Петрашевского познакомил его брат — Аполлон.
Михаил Васильевич держал экзамен вместе с Аполлоном и даже интересовался его поэтическими начинаниями. Но Майков-поэт не импонировал Петрашевскому.
Михаил Васильевич считал, что существуют «три рода поэзии: поэзия мысли, чувства и слова». Он «часто встречал последнюю, реже вторую в соединении с последней и весьма редко первую с двумя последними в стройном гармоническом сочетании». Майков, по мнению Петрашевского, был мастером поэзии слова. Ни чувств, ни мысли он в стихотворениях Майкова не обнаружил.
Штабс-капитан, предпринимая издание «Словаря», преследовал прежде всего коммерческие, а не просветительные цели. Он не мог привлечь к участию в «Словаре» видных ученых, так как последние потребовали бы слишком большое вознаграждение. И когда перед капитаном-предпринимателем предстал кандидат юридического факультета, да еще с рекомендацией Валериана Майкова, то Кирилов был несказанно обрадован.
Конечно, издатель целиком полагается на просвещенность молодых людей, но…
Петрашевский успокоил капитана. Он человек состоятельный, и гонорар, который будет ему причитаться за статьи, уважаемый Николай Сергеевич (установит сам.
Господи, штабс-капитан и не мог мечтать о лучшем.
Словник Валериан Майков уже составил, но взял себе далеко не все слова, равно как и Штрандман.
Петрашевский внимательно вчитывался в словник. Да, Майков хочет авторствовать в большинстве статей, связанных с вопросами философии и эстетики. «Анализ и синтез», «Авторитет», «Идеализм», «Журнал», «Критика», «Ландшафтная живопись», «Лаокоон», «Лирика», «Лирическая поэзия», «Литература», «Материализм», «Ода». На долю Штрандмана пришлись: «Естественное состояние», «Анархия», «Дагерротип», «Химия», «Администрация».
Большинство статей мировоззренческих уже распределено. И поэтому Петрашевскому ничего не остается, как написать о словах, на которые не нашлось авторов. Может быть, Кирилов не будет возражать, если Михаил Васильевич — конечно, без всякого дополнительного вознаграждения — возьмет на себя и редактирование?
Николай Сергеевич только собирался сделать такое предложение.
Валериан Майков был не удовлетворен своей работой над «Словарем». Во-первых, даже не успев еще столкнуться с цензурой, он заранее угадывал ее возражения и заранее старался их обойти. При этом приходилось смазывать критику социального устройства общества, где царит неравенство, где люди трудятся не по призванию, а лишь для того, чтобы добыть кусок хлеба, и не знают «блаженного пользования жизнью». А в черновиках все звучало так остро, так обличительно.
Во-вторых, Валериан не был в восторге от того, что Кирилов передоверил редактирование словаря Петрашевскому. Хотя Майков и не даст новому редактору «калечить» свои статьи, но ведь не он один их пишет. Такие, как Кропотов, протестовать не будут. Да и сам Петрашевский выступает как автор. А его-то уже никто не станет редактировать. Значит, в «Словаре» появится разностильность и разномыслие.
Майков едва помнит Михаила Васильевича по университету, но знает со слов брата, что человек он беспокойный, приверженец новейших социалистических систем, к которым Майков относится со скептицизмом.
Первый выпуск «Карманного словаря» вышел в свет в апреле 1845 года. 176 страниц петитом в два столбца. Всего 1 424 слова от буквы «А» до «Map».
«Словарь» буквально обрывается на полуслове.
Майков так и не позволил Петрашевскому пройтись редакторским пером по своим статьям. Они благополучно миновали цензуру, но получились бледные и в большей своей части ограничивались краткой справкой о слове. Там же, где необходимы были философские или эстетические комментарии, Майков выступил как глашатай агностицизма, проповедник пассивного, созерцательного отношения к искусству, к действительности. О пропагандистском боевом задоре и говорить не приходится!
Майков потерял интерес к «Словарю». Толстый журнал — вот поприще, на котором он сможет полностью развернуться. Ему предлагают соредакторство в «Финском вестнике».
Между тем Кирилов настаивает на продолжении «Словаря».
Ведь заметили его, заметили!
Сам Белинский дал сочувственный отзыв. Великий критик назвал первый опыт «превосходным», отметил ум и знания составителей. И призвал всех и каждого «запасаться» «Словарем».
Но Майков от дальнейшей работы отказался. Отказался и Штрандман.
И Петрашевский сделался полновластным хозяином в «Словаре». Он готовил его второй выпуск.
Баласогло долго приглядывался к Петрашевскому. Он боялся и на сей раз обмануться.
Но нет, Петрашевский не способен на «злодеяния». У него душа благородная, возвышенная, а к тому же, несмотря на некоторую эксцентричность, Михаил Васильевич воспитан, и по своему обхождению он, если пожелает того, может быть безукоризнен.
Знакомство состоялось.
И вот сегодня вечером Александр Пантелеимонович приглашен к Петрашевскому на журфикс.
Михаил Васильевич завел журфиксы совсем недавно, после смерти отца, когда окончательно отделился от матушки и сестер и переселился в деревянный домик в Коломне.
Петрашевский предупредил, что будут несколько его старинных знакомых по лицею и университету. Все больше начинающие литераторы, ученые. Собрание без претензий, и Александр Пантелеимонович должен чувствовать себя хорошо.
А потом книги. Это главная приманка, и большинство посетителей коломенского дома привлекает не сам хозяин, а его библиотека.
Александр Пантелеимонович свернул с Невского на Садовую и сразу сбавил шаг. Садовая освещалась скверно. Тротуар выбился, и после холодного осеннего дождика лужи предательски подстерегали жертвы в темных и кажущихся ровными местах.
На Английском проспекте ни души. Покровская площадь и вовсе утонула в грязи и безмолвии. А ведь еще не поздно — девятый час.
Коломна. Странное название для Петербурга. Баласогло даже поинтересовался, откуда это подмосковное, уездное, попало в столицу. Оказалось, что петербургская Коломна к подмосковной не имеет никакого отношения.
Когда-то, вскоре после смерти Петра I, приехал в Россию архитектор и инженер итальянец Джоменико Трезини и начал осушать болото на этом вот месте. На болоте рос лес, и нужно было вырубать длинные просеки.
Трезини называл просеки по-итальянски — «колонны». Но для мастеровых, поминавших болота тяжелым русским словом, «колонны» не звучали. И просеки тотчас переименовали в «Коломны». Так и запомнилась будущим жителям С.-Петербурга эта местность — Коломла.
Хорошо, что Петрашевский указал ориентир — большой пятиэтажный дом, выходящий на угол Покровской площади и Садовой, иначе Александр Пантелеймонович и не заметил бы в этой осенней хмари и тьме маленького двухэтажного строения.
Крыльцо покосилось. Ступени скрипят так, что, кажется, вот-вот рухнут даже под его тяжестью. А Александр Пантелеймонович далеко не богатырь да и ростом невелик. Вонючий ночник коптит конопляным маслом. Запах не из приятных.
Петрашевский радушно встречает гостя. Баласогло немного запоздал, почти все, кто пожелал, собрались.
В «гостиной» раскрытый ломберный столик неприятно резанул глаз зеленым полем сукна. Как будто боевая позиция и с минуты на минуту явятся полководцы, чтобы начать баталию. Но на столе не видно карт.
У стены рыночный диван, несколько таких же стульев.
Вот и все.
Из-за дверей в другую комнату слышны голоса, а в щели пробивается табачный дым.
Кабинет хозяина поражает рабочим беспорядком. Раскрытые книги валяются на подоконнике, грудятся по стульям, теснятся на письменном столе. Много шкафов, этажерок, простых деревянных полок.
И всюду книги, книги!
А на диванчике, стульях и даже верхом на каком-то ящике или комоде сидят молодые люди.
Баласогло никого не знает. Петрашевский знакомит.
Валериан Майков. Баласогло слышал о нем. Но почему-то представлял этого человека, «надежду русской критики», совсем другим и, во всяком случае, не таким болезненным, хилым, с землистым цветом лица. Но, может быть, виноваты свечи?
Пожалуй, нет — рядом с ним примостился совсем еще юноша с румянцем во всю щеку. Он, видимо, жадно слушал — приход Баласогло прервал разговор, и в глазах юноши еще не остыло раздумье.
Это Михаил Евграфович Салтыков.
Верхом на ящике-комоде примостился блондин, стройный, с бледным и, как отметил про себя Александр Пантелеймонович, «туманным ликом».
Мягкие, плавные движения. Вошедший в привычку поворот головы, чтобы уши не пропустили ни слова, беззвучное шевеление губ.
«Поэт», — решил Баласогло и не ошибся.
Перед ним был Александр Николаевич Плещеев. Поэт, еще не успевший попасть в большую литературу.
У окна долговязый мужчина. В руках у него какая-то книга. Баласогло кивнула маленькая голова на длинной шее. Данилевский.
В книжных шкафах рылись еще двое молодых людей.
Александр Пантелеймонович не мог сразу запомнить всех. Но по непринужденности, с какою порхал по кабинету разговор, острой шутке он понял, что присутствующие уже знакомы друг с другом, кое-кто называл хозяина на «ты», и никто не собирался председательствовать, произносить речи или требовать к себе исключительного внимания.
В «гостиной» гремела посуда. Петрашевский, извиняясь перед гостями, несколько раз исчезал из кабинета.
Часам к двенадцати, когда Майков уже начал посматривать на циферблат, а Роман Штрандман откровенно заявил, что ему до дома добираться добрый час, Петрашевский распахнул двери.
— Прошу к столу! Хозяйки в доме нет, а потому…
Ужин действительно был холостяцкий. Закуски, вина, что-то горячее составлены в беспорядке. Каждый уселся туда, где ему удобней, и никто не предлагал тостов, не ожидал, когда наполнят его тарелку, рюмку.
Расходились поздно. Александр Пантелеймонович вдруг обнаружил, что почти у всех гостей в руках книги. Только он не успел осмотреть библиотеку и взять у любезного хозяина что-либо почитать.
Журфиксы Петрашевского, прибавившего теперь, после смерти отца, еще фамилию Буташевич, открыты для всех желающих. Конечно, в первое время его гости должны освоиться, познакомиться друг с другом, обрести взаимное доверие и разговориться. Михайл Васильевич не делает тайны из своих приемов, и поэтому на них непременно появятся случайные люди, которых выгоняет из дому скука. Но случайные быстро отсеются: Михаил Васильевич собирает знакомых не для того, чтобы угощать их сигарами и дешевыми ужинами.
У него на руках издание «Словаря». Хотя Майков и появляется по пятницам, но о «Словаре» он и слышать не желает. Между тем одному Петрашевскому не справиться. Он переработал план издания, не забывая, однако, о назначении «Словаря» как справочника и толкователя обрусевших иностранных слов. Во втором выпуске число слов сокращено почти в три раза. А это значит, что объяснение каждого слова должно развернуться в довольно объемистые статьи. Сокращен и справочный аппарат: в первом издании он был слишком громоздок и занимал много места.
Петрашевский тщательно отобрал слова, близкие друг к другу по этимологии. Если их расположить рядом, то получатся уже не разрозненные объяснения, а целые трактаты, объединенные одной мыслью, одним мировоззрением.
Михаил Васильевич вовсе не собирается дилетантствовать. Объяснение политических терминов в демократическом духе, пропаганда социализма, знакомство русских читателей с учениями Сен-Симона, Кабе, Гольбаха, Луи Блана и, конечно, Фурье — вот цель, во имя которой он корпит ночами, просиживает долгие часы в Публичной библиотеке и собирает по пятницам своих знакомых.
Они должны помочь ему в редактировании и незаметно втянуться в пропаганду передовых социалистических идей.
Но есть у Михаила Васильевича и еще одна мечта. Ею библиотека составилась в основном из книг, запрещенных цензурой. Где еще можно достать Бевуа, «О свободе религии»; или Бернара, «Обнаженная тирания»; Бойе, «О положении рабочих и об улучшении их участи посредством организации труда»?
А последние издания Вилльгарделля «История социальных идей до французской революции»? Книга, право, еще пахнет типографской краской, она ведь вышла всего месяц назад в Париже.
Или Витт «Тайные общества Франции и Италии»?
Да мало ли у него книг!
И Дидро, и Консидеран, Констан, Ламартин, Ламенне, Леру, одних сочинений Прудона восемь книг и почти полный Фурье.
Он может достать все последние новинки, все иностранные журналы. Пропаганда при помощи книг очень действенна. Книги нужны и самим пропагаторам. Ведь у многих, кто хотел бы нести социалистическое слово в широкую аудиторию, в голове еще не все улеглось, им самим нужно образоваться.
Баласогло говорил Петрашевскому, что разработал «проект учреждения книжного склада с библиотекой и типографией».
Петрашевский прочел этот объемистый проект и в основных мыслях согласен с Александром Пантелеймоновичем.
Тот предлагает основать общество ученых и любителей просвещения, — с тем чтобы это общество, в свою очередь, открыло заведение, «которое бы имело целью доставлять способ русским ученым и художникам издавать в свет свои произведения и публике — все возможные удобства к их приобретению». Этого можно было бы достичь с помощью следующих мер:
«1. Учреждения в столице складочного магазина для распродажи книг, существующих или имеющих выходить в свет, на каких бы то ни было языках, и преимущественно на русском.
2. Открытия при этом магазине, для удобства лиц, не могущих или не желающих, по каким бы то ни было причинам, покупать книги, особенной библиотеки для чтения.
3. Издавания на свой счет сочинений, какие только будут доставляемы с этой целью их авторами в рукописях, по предварительном удостоверении общества в их существенном, безусловном достоинстве, или хотя относительной, но неизбежной в них необходимости для русской публики.
4. Издавания на счет авторов всех их произведений, без всякого разбора и исключения, соблюдая только то главное условие, чтоб книги обходились покупателям сколько возможно дешевле.
5. Заведения для всего этого при том же магазине собственной своей типографии с литографиею и другими принадлежностями.
и 6. Заведения сношений и агентов как за границей, так и в самой России, для закупки иностранных книг, узнавания спросов публики и самоскорейшего удовлетворения этих спросрв».
Широко размахнулся милейший Александр Пантелеймонович. Чтобы осуществить его проект, потребуются годы и изменение социальных и политических институтов России. Но кое-что можно сделать уже сейчас.
Например, основать библиотеку в складчину. Об этом Петрашевский успел переговорить с братьями Майковыми и кое с кем из состоятельных чиновников министерства иностранных дел. Майковы готовы внести свою часть капитала в создание книжного склада, чиновники тоже. Но дело что-то не движется — видимо, не набрать таких больших денег. Между тем если на паях приобретать книги, то составится очень значительная библиотека, а взносы могут быть самые доступные.
И Салтыков, и Плещеев, Майковы, Данилевский, Штрандман согласны. Штрандман даже пригласил всех к себе и попросил Петрашевского составить примерный список книг, которые он считает необходимым купить в первую очередь.
В этот вечер у Штрандмана основательно поспорили. Оказалось, что и Валериан Майков да и Данилевский — этот признанный еще в университете знаток системы Фурье — против исключительного приобретения книг по вопросам социально-политическим. Они хотели бы иметь сочинения по естествознанию, политической экономии. Книги эти стоят дорого, между тем Петрашевский рассчитывает, что со временем вкладчиками в его библиотеку сделаются люди менее состоятельные, и поэтому настаивает на покупке не книг, а брошюр и периодических изданий.
Во всяком случае, договорились, что если собрания у Петрашевского будут продолжаться и впредь, то библиотеку на паях создать необходимо. Петрашевский был инициатором этого начинания, ему и поручили продолжать дело.
Работа над вторым выпуском «Словаря» близилась к концу. Много неприятностей доставляют Петрашевскому цензоры. Один, особенно вредный, с точки зрения Михаила Васильевича, и добропорядочный, по мнению начальства, — Крылов — придирается буквально к каждой фразе. Петрашевскому приходится прибегать к самым изощренным уловкам. Он ухитряется так расставлять знаки препинания, что фразы обретают совершенно невинный смысл. Цензор пропускает статью.
А в корректуре Михаил Васильевич меняет запятые, точки — и статья получается обличительной, пропагандистской.
Для того чтобы отбиваться от нападок Крылова, Петрашевский подолгу высиживает в Публичной библиотеке и подбирает для него «цензурованные им в разное время одни и те же статьи, в которых он… делал различные поправки, противоречащие друг другу».
Крылов взбесился и написал на Петрашевского Донос в Петербургский цензурный комитет. Цензор кляузничал, что трудности работы с Петодшевским проистекают «из общего направления статей против существующего порядка в общественной жизни. Редакция вйДит во всём
Крыловым руководил инстинкт, но он не обладал достаточными знаниями, чтобы четко сформулировать, что «Словарь» не что иное, как изложение системы социализма.
Лишь бы цензура не запретила «Словарь» до его выхода в свет. Пусть к читателю дойдет 100–200 экземпляров, Михаил Васильевич считал, что цель пропаганды будет хоть в какой-то своей части выполнена.
Майков не был последовательным материалистом. Петрашевский настойчиво пропагандирует материалистические идеи.
Это легче все было бы сделать в статьях «Материализм», «Мистицизм», написанных еще Майковым. Но не обязательно. Петрашевский пользуется любым удобным случаем, чтобы внушить читателю, что выводы человечество делает, исходя не «из многих предположений априористических, по-видимому необходимых для успокоения духа человеческого, но из опытного, исследования природы человеческой и строгого анализа всех ее потребностей». Это в статье «Мораль».
В основу всякой науки, всякого философского умения должна быть положена не религиозная мистика, а естествознание.
И так в каждой статье. Материализм, опыт, выводы точных естественных наук и никакой поповщины. Но главное — проповедь демократизма и социализма. «Всякое общество, не доставляющее положительно всех нужных средств для всестороннего развития его членов, есть форма быта общественного преходящая, несовершенная и предуготовленная для другой, более совершенной». Так его учили Сен-Симон, Фурье, так и Петрашевский учит своих будущих читателей. Он высмеивает поиски поэтами «золотого зека» и серьезные рассуждения о нем историков-идеалистов. Они ищут «золотой век» в прошлом человечества.
«Не преданием о прошедшем, но сказанием о
Задача сложная, но формулируют ее социалисты просто: нормально развитое общество то, которое «доставляет всякому из членов своих средства для удовлетворения их нужд пропорционально потребностям».
Петрашевский понимает, что о таком обществе писали не только социалисты, о нем сейчас на Западе говорят, спорят и коммунисты. Поэтому читатели должны знать о коммунистических учениях. И он отсылает их к статье «Коммунизм».
Быть может, незаметно для себя самого, размышляя, наблюдая, Михаил Васильевич убеждался в том, что западные социалисты типа Фурье были неправы, отвергая вмешательство социалистических доктрин в политику.
Демократизм и реепублика — эти слова он еще раньше вписал в свои «Афоризмы». Теперь представляется случай развить их. И Петрашевский делает это в статье, которая, казалось, имеет очень косвенное отношение к политике — «Ораторство», «Ораторская речь»!
Развитие или неразвитие ораторства, этого благоуханнейшего и полезнейшего плода общественности, общежительности и публичности, среди разных человеческих обществ, представляемых нам историей, не есть явление случайное, беспричинное, не имеющее своего корня в самых формах быта общественного, т. е. в его гражданских, политических и религиозных установлениях… Не странно ли там искать ума, общечеловеческих полезных открытий, усовершенствований и изобретении, где всякое обнаружение разумности, всякое нововведение было бы чем-то противузаконным, безнравственным, где самая справедливость от века ни на одно мгновение не являлась нелицеприятной, где общественное судилище есть не иное что, как охранительное учреждение для всякой неправды?!. Как это и есть в Турции или Китае!
…Так! полное, не стесняемое никакими общественными учреждениями развитие
Но Петрашевский не уводит читателя в прошлое.
«Золотой век» — это будущее.
А будущее закладывается в настоящем.
«…Так теперь Великобритания, когда бедствия Ирландии и народа дошли до крайних пределов, замечательно явление О'Коннеля как оратора. Сила его речи есть прямой вывод из развития жизни общественной этой страны». «Ораторство» как бы продолжается статьей «Ораторская речь»;
«…Как война родит великих полководцев, так время народных волнений производит великих ораторов. Разительные примеры представляет в этом отношении Франция: бурное окончание прошедшего столетия, период реставрации и 1830 год ознаменовались колоссальными личностями, возвысившимися на поприще народной трибуны.
В различных статьях мы постараемся представить характеристику знаменитейших из общественных двигателей… Так, в статье
Равным образом отсылаем читателей к ст.
Сколько пришлось потрудиться Петрашевскому, чтобы в статье «Национальное собрание» протащить мысль о необходимости введения конституции! Хотя бы конституции и, конечно, уничтожения феодальных институтов. Цензура упорно не хотела пропускать статьи. И Петрашевский схитрил. Он подкурил немного фимиама королю Людовику XVI, а к слову «революция» прицепил «ужасы». Но от этого статья не потеряла своего откровенного пропагандистского характера, и разумным людям было ясно, что речь здесь идет не о Франции, а о России и что это «программа-минимум» для нее. Излагая важнейшие декреты Национального собрания: уничтожение рабства, объявление прав человека, секуляризация церковных имуществ, — Петрашевский как бы подсказывал читателю: вот что нужно России в первую очередь. И дальше, перечисляя пункты конституции:
«…Отделение III. Верховная власть принадлежит всему народу в совокупности и не может быть передана ни одному, ни нескольким лицам.
Отделение II, § 1. Все правительственные должности, как, напр., префекта и т. п., должны быть замещаемы по выбору.
Глава V, § 1. Судебная власть, для большей охраны справедливости решений, не должна находиться в зависимости ни от короля, ни от законодательного собрания.
Глава II, § 5. Всякий суд, уголовный и гражданский, должен производиться публично.
Глава I, § 2. Всякий гражданин может пользоваться полною Свободою, почему и имеет право избирать место жительства странствовать без всякого помешательства со стороны местных властей. Также имеет полное право свободно выражать свои мнения, писать и печатать, не подвергаясь никакому суду или цензуре. Всякий гражданин имеет полное право следовать обрядам какой ему угодно веры и переходить из одной в другую по своему произволу…»
Петрашевский рассказывает и о неграх, закабаленных в Америке. Развеивает в прах расистские теории о природной неспособности негров к общественной деятельности. Впервые в России он говорит о революции в С.-Доминго и республике на острове Гаити. За словом «негр» стоит русский крепостной, тот же раб, также неразвитый, благодаря тому что в империи господствует деспотизм и отсутствует элементарная цивилизация.
Михаил Васильевич прибегает к своеобразному приему. Что-то утверждая, он всем тоном статьи убеждает читателей в обратном. Особенно достается российскому законодательству: «Нашим законодательством (превосходящим своим благодушием, кротостью и простотою европейские законодательства)…» И как такое проглядел цензор? Но Петрашевский умел смеяться. Это он уговорил Кирилова посвятить выпуск «Словаря» великому князю Михаилу Павловичу. Кирилов ухватился за эту мысль: Ведь Михаил Павлович; был начальником военных учебных заведений, а Кирилов служил по учебной части в Павловском кадетском корпусе. Для Петрашевского имя великого князя было еще одним щитом в поединке с цензурой. Но и это не помогло.
Тираж второго выпуска «Словаря» был готов в апреле 1846 года. А через месяц попечитель Петербургского учебного округа и председательствующий в столичном цензурном комитете Мусин-Пушкин демонстрировал свою преданность «престолу и отечеству». «Выражения неприличные», «заключения лживые, и вредные». Курсив обращает, внимание; читателей, на «неблаговидные» фразы.
В общем дело о «Словаре» пошло в высшие инстанции.
Высшие — это министр народного просвещения Уваров.
Тот нашел, что «сочинение наполнено столь многими мыслями непозволительными и вредными, что со стороны цензора, одобрившего ее к напечатанию, сделана большая неосмотрительность».
Издание прекратить. Из типографии изъять. Цензору выговор. Из книжных магазинов, только не возбуждая слухов, «партикулярно» откупить.
Кирилов напуган. Он готов на все. Убытки? С Петрашевского их не спросишь. Издатель чувствует себя в положении того попа, который нанял работником Балду.
Но щелчки он принимает не от Михаила Васильевича. Петрашевский готов все взять на себя. Он пишет Кирилову письмо, чтобы тот мог показать его в цензурном комитете или в других более страшных инстанциях.
«Напишите три слова, — говорил Ришелье, кажется, — и я выищу достаточно материалов, чтобы составить на законном основании уголовный приговор. — Этой поговорке, кажется, суждено осуществиться над нами по изданию Словаря. — В нем, я слышал; будто бы какой-то недоброжелательный глаз нашел бог знает что, — чтобы, может быть, через это обвинение что-нибудь выиграть… Мне не верится, чтобы добросовестное исполнение моих обязанностей в качестве писателя, т. е. отчетливое объяснение и изложение предметов, соответствующее современному состоянию науки, могло быть поводом и причиною запрещения Словаря. Это мне невообразимо! Перебирая в памяти весь Словарь, ничего не могу припомнить, хоть и хочу найти что-нибудь предосудительное. Впрочем, злоба и недоброжелательство хитры на выдумки…
Благодарю провидение в этом случае, охраняющее личность автора цензурным уставом и цензорами от всякой ответственности; дело другое, если бы была свобода книгопечатания; а потому, и не взирая на глупые слухи, не нахожу причин заботиться и беспокоиться об этом деле. Советую и вам оставаться совершенно спокойными. Если бы случилось сверх всякого чаяния, чтобы от вас потребовали разных объяснений в статьях, мною написанных, то объявите, что я их автор, ибо в качестве их составителя я нахожусь в большей возможности вывесть цензурный комитет от превратного понимания и толкования моих слов».
Кирилов согласился на то, чтобы Крылов еще раз просмотрел «места сомнительные», он готов перепечатать их вновь.
Это взбесило Петрашевского.
«P. S. Мне кажется, сами себя вы повредили, просив Крылова вторично просматривать Словарь, — вините в этом излишнюю вашу мнительность».
Разошлось 400 экземпляров.
Это больше, чем рассчитывал Петрашевский.
Снова курские поля, леса, где некогда бродил Соловей Разбойник. Суховей. После Швейцарии, среднегерманских княжеств, Парижа — одуряющая тишина. Но ведь он искал ее. Смерть Анны в 1844 году в Вене, хлопоты по устройству двух незаконнорожденных детей в имении брата покойной — Алексея Цехановецкого и новые мытарства, чтобы вырваться из России, измотали Спешнева до крайности.
Ныне он «прощен» государем императором и поэтому смог приехать домой. Но еще в ноябре 1844 года тот же Николай I начертал на докладной записке шефа жандармов: «Можид и здесь в университете учится, а в их лета шататься по белому свету, вместо службы, и стыдно, и недостойно благородного звания; за сим ехать могуд, ежели хотят». «За сим» Спешнев уехал, убедил шефа жандармов, что «страдает глазною болью, которая требует лечения за границею».
А вот Энгельсон, которого Спешнев уговаривал ехать вместе, струсил и упросил того же Орлова пристроить на службу, чтобы быть «достойным благородного звания».
Теперь все позади, как позади и бурные годы швейцарских, дрезденских, парижских встреч.
А каких только людей он не перевидал за это время! В Швейцарии — Вейтлинг. Этот коммунист, бывший портной, а потом очень яркий писатель и пропагандист, вначале увлек Спешнева. Да только ли его одного? И Людвиг Фейербах, и даже Маркс, и Энгельс восхищались его деятельным и быстрым распространением коммунистического учения в Швейцарии и Германии. Но, покидая Европу, Спешнев слышал, что Маркс резко разошелся с Вейтлингом. А Спешнев уже больше не встречался с главою «Союза справедливых». В 1844 году, после тюремного заключения, Вейтлинг был выслан из Швейцарии. Может быть, виною этому — его неудачная мысль организовать шайки воров для борьбы с существующим строем?
Николай Александрович читал литографированные памфлеты Маркса, Энгельса и Вольфа с критикой коммунистических утопий, господствовавших в «Союзе справедливых», и знает о столкновении Маркса и Вейтлинга на собрании в Брюсселе.
Маркс, конечно, гениальный мыслитель. Его «Нищета философии» окончательно развеяла обаяние Прудона, а ведь Спешней сначала зачитывался его произведениями.
Но Маркс — это Европа. А Спешнев сидит в своем курском имении и, как ни ломает головы, не может приложить к России ни одно из коммунистических течений.
Это очень обидно. Ведь там, за границей, знакомясь с коммунистами, бывая в гостях у приверженцев социалистических доктрин, Спешнев бесповоротно решил, что мечтания Фурье, Сен-Симона, Оуэна — это прошлое, только этап в поисках выхода из капиталистического ада. А вот коммунисты, и не Кабе с его реформистскими иллюзиями, а Маркс, Дезами, проповедующие революцию, откроют людям будущее.
Но Маркс делает ставку на пролетариат. В капиталистической Европе пролетарское движение ширится день ото дня. А в России?..
В империи 20 миллионов крепостных. …
Куда ни глянешь — деревни, деревни, села, починки. Вместо фабричных труб — колокольни. Одна железная дорога под Петербургом, да и та для увеселения господ. Мастеровой — тот же крестьянин, крепостной, только оброчный. Вольнонаемных мало, И та же дедовская прялка, та же соха и деревянная борона.
Правда, появился в России капиталист. Есть у него деньги, строит он фабрики, заводит машины. Но пока крепостное право лежит ярмом на шее у одной трети населения страны, не выбиться капиталисту на широкую дорогу. Так и останется он в своем допотопном, длиннополом кафтане с бородищей от отцов и дедов.
И в Курской и в соседних губерниях крупные, вроде него, Спешнева, помещики везут хлеб на городские рынки, даже продают за границу. Увеличивают барскую запашку, сгоняют крестьян с земли, покупают машины, охотно принимают батраков. Но это свидетельствует только о кризисе крепостной системы труда. А система-то пока остается. За нее уцепились и царь, и помещик, и полицейский, и чиновник, и поп.
Система трещит, вот-вот рухнет. Уничтожение крепостного, права — девиз века!
Спешнев знает о крестьянских восстаниях. Они шумят чуть ли не ежегодно. И не обходят Курскую губернию стороною. Но разве похож русский мужик с вилами и косою на парижского пролетария, всегда готового строить баррикады? Крестьянская революция? Коммунисты верят в пролетарскую. Крепостной быт тянет Россию назад, к Московской Руси.
Наверное, поэтому русские радикалы никак не перешагнут через фантастические мечтания социалистических утопий. Им еще понятен заговор декабристов, но революции они не хотят. Они верят Фурье, что будущее не потребует революции, так как устроится само по себе согласно прекраснодушествующей мечте и добрым пожеланиям доброго дяди.
Хотя Спешнев слишком торопится с выводами. Ведь он так давно не был в России. За границей Николай Александрович сталкивался с двумя-тремя такими же, как он, помещиками, русскими, но тоже приверженцами коммунизма. Отечественных журналов почти не читал, а если и слышал кое о чем, то в передаче своих друзей — поляков-эмигрантов после восстания 1830–1831 годов.
С польскими эмигрантами в Дрездене Спешнев сблизился через Анну, а вернее — через ее родных. И теперь размышления о политических проблемах часто нарушаются горькими воспоминаниями. Спешнев не может забыть Анны Цехановецкой.
Тогда, в Дрездене, его окружили восхищенным вниманием дамы, и Анна ревновала. Когда она умерла, какие-то недруги или завистники стали распускать слухи, что Анна отравилась из ревности к сестре своей Изабелле. Но это такой вздор!
Приехав в Россию, он не оставил за границей привязанностей. Разве только Эдмунд Хоецкий, его «неразлучный сеид». Эдмунд часто пишет, он отвечает. «Сеид» — человек практичный, собирается основать в Париже или другом подходящем месте типографию, просит присылать статьи, намекает на знакомство с видными литераторами и общественными деятелями Франции.
Сейчас Спешнев ничего не станет делать. А потом?.. Потом нужно поиметь в виду.
Николай Александрович уединенно жил в поместье, ни к кому из соседей в гости не ездил и к себе не звал. Стал он еще более молчалив и даже распоряжения по дому отдавал жестами или односложными фразами.
Его называли злюкой и нелюдимом, но он просто был застенчив.
Застенчивость проходит с первым успехом. А успех небывалый, колоссальный — принята к печати повесть Достоевского «Бедные люди». Ее прочел Белинский, пришел в восторг и тут же признался Некрасову:
— Я вам скажу, Некрасов, я не возьму за «Бедных людей» всей русской литературы!
Виссарион был в состоянии экстаза.
Потом месяцы дружбы.
Нет, влюбленности.
Признаний в любви, провозглашения гениальности писателя. Знакомство с «кружком Виссариона».
Успех кружит голову. Но ему радуются все.
Белинский зазывает к себе. В мрачный дом, где окна выходят во двор. Солнце забывает о квартире с черного хода. Но для Достоевского нет лучшего места на земле. И он будет помнить о нем всю жизнь.
Но жизненные пути Достоевского и Белинского разошлись.
Разошлись сначала незаметно, в спорах о литературе, искусстве, когда высказывается самое заветное, а может быть, самое затаенное и когда вдруг обнаруживаются такие различные взгляды.
Они спорили и расходились, шли в разные стороны, хотя, казалось, двигаются одним путем.
Достоевский просто гуманист, розовенький, «райско-нравственный», христолюбивый. И его увлечение социалистическими теориями робкое и даже случайное. Утописты-социалисты все время сравнивали свои доктрины всеобщего человеческого счастья с ранним христианством и первыми его апостолами. А это так импонировало Достоевскому.
Обновленное христианство, приспособленное к веку пара, устраивало «поэта петербургской бедноты».
Но оно никак не могло устроить бунтаря, искателя — Белинского. Поэзия утопистов баюкает людей, обессиливает. Их возвышенная мечта заслоняет действительность, на глаза навертываются слезы умиления, и невозможно разглядеть черные тени «цивилизации».
Белинский уже видит иллюзорность социалистических учений Сен-Симона и Фурье. И не случайно он вновь и вновь критикует мечтательницу-идеалистку Жорж Санд и даже великих просветителей прошлого столетия.
Огюстьен Тьерри подсказывает Виссариону Григорьевичу новые мысли. Нужно хорошо знать историю, ее законы, чтобы, вглядываясь в будущее, видеть дороги, которыми пойдет человечество.
Политика реальная, опирающаяся на борьбу классов, — вот что нужно Белинскому. Он за революцию — это бесповоротно. Но так трудно в России разглядеть сословие, которое станет творцом этой революции.
Достоевский видит в революции зло, вносящее в христианскую идиллию, подновленную социалистами, хаос, разрушение гармонии. Революция — это буря страстей, столкновение ненависти, а ведь в учениях социалистов «нет ненавистей». Революционный демократ и приверженец евангельской морали «фантастического реализма» не смогли оставаться друзьями.
Белинский еще пытался «выправить» Достоевского.
Спорили они до взаимных обид, хлопанья дверью. Белинский призывал на помощь недавно прибывшего в Петербург Герцена.
Непрерывно кашлял, но в споре себя не жалел.
— Да знаете ли вы, что нельзя насчитывать грехи человеку и обременять его долгами и подставными ланитами, когда общество так подло устроено, что человеку невозможно не делать злодейств и что нелепо и жестоко требовать с человека того> чего уже по законам природы не может он выполнить, если б даже хотел?!
— Мне даже умилительно смотреть на него, — обращался Белинский к Герцену, пальцем указывая на Достоевского. — Каждый-то раз, когда я вот так помяну Христа, у него все лицо изменяется, точно заплакать хочет….
— Да поверьте же, наивный вы человек, — вновь набрасывался он на Федора Михайловича, — поверьте же, что ваш Христос, если бы родился в наше время, был бы самым незаметным и обыкновенным человеком, так и стушевался бы при нынешней науке и при нынешних двигателях человечества.
— Ну не-е-ет! — вдруг воскликнул Герцей. — Если бы теперь появился Христос, он бы примкнул к движению и стал бы во главе его…
Белинский согласился. Именно так: и возглавил бы социалистическое движение.
Разрыв с Белинским и его друзьями назрел, и Достоевский переживал это мучительно. Стремительный взлет славы, общепризнанная гениальность, а потом вот эти терзающие насмешки, охлаждение Белинского, его сомнения: не поспешил ли провозгласить Достоевского восходящей звездой первой; величины?
Достоевскому была чужда боевая революционная эстетика Белинского, он упрекал его в том, что тот низводит литературу «до описания…. одних газетных фактов или скандальных происшествий». Достоевский был диаметрально противоположен «газетному и пожарному». Он даже боялся «пожарного» — революционного.
Они разойдутся немного позже, но и сейчас Достоевский чувствует себя одиноким.
Тяжело без друзей, без участия и без денег. Хотя литература и кормит, но при безалаберности Федора Михайловича деньги отсутствуют именно тогда, когда более всего нужны. А это значит, что и сапоги драные и пальтишко ветхое, да и отобедать иногда не на что.
Ссора с Белинским и его кружком означает и ссору с «Отечественными записками». Хотя до Федора Михайловича дошли слухи — Белинский покидает журнал, а в «Отечественных записках» отдел критики перейдет к Валериану Майкову.
Они познакомились у Алексея Бекетова, с которым Достоевский учился в инженерном училище.
Интересные люди эти братья Бекетовы. Их трое: Алексей стоит во главе объединения молодых литераторов и ученых, Андрей и Николай — студенты-естественники, подающие большие надежды. В объединении главенствует Валериан Майков, принимает участие Аполлон, поэт Плещеев, врач Яновский, Ханыков, Григорович.
«Это люди дельные, умные, с превосходным сердцем, с благородством, с характером».
Они «вылечили» Достоевского.
На Васильевском острове большая квартира, общий стол, общее хозяйство. И за 35 рублей серебром в месяц Федор Михайлович имеет обед, чай и угол для работы. Живут, как в «ассоциации», и всячески превозносят последнее изобретение социалистической науки.
Три раза в течение 1846–1847 годов в «Ведомостях» появляются одинаковые сообщения о том, что «кандидат юридического факультета М. В. Буташевич-Петрашевский вызывается ходатайствовать без всякой платы по тяжебным делам всех бедных и не имеющих средств иметь адвокатов, а с богатых людей… будет брать самую незначительную плату».
Домик в Коломне — адвокатская контора. Михаилу Васильевичу помогает его квартирант — правовед Барановский, прошения переписывает учитель Ларинской гимназии Егоров.
Барановский недоволен тем, как Петрашевский ведет дело. Ему кажется, что Михаил Васильевич просто несерьезен. Во всяком случае, выгод они никаких не имеют, но Петрашевокого это вовсе и не беспокоит. Ведь Барановский не знает, что истинная цель адвокатской деятельности Петрашевского не материальная выгода, а разоблачение фальши, лживости русского правительства. Оно везде и всюду афиширует свою приверженность и уважение к законности.
Но ведь на деле-то все наоборот. Достаточно правительству начать свято соблюдать хотя бы те самые законы, которые оно издало, и сразу будет подрублен сук, на котором оно сидит, а сук этот: принцип произвола, чиновничья коррупция, беззаконная эксплуатация страны.
Если все время настойчиво требовать от высших правительственных органов строгого следования законам, оно само себя разоблачит, будет, что называется, поймано на слове, схвачено за руку. И Петрашевский первым попытается сделать это.
Михаил Васильевич не рассчитал сил. Не мог он предполагать и того, что к нему будут обращаться за помощью люди, добивающиеся мелких денежных исков против частных лиц, а не правительственных учреждений.
Только хлопоча по своим имущественным делам, он сталкивался как домовладелец со столичной полицией и даже петербургским генерал-губернатором. Он писал на них жалобы в сенат, требовал предания суду. Но в сенате над ним только смеялись, а жалобы подшивали или возвращали обратно.
Петрашевский сегодня с раннего утра на ногах. Опять в министерстве его гоняют по всяким делам иноземцев. А они ему опостылели страшно. Уже двенадцать часов, а он ничего не ел и устал, как будто день клонится к вечеру.
В ресторанах сейчас уже полно народу, и скоро не отобедаешь. Остаются кондитерские.
День весенний, погожий, и петербургские обыватели спешат насладиться солнцем, словно просушивают себя, как одежду, которую на лето уберут в сундуки.
У Полицейского моста есть небольшая кондитерская, где можно выпить чашку кофе и заодно прочесть газету.
В кондитерской полутемно, и после яркого света улицы трудно разглядеть столики. Петрашевский чуть-чуть не наткнулся на один из них, когда кто-то схватил его за руку, сначала отвел от стола, а потом пожал пальцы.
— Плещеев! Неожиданная встреча…
Почему милейший пиит не был на последних «пятницах»? Плещеев рассказывает о бекетовской «ассоциации» и глазами косит на молодого и очень симпатичного На вид человека, немного болезненного, который усердно читает газету.
Это Достоевский. Начинающий и уже успевший так нашуметь писатель. Плещеев расплачивается с официантом. Достоевский с сожалением сворачивает газету, делает последний глоток и выходит.
Петрашевский ищет места. Места есть, но почему-то расхотелось пить кофе. А потом Плещеев забыл познакомить его с Достоевским… Михаил Васильевич вышел на улицу. Плещеева что-то не видно, а Достоевский медленно идет к Большой Морской.
Михаил Васильевич прибавил шагу. Удобно ли? Подойти вот так и заговорить? Но ведь Плещеев должен быть где-то поблизости.
— Какая идея вашей будущей повести, позвольте спросить?
Достоевский недоуменно оглядывается. Странная манера — останавливать на улице незнакомых прохожих и сразу требовать от них изложения идей.
Петрашевский чувствует себя неловко. Он действительно брякнул первую пришедшую ему в голову фразу, а теперь в пору извиняться.
Плещеев подоспел вовремя, и знакомство состоялось.
Петрашевский пригласил Федора Михайловича к себе, но оказалось, что Достоевский завтра уезжает на целое лето к брату Михаилу в Ревель.
Столетние исполины старого соснового бора столпились на краю болота. Высокая осока скрывает мутные омуты, а ярко-зеленые мхи охраняют бездонные грязевые океаны.
Ни пройти, ни проехать. И только узкая полоска опушки служит тропинкой, ведущей к полям, куцым пашням, осиновым рощам.
На опушке прилепился убогий выселок в семь дворов. Избы расползлись и позеленели от вечной сырости. Не видно ни огородов, ни хлевов для скота. Среди деревьев пасется несколько тощих лошадей. Каждый день они волоком тянут допотопные, бороны и плуги — пашни крестьянские от выселка. за 10 верст.
Выселок принадлежит Михаилу Петрашевскому. Земля у крестьян есть, да удобрить ее нечем, коровы в этих гиблых местах не приживаются. Хаты сгнили, лес рядом, да барин далеко, а лес господский.
Да и помнит ли барин о выселке? Доходов от него никаких, одно название, что владение.
Крестьяне из года в год козыряют землю, собирают ягоды, грибы, бьют болотную птицу, потихоньку делают порубки в помещичьем лесу, но поставить новые дома боятся. А хибарки сгнили вконец, даже не горят. Зимой ветры со снегом пробиваются сквозь деревянную труху, летом сочатся дожди.
И не стало мочи жить в этих лачугах…
Михаил Васильевич долго не может понять, откуда и зачем явился к нему этот волосатый дядя в рыжем армяке и в меховой шапке, несмотря на жару.
А дядя все норовит в ноги бухнуться и твердит одно: — Смилуйся, батюшка Михаил Василич, не дай пропасть детишкам малым да холопам твоим. Мир послал меня, старосту твоего, леску испросить…
Выселок? Бывал когда-то там в детстве с отцом. Нужно старосту расспросить, а вот с пола его никак поднять не удается.
Наконец мужик уселся на кончик стула, шапку мнет, дыхнуть на барина остерегается.
Михаил Васильевич с болью смотрит на старосту.
Ну как, как вытащить этих дремучих людей из болота, в котором они увязли, как приучить к чистоте, порядку, самостоятельности? Об освобождении их никто из власть имущих и не помышляет. Да и сами они только о лесе, о скотинке да куске насущном и думают.
Староста потихоньку встал и, отвешивая поклоны, начал пятиться к двери.
— Куда, голубчик? Нет уж, изволь подождать. Петрашевский вдруг вспомнил о недавнем разговоре с писателем Зотовым. Тот посмеивается над фурьеризмом и откровенно издевается над идеей фаланстера. А что, если пока там суть да дело с освобождением, попробовать на практике доказать всю выгоду, удобство, пользу фаланстера? Ведь пытался это сделать Фурье. Да и у Оуэна хорошо получилось с мастерскими. А ведь это случай! И вряд ли он когда-либо повторится. Выселок в его полном распоряжении. Крестьяне дошли до крайности. Конечно же, они должны сразу понять и оценить выгоды «ассоциации». Испокон веков живут «миром». А всё «неверующие Фомы» потом смогут приезжать, любоваться да брать с фаланстера пример. Пропаганда фурьеризма действием.
И закон на его стороне, он не воспрещает подобных опытов, достаточно вспомнить том IX «Свода». Петрашевский усаживает старосту на прежнее место и начинает втолковывать ему, что нет никакого смысла латать старые лачуги, они все равно сгниют на этом гиблом болоте. Не лучше ли выбрать в сосновом бору сухую поляну, поставить на ней одну избу, в которой каждая семья имела бы комнату. В избе была бы общая кухня и зала для зимних работ и посиделок, а там — рядом с избой — амбары, хлев, конюшня.
Староста слушает сосредоточенно, иногда кивает головой, неуверенно почесывается и всем своим видом как бы говорит: «Воля ваша, вам лучше знать, мы люди темные, как прикажете, так и сделаем».
Но Михаил Васильевич хочет слышать тут же, немедленно и именно от этого старосты, что так «будет не в пример лучше и выгоднее».
Староста почесывался.
Плутарх лежит на столе, Гёте валяется посреди дивана. Древний и новый поэты как искусители. Нашептывают. Отравляют успокоенностью, отрешенностью. Сулят почести и сладкие слезы.
Персидский халат мало напоминает тогу античности, зато турецкий пистолет вполне современен Вертеру.
Пистолет подпирает подбородок. Пуля должна пробить мозжечок.
Курок щелкает. Сухо.
И слышно, как за стеной гремят чашки с утренним чаем.
Дуло опущено. Рукав халата цепляется за вновь взведенный курок. Пуля вошла в каменную стену почти на вершок. Вспышка опалила руку, курок прищемил сухожилие.
За стеной бьются чашки…
Доктор с сомнением качает головой, когда поручик лейб-гвардии Московского полка Николай Момбелли объясняет причину ранения руки. Доктор знает пациента ке первый год. У него слабое здоровье, раздвоенная психика, он самолюбив, мнителен, приступы ипохондрии заставляют его все время пребывать в крайностях: то фейерверк энтузиазма, то… вот это последнее происшествие.
И пусть поручик болтает там всякий вздор, доктор уверен: налицо попытка к самоубийству. Во всяком случае, две недели освобождения от фрунта, покой. Он будет навещать поручика, а пистолет заберет себе — такой любопытный экземпляр, а доктор коллекционирует оружие.
Две недели покаяния, не вставая с постели. Укоризненные взгляды денщика Тимофея. Булка на обед и терзающий самоанализ к завтраку и на ужин.
В двадцать с небольшим лет нет ни прошлого, ни будущего.
Прошлое — одни невзгоды. Бедность, сделавшаяся пороком. Вечная нужда и стремление во что бы то ни стало скрыть ее от товарищей-офицеров, знакомых. Никто не должен знать, что единственный мундир имеет над владельцем его великую власть. Он заставляет хозяина неделями не вылезать из халата, Чтобы мундир не сносился.
И денщик не должен ничего знать.
Его благородие поручик выгнал бедных фонарщиков, не заплатив им 20 копеек серебром за стекло, разбитое денщиком. Его благородие болезненно переживал происшествие, но у него не было 20 копеек.
Не было у него и удачи. Как всякий маленький офицер без связей и протекций, он вечно жил под страхом взысканий. Выполнять все служебные обязанности согласно предписанию ни у кого недоставало ни сил человеческих, ни здоровья, ни тем более средств.
А это означало, что гнев и кара вышестоящих могли обрушиться на голову поручика в любой момент.
И они обрушились, да еще с какой «высоты»!
Нечисто выбритая шея там, где подвязывается галстук, никому не бросилась в глаза, но у шефа гвардии, великого князя Михаила Павловича, глаз монарший. Поручика на три недели под арест, полковому командиру — «высочайший» разнос.
И теперь полковой преследует, донимает фрунтом — вероятно, потребует ухода из полка, тем более что Момбелли приобрел в нем репутацию «либерала».
А в чем, собственно, его либерализм проявился? Разве только в том, что ему было до ужаса, до рвоты противно, горько присутствовать на экзекуции, когда сквозь Строй в пять тысяч человек проводили гвардии егерского полка фельдфебеля Тищенко. Тищенко ударил по щеке полкового казначея, надругавшегося над его человеческим достоинством. И нет Тищенко. Даже в могилу зарыли не труп, а круто взбитые куски человеческого мяса.
Поручик Сатин, который должен был повести на экзекуцию команду Московского полка, не явился, а Момбелли не скрывал своего отвращения.
Мерзости на каждом шагу, но если ты их замечаешь, если говоришь о них вслух, то уже и либерал, а может быть, и бунтовщик.
Но можно ли промолчать, оставаться равнодушным, когда помещики обкрадывают своих крестьян, воруют у них не только хлеб, деньги, но и жен? Когда полицейские приставы, вместо того чтобы заарестовать содержателей игорных притонов, идут с ними на сделку и обирают ни в чем не повинных людей только за то, что те по какому-то недоразумению попали в полицию и не чают, как выбраться?
Нет, он не забудет того кусочка хлеба, который витебский крестьянин вытащил из котомки и долго не решался съесть, так как он был последним. А ведь муки-то в хлебе вовсе и не было, его испекли из мякины, соломы и какой-то травы, приправив конским навозом.
Чадолюбивого бы императора, этого изверга Николая, на несколько дней посадить на пищу витебского крестьянина!
Но эти стенания — глас вопиющего. Ему хотелось забыться, найти для себя поприще, на котором не придется сталкиваться с великими князьями, безмозглыми генералами, полковниками, этой жесточайшей муштрой и диким царством лжи, бесправия, произвола. Глупец!
С осени 1846 года у него на квартире по понедельникам собираются знакомые офицеры, чтобы помузицировать и испробовать свои силы в литературных занятиях.
Никого из литераторов не приглашают, зато, не стесняясь друг друга, критикуют в пух и прах, учатся спорить, говорить, защищать свои мнения.
Господи, как вспомнишь, о чем бывало говорено, какие
Он сам переводит из Вольтера и Мицкевича, энциклопедистов, Луи Блана. Написал статьи — «Основание Рима и царствование Ромула», «Заметки о цивилизации», «Замечания к евангелию», о скопцах, «Аспазия, афинская гетера» и даже «Турусы на колесах».
А другие? Кое-кто увлекается историей отечественной, как поручик лейб-гвардии того же Московского полка Николай Николаевич Кармалин или поручик Александр Никитин. Федор Николаевич Львов, штабс-капитан лейб-гвардии егерского полка и репетитор химии при Павловском кадетском корпусе, прочел несколько своих статей на естественные темы. Помнится: «Взгляд химика на природу», «Символы основных элементов», «О мужчине и женщине в отвлеченном смысле».
Какой отчаянный радикализм воодушевлял тогда Момбелли! Но изящной словесности он так и не обучился. Да и где уж! На каждом слове его перебивали, критиковали, высмеивали, часто от первоначального текста статьи ничего не оставалось, приходилось менять его по ходу чтения. Зато никто не возразил, когда Момбелли сравнивал императора Николая и Ромула, доказывая, что последний заслужил прозвание «Мудрого», так как заботился об общем благе граждан, а русский царь только о личном благосостоянии в ущерб общему.
Ему даже аплодировали.
Вот только что же вызвало овации слушателей?
Он никак не может припомнить. Болит рука, и гложут те же черные мысли. Ах, ему не хочется и вспоминать эти вечера!
Слова, слова! На словах дозволено все без исключения: нападки на деспотизм, вызов богу, свету.
Ну, а что на деле?
Можно разработать еще-тысячи тем для докладов, бесед, споров. Но кому нужны эти слова? Ужели он не перестанет их произносить только ради поддержания репутации «страшного либерала»?
Нет, нет, ему опротивело само это слово, и он готов уехать куда-либо на год, на два, лишь бы разделаться с ним, отделить его от себя и возвратиться с новой физиономией.
Спешнее снова в Петербурге. У него дом, человек он состоятельный и в службе не нуждается. Поэтому все время, свободное от работы над книгами, можно посвятить отысканию людей, близких по мировоззрению к его коммунистическим идеалам.
Николай Александрович настолько отвык от России в своих заграничных скитаниях, так привык видеть ее в образе родной Курской губернии, что Петербург показался чем-то совершенно чужеродным — роскошной бородавкой, что ли, на теле русского мужика. Он ходил по столице, вспоминая ее и не узнавая. Зато в дни блужданий открывал вдруг такие знакомые ему по Европе контрасты больших, городов.
Как это у Пушкина? «Город пышный, город бедный, дух неволи, стройный вид…» — дальше он забыл, но эта строка все время жужжит в голове.
Здесь воздух кажется спертым от множества людских дыханий и контрастные мазки на каждом шагу. Сенатская площадь с бронзовым всадником, куда-то зовущим. И следы картечи на стенах домов, картечи, которой расстреливали декабристов; нарядные лодки дачников на островах и налившиеся кровью глаза бурлаков, кабаки против ресторанов, лачуги против дворцов.
Как все это знакомо по Парижу и как отличается от «столицы мира»!
Похожи и отличны люди. В Петербурге куда сложнее найти нужных.
Энгельсон советует зайти к Петрашевскому и уверяет, что его журфиксы — одно из немногих истинных столичных «удовольствий». Но Энгельсон почему-то сам туда не ходит. А раньше заглядывал.
Петрашевский искренне рад Спешневу. Правда, в лицее он никогда особо близок с ним не был. Но лицеисты всегда желанные гости на его вечерах.
Спешнев произвел впечатление, хотя гости старались не подавать виду.
Столичное «удовольствие» выглядело как-то странно. Десятка полтора молодых людей сидят кучками и негромко беседуют.
Если прислушаться, то нетрудно заметить, что каждый говорит о чем ему вздумается и не всегда дает высказаться соседу. Политические новости, только что почерпнутые из иностранных газет и журналов, литературные споры, рассуждения о фурьеризме, городские сплетни, анекдоты, обрывки научных разговоров.
Нет, Спещнев ожидал иного. Да и общество какое-то грубоватое и вряд ли хорошо образованное. Петрашевский изменился внешне, но его страсть к спорам, видимо, стала ещё сильней. Уж не собирает ли он у себя одних лишь спорщиков?
Но Спешнев пока других знакомств не имеет, да к тому же, по отзывам, к Петрашевскому заходят интересные люди.
Хозяин требует минуту внимания. — Господа, вот уже более года мы от случая к случаю покупаем книги. Скоро откроется навигация, и сегодня мы должны по каталогам, которые я принес, выбрать книги и на всю сумму, которую собрали.
Спешнев прислушивался уже внимательнее. Нет, это не спорщик. Библиотека в складчину. Хорошее дело. Он тоже хочет участвовать. Взнос для него пустяковый — от 15 до 20 рублей серебром. Спешнев вынимает деньги. Гости улыбаются. Новый гость как бы приобщился к их кружку. Ведь взнос в библиотеку и пользование «ничейными» книгами — единственные «организационные узы», связывающие всех.
И каждый имеет право в любой момент прекратить участие в складчине, это его частное дело.
Петрашевский любит напоминать, что «прежде чем действовать — нужно учиться».
— Над нами еще гремит насмешливый стих Пушкина: «Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь…» Если бы понадобилось — начнем наше образование с азбуки…
Спешнев уже не склонен насмехаться и снисходительно посматривать на этих «мальчишек». Конечно, «шумим, братец, шумим» ко многим из них подходит, но Петрашевский говорит о необходимости действовать и готовиться к действию. Хотя он и не договаривает до конца, мало ли какое действие возможно, но его журфиксы, если рассматривать их как подготовку к действию, предполагают определенную пропагандистскую цель.
Спешнев отныне будет здесь частым гостем, и очень жаль, что Михаил Васильевич уезжает в свою деревеньку.
Петрашевский никому не рассказывал о постройке фаланстера, только Зотову.
Телега подпрыгивала на корнях, ныряла в ямы, скрытые низким папоротником, и все старания кучера ускорить бег лошади ни к чему не приводили. Конь еле плелся, гонял хвостом оводов и упорно тянул к полянкам, где зеленела еще не выжженная солнцем трава.
Непроходимые чащобы. Бурелом, топи, колючий кустарник. На деревьях мох, между стволами паутина, давно заброшенная пауками. Ни стежки, ни межи.
Сосны рвутся к солнцу. Ели, как наседки крыльями, прикрывают землю. Мухоморы чувствуют себя сказочными принцами, боровики сгнивают гнездами, как будто среди них прошла эпидемия холеры.
Михаил Васильевич вот уже в который раз ловит себя на мысли, что в этих чащобах его строго логические построения расплываются: то солнечный луч вспыхнет затейливым узором и спутает мысли, то птицы запоют так, что забудешь обо всем.
И, наверное, впервой ему хочется помечтать. Нет, мечты — это достояние его сестер, но сравнения невольно напрашиваются.
Телега пробирается сквозь бурелом.
Бурелом, могучие корни и сломанные вершины. Вековая спячка. Немного в лоб, зато точно — ведь это Россия. Темная, гнилая, могучая и трухлявая. А телега, на которой едет он и которую пытаются остановить корни, колючки, стволы?
Ужели это колесница, и на ней социальная справедливость, равенство, любовь и братство должны въехать в эту глушь?
Черт знает что такое! Михаил Васильевич спрыгивает с телеги. Бредет пешком до тех пор, пока ноги отказываются выбираться из топкой глины, пока лицо, волосы, бороду не пропитывает едкий соленый пот.
Но телега — колесница будущего — не выходит из головы.
Он найдет сухую поляну в лесу.
Он построит фаланстер.
Ну, а дальше?
Расступится лес? Распрямятся навстречу солнцу верхушки сгорбившихся исполинов, и болото обернется изумрудной россыпью пахучих трав, коврами цветов, веселой песнью жаворонков?
Сухой треск сломавшегося дерева возвращает к действительности. Телега осела на один бок, колесо сиротливо притулилось к стволу сосны.
Он уже не знает, стоило ли ехать за тридевять земель, чтобы в этом краю комаров и лягушек основывать фаланстер?
Мужики кланяются в пояс и стараются не попадаться на глаза. Они не перечат и молча бредут по бору в поисках сухой поляны.
Но строить избу отказались. Несподручно. Деды рубили пятистенки, отцы латали, а они и вовсе не обучены.
И за этими скупыми словами, сказанными степенно, с поклоном, чувствовалось нежелание изменять сложившийся от веков заповедный образ жизни.
Петрашевский ходит злой. Комары жалят, мужики кланяются, а фаланстер не двигается с места.
Петрашевский не понимает мужиков.
Достал плотников по соседству. Барский лес не жалели.
Изба росла изо дня в день. Широкая, высокая.
Петрашевский собирал стариков, водил их по постройке, пахнувшей смолой, свежей стружкой и новосельем.
Бороды угрюмо бормотали:
— Много довольны! Как будет угодно вашей ми «лости!..
И брели, как приговоренные к тюрьме.
Петрашевский снова в Петербурге, 1847 год на исходе.
Белинский умирает от чахотки.
Император Николай мнит себя властелином Европы.
Друзья разбрелись.
И только Зотов, как нарочно, попадается на Невском, издалека сбрасывает шляпу, жмет руку и с хитрецой вопрошает:
— Что ж это ты не заходишь ко мне? Ведь знаешь же, как меня интересует твоя попытка.
Его интересует!
Эка хватил, братец! Всему свое время. Вот настанет рождество, мужики освятят избу, ну, а тогда—милости просим!
На Петербург падает снег. Мокрый, промозглый.
Падает и тает.
Лошади скользят на торцовых мостовых.
В ресторанах с утра горят люстры.
Городовые попрятались по будкам.
А в бору зима. Сосны склонили ветви к земле и рассматривают голые стволы: почему на них не держится белая холодная мантия? А ветви едва удерживают снег и благодарно машут вслед ветру, когда тот стряхивает с них эту опухоль.
Петрашевский остервенело лупит себя по бокам, бьет веником валенки, трясет заячий треух.
— Ну и погодка!..
— Сочельник, барин, сочельник! Оно завсегда метет…
Домик лесника, в котором последние месяцы живет Петрашевский, напоминает избу на курьих ножках. Когда топится русская печь, дым выедает глаз, нестерпимо остро пахнут овчины. И смоленые ветки елей, разбросанные по полу, испускают янтарные слезы.
Сегодня Михаил Васильевич делает последний обход фаланстеру.
Позади дни тревог — ведь денег было в обрез, со скандалами приходилось выпрашивать у матери по рублику, по трешке.
Зато изба срублена отличная. Семь комнат, кухня, зала, хлев, овин, а горшков-то, ухватов, чугунков, мисок, пил, борон, плугов — да всего и не перечесть!
С соседом-помещиком чуть до мирового не дошло.
Сосед боялся, что его крестьяне, как побывают в этой „фаланстерии“, так и взбунтуются, потребуют и себе подобную. Пробовал отговорить Петрашевского от затеи, но ничего не получилось. Тогда обвинил его в порубках чужого леса. Петрашевскии не стал спорить, а отдал соседу нетронутый участок бора. Пришлось замолчать.
Всю ночь бушевала вьюга, а к утру притомилась. Ударил морозец, и в первых лучах солнца замигали, заискрились мириады маленьких хрусталиков.
Петрашевскии уже на ногах. Пора запрягать, небось крестьяне ждут, чтобы войти в новую избу, отслужить благодарственный молебен и сесть за праздничный стол.
Лошадка ходко бежит, хотя дорога еще не обкатана, да и занесло ее изрядно. Где-то настойчиво щелкает дятел в тщетной надежде найти под корой рождественский завтрак.
По лесу тянет запах гари. Лесник беспокойно ёрзает, привстает в розвальнях. Но нет, деревья стоят нетронутые, небо чистое-чистое. Должно, из далеких деревень дымком попахивает, ветерок приносит. Выскочил заяц, прижал уши, исчез…
А вот и поляна. Лошадь стала. Лесничий только присвистнул да матерно выругался. Петрашевскии не хочет верить глазам. Нет, они сбились с дороги, поехали на дымок, опасаясь пожара…
Пожар здесь уже потух…
И обгорелые бревна кое-где запорошило свежим снежком.
Но горел не лес. Лес стоит такой же дремучий равнодушный. Сосны как свечи, и солнце режет глаза.
Сгорел фаланстер — сгорела изба, конюшня, хлев, сгорели плуги и бороны, лопнули в огне горшки, и только обуглившийся черный горб русской печи напоминает тысячи своих собратьев, сиротливо покинутых на местах бывших деревень — Погорелова, Пожарского, Пепелищенского.
Скорее домой, в Петербург. Он не будет заезжать на выселок, ему и так ясно — эти дикари, эти лесные звери подожгли фаланстер. И они готовы понести наказание, но только бы не жить в этой хоромине, только бы сохранить свое — вонючее, драное, но свое, подгрести его под себя и медленно, умирать на добре, цена которому грош.
Сгорел фаланстер, но не испепелилась вера в социалистические начала общежития, в спасительную миссию фурьеризма.
К Петербургу Петрашевский подъезжал уже успокоенный, и только горечь, обида нет-нет да и сжимали сердце.
Но в голове роились новые планы.
22 февраля 1848 года, воскресенье. Последний день „сырной недели“. Субботний карнавал, „широкая масленица“, наконец, угомонился веселящийся Петербург.
Воскресным утром о блинах и вспоминать противно, похмельный дурман застилает голову. Богомольцы — спешат еще до наступления великого поста очиститься от грехов и усердно сгибают и разгибают спины в церквах и церквушках.
Завтра закроются русские театры, исчезнут с базарных площадей балаганы, умолкнет визг каруселей. Последний день гульбища!
Михаил Евграфович Салтыков едет в итальянскую оперу. В русскую сегодня нельзя, в этот день там поют неудачники. Да и весь литературный Петербург, весь бомонд будет: в итальянской.
Ложи щурятся лорнетками. Первые ряды партера поблескивают лысинами. Все друг друга знают, все друг другу надоели, и все устали от масленицы.
Скорее бы занавес. Но кого-то ждут. Быть может, прибудут августейшие слушатели?
Увертюра! Но еще не смолкают шепот, шарканье ног.
Итальянцев слушают небрежно, языка никто не знает. На сцене традиционные парики, позы и прекрасные голоса.
Салтыков никак не может оторвать глаз от шутовского колпака с бубенчиками. Паяц поет и горестно мотает головой. А бубенцы позвякивают, и порой Михаил Евграфович слышит только их дребезжание.
— Выйдите в фойе! Министерство Гизо пало!.. За креслом стоит Зотов, делает большие глаза и тычет пальцем в дверь.
А на сцене жалобно вздрагивают бубенцы.
Гам, брань, визг, хохот, пьяные песни, усталый речитатив клоунов, хрип зазывал. И толчея с утра до ночи, с утра до ночи. Всё жуют блины — гречневые, ржаные, с горошком, сухие или подтекающие маслом. От мучной сытости в глазах тупое безразличие.
Толпа бросает людей от блинных лотков к каруселям, от каруселей» к балаганам.
— Спешите, в последний раз!.. Сейчас начнется представление!
И «в последний раз», «сейчас» раздаются уже много часов подряд.
Петрашевский с трудом выбирается из балагана и стряхивает воду, накопившуюся в загибах шляпы. От спертого воздуха, духоты в балагане идет дождь.
Конечно, глупо было в воскресенье забираться сюда, но ему так хотелось потолкаться среди народа. Когда-то он записывал в «Запасе общеполезного» об «игрании на театре пьес в известные дни года для народа безденежно или за малую цену». Цена малая, но пьесы?!.
Только этот шут в гороховом колпаке и хорош. Как он там изобразил генерала: «А вот бывший генерал, он вид замарал, говорят, в управе что-то взял, а других запятнал».
Ишь ты! Такое только на масленице и услышишь, да и то от шута, и только в 1848.
Потянулся Невский. Легкий, раздумчивый снежок радугой отсвечивает вокруг фонарей.
— Эй, берегись!..
Разорвав снежную вуаль, вздыбилась тройка. Взмыленные гривы, форейторы…
— Шут гороховый!..
Петрашевский еще не оправился от испуга и машинально стряхивает снег, которым его обдали лошади.
А кареты уже не видно. Кого это он «шутом» проводил?
— Императора, императора, Михаил Васильевич! Петрашевский удивленно оборачивается. Салтыков! Разгоряченный! Долго трясет руку. Они не виделись почти год — ужели за это время Михаил Васильевич начал разговаривать сам с собою вслух?
Петрашевский растерянно улыбается:
— Я недаром в свое время утверждал, что цари должны носить на голове какие-нибудь погремушки, которые издали давали бы о нем знать! И какая муха его сегодня укусила?
— А ты не знаешь? Министерство Гизо пало, Луи Филипп отрекся от престола в пользу внука — графа Парижского!
Михаил Васильевич недоверчиво тянет что-то неопределенное. Салтыков спешит. Припав к уху Петрашевского и скосив глаза на расходящуюся из театра публику, единым махом выдохнул:
— Говорят, и графа Парижского нет. Республика!
«Во Франции — республика!», «Король Луи Филипп с семьей бежал неизвестно куда». В Национальном собрании Араго, Ламартин. Королевский трон вытащен на улицу и сожжен.
У Николая I депеша выпала из рук. Точно так же два дня назад канцлер Нессельроде рассыпал бумаги при первом известии о крушении кабинета Гизо. Но тогда оставались надежды. Нет, он пока не верит, что все пропало. Нужно подождать день, два.
Но каково, каково! Он предполагал, что Европа больна революцией, знал и ждал ее начала, чтобы встретить во всеоружии. Задушить в люльке эту гидру. Но почему начала Франция, а не Италия, не Германия? Он ожидал появления страшилища именно в этих странах. Франция спутала карты.
У наследника dejeuner dansant.
Великий князь Константин Николаевич опоздал, так как сопровождал императора на развод караула.
Как мило!.. Собрались только свои, и нет этих персидских Церемоний. Кончается кадриль, и сейчас грянет мазурка. Мама весело улыбается, а ведь она была так расстроена из-за этой Франции? Господи, вот и еще одно доказательство: что не от бога, то стоять не может. Луи Филипп взошел посредством революции на трон, держался на нем 18 лет, так что все чуть-чуть не на коленях перед ним стояли и думали: он силен и тверд, и вот двух дней достаточно, и он ничто… шут, а корона — колпак. Только шута могла сделать королем революция, только колпак могла она дать ему в утешение.
Но мама зовет к себе.
— Вы представляете, сын мой, гуляла сегодня по улицам, все куда-то спешат, шушукаются, но кланяются, кланяются. А я уж так напугана, что готова была видеть перед собой этих наглецов в шляпах…
На хорах загремела мазурка, но пары не успели сделать первые па, как в зал вошел Николай I. Музыка поперхнулась. Танцующие замерли в поклоне.
Жест капельмейстеру. Оркестр встревоженно исчезает за дверьми.
— Господа, получены новые депеши, во Франции — республика! Я жду до первого марта, а там, господа офицеры, придется седлать коней!
Петрашевский бежит по Невскому. Ужели правда? Салтыков не может соврать, но верно ли его известие? Вот, кстати, дом, где живет Зотов, — этот все знает доподлинно.
— Михаил Васильевич, дорогой, да сегодня весь Петербург только об этом и говорит!.. Все, Bce верно, хотя официальных сообщений нет. Я вчерашний день был на панихиде по случаю годовщины со дня кончины князя Васильчикова, так там статс-секретарь Лонгинов передавал со слов самой императрицы. Только прошу вас: пока никому! Или хотя бы не ссылайтесь на меня. Сейчас такой пассаж вышел. Я в антракте к полицмейстеру Трубачееву подсел, говорю: «А каковы французы, что натворили!» А он в лице изменился, за борт фрака зацепил и шепчет: «Прошу вас не говорить об этом ни слова. Полиция имеет приказание сообщать в Третье отделение о тех, кто будет разговаривать о революции!» А еще благожелателем литераторов именуется!..
Бал у наследника закончился весело. Офицеры чувствовали на себе восхищенные взгляды дам, подкручивали усы, щелкали каблуками. Они скоро выступят. И опять, как в 1813–1814 годы, «освободят» Европу. Поход не казался бесперспективным: какие-то там парижские гамены. Смешно! Ведь 35 лет назад перед ними не устоял сам Наполеон!
Николай после обеда вернулся в зал и старался быть любезным. Но император не умел и не любил улыбаться. Его уже беспокоил не Париж, а Москва, не французы, а русские.
…Над Россией стонут колокола. Разноголосые, солидно-напоминающие, тревожно-зовущие и просто всполошно-трезвонящие. Они никогда не умолкают. Лишь только встанет солнце на востоке, брякнет медь — и звон ползет за солнечными лучами на запад, через Сибирь, Урал, к богомольной Москве, чопорному Петербургу.
Россия кладет земные поклоны и размашисто перечеркивает воздух перед носом. Заморские попугаи в клетках дворцов, нервные борзые на псарнях никак не могут привыкнуть к звуку терзаемой меди.
А вот вороны и галки привыкли. Колокола срывают их с неуютных насестов, и они подпевают голосисто, торопливо, но обязательно шумно, порхая вокруг божьих храмов, как вестники нового дня.
И мало ли что они кому накаркают…
На вороньем хвосте прилетела весточка в Ковенскую губернию: «Скоро придут в Литву французские войска». Ее подхватили, и на Смоленщине уже слышится: придут французы «к духову дню, но не воевать, а вешать помещиков», и придут они «с белыми арапами, дабы дать вольность».
А под Тулой слухи обрастали деталями и звучали, как древние сказы:
«Из моря, в которое каждый день опускается солнце, вышел антихрист с железными ногами и пошел на Восток; но как большая дорога от Запада до Востока очень длинна и гориста, то антихрист оттопал себе ноги по колена и уже кой-как на четвереньках дополз до местечка Парижа и там застрял в ожидании, не подрастут ли ноги».
А в Одессе? Этим воронам все видно сверху: «в бозе почивший великий князь Константин Павлович еще жив, скрывается под чужим именем в разных местах, и недавно его видели будто бы в Одессе и Киеве, откуда цесаревич писал к брату государю императору, что он будет к его величеству
Как вороны, каркают жандармские генералы и полковники, капитаны, губернаторы. От их зловещих вскриков у шефа жандармов графа Орлова кошмары средь бела дня.
Виленский генерал-губернатор Миркович доносит: «Известия о происходящих в Европе переворотах, часто искаженные и превратные, разносятся с быстротой в сопредельных с Пруссией уездах… К сожалению, ни в одном классе жителей события эти не произвели того впечатления, которое бы соответствовало чувству верноподданнической преданности».
А жандармский полковник Гольдебрант в тревоге уже хлопает крыльями:
«Литовские крестьяне покупают тайком в Пруссии порох…»
Ему вторит князь Суворов — новый генерал-губернатор прибалтийских губерний:
«Крестьяне Виленской губ. закупили в пограничных прусских местах множество оружий, пороху, свинцу, причем многократно говорили, что при обнаружении волнений в Литве тамошние помещики очень потерпят…»
Жандармы Третьего отделения, полицейские из министерства внутренних дел приносят своим шефам и столоначальникам совершенно невероятные известия.
Великий пост начался, прекратились балы, концерты, театральные представления, а Петербург суетится пуще прежнего. Чиновники являются в присутствия взбудораженные, делами едва занимаются. Чуть стемнеет на улицах — кареты, извозчичьи сани, пешеходы снуют от дома к дому. В церквах чистая публика с трудом выстаивает очередное богослужение и стремглав выбегает из божьего храма, как будто именно там началось светопреставление. Сыщики сбились с ног. Никогда еще их поднадзорные так часто не выбирались из дому, и вот — изволь следовать за ними иногда на противоположный конец города.
В Третьем отделении, в секретнейшем отделе перлюстрации, ни днем ни ночью не гаснет свет. Не хватает чиновников, знающих французский, немецкий, польский языки. Теперь каждое письмо поступает в отдел, и это почти вдвое увеличило объем работы.
Всего несколько недель назад корреспонденты помнили о канцелярии его величества, делились семейными радостями и горестями, слали приветы, поцелуи, восхищались природой. А тут словно сговорились — «Франция», «революция», «республика», как будто отчеты пишут. Да и то правда, императорская канцелярия сама зачастую черпает из частных писем такую информацию, которой не дают ее заграничные шпионы.
У Орлова подобраны несколько писем, он надеется, что заинтересует ими государя:
«Удивительные теперь происходят в свете дела. Франция не долее одного месяца провозглашена республикою; все уже королевства и герцогства сделались, по желанию народа, конституционными, и, наконец, Австрия и Пруссия даровали своим областям свободные права и привилегии. Ты не поверишь, какое господствует во всей Германии воспламенение умов к восстановлению Польши в прежних ее границах, с целью отделить, сколь возможно, от образованных государств Россию, как препятствующую просвещению; для этого Австрия уже объявила, а здешний король объявит завтра отречение от союза с Россией. И так как прусский король, следуя желанию своего народа, возвращает полякам все области, отторгнутые от Польши при нескольких разделениях оной, и это же самое делает и Австрия, то ничего нет удивительного, что когда два отдают, то третьего спрашивать не будут, и что неизбежно должна последовать европейская война, или война всей свободной и конституционной Европы с Россией, деспотическою, содержащею свой народ в невежестве и рабстве…»
Адресат недавно умер, а корреспондент пожелал остаться инкогнито.
Или вот еще…
Нет, пожалуй, это письмо не стоит показывать царю.
«Прошу тебя, любезный брат, напиши ко мне, что там делается у нас в России, — есть ли революция, и бунт, потому я желал бы знать, правда ли, что русский царь бежал из Петербурга и что будто была большая революция; у нас говорят, что у вас три дня был ночной мрак, так что люди от страха умирали. Что касается польской конституции, дарованной императором, то еще неизвестно, что будет с Галициею. Уже сформировалось несколько сот тысяч польской гвардии и много также конницы».
В пограничных с Галицией районах, в Прибалтике, появились подстрекательные, угрожающие, ободряющие, призывающие и просто информирующие о событиях прокламации.
Частные письма, минуя Петербург, забираются во внутренние губернии.
Полицейские Перовского доносят, что и в столице тоже имеет хождение возмутительная прокламация: «О способах увеличения ценности дворянских или населенных имений», за подписью: «Дворянин С.-Петербургской губернии, землевладелец и избиратель М. Буташевич-Петрашевский».
В последнее 1Время государь император не раз выговаривал министру внутренних дел за то, что его полиция не справляется, что ей нужно брать пример с жандармов Третьего отделения.
Перовский думал иначе. Третье отделение можно было бы и вовсе упразднить, передав все его дела по политическому сыску в руки министерства внутренних дел.
Вот и в это тревожное время Третье отделение только и знает, что подсовывает государю всякие отчеты, письма, а что же касается подлинных заговоров, антиправительственных выступлений, то оно о них и не знает. Хотя и министр не может похвастаться, его агенты не блистают сообразительностью, но это только потому, что он не имеет возможности подобрать нужных людей, у него нет тех сумм, которые расходует Орлов. Ох, как он ненавидит этого высокого генерала с маленькой головкой!
Если полиции и удастся кое-что обнаружить, генерал тут как тут, и «по высочайшему повелению» дело перекочевывает в Третье отделение. А император держится за него, как за соломинку.
Иван Петрович Липранди, потомок испанских грандов, отставной полковник русского генерального штаба и чиновник особых поручений при министре внутренних дел Перовском, жил открытым домом, имел прекрасную библиотеку и считался человеком ученым.
Его изыскания о раскольниках печатались в исторических изданиях.
Но в Петербурге знали и оборотную сторону этой «испанской медали».
Знали, что император Александр лично назначил Липранди начальником русской военной и политической полиции во Франции после окончания наполеоновских войн, что ученый-шпион берет с раскольников взятки и на совести его дела «особо секретные».
Иван Петрович приходил в негодование от этих толков, пытался их опровергать, втайне же гордился властью, страхом, который он внушает, и старался изо всех сил.
Перовскому не хватает графского титула, ведь шеф жандармов Орлов — граф; Липранди хлопочет о генеральских чинах; начальник штаба корпуса жандармов Дубельт — генерал.
Перовский — откровенный недруг Орлова; Липранди — закадычный приятель Дубельта.
И оба, министр и его подручный, хотят быть «героями» родины, ее «спасителями» и утереть Третьему отделению нос.
Литографированная записка Буташевича-Петрашевского, конечно; не воззвание и не призыв к бунту. Но она напомнила о «явлениях возмутительных». Император ныне страшно напуган. И если этот испуг поддержать искусственно, а потом представить Петрашевского и его «пятницы», о которых знает весь Петербург, как заговор, приукрасить, раздуть и «пресечь», то титул графа, чин генерала, благосклонность императора, признательность «общества» будут обретены, Орлов посрамлен и, может быть, — упразднен.
Липранди нашептывает министру:
«Открыто распространял свое воззвание на вечере у генерала Бойкова…»
«Сетует на то, что цена населенных имений ниже их фактической стоимости, что мало привлекается к землевладению капиталов, так как купечество, да и все остальные классы, за исключением дворянства, не имеют права владеть населенными имениями…»
Дворянин, а печется о купеческих интересах да и крестьян не забывает.
«Этот Буташевич предлагает предоставить купцам право приобретать населенные земли, а крестьян, которые живут на них, сделать „обязанными“ по закону 1842 года или, что еще выгоднее, дать им право выкупаться на волю за определенную и не очень обременительную сумму».
Ведь это призыв к бунту. И именно сейчас, когда в стране бродит столько вздорных слухов о воле, революции, республике!
Подымать крестьянский вопрос, когда известно, что государь и слышать об этом не желает.
«Записка Петрашевского выходит за рамди законов».
Автор предлагает учредить «кредитные земские учреждения, как в Польше».
Прекрасно, государь ненавидит этих поляков.
«Учредить сохранные кассы во всех уездных городах и поручить прием взносов в них всем приходским священникам. И при сохранных кассах создать mortt-de-piete на тех основаниях, как они существуют во Франции с присоединением права принимать под залог некоторые земледельческие произведения».
Перовский довольно потирает руки. Если такую записку передать императору, то только одного упоминания Франции будет достаточно, чтобы автора посадить в крепость.
Но будущему графу этого мало. Нужно представить дело так, чтобы Николай понял: полиция, а не жандармы открыли «обширный заговор». И преподнести «заговор» в размерах не меньших, чем этоимело место в 1825 году.
Липранди должен пронюхать о Петрашевском все. Не дай бог, Орлов опередит.
Перовский спешит под величайшим секретом сообщить императору о «нащупанных» им «нитях заговора» и умоляет его пока «преступников» не арестовывать, дать ему, Перовскому, время выведать все до конца.
И ничего не говорить графу Орлову.
Спешнева удивило появление Петрашевского. Обычно Михаил Васильевич посещал его только после многократных приглашений и очень неохотно. Николай Александрович приписывал это некоторой ревности со стороны Петрашевского. За последние месяцы Спешнев обрел большое влияние на гостей коломенского домика, и, наверное, Петрашевскому это неприятно.
Но Спешнев ошибался. Петрашевскому было совершенно чуждо чувство зависти, хотя «барин-коммунист» как-то очень выделялся среди его посетителей, и не своим красноречием, а надменным молчанием.
Петрашевский не любит бывать у Спешнева потому, что стать настоящим приятелем этого человека он не может. Они похожи в одном: ни тот, ни другой никого близко к сердцу и душе своей не подпускают.
Петрашевский удобно устроился в кресле, всем своим видом говоря, что он пришел не с простым визитом вежливости и пробудет в этом кабинете долго.
Спешнев молча ждал начала разговора, делая вид, что его занимает красноватый солнечный зайчик вечернего отсвета мартовских луж.
— Николай Александрович, общество, которое собирается у меня, мертвечина… Ничего не знают и учиться не хотят… Споры ни к чему не ведут, потому что… основные понятия не ясны.
Чего стоят Кропотов, Деев, Серебряков, да и некоторые другие? Деев и Серебряков даже квартируют у Петрашевского. Но это не социалисты.
Вот тебе и раз! И это после трех лет собраний, неутомимых поисков новых людей, закупок книг, да и просто материальных издержек, а ведь Петрашевский небогат.
— Михаил Васильевич, ты пристрастен. Разве новые посетители журфиксов — мертвечина? А Дуров? Пальм? Писатели, и не из последних, я уж не говорю о Федоре Михайловиче.
Сергей Федорович Дуров? Сегодня Петрашевскому все кажется в мрачном свете. Еще один спорщик, вдается в крайности, сам себе противоречит. А потом, когда отойдет, раскаивается, просит прощения. Умен, но как-то «в одну сторону» — это Достоевский подметил. И «религиозен до смешного», а переводит таких «богохульников», как Беранже. Вообще клубок противоречий. Не успел появиться на «пятницах», как тут же накинулся на родственные связи, заявил, что они «опутывают личность человека». Баласогло тогда поддержал Дурова, но поддержал, как фурьерист, а Дуров никогда ни одной фурьеристской книги не прочел и о социализме имеет самое смутное представление.
Александр Пальм самый задушевный приятель Дурова, пять лет вместе прожили. Пописывает повести. К Петрашевскому ездит для того, чтобы расширить свои литературные связи. Рассчитывает стать сотрудником «Финского вестника», который Петрашевский с «гостями» хотят перекупить у Дершау.
— Ну, ну, Михаил Васильевич, разве можно так? Уж если люди не интересуются фурьеризмом, так они ничего и не знают? А ведь и я не поклонник Фурье. Но это же не мешает мне уважать таких ярых фурьеристов, как Ханыков или тот же Данилевский.
Николай Яковлевич Данилевский как будто ожидал за дверью, пока назовут его фамилию.
В последнее время он часто заглядывал к Петрашевскому и был прилежным гостем Спешнева.
Данилевского посвятили в сущность спора. Но Петрашевский не хотел при свидетелях его продолжать и предложил Данилевскому для выяснения «основных понятий» сделать «изложение системы Фурье».
Видимо, под влиянием минуты Спешнев вызвался разъяснить «религиозный вопрос».
Нет, не то, не то! Данилевский, конечно, очень красно говорил о всеобщей гармонии, фаланстере, человеческих страстях. Но разве можно сейчас ограничиваться только теоретическими рассуждениями, когда революционное движение на Западе ставит вопросы злободневной политики?
События в пограничных с Галицией местах уже не напоминают разрозненных бунтов прошлых лет. И это не только влияние западных событий, но и печальный результат хозяйствования царя и помещиков внутри страны.
Только-только наступила весна, а повсюду засуха, все горит, и неурожай предвидится самый страшный из всех многочисленных неурожаев за почти двадцатипятилетнее царствование Николая I.
Опять пылают костры холерных кордонов. «Желтая смерть» вползла и в Петербург. Каждый день е столице заболевает около тысячи человек, сотни умирают.
Все, кто имеет хоть какие-то средства, бегут в деревню, на дачи. На Невском, еще недавно сверкавшем нарядами бар, пустынно. Только утром да к вечеру собираются кучками «простолюдины», о чем-то шепчутся и молча расходятся при приближении городового.
Народ верит слухам об отравителях, и сам Николай мечется по городу, увещевая «быть смиренными».
Но «простолюдины» учредили «свою полицию», выявляют отравителей и «поджигателей».
Пожары свирепствуют. Говорят, что по всей России число их перевалило за пять тысяч, а ведь это только начало — впереди лето.
Среди столичных Мастеровых, дворовых, отходников только и слышно:
— Ох, господи милостивый! Вот времечко настало!.. И город — пустырь пустырем, только мертвых видать, а живые-то где? Бывало, проходу нет от господ… А нашего брата отсель, бывало, по шеям!.. Мы туточки и остались, а господа-то? Гляди, и с собаками не отыщешь!.. А нашему брату деваться некуда… Как мухи, мрет народ-то… Вишь, как косит!
От таких разговоров до бунта один шаг.
В июне три дня волновались на Гороховой, на Сенной площади, у Андреевского рынка, на Васильевском.
Толпы горожан хватали «подозрительных», избивали. «Сигарочного мастера» Нольде, в кармане у которого нашли клей в порошке для склейки папирос, не отдали полиции. С ним расправились по-своему. И сдали только «самому царю». Досталось свахе Жигаловой, которая несла косметические принадлежности и измазанный мылом хлеб.
В Москве, в Туле, в Риге то же самое.
Число крестьянских выступлений по сравнению с прошлым годом чуть ли не удвоилось.
И как ни скрывает правительство факты, по одному тому беспокойству, которое оно проявляет, нетрудно догадаться, что дела его нехороши.
Многочисленные знакомые Михаила Васильевича в страшной тревоге за родственников, живущих по поместьям.
Одни получили известия с Волыни, что, как только наступит «светлый праздник», крестьяне начнут резать помещиков. Помещики в панике бегут в Житомир, город набит приезжими барами. Ни одна квартира не пустует.
Другим сообщили о новых пожарах. Пожары от засухи, пожары от поджогов, десятки тысяч разоренных хозяйств. И в основном — господских.
Помещики в один голос вопят о присылке войск и готовы понести любые убытки. Они засыпали Третье отделение письмами и даже стараются сгустить краски, лишь бы скорее прибыли солдаты.
Еще 14 марта Николай I выступил с манифестом:
«После благословений долголетнего мира запад Европы внезапно взволнован ныне смутами, грозящими ниспровержением законных властей и всякого общественного устройства. Возникнув сперва во Франции, мятеж и безначалие скоро сообщились сопредельной Германии, и, разливаясь повсеместно с наглостию, возраставшею по мере уступчивости правительств, разрушительный поток сей прикоснулся, наконец, и союзных нам империй Австрийской и королевства Прусского. Теперь, не зная более пределов, дерзость угрожает в безумии своем и нашей богом вверенной России. Но да не будет так! По заветному примеру наших православных предков, призвав на помощь бога всемогущего, мы готовы встретить врагов наших, где бы они ни предстали, и, не щадя себя, будем в неразрывном союзе со святой нашей Русью защищать честь имени русского и неприкосновенность пределов наших. Мы удостоверены, что всякий русский, всякий верноподданный наш возглас: за веру, царя и отечество, и ныне предукажет нам путь к победе, и тогда в чувствах благоговейной признательности, как теперь в чувствах святого на него упования, мы все вместе воскликнем: „С нами бог! разумейте языцы и покоряйтеся, яко с нами бог!“»
Путано, сумбурно «монаршье» толкование событий. А дворянство засыпало императора благодарственными, верноподданническими адресами. Николай с 1825 года в обиде на дворян за 14 декабря. Теперь настала пора «примирения».
Дворяне старались изо всех сил.
Полтавские пожертвовали на нужды армии 1,5 тысячи волов.
Черниговские — 100 тысяч пудов муки.
Екатеринославские — 20 тысяч четвертей.
Тамбовское дворянство в порыве воодушевления не смогло придумать подарка достойного и умоляло «…о милостивом — назначении ему какого-либо подвига или жертвы для блага отечества».
Сплачивались ряды контрреволюции. Оттачивалось оружие. И разве можно было бороться с этим злом при помощи фурьеристских заклинаний?
Петрашевский мучительно переживал политичен скую несостоятельность фурьеризма, которому как идее оставался верен до конца.
Много ли есть на свете людей, которые поймут вычурность языка французского социалиста? До многих ли дойдет его оригинальный взгляд, изложенный так непоследовательно?
С книгами Фурье не подойдешь к народу, это не евангелие.
Значит, дальнейшая пропаганда фурьеризма возможна только в ограниченном кругу людей более или менее образованных. Петрашевский не раз советовал своему квартиранту, недоучившемуся студенту, завести у себя вечера и пропагандировать фурьеризм. Но тот не смог этого сделать, так как сам в нем не разобрался.
Если думать всерьез о перемене правительства, уничтожении крепостничества, установлении «единственно достойного человека» «республиканского образа правления», то нужно действовать иначе. И «е так, как это пытались сделать декабристы.
Двадцать три горьких года убедили, что „заговор 14 декабря не мог никаким образом иметь успеха“. Ведь „главная его цель была известна только очень малому числу действующих лиц, между тем как другие действовали наобум“.
Петрашевский в последние месяцы только и думает о причинах, порождающих успех восстания.
Чтобы „подобные предприятия“ были успешны, нужно людям, распоряжающимся» стоящим во главе заговора, «преодолевать самые малые препятствия, иметь всегда успех в самых с первого взгляда незначительных обстоятельствах, и, таким образом приобретая мало-помалу доверие и внушая всем и всякому необходимость нового порядка вещей, они могут надеяться на самый верный, самый блистательный успех».
Народ, народ решает все, а не заговорщики. К этой мысли пришел Петрашевский. «Масса всегда против правительства», а «когда этой массой будут распоряжаться люди, которые убеждены в своих мнениях и имеют полное доверие и к друг другу, и к своим действиям, то правительство никакими средствами не в состоянии будет остановить общего потока…»
Но ведь для осуществления перемен, которые произойдут в результате народного восстания, крестьянской войны, надобно подготовить народ. Подготовить «исподволь». «Как можно осторожнее» накапливать силы и «средства к восстанию таким образом, чтобы идея о перемене правительства не заронилась бы в головы двум, трем десяткам лиц, но утвердилась бы в массах народа и казалась не внушенной, а естественно рожденной по положению дел».
Так рождалась тактика подготовки восстания, так рождался план — превратить кружок людей, группирующихся около Петрашевского, из числа постоянных посетителей «пятниц», в «общество пропаганды». Но должна вестись пропаганда не только фурьеризма, то есть планов построения жизни в будущем, а непосредственных политических задач и практических действий, которые должны в конечном итоге подготовить народное восстание.
Это опять была измена фурьеризму. Но Петрашевский уже не мог оставаться только теоретиком. По темпераменту он боец, практик, человек беспокойной, ищущей мысли и жаждущий дела.
«Стать во главе разумного движения в народе русском», «нести землю на плечах своих», как Атлант, — Михаил Васильевич считал себя способным на это, верил в свои силы. И приглядывался к тем, кто являлся на его журфиксы. Сколько новых людей! А он все расширяет и расширяет свой круг знакомств, особенно среди разночинцев.
Недавно сошелся с Антонелли.
10 марта 1.848 года. Липранди окончательно переключился на Петрашевского. «Пятницы» в коломенском домике хорошо известны в Петербурге. А с началом событий на Западе они привлекают все большее число посетителей. Соответственно увеличивается количество сплетен. Даже среди дворников и то слушок — «по пятницам Петрашевский пишет новые законы».
Липранди косвенными расспросами выяснил, что у Петрашевского собирается народ образованный, споры ведутся вокруг научных и социальных проблем. Значит, если попробовать ввести на журфиксы простого агента, то вряд ли тот что-либо поймет.
Нужен «интеллигентный сыщик», с хорошей памятью. Ведь, присутствуя на собраниях, он не сможет записывать все, что говорится, тут же, на месте, а только по приходу домой. Интеллигентного шпиона в распоряжении Липранди не было. Да он и боялся поручить это «щекотливое» дело кому-либо из соглядатаев, давно подвизающихся на службе министерства внутренних дел. По сведениям полиции, Петрашевский «страшно хитер», имеет «обширнейшие знакомства», а значит, может быть осведомлен и о доносчиках.
Нужен шпион с «незапятнанной репутацией», университетским образованием, который сразу же согласился бы взять на себя слежку. Отказ может повлечь за собой в дальнейшем разоблачение намерений Липранди и провал всего «дела».
На примете у Липранди есть один молодом человек. Он сын академика живописи, окончил — правда, весьма посредственно — гимназию и учится на первом отделении филологического факультета по восточной словесности. Учиться ему, видимо, не очень хочется, а для жизни вольной нет денег. Поступить на службу без протекции и без образования трудно, да к тому же и служить этот молодец не слишком-то рвется.
Липранди рискнул, и сын академика живописи тут, же согласился.
Теперь начальника сыска беспокоит одно: справится ли этот лоботряс? «Лоботряс» кое-что читал, имел приличную память, но наружность у него была не слишком-то симпатичная. Блондин, небольшого роста и с большим носом. Светлые бегающие глазки. В одежде — пристрастие к ярким жилетам.
Это последнее свойство вполне понятно. Хотя молодого человека и зовут Петр Дмитриевич, но фамилия его Антонелли. Итальянская кровь в нем заметно сказывается.
Испытания агента-провокатора прошли успешно. Антонелли без сожаления расстался с университетом и был водворен канцелярским чиновником в департамент, где служил Петрашевский.
Когда человек ищет людей, а агент хочет познакомиться с ищущим, то знакомство состоится обязательно.
Антонелли познакомился с Петрашевским, потом короче сблизился, и нетерпеливый доверчивый Михаил Васильевич тут же начал «обращать» нового приятеля. Он считал Антонелли «человеком недоконченным», но думал, что, «принявшись за него», можно сделать из этого итальянчика «что-нибудь хорошее». Сначала пошли в ход книги. Потом Михаил Васильевич продиктовал агенту 134 французских слова, вручил «Dietionnaire politique» и велел перевести. «Ассоциация», «Конституция», «Федерация», «Революция», «Республика». Переводы должны были состоять из небольших пояснительных статеек с «применением к нашему быту», как напутствовал учитель.
А на «пятницах» все новые и новые лица. Появились и офицеры. Сначала Петрашевекий скептически относился к представителям «доблестных российских войск». Ему казалось, что военные — «это народ, по большей части, необразованный, с какими-то странными, особенными понятиями и взглядами на вещи». Фурье вообще считал армию и флот «национальными паразитами».
Но Павел Алексеевич Кузьмин, штабс-капитан генерального штаба, производит совершенно обратное впечатление. Баласогло, который привел его на «пятницу», не чает в нем души.
Милый, милый Александр Пантелеймонович! Он опять потерпел еще одно крушение надежд.
Из Петербурга в Восточную Сибирь отправлялся новый генерал-губернатор — Николай Николаевич Муравьев.
Генерал-губернатор, готовясь к поездке в страну «медведей и каторжников», запасался сведениями. Баласогло составил для него две специальные статьи, рассказал все, что знал о Сибири, Китае, Японии, Восточном океане, Америке.
Муравьев был положительно в восторге и даже во всеуслышание заявил, «что ему теперь уже не нужны никакие сведения, того, что он узнал от Баласогло, никакие разбывалые там люди ему не доставят». Вельможно обещал походатайствовать перед Географическим обществом о посылке Александра Пантелеймоновича, штабс-капитана Кузьмина и капитана флота Невельского в путешествие по Восточной Сибири. Пообещал и уехал, забыв о Баласогло, Кузьмине, хотя потом вспомнил о Невельском.
И Баласогло, в который уж раз, взялся за новое предприятие. Он возмечтал об издании «Листка искусств». Для этого нужны деньги и помещение под издательство. Штабс-капитан получил наследство, хочет купить в Петербурге дом и готов поселить в нем Баласогло со всеми граверами и художниками.
Петрашевский радушно принял Кузьмина, как. только убедился в его уме, любознательности и критическом отношении к «российской действительности».
Жаль только, что Павел Алексеевич должен уехать в длительный вояж по Тамбовской губернии. Хотя и командировку можно использовать для расширения географии «Общества пропаганды». Петрашевский просит Кузьмина присматриваться к людям провинции и постараться обнаружить таких, которые могли бы распространять «новые идеи общественности».
Кузьмин и Петрашевский тепло попрощались. Они оба сегодня уезжают.
Петрашевский едет в деревню до осени.
Павел Алексеевич с сожалением смотрел на последние домишки петербургской окраины, быстро убегающие назад. Эта командировка в Тамбовскую губернию надолго оторвет его от столицы.
Но теперь он по-другому будет вглядываться в провинцию, в ее людей, быт, нравы и, конечно же, оживленно обсуждать все увиденное в письмах к Петрашевскому и Баласогло.
Милейший Александр Пантелеймонович, жизнь по-прежнему круто обходится с ним и ни в чем не шлет удачи. Хотя бы это начинание с «Листком искусств» выгорело: и польза несомненная, да и автору моральная поддержка. Иначе расточит силы свои и погрязнет в бездействии и нищете. Если бы еще удалась затея с покупкой дома, то Баласогло получил бы немного комиссионных за хлопоты да к тому же постоянный кров. А иметь такого квартиранта, как Александр Пантелеймонович, одно удовольствие.
Пылит петербургский тракт. Бесконечно тянутся возы со снедью, туши коров, баранов. В бочках повезли живую рыбу. Визжат свиньи, растревоженные неизвестностью и дорожными ухабами. Закроешь глаза, и кажется, что попал на скотный двор.
Карет пока не видно, но фельдъегерские тройки уже закусили удила.
Черт те сколько предстоит ему отмахать! Только до первопрестольной — 600 без малого. А там, в эту глушь?..
Впрочем, что это он жалуется, ведь привык, пришлось-таки поколесить по матушке по Руси. Как-никак, а проехал от Петербурга до Екатеринослава, побывал и в Вологде и в Слониме.
Дорога у Петербурга вплотную подходит к насыпи, где кладут рельсовый путь. Вот уже шесть лет, как тянут железку в Москву, а когда-то еще кончат… Светлейший князь Меньшиков острит, что его превосходительство, начальник всех строительных работ в империи Адлерберг одновременно заложил собор, мост через Неву и Московский вокзал, «так вот, собор, — говорит князь, — мы не удидим, но его увидят наши дети, мост увидим мы, но наши дети его уже не увидят, а вокзал не увидим ни мы, ни наши дети». Злой язык у князя, да похоже на правду. А ведь как дорога нужна1 Этого не хотят понять только те, кто боится каких-либо изменений. Петрашевский рассказывал о бароне Корфе — кажется, они учились вместе в лицее. Так барон прямо заявляет, что для того, «чтобы просуществовать долее, не нужно ничего трогать». Вроде мумии: пока лежит — целая, а тронь ее — и один прах останется.
Просвещение, передовые социальные идеи утопают в грязи русских проселков. В провинции дичь несусветная. Петрашевский перед отъездом просил присмотреться к тамбовскому обществу, быть может, заронить кое в ком искру интереса к фурьеризму, растолковать, что к чему. Да какой там фурьеризм, небось «тамбовское общество» и состоит-то из одних картежников да допотопных чудаков собачников. Кузьмин хорошо знакам с этой провинциальной скукой, когда некуда деться, не с кем переброситься словом или уже все слова пересказаны. Вот и тянутся к зеленому столу, просиживая за ним здоровье, состояния, отвыкая от беседы, и только знай лают: «вист», «пас», «своя». Уж лучше бы и вовсе молчали или заменили бы слова какими-нибудь условными знаками и не хрипели бы в ухо соседу да не отравляли воздух винными парами.
Желчь разыгралась, а нужно держать себя в руках, может быть, действительно стоит попытаться расшевелить провинциальные головы. Ведь там тоже люди, а он тут со столичной спесью…
Встречные телеги раздражали скрипом, окрики ямщиков казались пьяным ухарством.
И вообще, черт подери, почему кучер не погоняет, вон солнце как высоко, а проползли каких-нибудь десяток верст!
Карета застучала, задергалась, жалобно кляцнули рессоры. Стало бросать от стенки к стенке, штабс-капитан больно стукнулся головой о крышу и окончательно вышел из себя.
— Стой!.. Стой, тебе говорят!..
Кузьмин с трудом выбрался из этой «трясогузки» и, велев кучеру ехать, шагом, побрел по обочине тракта. Сразу умиротворяющая тишина июньского дня охватила Павла Алексеевича. Легонько подувал теплый ветерок, постреливали кузнечики, да из темных хвойных рощ тянуло терпким запахом ели и сырости.
Благодать-то какая! Живут они в столице, как на театре, — все в декорациях, и все играют какую-то роль. Только вот здесь, среди этих елей, в море высоких трав, человек может быть самим собою. Да и то разве наедине.
Расфилософствовался и не заметил, что дорогу экипажу преградил кордон. Солдаты стояли угрюмые, и только суетливый унтер, успев с утра охрипнуть от крика, направлял обозы и экипажи в объезд деревеньки, видневшейся вдали.
Холера, холера! В столице и рядом с нею! Унтер доверительно сообщил штабс-капитану, что двадцать сельчан уже померли.
Кузьмин не решился сесть в карету, которая, проваливаясь по самые оси в рытвинах, чуть не кувыркаясь, с трудом плелась вслед за какой-то телегой. — Холера! Павел Алексеевич часто наталкивался на подобные кордоны, разъезжая по России. Да вот, слыхать, и на Тамбовщине она свирепствует вовсю. Сказывали, что в имении Баратынской в Кирсановском уезде из 1 000 человек умерло 300, никто на полевые работы не выходит. А тут еще пожары начались от холерных костров. И сотни погорельцев, прорываясь сквозь оцепления, бредут по миру с «Христовым именем» и с заразой.
Скорее в Тамбов прибыть да начать описание губернии. За работой меньше беспокойных мыслей в голову лезет.
Конечно, он не совсем был прав, предполагая, что тамбовчане сплошь состоят из картежников, пьяниц и охотников-вралей. Встретились и любопытные, неплохо образованные люди вроде Сабурова. Человек с характером сильным, смелый, даже дерзкий, но на свой лад. По сути, он делец, каких немного среди тупых, обленившихся, одичавших помещиков. Интригует против губернатора. Сместил одного, теперь добивает другого. Мечтает о том, чтобы на дворянских выборах добиться места губернского предводителя. Не нравится ему имение, доходов мало, так он его в розницу распродает. Крестьян на своз, лес на сруб, землю особо, а в результате получил вдвое против того, что имел, если бы продал поместье целиком.
Ну, а остальные, даже князья, глупы. К примеру, директор училищ Тамбовской губернии Тросновский. О нем кто-то сказал: «Глуп, как сало». Он хорошо знает катехизис «с текстами, но без толкования». Как и предводитель дворянства, князь Гагарин.
А уж если отъехать несколько десятков верст в какой-нибудь уездный клоповник вроде Лебедяни, то с ума можно сойти. Весь местный бомонд заседает в гостинице да в театре. Есть таковой здесь. В гостинице с утра до вечера карты, цыгане, а в театре некая Азбукина. Небесталанная на фоне остальных убожеств и мальчишек из цирюльни, исполняющих бессловесные рели. Тут же в театре жрут, бросают на пол объедки, никто их не прибирает — вонища страшная, но женская часть бомонда, кажется, никогда бы/ и не вылезала из этого ристалища. Мужская — предпочитает гостиницу, водку и карты, цыганки не в счет.
Павел Алексеевич хотел испить до дна чашу «первооткрывателя». Он уже давно убедился, что социальное пропагаторство, о котором так восторженно говорил Петрашевский, совершенно невозможно в провинции, и все же искал, искал людей, способных заинтересоваться новыми идеями.
Обычно они встречались около шинельной. Живой, непоседливый Александр Владимирович Ханыков всегда окружен студентами. Его самого исключили из университета за «неблагонадежное поведение», но он здесь постоянный гость.
Николай Чернышевский сдружился с Ханыковым на первом курсе, но его просто пугает эта бьющая ключом энергия. Ханыков вечно в бегах, достает какие-то книги, вечерами дома никогда не бывает. Умен, I начитан, и, конечно, окончи он университет, из него вышел бы незаурядный знаток восточной словесности, ученый.
В последнее время Ханыков как-то внимательно присматривается к Чернышевскому, словно изучает. Это неспроста.
Александр Владимирович и раньше заявлял себя фурьеристом, атеистом, а теперь, когда на Западе революции, он может говорить только об этих событиях, забыв о том, что Фурье отвергал революцию.
Да и Чернышевский следит за ними. Но что любопытно, под влиянием революционных идей круто меняется его мировоззрение. Николай Гаврилович ведет дневник для себя.
Часто его перечитывает.
В 1848 году тетрадь пестрит такими записями:
«28 июля. — …Все более утверждаюсь в правилах социалистов».
«2 августа. — Кажется, я принадлежу к крайней партии, ультра: Луи Блан особенно, после Леру, увлекают меня, противников их я считаю людьми ниже их во сто раз по понятиям, устаревшими если не по летам, то по взглядам, с которыми невозможно почти и спорить..:»
«2 сентября. — …Мне показалось, что я террорист и последователь красной республики».
«12 сентября. — Весь день читал все „Debats“. Странно, как я стал человеком крайней партии…»
«18 декабря. — Мне кажется, что я стал по убеждениям в конечной цели человечества решительно партизаном социалистов и коммунистов и крайних республиканцев, монтаньяр решительно…»
Ханыков замечает, что Чернышевский, раньше чуравшийся всего, что не относилось к занятиям и литературе, стал интересоваться политикой.
Между прочим, он дал почитать Николаю Гавриловичу второй том сочинений Фурье и теперь любопытствует узнать его мнение. Чернышевский прочел всего 40 страниц, но мнение составил, даже записал в дневнике.
«Все равно, как будто бы читаешь какую-нибудь мистическую книгу средних веков или наших раскольников: множество (т. е. не множество, потому что и всего-то немного, а просто несколько) здравых мыслей, но странностей бездна».
И одна из «странностей» заключалась в том, что Ханыков не стал спорить, разубеждать, опровергать. Вероятно, этого фурьериста сейчас занимали иные идеи. Он пригласил Чернышевского к себе домой, чтобы поговорить пообстоятельней.
Ханыков оказался не только «дельным человеком», это был «ужасный пропагандист». Идеи социалистов-утопистов у него как-то очень ловко сплетались с радикальным взглядом на существующий порядок вещей. Ханыков прямо указал Чернышевскому на близость революции в России. Николай Гаврилович промолчал, и Ханыков с еще большим жаром стал убеждать его в этом.
А дома Чернышевский записал в дневнике:
«Более всего говорили о возможности и близости у нас революции, и он здесь показался мне умнее меня, показавши мне множество элементов возмущения, например, раскольники, общинное устройство у удельных крестьян, недовольство большей части служилого класса и пр., так что в самом деле много я не замечал. Итак, по его словам, эта вещь, конечно, возможна и которой, может быть, недолго дожидаться».
Ханыков был очень доволен «успехами» Чернышевского. Это не рядовой студент, и если он сделается поборником революционных идей, то со всей силой таланта, ему присущего, станет их распространять.
Никто не уполномочивал Александра Владимировича вести пропаганду среди студентов университета, но несколько раз на «пятницах» у Петрашевского говорили о необходимости подобной пропаганды в среде учащихся.
Ханыков через своего приятеля и посетителя «пятниц» Ипполита Дебу 2-го, как его именовали друзья, потому, что первым был его старший брат Константин, познакомился с Дмитрием Дмитриевичем Ахшарумовым. Под влиянием Ханыкова Дмитрий Дмитриевич стал «страшным фурьеристом», хотя к Петрашевскому Ханыков и Дебу сумели его затащить только в конце 1848 года. Михаил Васильевич тепло встретил брата своего лицейского товарища. Ахшарумов окончил университет, был кандидатом по факультету восточной словесности и рвался в Турцию. Неудачная любовь, вечная нехватка денег, мрачные мысли «о невозможности улучшения человечества до сего принятыми средствами» толкали Ахшарумова к уединению. Он искал забвения в стихах. Но и его расшевелил 1848 год.
Земля, несчастная земля — Мир стонов, жалоб и мученья! На ней вся жизнь под гнетом зла, И всюду плач — со дня рожденья; В делах людских — раздор и крик, И трубный звук, и гул орудии, И вопль, и дикой славы клик; Друг друга жгут и режут люди! Но время лучшее придет: Война кровавая пройдет, Земля произрастет плодами, И бедный мученик-народ Свободу жизни обретет С ее высокими страстями: Обильный хлеб взрастет Над взрытыми Нолями, И нищая земля покроется дворцами!
Нет, не келья, не монастырь и не экзотическая Турция, а Россия нуждается в нем и ему подобных. Нести революционные идеи в массы, искать единомышленников, проникнутых «духом времени, который быстро распространяется и обнимает все наше поколение», — вот что должны делать они: Дебу, Ханыков, их друзья.
И «первое, с чего нам начать, — распространить мнения в своем кругу», «ученых, людей практических… военных людей», «взять в свои руки университет, лицей, правоведение, училища артиллерийское и инженерное, кадетские корпуса и гимназии».
Ханыков «брал» университет. А вот Кузьмину никак не удавалось найти людей, готовых воспринимать фурьеристские идеи. Хотя при откровенном разговоре все с тем же Сабуровым он с удивлением услышал из уст этого помещика критику фурьеризма. Сабуров сам дошел до мысли о «необходимости изменений», но когда Павел Алексеевич стал развивать план постепенных преобразований, Сабуров резко прервал его:
— Извините, изменения воспоследуют, но путями не последовательными, а кризисом!
Не было никакого сомнения, что Сабуров имел в виду революцию, подобную французской.
Счастливая мысль — познакомиться с учителями Тамбова, — привела Кузьмина в местную семинарию. Увы, вакации разогнали учащихся по домам, учителя разъехались, и Павел Алексеевич довольствовался обходом помещения.
Какой ужас! В трехэтажный дом, где разместились спальни семинаристов, штабс-капитана идти отговорили — там было слишком много «беспокоящих человечество насекомых». Церковь, классы, библиотека заросли грязью. Никогда не проходящие запахи вызывали тошноту.
В библиотеке обрывки учебников. Нет даже самых распространенных богословских книг.
Духовное училище… можно скорее назвать «удушливым», нежели духовным.
Классы в 20 квадратных саженей, и в этой полутемной комнате одновременно помещаются 185 мальчиков. Кузьмин уважал геометрию, но никак не мог решить задачу — рассадить учащихся на скамейках с косыми столиками. Рядом с классом — ретирадные места, и вонь стоит ужасающая.
В комнатах, где живут бурсаки, воздух чище, но постели гадки. Бурсаки носят какие-то рубища. Два-три наставника, с которыми успел познакомиться Кузьмин, утвердили его в мысли, что «преподаватели не имеют никаких данных для развития способностей, не только чужих, но даже своих».
Нужно оканчивать военно-статистическое описание губернии и уезжать, уезжать отсюда.
Вода желтовато-свинцово-грязная. Нева всегда такая и весною и осенью. А летом голубизна неба или хмурость туч вызывают на ее лике только одну гримасу — болотной желчи. И течет, течет река.
Октябрьский день такой прозрачный, свежий и празднично золотистый. Все лето без дождей. Осень как лето. Ни одного зеленого просвета на деревьях парков и хрустящая красно-желтая земля.
Петрашевский устал следить за волнами Невы. Они бегут и не движутся. Накатываются на берега, как фаланги римских легионеров, и вновь отступают, пенятся от сдержанного гнева. Наводят тоску.
Сегодня в сенате слушается дело следственного пристава Зануцци, которого Петрашевский обвинил в нарушении закона и использовании служебного положения.
Зануцци в письменном объяснении сенату заявил, что Петрашевского обуревает «неодолимое, страстное. влечение… к занятиям судебными, тяжебными и стряпческими делами… самые усиленные поиски и вызовы тяжущихся посредством газетных публикаций и даже завлечения их силою»… А ночи он проводит «в бдении над изучением законов и их глубокого смысла — все это ведет к заключению, не принадлежит ли эта загадочная страсть его к области болезни, хотя бы и одностороннего качества, вроде меломании, и тогда этим только можно объяснить себе поступок г. Петрашевского».
Поступок! Весь поступок заключался в том, что Михаил Васильевич не позволил зарвавшемуся следователю обманывать офицера Кондратьева, запугивать его. Петрашевский был только свидетелем, были и другие, но они побоялись выразить протест.
Черт с ним, с Зануцци.
Ветер налетел внезапно, дрожью пробежал по воде, сорвал с какого-то генерала треуголку и закружил листья. Красные, золотые, они вихрями подымались под крышу сената, метались в ярости у стен Зимнего. Падали на землю, чтобы при новом порыве вновь взбунтоваться красно-желтой вспышкой.
Огромная пирамида из живых людей. Нижние распростерты и уже потеряли человеческое подобие от непосильной тяжести, давящей на них сверху. Здесь масса знакомых, но об этом можно догадаться только по косвенным приметам. Чем выше ярусы пирамиды, тем привлекательнее внешний вид людей, а вершина забралась на такую высоту, что и не разглядеть. Это только сон мелкого чиновника из повести «Запутанное дело» Салтыкова. Дерзкий умысел — «изобразить в аллегорической форме Россию» — кончился для сочинителя высылкой в город Вятку.
А тяжесть верхних ярусов пирамиды день ото дня возрастала.
Революционные события в Европе ставили перед самодержавием альтернативу: «революция или империя». И опасность царизму угрожала не только с Запада, но и изнутри, от тех, кого давит, расплющивает пирамида.
Осень 1848 и зима 1849 года — время мер «чрезвычайных» даже для видавших виды царских подручных. Меньшиковский «чрезвычайный», бутурлинский «секретный» цензурный комитеты начали «политику цензурного террора». Строгое внушение редакторам, аресты, полицейский надзор за авторами, осмеливавшимися намекнуть на необходимость перемен, покритиковать действия властей.
Бутурлин советует закрыть университеты, но пока студентам запрещено ходить в кондитерские и читать газеты. Правительству мерещатся «партии красных» среди учащихся.
Идет пересмотр полномочных представителей власти на местах.
В Москву приезжает новый генерал-губернатор — Закревский, бывший министр внутренних дел, настоящий тип николаевского генерала, олицетворение грубой наглости «невежественной и ничем не сдержанной власти».
Закревский всюду видел злоумышленников, в особенности либералы были предметом зоркого наблюдения: шпионство было организовано в обширных размерах. Против самых невинных лиц он в отчетах своих ставил отметку: «готовый на все».
В армию призвали новые контингента рекрутов. Войска кордоном встали на западных рубежах, в Прибалтике, Украине, на юге.
Но летом во Франции контрреволюция разгромила июньское восстание парижских рабочих, и это подало знак всей реакционной Европе. Зашевелились короли прусский и австрийский. Русский царь, несмотря на возможные осложнения с Турцией и Англией, ввел свои войска в придунайские княжества и вооруженной рукой уничтожил там конституционный строй. Лондон промолчал, занятый положением в Ирландии.
Контрреволюция наступала широким фронтом за пределами России, а внутри ее свирепела реакция.
Подводя итог истекающему 1848 году, царь писал своему верному генералу Паскевичу: «Мы более других обязаны бога благодарить за то, что спас нас от гибели, постигшей других».
Бог спасал от революции.
Спешнее только отобедал и собирался немного вздремнуть, когда слуга доложил, что к нему с визитом Плещеев и Достоевский. Это уже походило на депутацию, так как обычно Николай Александрович по понедельникам никого не принимал.
Но Плещеев никак не напоминает парламентария, а Достоевский с интересом, и уже в который раз, разглядывает книги.
Спешнев любезно отвечает на пустяковые вопросы, но сам их не задает. В конце концов этот визит его раздражает. Ужели Плещеев не мог подождать день-два со своими анекдотами?
Достоевскому они, видимо, тоже надоели. Плещеев в последнее время увлекается писанием фельетонов, делает это не без успеха и для того, чтобы его сатиры были острее, всюду и везде собирает курьезные слухи и анекдоты.
Но они пришли к Спешневу посоветоваться.
— Не кажется ли вам, Николай Александрович, что у Петрашевского скучно, говорят только о предметах ученых, да и много новых, почти незнакомых друг другу людей набежало — страшно даже слово сказать…
Николай Александрович усмехнулся своим мыслям. Давно ли в этом самом кабинете Петрашевский жаловался ему же, Спешневу, на вот этих посетителей «пятниц»? Теперь с жалобой явились они.
Но интересно знать, почему же Достоевский, сетуя на скуку, посещает это «разговорное общество»? Только ли потому, что иных в Петербурге, насколько известно, нет, а не говорить, не спорить Федор Михайлович не может?
— Э, батенька, тот же вопрос задал мне на днях мой добрый знакомый и ценитель доктор Яновский. И я ему слово в слово ответствовал: бываю оттого, что у Петрашевского встречаю хороших людей, которые у других знакомых не бывают; а много народу у него собирается потому, что у него тепло и свободно, притом же он всегда предлагает ужин, наконец, у него можно полиберальничать, а ведь кто из нас, смертных, не любит поиграть в эту игру, в особенности когда выпьет рюмочку винца, а его Петрашевский тоже дает… Ну, вот к нему и ходит всякий народ.
Спешнев позвонил в колокольчик. Явился слуга. Николай Александрович сделал ему какой-то знак. Слуга исчез, чтобы через минуту внести поднос с бутылкой вина и рюмками. Достоевский понял намек: «мол, и у меня винцо водится, и хорошие люди забегают на огонек, а вот „разговорного общества“ я заводить у себя не собираюсь».
А они, то есть Плещеев, Достоевский, Дуров и Данилевский, кстати, уже не бывающий у Петрашевского, собираются.
— Мы намерены приглашать только тех из своих знакомых, в которых уверены, что они не шпионы. Приглашаем и вас, Николай Александрович, и вы вольны приглашать к Плещееву, где мы хотим сходиться, всякого из своих знакомых.
Спешнев не торопился с ответом. Конечно, это будущее «общество» он не может назвать иначе, как «от страха перед полицией». И мысль-то о нем родилась у людей робких, которые желают просто разговаривать, но боятся, что им за каждое слово может достаться.
Нужно приглядеться. Может быть, он сумеет преодолеть их страх и превратить кружок в зачаток революционной организации. Хотя? Не те, не те люди! Говорят, что собираются читать, когда что будет, но только беллетристику.
И все же Николай Александрович пришел к Плещееву. Почти все знакомые — Дуров, братья Достоевские, Данилевский, Порфирий Ламанский. Новым человеком для Спешнева был Павел Николаевич Филиппов — студент физико-математического факультета, причем его в шутку величают «вечным студентом». Действительно, в университете он с 1841 года. Увольняли в 1845 году за беспорядок во время перемены, потом опять приняли, сначала вольнослушателем, потом действительным, но в 1848 году он сам не ходит на лекции. Спешнев видел его раза два у Петрашевского, но не успел познакомиться.
Достоевский говорит, что человек он честный, как-то «изящно вежлив», правдив, прямодушен, но очень горяч и готов на любое сумасбродство. Спорщик, видать, страшный, но по молодости неопытен и не имеет сколько-нибудь устоявшихся убеждений.
Вот уж действительно «разговорное общество». Несмотря на то, что у Петрашевского сходится масса незнакомых людей и в иной день их бывает до пятидесяти, в разговорах чувствуется какая-то целенаправленность.
Да теперь есть и «президент» — Чириков. Забавный старик. Хвастается тем, что «наукам не учился» и решительно ничего в них не понимает, но зато много лет исправно тянул чиновничью лямку, сделался надворным советником, построил в Павловске дачу, а в Государственном коммерческом банке, где он служит, на его имя лежит 40 тысяч капитала.
Живет он в доме Петрашевского. Во время споров сидит на диване за чайным столом. Когда уж слишком разгораются страсти, звонит в колокольчик. Колокольчик оригинальный — в виде полушария, а ручка — статуя Свободы. И уже в Петербурге об этом колокольчике ходят легенды.
А у Плещеева собрались и не знают, что делать. Хорошо, что хозяин сегодня именинник и можно ограничиться застольными пустяками.
Плещеев не мог принимать у себя регулярно: у него больная мать, да и сам он часто страдал приступами золотухи и каким-то странным недугом глаз, от которого вечерами чуть ли совсем не слеп.
Но все же к нему приходят. Прочли в газете «La Presse» речь Феликса Пиа. Добыли где-то рукопись статьи Герцена «Петербург и Москва». Хотя статья написана давно, в 1842 году, но она злободневна и в 1848, в ней много метких, остроумных наблюдений, едкая критика.
Например, хороши перечисления российских императоров с краткими комментариями.
«В свое время приедет курьер., привезет грамотку— и Москва верит печатному, кто царь и кто не царь, верит, что Бирон — добрый человек, а потом — что он злой человек, верит, что сам бог сходил на землю, чтобы посадить Анну Иоанновну, а потом Анну Леопольдовну, а потом Иоанна Антоновича, а потом Елисавету Петровну, а потом Петра Федоровича, а потом Екатерину Алексеевну на место Петра Федоровича. Петербург очень хорошо знает, что бог не пойдет мешаться в эти темные дела, он видел оргии Летнего сада, герцогиню Бирон, валяющуюся в снегу, и Анну Леопольдовну, спящую с любовником на балконе Зимнего дворца, а потом сосланную; он видел похороны Петра III и похороны Павла I. Он много видел и много знает…»
Молодые москвичи либеральничают, но этот либерализм проходит у них «тотчас, как побывают в тайной полиции… В Петербурге все делается ужасно скоро. Полевой в пятый день по приезде в Петербург сделался верноподданным; в Москве ему было бы стыдно, и он лет пять вольнодумствовал бы еще… Белинский, проповедовавший в Москве народность и самодержавие, через месяц по приезде в Петербург заткнул за пояс самого Анахарсиса Клоца.[1] Петербург, как все положительные люди, не слушает болтовни, а требует действий, оттого часто благородные московские говорители становятся подлейшими действователями. В Петербурге вообще либералов нет, а коли заведется, так в Москву не попадает; они отправляются отсюда прямо в каторжную работу или на Кавказ».
Еще весною, зайдя к Плещееву, Спешнев предлагал ему, Данилевскому и братьям Достоевским: пусть они пишут, о чем только им вздумается, он, Спешнев, готов «взять на себя» печатанье их произведений за границей. Там у него имеется хороший знакомый. Кстати, редакция «Pevue Independante» предложила ему помещать в этом журнале статьи о России.
Данилевский тогда обрадовался, Михаил Достоевский сразу же отказался, Плещеев и Федор Михайлович были смущены и обещали, что если пришлют, то к осени, а если и осенью ничего не пришлют, то значит—не хотят.
И вот уже не осень — зима, а никто ничего не прислал. Между тем Спешнева очень занимает мысль о налаживании бесцензурного издания русских политических сочинений за границей. Это было бы серьезным вкладом в дело революционной пропаганды. Ведь теперь уже мало кто из «основных» посетителей Петрашевского сомневался в том, что «пятницы» — это только предлог для собраний и что от разговоров многие уже перешли непосредственно к делу.
Но с печатаньем пока не получается, остается пропаганда устная.
Спешнев готовился об этом открыто говорить на собрания, он даже сделал набросок речи: «С тех пор как стоит наша бедная Россия, в ней всегда возможен был только один способ словесного распространения — изустный, для письменного слова всегда была какая-нибудь невозможность. Оттого-то, г.г., так как нам осталось изустное слово, то я и намерен пользоваться им безо всякого стыда и совести, без всякого зазора, для распространения социализма, атеизма, терроризма, всего, всего доброго на свете, и вам советую то же».
«Разговорные общества» входят в моду. Александр Иванович Пальм собрал у себя гостей. И снова — разговоры, разговоры, «согревание умов», «накал страстей». Пальм устал. Устал слушать, устал от слов. У него даже начался приступ почечной болезни.
Но в это время у подъезда позвонили.
Хозяин, проклиная позднего посетителя, тяжело спустился к дверям.
— Момбелли!. — Пальм искренне обрадован. Во первых, выздоровлению поручика, во-вторых, до него дошли кое-какие слухи. Начальство предложило закрыть литературные собрания офицеров в казармах Московского полка.
— Да, их давно прикрыли…
Впрочем, Момбелли не хочет говорить на эту тему, как и продолжать собрания вне стен казарм.
Гости уже разбрелись, остался только какой-то плотный господин. Очень живой, глаза навыкате. Пальм знакомит. Его зовут Михаил Васильевич, а вот фамилию Момбелли не расслышал. Хотя это неважно — Петрошевский, Петрушевский, — он по столичным разговорам знает господина и очень рад встрече.
— Прошу ко мне по пятницам!..
Шум, гам невообразимый!
И производит его только один человек — Иван-Фердинанд Львович Ястржембский, «злокачественный пан», как величает его Пальм. Петрашевский впервой столкнулся с этим задорным остряком, донжуаном и заядлым холостяком 1 мая 1848 года, когда на квартиру к Михаилу Васильевичу нагрянули из Екатерингофа Дуров и он — спорщик и заводила. Попили чайку, и вновь Ястржембский увлек их за город.
Сейчас он орет, что Луи Филипп непременно должен сбежать в Россию и открыть женский пансион. Над ним посмеиваются и советуют проситься туда инспектором.
Но «пан» известен еще и как великолепный лектор по политической экономии, которую он преподает в Технологическом институте, институте Корпуса путей сообщения и дворянском полку. В науку он вносит злободневность, приучает слушателей к критическому восприятию и, уж если можно что-либо высмеять, высмеивает напропалую.
«Милейший пан» занял своей особой шесть «пятниц», излагая «определение промышленности, богатства, источников богатства — природы труда и капитала, теорию населения по Мальтусу и Сею, теорию первоначального распределения богатств», толкуя о торговле и спекуляции, кредите и кредитных учреждениях.
В чтении было больше остроумия, чем глубины. Многие не раз уже слышали изложение этих предметов, основательно изучили их, а потому засыпают оратора вопросами. Но он или отмахивается от наседающих, или отделывается шуточками, взывая к «президенту», и грозит позвать пристава.
«Пан» преподносит политико-экономические постулаты в свете учения Фурье. Поэтому современное состояние промышленности, сельского хозяйства, финансов критикуется в пух и прах. А заодно, и их вершители: царь-«богдыхан», министры и толстосумы. На прозвища Ястржембский неистощим, и его слушают с удовольствием. А вот Федора Николаевича Львова, штабс-капитана лейб-гвардии егерского полка, который явился вместе с Момбелли, поначалу не хотят принимать всерьез. Момбелли пока не вмешивался в разговоры, Львов же искал слушателей.
Репетитор химии в Павловском кадетском корпусе, Федор Николаевич серьезно занимался наукой и негодовал на постановку дела образования в России.
Энциклопедичность — это, конечно, неплохо, но практической пользы от нее нет. Люди с таким образованием, «ничего не зная основательно, почитают себя всезнающими, вообще чрезвычайно тщеславны и всегда плохие практики». Нужно образование специальное.
А гости все больше энциклопедисты, и, конечно, они не согласны.
Химия — вещь полезная, но России сейчас нужны не только специалисты, а и люди с широким кругозором, подвижники передовых идей, их проповедники. Ну, а что можно проповедовать в химии?
Что можно?
Кое-что!
В 1-м специальном классе кадетского корпуса урок химии. Воспитанники любят эти занятия. Штабс-капитан Львов ведет их всегда интересно и обязательно производит опыты. Даже самые шаловливые притихают. Конечно, их занимает не столько сущность химических превращений, сколько возможность сотворить какой-либо взрыв. Но для этого весь урок нужно просидеть спокойно, иначе штабс-капитан выгонит, а опыты всегда ставятся к концу.
Сегодня они будут сжигать фосфор — штабс-капитан предупредил об этом заранее. Но именно сегодня воспитанники менее всего склонны увлекаться опытами. Вчера разнесся по Петербургу слух, что царь собирается закрыть университеты.
А кадетские корпуса?
Правда, это далеко не университеты и даже не гимназии, но уж если начнут закрывать учебные заведения, могут добраться и до них. Одна надежда — они будущие офицеры, а Николай признает только военных. Но потолковать об этом, и обязательно на уроке, чтобы не подслушал инспектор, необходимо.
Фосфор загорелся нестерпимо ярко, как будто вечерний полумрак прорезал восход солнца. Когда вспышка потухла, лампа показалась жалкой темно-оранжевой крапинкой.
— Вот, господа, посмотрите на эти, с позволения сказать, светильники! Мы только тогда понимаем всю яркость света, когда его лишаемся. Так точно с просвещением — мы только тогда чувствуем всю цену ему, когда лишаемся средств получать его. Вот поговаривают, что закроют университеты, теперь не учатся, а после будут жалеть об этом…
— Свободны, господа!
Господа расходились молча. В глазах еще отсветы вспышки фосфора и раздумье.
Проклятая церквушка в Батуринской слободе Шадринского уезда. Сыро, на дворе еще апрель и только сходят снега. Со всех сторон лики святых, лубочные фрески, изображающие не то райское блаженство, не то адские мучения. Скорее, последнее, так как за крепкими кирпичными стенами церкви слышны какие-то завывания, хохот, крики, а сквозь разбитые стекла отсветы огня. Как в преисподней.
Рафаил Черносвитов поежился. Но он не в церкви, и в комнатах тепло. Это собрание у Петрашевского напоминает ему социалистическую молельню и восстание 6 тысяч крестьян Шадринского уезда. Тогда он служил исправником и был бессилен в борьбе с бунтовщиками. Это они загнали его карательный отряд в божий храм. Спасибо, пермский губернатор прибыл с ротой солдат и 1 200 конных казаков.
В гостиной — какой-то чиновник особых поручений из Ревеля, по фамилии Тимковский, распинается о необходимости вести пропаганду социализма, предлагает поделить мир между фурьеристами и коммунистами, зовет на площадь, чтобы вызвать возмущение и принести очистительную жертву святому делу свободы.
Черносвитов показал тогда крестьянам «очищение от грехов». И только за то, что они поверили нелепым слухам, сопротивлялись, когда было велено сажать картофель, и не желали, чтобы на них распространились положения по реформе Киселева.
28 человек получили по 1 500 ударов шпицрутенами, 107 — по 1000, а более четырех с половиною тысяч были выпороты розгами. Давно-давно это было — 5 лет назад.
За это время у Рафаила Александровича во многом изменились взгляды. Свидетельство этому его присутствие здесь, на «пятнице» Петрашевского.
Черносвитов тяжело поднялся с дивана и, громыхая деревянной ногой, проковылял к Михаилу Васильевичу.
— Не кажется ли вам, хозяин, что оратор сей неосторожен и не следует… пускать к себе такого человека, который не умеет языка держать за зубами?
Петрашевский тоже недоволен речью Тимковского. Но не может сказать об этом вслух именно потому, что он хозяин. Путаник этот ревельский фурьерист. Без году неделя как обратился в религию социалистическую и, кажется, отстал от дикого суеверия, а туда же, поучать лезет! Наверное, Спешнев успел его немного натаскать в коммунистических теориях, вот и получился этакий винегрет.
Конечно, число социалистов невелико. Ханыков, Спешнев и он, Петрашевский, как-то на днях подт считали приблизительно. У них получилось от силы 400, а Петрашевский набрал 800. Но это все равно капля. И когда прибывает еще один приверженец, то Михаил Васильевич только радуется. Но Тимковскому он не рад. Потом он напишет ему письмо и подергает за ухо, чтобы не лез со своим уставом в чужой монастырь.
Ведь такими путаными понятиями о социализме, как у Тимковского, можно только испортить все дело.
Если они действительно хотят нести революционные идеи в народ и Для этого сплачивают единомышленников, то Тимковский — помеха.
Черносвитов о чем-то разговорился с Толлем. Отставному исправнику есть что рассказать. В польскую кампанию 1831 года он был контужен в затылок и ранен в правую ногу. Попал в плен, где и лишился ноги. Поляки угрожали отрезать и вторую, если Черносвитов не выдаст военных секретов. Но он не выдал. И вскоре с чином подпоручика вышел в отставку, стал земским исправником в Шадринске. А когда покинул и эту должность, то пустился во все тяжкие. Рискнул сделаться золотопромышленником и приобрел пай в фирме «Компания Дриневича».
Увлекался он и точными науками. Производил опыты в области воздухоплавания, изобретал искусственные ноги, одну из которых приспособил себе.
Следующею «пятницу» у Петрашевского только и разговоров о Черносвитове.
— Слышали вы, видели вы, какой, должно быть, замечательный человек!..
— Кто?
— Да этот хромой, Черносвитов!
— О чем он говорит?
— Да обо всем, о чем угодно, и как ловко говорит!
А говорил он ловко, сочно, остроумно, с присказками, прибаутками, врал, как Хлестаков.
Спешнев все время удивлялся его смелым речам о Сибири. Черноовитов как ни в чем не бывало рассказывает о «картофельных бунтах» и тут же хвастает, что якобы имеет безраздельное влияние на генерал-губернатора Восточной Сибири Муравьева. С задними мыслями человек, с задними. Вот только как их разгадать?. Если это эмиссар какого-либо тайного общества, существующего в Сибири, — одно, даром, что ли, бывший исправник всех зовет туда: «славная страна, славные люди». Другое, если он шпион правительства.
Достоевский так прямо и заявил Спешневу:
— Черт знает, этот человек говорит по-русски, точно Гоголь пишет. Не иначе — шпион!
Петрашевский тоже заподозрил Черносвитова в провокаторстве, но не мог отрицать оригинальности золотопромышленника. Уверяет, что способен на все, даже может поднять раскольников, взбунтовать Урал и Сибирь.
Нужно прощупать его поосновательней.
Это была тихая навязчивая мечта. Она овладела Момбелли в дни отчаяния, в минуты, когда смерть кажется единственным и самым легким выходом.
«Братство взаимной помощи», единение сердец. Друзья искренние, преданные, «с которыми можно было бы отвести душу, разделить горе и радость».
Может быть, здесь, в коломенском домике, он обретет этих друзей и эти души? Братья помогают друг другу, и не столько материально, как нравственно. «Один человек слишком слаб, и как бы хороши ни были его намерения, как бы ни были высоки его стремления, он упадет, будет смят в грязи, если не имеет протекции или сильных родственников. Математическая аксиома: „Соединенные силы сильнее действуют суммы тех же сил, действующих порознь“, — в мире нравственном еще сильнее, чем в мире физическом!»
Господи! Еще столько прекрасных слов и сладостных иллюзий связаны с «Братством»! Момбелли готов их поведать слушателям, но боится откровенности, насмешек. А потом, где эти слушатели?
Петрашевский очень внимателен к поручику, мягок, предупредителен. Наверное, и он тоскует по истинным друзьям?
Момбелли попытался посвятить Михаила Васильевича в свой план создания «Братства взаимной помощи».
Петрашевский внимал его словам с сочувствием. Порой на его лице мелькала удовлетворенная улыбка, но он чаще хмурился. Момбелли заикается, смущается. Ведь до сих пор он ни с кем — только со Львовым — не делился этой мечтой. Рядом сидит Спешнев.
Поручик несет какую-то несусветную чушь. Детский лепет. Он договорился до идеи искусственного создания авторитета членам «Братства». Это уже иезуитство.
Но Петрашевский не склонен вот так, с порога, отвергнуть предложение Момбелли. Оно даже радует. Радует тем, что его собственные мысли о необходимости создания единого центра по распространению социалистических идей, подготовки народной революции стали достоянием и других посетителей «пятниц». Конечно, предложение Момбелли фантастическое, «средневековое», но им необходимо воспользоваться, внести поправки, коррективы, очистить его от «грустной мистики».
Спешнев предложил подробнее обсудить проект поручика, привлечь к этому обсуждению других. Момбелли готов, чтобы в дискуссиях участвовал Львов. Петрашевский назвал Константина Дебу. Спешнев остался верен себе и никого не рекомендовал, но предоставил свою квартиру для собраний.
Гости разошлись. В кабинете Петрашевского задержались Черносвитов и Спешнев.
— Знакомьтесь поближе. Николай Александрович Спешнев, человек весьма образованный, всю жизнь посвятивший науке экономической.
Спешнев не протестовал, и Петрашевского подмывало наговорить колкостей.
Разговор не клеился. Опять завели речь о Тимковском, его неосторожности. Вдруг Черносвитов выпалил:
— Ну вот, посмотрите, господа, не может быть, чтоб в России не было тайного общества — все эти пожары в этом году да то, что уже, не помню, в каком году, в низовых губерниях было, — все это доказывает существование тайного общества, только люди они осторожные, молчащие…
Куда девался «гоголевский язык»?
Наступила минута неловкого молчания.
Черносвитов понял — разговор не состоится, и заявил, что «пора ехать». Петрашевский метнулся искать какую-то книгу.
Сани золотопромышленника вмерзли в снег. Кучер продрог. Спешнев жил на Кирочной, и Черносвитов взялся его подвезти.
Николай Александрович пытался продолжать беседу. Но Черносвитов поддерживал его только тогда, когда Спешнев касался Сибири. Отставной исправник знал Сибирь, но был очень скептически настроен к ссыльным.
— Они глупы! О социализме и фурьеризме и слышать не хотят, остались на мнениях двадцатых годов. А какая, по вашему мнению, теперь была бы самая полезная реформа в России?
— Крепостного состояния.
— Я тоже так думаю. Лошади стали.
Черносвитов запомнил дом Спешнева.
Плещеев собирался в Москву, чтобы потом переехать на юг. Но пока зима он хочет повидаться с тетушкой, которую не встречал десять лет.
Антонелли знакомит Петрашевского со «свирепыми черкесами».
Гортанная речь, глухое позвякивание кинжалов, газыри с патронами.
Петрашевский не замедлил предложить «юному другу» заняться пропагандой среди южан. На Кавказе обязательно произойдет переворот, и черкесы должны будут создать свое управление. Антонелли не слишком-то разобрался в том, что по этому поводу говорил Петрашевский.
Но кое-что агент запомнил.
«Верховное правление народа должно быть предоставлено совету, составленному из представителей племен под председательством одного, избранного из их же среды по большинству голосов. Представители должны быть избираемы из среды целого народа-племени и утверждаемы большинством голосов. Совету предоставляется право заботиться о благах и нуждах целого народа, рассуждать о законах, о содержании войска, о мире и войне и, наконец, о всем, что касалось бы до общего интереса всех племен вообще. Ему предоставляется право решать распри между племенами, налагать на них наборы войск и другие повинности, и. решения его должны считаться священными».
«…Внутреннее же управление каждого племени особенно должно быть семейное, домашнее и основываться на законах, обычаях и нравах народа, его составляющего. Оно также должно состоять из совета представителей каждого отдельного класса людей по выбору, и ему. предоставляется власть судейская и исполнительная. Судопроизводство должно производиться публично через присяжных, основываясь на здравом смысле, законах и обычаях страны…»
«Переворот на Кавказе полезен как в общем человеческом смысле, так и в ближайшем для нас. С усилением сопротивления „а Кавказе потребуется усиление войска, налогов и, наконец, других тягостей, которые, естественно, всегда более рождают недовольных, и, следовательно, скорее в массах возрождается идея об улучшении правительства, и из этого ближе приводится к цели общечеловеческая идея о народном представительном правлении“.
Увы, пропаганда в среде черкесов не имела успеха потому, что ею занялся агент-провокатор. Он аккуратно отсылал Липранди наброски мыслей Петрашевского и тщательно охранял от них черкесов».
Петрашевский больше не возобновлял разговоров на эту тему, сказав Антонелли, что это нужно оставить до лучших времен.
Спешнев не разбирался в ливреях слуг. Пожилой человек, из дворовых, заявил, что он швейцар камер-юнкера Гартинга и что господин Черносвитов просит прибыть к нему, так как он «болен весь».
Спешнев дал «на чай» и снова погрузился в чтение, не собираясь вначале навещать хворающего исправника.
И все же любопытство взяло верх.
Черносвитов лежал в постели. Деревянная нога стояла у изголовья. Золотопромышленник был молчалив. Скупо поблагодарив Николая Александровича за визит, пожаловался на нездоровье и попросил рассказать о фурьеризме.
Разговор кончился ничем, Спешнев терял интерес к «исправнику-социалисту».
Но Черносвитов оказался настойчив.
Через два дня Рафаил Александрович выздоровел — и уже у Спешнева. Явился как раз не вовремя. Он мешает хозяину договориться с Тимковским о переписке. и даже организации особого кружка, когда тот совсем вернется из Ревеля.
Спешнев делал намеки золотопромышленнику. Но тот пересидел Тимковского.
Пересидел, чтобы начать игру в прятки.
Черносвитов восхваляет достоинства Спешнева. Спешнев поет дифирамбы «меткости взгляда» гостя.
Исправник намекает, что нужно бы поговорить откровенно. Хозяин тоже не против. Но кто решится первым?
Как будто Черносвитов.
— Знаете что? Не послать ли уж за Михаилом Васильевичем? Втроем как-то лучше говорится.
Слуга побежал за. Петрашевским. А в кабинете осторожный разговор, слов мало, одни знаки вопроса.
— Да ведь это невозможное дело, ведь я б знал тоже что-нибудь? — Отставной исправник взял на себя роль следователя.
Спешнев увернулся, хотя и понял туманный намек.
— Ведь вы говорили же сами, что должно быть общество.
Теперь скользнул ужом Черносвитов.
— Ну, да я это так, по соображению… Закурили. Помолчали испытующе. Стукнула о пол деревяшка.
— Вы только мне намекните где? Здесь или в Москве?
Спешнев ходит по комнате. Лицо все время в тени. Скорей бы явился Петрашевский. Это взаимное мистифицирование надоело. У Николая Александровича родились кое-какие и подозрения и планы. Надобно обдумать наедине. Но Черносвитов не уходит.
Сказать, что общество здесь? Нет, он слишком хорошо знает уже всех друзей Спешнева. А что, если шпион?
— Ну, разумеется, в Москве.
— Я Москву тоже немного знаю, а впрочем, может быть… А план действия?
— Да плана, собственно, нету еще. — Ужели же совершенно без плана?
— План зависит от случая. Вот теперь, говорят, на Волыни не так смирно. Хотя какой же бы надо было план?
Теперь Спешнев почувствовал себя следователем. Пусть, пусть выскажет свои соображения. Что ни говори, а исправник — человек умный.
— Ну, Волынь — оно что! Там войск много, разве только заграничная война будет. Пермские заводы — дело другое. Тут разом четыреста тысяч народу и оружие под рукою. Я эту страну хорошо знаю. Там только и ждут вспышки.
Э, нет, это не планы, но любопытно. Сибирь — такая страна, что там все возможно. А Петрашевский не приходил. Черносвитов почему-то нервничает. Часто заглядывает в коридор, прислушивается. По квартире снуют слуги.
— Приезжайте лучше ко мне, у вас тут как-то много народу…
И уехал.
Спешнев был недоволен собой. Любопытство сыграло с ним плохую шутку. А если исправник все-таки шпион? Неосторожно, неосторожно! Правда, многозначительно, что мысль о возможности существования тайного революционного общества в России именно сейчас приходит в голову даже подобным людям. Значит, назрело время.
Петрашевский явился поздно и злой. Пробурчал из передней.
— Что такое? Спешнев объяснил.
Хотя и вечер, но решили пойти. Спешнев предупредил:
— Только я буду представляться, что я глава целой партии. Пожалуйста, и ты сделай то же, а то он ничего не скажет.
— На что это?
— Ну, как хочешь!
Наступило тяжелое молчание. После выступления Тимковского и явно сочувственного отношения к нему со стороны Спешнева Петрашевский стал как-то холоден с Николаем Александровичем.
Всю дорогу ни слова. Наконец Спешнев не выдержал:
— Что ты имеешь против меня?
— Никогда ни против кого я ничего не имею. Объяснения не произошло. Тем более что они были уже около дома, где остановился Черносвитов. Глубокий и немного просиженный диван, с него трудно встать. Черносвитов подвигает трубки, табак. Петрашевский курил только в лицее и только для того, чтобы насолить воспитателям. Но закурил. Черносвитов устроился на стуле возле дивана — Спешневу трудно будет прятать лицо.
— Ну, господа, теперь дело надо вести начистоту… Петрашевский как будто ожидал этой фразы, чтобы положить сразу конец еще не начавшейся беседе и ответить на вопрос Спешнева, что же все-таки он имеет против него.
— Вот, не угодно ли, например, вам, Николай Александрович, сказать, какие и где вы видите способы к восстанию?
Спешнев оказался в положении щекотливом. Признаться в мистификации ему не хотелось. Петрашевский явно настроен враждебно, и от него не жди поддержки. Он перевел разговор на Михаила Васильевича, но тот отказался говорить о себе. Пришлось вернуться к беседе с Черносвитовым, напомнить о его словах насчет готовности к восстанию Урала.
Черносвитов перебил:
— Вы мне говорили про Москву. Петрашевскому это все надоело.
— Разумеется, можно строить химеры, но надо говорить серьезно.
Теперь разозлился Спешнев:
— Вы, кажется, господа, ошибаетесь насчет наших отношений, я с вами не связан никакими обязательствами, не состою с вами здесь в тайном обществе, и я решительно
Спешнев вскочил с дивана, нервно выбил сгоревшую трубку о подоконник, вновь наполнил табаком, закурил, но оставался у окна.
Черносвитов еще пытался выспрашивать: «нет ли чего в Москве», «а может быть, в гвардии», но было ясно, что это разговор впустую.
Петрашевский резко высказался против бунта и восстания «черни», вспомнил учение фурьеристов и заключил, что «он на своем веку надеется и видеть и жить в фаланстере».
Спешнев нетерпеливо ждал окончания речи Петрашевского. Как только тот замолчал, схватил шляпу и распрощался.
Дома он еще раз припомнил подробности необычной беседы. Надежды Черносвитова на восстание Урала, Восточной Сибири, в понизовых местах, донских казаков — это просто «благие пожелания». Если Спешнев мистифицировал Черносвитова, то и отставной исправник не остался в долгу. Пожалуй, прав Петрашевскии, не желавший вести разговоры на подобные темы и свернувший на фурьеризм, мир: ные иллюзии.
Но теперь дело уже не в этом либеральном хвастуне и пустозвоне Черносвитове.
Спешнева давно занимала история тайных обществ, особенно христианских, удивительное влияние, которым они пользовались. Интересовали его и причины провалов тайных гетерий, средства конспирации.
Если тайной революционной организации нет ни в Сибири, ни в Москве, то ее нужно создать в Петербурге. Петрашевский, видимо, хочет того же, только с немного иной целью — пропаганды социализма и подготовки «среднего класса» к восприятию социалистических идей.
Спешнев же думает, что эта организация должна накапливать «материальную силу», готовить восстание, руководить им.
Нужно продолжать собрания по поводу «Братства взаимной помощи», предложенного Момбелли.
И с «Братством» тоже ничего не получилось. Разошлись во мнениях. Львов считал, что «Братство» полезно, если объединит людей с идеями. Тогда оно «могло бы иметь важное — значение впоследствии, если в России случится какой-нибудь политический переворот, потому что вынесло бы из себя много людей достойных».
Петрашевский хотел направить «Братство» против злоупотреблений администрации, чтобы именно оно готовило общественное мнение и разоблачало «зловредных лиц».
Момбелли терял мечту, но постепенно сдавался. Он готов на то, чтобы в «Братство» принимали только социалистов.
Спешнев поставил все точки над «и».
«Братство» должно быть обществом политическим. Его нужно создать как можно быстрее, так как в России должно произойти то же самое, что случилось
Никто не возразил, но Спешнев понял, что никто его и не поддержит.
Ну, как угодно, он будет резок, никаких недомолвок, хватит, он научен беседами с Черносвитовым.
— Если хотят бунта, то надо говорить чисто.
Есть три способа «неправительственного действия»: «иезуитский», «пропагандный» и «восстания». «Братство» должно объединить их всех. И Спешнев надеется, что каждому найдется поприще по духу и сердцу.
Но напрасно красноречие. Призыв к восстанию уже обострил отношения, и прежде всего между Петрашевскии и Спешневым. Николай Александрович стремится к открытому (революционному выступлению. У него есть даже проект создания различных комитетов, «товариществ». В этом проекте он отвел место пропаганде как фурьеризма, так и коммунизма, устройству школ. Но главное — «тайное общество на восстание». Никто не знает, а ведь Николай Александрович набросал черновик «обязательной подписки», даваемой членами тайной организации, что-то вроде устава.
«Я, нижеподписавшийся, добровольно, по здравом размышлении и по собственному желанию поступаю в Русское общество и беру на себя следующие обязанности, которые в точности исполнять буду:
1. Когда Распорядительный комитет общества, сообразив силы общества, обстоятельства и представляющийся случай, решит, что настало время бунта, то я обязываюсь, не щадя себя, принять полное и открытое участие в восстании и драке, т. е. что по извещению от Комитета обязываюсь быть в назначенный день, в назначенный час в назначенном мне месте, обязываюсь явиться туда и там, вооружившись огнестрельным или холодным оружием или тем и другим, не щадя себя, принять участие в драке и как только могу споспешествовать успеху восстания.
2. Я беру на себя обязанность увеличивать силы общества приобретением обществу новых членов; Впрочем, согласно с правилом Русского общества обязываюсь сам лично больше пятерых не афильировать.
3. Афильировать, т. е. присоединять к обществу новых членов, обязываюсь не наобум, а по строгом соображении, и только таких, в которых я твердо уверен, что они меня не выдадут, если б даже и отступились после от меня; что они исполнят первый пункт и что они действительно желают участвовать в этом тайном обществе. Вследствие чего и обязываюсь с каждого, мною афильированного, взять письменное обязательство, состоящее в том, что он перепишет от слова до слова сии самые условия, которые и я здесь даю, все с первого до последнего слова, и подпишет их. Я же, запечатав оное его письменное обязательство, передаю его своему афильятору для доставления в Комитет, тот — своему и так далее. Для сего я и переписываю для себя один экземпляр сих условий и храню его у себя как форму для афильяции других».
Петрашевский видел, в какую сторону склоняет Снешнев его ближайших единомышленников, и не сочувствовал ему. Михаил Васильевич вовсе не «чистый фурьерист», как его многие считают, и он не против бунта. Но бунт обречен на неудачу, провал, если его не подготовить. А подготовка требует прежде всего пропаганды в самых различных формах.
Пусть Антонелли беседует с черкесами и внушает им мысли о республике. Студент Толстов, недавно появившийся на «пятницах», откопал какой-то «самородок» — содержателя табачной лавки Шапошникова, как он говорит, «человека необыкновенного ума, но необработанного». Ну вот, и пусть обрабатывает, рассказывает о французской революции, равенстве и свободе, республике, пусть готовит оратора, который когда-нибудь соберет на площади народ и своим языком передаст ему идеи социализма.
Или тот же вольнослушатель университета Катенёв. Он в трактирах проповедует атеизм, готов совершить цареубийство, строить баррикады.
Эту пропаганду нужно всячески расширять, а уж потом готовить революцию.
Петрашевский не забывает и о легальной стороне пропагаторской деятельности. Изобличать неправды правительственных чиновников, продажных судей, на всеобщее обозрение выносить леность и нераспорядительность министров, не оставлять без внимания ни одно нарушение законности.
Вот программа, которую он предлагает своим приятелям и которую проводит в жизнь сам.
Антонелли решил, что он достаточно близко сошелся с Петрашевский, чтобы проникнуть на заветные «пятницы», когда съедутся гости.
Но Петрашевский упорно не приглашает его. Михаил Васильевич стал осмотрительней. Что-то его удерживает от приглашения Антонелли, хотя они встречаются почти ежедневно, вместе засиживаются в клубах, обедают по ресторанам. Антонелли нередко бывает и дома у Михаила Васильевича. Знаком кое с кем из его посетителей. Петрашевский с ним откровенен. Но в последнее время все его добрые знакомые как сговорились:
— Будь осторожен!
— Предупреждаю!..
— Вы играете с огнем!..
Конечно, это вздор. Ничего противозаконного у него в доме не происходит. Мало ли подобных сборищ в Петербурге! Вон у Иринарха Введенского. Ханыков там бывает и говорит, что очень сходно с коломенскими «пятницами». И все же не то Третье отделение, не то полиция старается подсунуть к нему своих агентов. Только они глупы.
И кого только держат на жалованье шпионов?
Заявляется один такой с предложением вызывать духов. Требует, чтобы при этом все, кто будет в квартире, имели бы при себе оружие.
Нашел глупца. Явись только
Ничего, Петрашевский пообещал господину, что если «духи» сделают какую-либо, неприятность, то первым убит будет он.
Вообще его особа стала что-то слишком заметной. Если раньше недоброжелатели еще с лицейской скамьи пробавлялись разными анекдотиками насчет его длинных волос, парика и предерзостных ответов начальству, то теперь он сам слышал в клубе разговор двух каких-то господ:
— На Невском пускает фейерверк, ну, вестимо, толпа. А он в нее как в воду ходит, знакомится, к себе заманивает…
— Э, брат, про этого Буташевича я и не такое слыхал! Говорят, во время богослужения явился в собор в женском одеянии. Конечно, маскарад тут же обличили. Переполох, смех, шутки, а богохульник и рад, раскланивается, раздает карточки визитные.
Какие дикие нелепости! Но за этими анекдотами скрывается одно — стремление высмеять пропагаторство, предостеречь против него.
11 марта 1849.года. К вечеру подморозило. Лошадь расползается всеми четырьмя ногами и беспомощно ржет.
В Коломну Антонелли попал только к 10 часам. Сунулся было в парадную дверь — заперта. Толкнул ворота. Они распахнулись. Ни дворника, ни слуг.
Черная лестница неожиданно оказалась освещенной ночником, и в окошке, выходящем на нее, тоже стояла свеча.
Антонелли насторожился. Этот ночник и свеча здесь неспроста. Если позвонить, то хозяин через окошко увидит гостя. Нежелательного могут и не принять — слуга скажет «дома нету-с».
Антонелли прижался к косяку двери и потянул за ручку звонка.
Открыл Петрашевский.
В просветы между плечами и головой хозяина Антонелли увидел знакомую комнату, столы и человек десять гостей.
Петрашевский был удивлен, немного встревожен, но отказать не мог, не было причин, тем более если Антонелли явился с задней мыслью.
Антонелли встретили настороженным молчанием, только ложки звякали в стаканах.
Пауза затягивалась.
Антонелли не проявлял любопытства, не разглядывал гостей. Взяв стакан чаю, он с усмешкой рассказал, как извозчик вывалил его из саней и чуть было не переломал ноги.
Общий разговор не возобновлялся.
Толль под руку с Петрашевский удалился в кабинет.
Антонелли понял — говорить будут о нем.
Оставаться дальше в гостиной он просто не мог: или раскланяться и уйти совсем, или… «ход конем»!
Шпион распахнул двери кабинета.
Петрашевский посмотрел на него исподлобья, Толль прервал беседу на полуслове.
Судьбу доносчика решали секунды. Но он сумел найти нужный тон и нужные слова. Заговорил о безделицах, подсмеивался и ожидал.
Петрашевский, встревоженный подозрениями Толля, который уже несколько раз встречал Антонелли в его доме, немного успокоился. А Толль, забыв о своих предположениях по поводу нового гостя, пустился с ним в откровенную беседу.
Еще долго гости Петрашевского, улучив момент, брали хозяина под руку и удалялись с ним в кабинет.
Наконец все угомонились, и Петрашевский предложил Толлю произнести давно заготовленную речь «О ненадобности религии в социальном смысле».
Толль говорил просто, но увлеченно, — видимо, его давно занимали вопросы происхождения религии, ее месте в общественной и социальной жизни народов.
Антонелли старался не пропустить ни слова. Многие мысли Толля были ему малопонятны, и он записывал их целиком, другие только конспектировал. Никто не обращал теперь внимания на агента.
Делали заметки на бумажках, готовились возражать оратору.
— Человек, чувствуя свое несовершенство, старается представить себе что-нибудь высшее, подобное ему по образу, но обладающее всеми совершенствами в высшей степени. Представляя себе подобное существо, человек ощущает в себе какое-то давление, как бы страх, чувство, которое приходилось испытывать каждому среди дикой страны лицом к лицу с каким-нибудь дивным созданием природы, например со скалою, составленною из множества камней, как будто чудом держащихся друг за друга, и покрытою пеленою какой-то… дикости, неприступности и вместе с тем величия. Это-то чувство давления, страха и принимают все за религиозное чувство. Является человек с светлым, гениальным, умом, который придает фактивность этому чувству страха, охватывающему массу народа, и направляет его к какой-нибудь цели: таким образом является религия. Тут является вопрос, действует ли этот человек из каких-нибудь видов или из чистого убеждения. Человек действует решительно из видов. Фактивная религия, действуя на мораль человека, не только не нужна в социальном смысле, но даже вредна, потому что она подавляет развитие ума и заставляет человека быть добрым и полезным своему ближнему не по собственному его убеждению, а по чувству страха наказания, следовательно, она убивает и нравственность.
Занятый всецело Толлем, Антонелли не замечал, как слова оратора действуют на слушателей. Порфирий Ламанский ерзал на стуле и готов был перебить Толля, Ястржембский грудью навалился на стол, запустил левую руку в пышную шевелюру и, не слушая Толля, что-то быстро-быстро писал на обертке из-под чая. Петрашевский по своему обыкновению стоял в углу или тихо, чтобы не мешать, делал несколько шагов, потом опять возвращался на место.
Едва Толль кончил, как Ламанекий 1Вскочил.
— Не могу согласиться с вашей главной посылкой, уважаемый Феликс Густавович. Не везде, не везде и не у всех народов страх был причиною зарождения религии. Были такие религии, в которых главную роль играли божества благодетельные, а божества устрашающие — роль второстепенную…
Порфирий Иванович пустился в исторические экскурсы, но его уже плохо слушали, какой-то молодой человек пытался произнести речь.
То же самое, только в другом углу гостиной, делал Ястржембский.
Тишина водворилась, когда заговорил Петрашевский. Он не спорил — страх или не страх породили первые божества: какое это имеет значение?
— Слепая вера в бога вредна, ибо она повергает человека в бездействие и косность. Это не новая мысль, и я не раз ее повторял. Иисус Христос — известный демагог, несколько неудачно кончивший свою карьеру. Пробужденное сознание человека и разум требуют свободного проявления и возможности публичной защиты, если в лице человека или общества их подвергают обвинениям. В этом смысле могу сказать о себе, что религии я не имею никакой или, если хотите, принадлежу ко всем, впрочем, пишусь православным.
Антонелли заметил, что любуется Петрашевским. С каким жаром, убежденностью, как красиво говорит он и какое прекрасное, вдохновенное лицо!
Аплодисменты закончили прения, и подоспел ужин.
Расходились в третьем часу.
Антонелли долго расшаркивался перед хозяином и выражал свое удовольствие от столь приятно проведенного вечера. Петрашевский был приветлив, просил заходить.
Толль дожидался нового знакомого на улице. Он договорился со Львовым закончить эту ночь где-либо в ресторане. Антонелли тоже с ними.
Долго не могли найти извозчика и по дороге потеряли Львова.
Но остались довольны друг другом и проведенной ночью.
Утро застало Толля и Антонелли на квартире шпиона за чаем. Пора было и честь знать, но они еще должны так много друг другу. поведать, что самое разумное пойти в Пассаж завтракать.
Толля после бессонной ночи потянуло на лирику, потом он впал в уныние и, как байроновский Чайльд-Гарольд, мистифицировал собеседника.
Агент доносил своему шефу после завтрака:
«Толль — это человек, который много жил, много кутил, много играл, — одним словом, много делал глупостей, которые, разумеется, не обходились ему даром, и поэтому он говорит, что он много страдал, много перенес ударов судьбы, что силы его истощились, свет и люди надоели, что он ни. во что не верует, готов на все и с нетерпением ожидает, чтобы поскорее порвалась нить, привязывающая его к жизни, — это его отец и мать, а потом пуля в лоб, и все кончено. И очень хорошо сделает, потому что от эдаких людей — дай бог нам простору».
А в это время «разочаровавшийся, опустошенный» Феликс Густавович преспокойно спал, улыбаясь чему-то очень приятному.
Политика, окончательно утвердившаяся на «пятницах» Петрашевского, кое-кому наскучила, а кое-кого и испугала. В прошлые годы, когда все сходились небольшими группами, говорили о чем угодно, здесь можно было услышать рассуждения об эстетике, строфы Пушкина, игривый речитатив Беранже. Теперь же политика, события во Франции, цензурная книгобоязнь, фурьеризм, коммунизм и прочее и прочее тревожили стены домика в Коломне.
Первыми «заскучавшими» были писатели. Дуров, человек во мнениях резкий, поклонник «чистого искусства» и защитник «немудрствующей живописи жизни», не мог простить Петрашевскому его пренебрежительных отзывов о писателях.
В сердцах литератор заявлял, что Петрашевский ему опротивел, что это человек без сердца. И вообще он не человек, а бык какой-то!
Гораздо приятнее сходиться интимным дружеским кружком, как, бывало, у Плещеева. Музицировать, эстетствовать.
Пальм поддержал Дурова. Ведь и у него собирались.
Дуров звал к себе, пока не вернулись родители и квартира пустая. Пригласили Спешнева, Львова, Момбелли, Филиппова, братьев Достоевских, чиновника министерства внутренних дел Мордвинова, преподавателя русской словесности и знатока поэзии — Александра Милюкова. Был виолончелист — Алексей Щелков. Заходил поручик лейб-гвардии конно-гренадерского полка Николай Петрович Григорьев, бывавший ранее и у Петрашевского.
Чтобы не обременять хозяев лишними расходами на ужин и прокат пианино, собирали по 3 рубля серебром в месяц. Слуг у Дурова и Пальма не было. Хозяйничали сами. На каждый вечер избирали «посадника», как шутил Львов. «Посаднику», правда, сидеть было некогда. Пока Щелков или преподаватель музыки Кашевский играли, «посадник» хлопотал.
Все шло так весело, непринужденно. Без споров. Без столкновений. А главное — никто не страшился, что в кружок затесался шпион.
Бывали и у Петрашевского, но реже.
Плещеев из Москвы приветствовал новый кружок, но поэт вовсе не был склонен отстать от политики. Он выступает перед московскими студентами. Говорит не стихами. Прозой!
— Необходимо пробудить самосознание в народе… Лучшим для этого средством было бы переводить на русский язык иностранные сочинения, приноравливаясь к простонародному складу речи, и распространять их в рукописях, а пожалуй, удастся как-нибудь их и отпечатать, в Петербурге возникло уже общество с этой целью.
Плещеев намекал недвусмысленно.
И пусть это «общество» пришлет в Москву переводы книги Ламенне. Хотя французский социалист никогда и не предполагал о существовании «митрополита Новогородского и С.-Петербургского», но Милюков сделал вольное подражание: «Новое откровение Антонию, митрополиту Новогородскому, С.-Петербургскому и проч.». Французский язык звучал «суровою библейской речью» в переложении на церковнославянский. Эту работу Милюкова кое-кто из кружковцев переписал. Но не распространял. И лучше бы Плещеев молчал.
Дуров не на шутку растревожился. И есть от чего. Ведь музыкально-литературный «салон», едва возникнув, грозил превратиться в общество политическое. И барометром настроений дуровского кружка сделался Момбелли. На втором заседании он опять заговорил о «Братстве». Но не единение душ, не «трепет сердец», а сообщество единомышленников предлагал поручик.
Его встретили в штыки, «Опять политика!» Момбелли обиделся. Пропустил два собрания и несколько этюдов Шопена.
Но когда он явился вновь, то услышал речь Филиппова. Она была страстной, бестолковой, но не бесполезной. Филиппов предлагал устроить домашнюю литографию, чтобы писать и печатать статьи, «противные правительству».
Писать? Против этого никто не возражал. Дуров готов поделиться своими мыслями о состоянии «сословий в России». Григорьев и того более — у него есть проект, как улучшить благосостояние крестьян с помощью казенной торговли хлебом: установлением «хороших» цен на него.
Но «домашняя литография» — дело новое, опасное и, нужно прямо сказать, технически очень сложное. Вот разве химик Львов поможет?
Львов готов навести справки.
Но почему Спешнев ничего не хочет сказать? И о чем он шепчется с Филипповым? Достоевский тоже с ними.
Достоевский получил от Плещеева список одного письма. Нет, нет, Федор Михайлович прочтет его в свое время.
Спешнев считает, что литографирование технически сложнее типографского набора. Завести подпольную печатню. Привлечь к участию в редактировании крупные литературные силы.
Пока это Только идея. Детальной ее разработкой может заняться Филиппов — ну, хотя бы устройством станка. А Федор Михайлович Достоевский достаточно заметная фигура в мире литературном. Быть может, он возьмет на себя самое трудное — привлечь писателей к участию в составлении статей?
Аполлон Майков после трагической гибели брата, утонувшего в 1847 году, стал нелюдим, редко выходил из дому и строчил, строчил стихи, рассказы, критические статьи. Злые языки поговаривали — он влюблен, но любовь в тупике из-за отсутствия средств. Вот поэт и решил перевести на чистоган свое вдохновение.
А дело обстояло по-иному. Майков запутался. С одной стороны, покойный Белинский, революционные идеи, рушащие вековые устои патриархальщины, монархизма, дикости, а с другой — «Москвитянин» Погодина, славянский дух, национальная обособленность и исключительность.
Вот и разберись тут. «Москвитянин» близок сердцу, но в Петербурге славянофильство никак не приживается.
Раньше бывал у Петрашевского. Теперь ему кажется, что все эти увлечения фурьеризмом, фаланстериями — мальчишество. Просто было забавно пошуметь, немного полиберальничать, поговорить о литературе.
Нет, слава богу, он стал человеком серьезным. Пусть там другие ломают копья по вопросам социальным, его дело сторона. Конечно, конституция, пожалуй, лучше, чем абсолютизм, но ее вводить будут те, кто призван заниматься политикой. Его же мир — искусство. Да к тому же он еще посмотрит, как там наладится жизнь в фаланстериях. Всякие общественные работы, казармы с номерами, где вся подноготная налицо, — не для него. Вот разве что общественная кухня, и то, если там будут прилично кормить и не нужно будет стряпать.
А пока стихи, стихи!
Достоевский ввалился внезапно. Его-то хозяин меньше всего ожидал. Не секрет, у Федора Михайловича характерец тяжелый, неуживчивый, они в последнее время редко видятся, хотя остаются друзьями и, наверное, будут близки уже всю жизнь.
Достоевский плетет как ни в чем не бывало об успехе своих повестей и отсутствии денег. Показывает сапоги, которые давно пора выкинуть. Чай пьет по-московски, с блюдечка, вприкуску.
Майков немного нервничает. На дворе уже ночь, пора и честь знать, а Федор Михайлович как будто и не собирается уходить. Так и есть, Достоевский смотрит на часы и решает, что он домой не пойдет, и если хозяин не возражает, то вот тут, на диване, и пристроится. Что поделаешь, постелили гостю на диване. Майков улегся, а Достоевский все еще кряхтит, стягивая сапоги.
Ох, неспроста Федор Михайлович заявился, неспроста! Быть может, притвориться спящим? Достоевский стянул сапог и дальше раздеваться не собирается, сидит на диване и ожесточенно почесывает бороду.
— Аполлон Николаевич, а ведь я к вам по делу, по делу зашел-то. Да вот все никак минутки улучить не мог, чтобы к делу-то приступить. Нет, нет, я не о деньгах. На днях у Спешнева занял полтыщи и уже мучаюсь, как будто в рабство продался. Как бы это вам получше растолковать? Составился круг людей, из тех, кого вы раньше у Петрашевского встречали, людей дельных, не то что Михаил Васильевич, он больше языком болтает, его в этот кружок не пустят… А вот вас хотят видеть членом его… А дело задумали большое — типографию тайную завести, печатать в ней то, что цензуре и не снится. Печатное! слово, ой, как нужно нашему отечеству! Святое дело, Аполлон Николаевич, соглашайтесь…
Достоевский был бы смешон в ночной рубашке и в одном сапоге, рассуждающий, как умирающий Сократ перед друзьями, о путях спасения отечества. Но Майкову было не до смеха.
Его втягивают в политику, ведь не стишки же к прекрасной деве собираются печатать втайне от цензуры.
Нет, это не для него, да и Федор Михайлович понапрасну, в это дело впутывается. Мало что беспокойства не оберешься, а если откроется? Тюрьмой не отсидишься, виселица иль расстреляние, в лучшем случае — каторга. Нет, господа хорошие, увольте.
— И вам, Федор Михайлович, советую от этого дела отстать. Вы такой же, как и я, поэт, писатель, а значит, такой же, как и я, непрактичный человек — со своими-то заботами не справляемся, эвон, сапоги-то ваши… А здесь, в политике, практическая сметка первейшее дело.
Достоевский выслушал молча, разделся, лег, натянул на голову одеяло, потом резко откинул его.
— Итак, нет?
— Нет, нет и нет!
Утром за чаем почти не разговаривали. Майков делал вид, что спешит куда-то, Достоевский был явно обижен отказом. Он допивал чай торопливо, без блюдечка, прямо из чашки, едва пробормотав благодарность, схватился за шапку.
— Не нужно говорить, что об этом — ни слова?..
— Само собою.
Конечно, Майков будет молчать: уж если дознаются, что ему делали предложение, этого одного будет достаточно, чтобы угодить в тартарары.
Распрощались, но не поссорились.
«Пятницы» Петрашевского по-прежнему внешне оставались многолюдными. Но среди старых их участников шел внутренний раскол.
Никто ни с кем не ругался и не хлопал дверьми. И только реже и реже, уже с октября 1848 года, в коломенском домике появлялись Дебу, Ахшарумов, Ханыков. Но и они не прекратили совсем встреч с хозяином. Только по вторникам их можно было застать в другом доме — у бывшего лицеиста, чиновника Азиатского департамента министерства иностранных дел Кашкина.
Николай Сергеевич Кашкин был сыном декабриста, увлекался фурьеризмом и считал, что он далек от политики. У Петрашевского не бывал. Кашкин объявил приемные «вторники» и пригласил к себе молодых людей «хорошего тона». Ахшарумов и Ханыков рассчитывали, что им удастся в этом кружке организовать серьезное изучение фурьеризма. Сделать это в «политическом салоне» Петрашевского не представлялось возможным, — там как будто и забыли о Шарле Фурье. Но вечера у Кашкина не выходили из круга обычных собраний, которые бывали во многих домах.
Критиковали современную мораль и буржуазную политэкономию. Сделали попытку составить библиотеку, избрали ее распорядителем Константина Дебу. И собирались, конечно, не без помощи Петрашевского, выписывать в складчину иностранные книги.
Заходил к Кашкину кое-кто из его приятелей, которые не интересовались ни фурьеризмом, ни политикой, — просто любители послушать умные речи.
И так прошел октябрь, ноябрь, декабрь 1848 года.
Когда на Новый год из деревни приехали родители Кашкина, пришлось перебраться на квартиру Оскара Федоровича Отта — помощника ученого секретаря Ученого комитета в министерстве финансов.
Потом собирались у Константина Дебу.
Ханыков заболел и не смог осуществить своего намерения — кружкового изучения системы Фурье. Говорили о чем угодно, но политических споров не вели.
Бывал здесь и Спешнев. Он прекрасно понимал, что пропаганда социализма в России, стране крепостного рабства, неотделима от «борьбы за политическую свободу», поэтому кружок Кашкина неизбежно должен втянуться в политическую пропаганду или прекратить свое существование. Конечно, здесь все пока еще благопристойно, Александр Иванович Европеус — серьезный политэконом, фурьерист, выступает с рефератами о науках неточных, Кашкин почитывает вслух кое-что из Фурье.
Но в общем скучно.
Собрания Петрашевского здесь величают «кабаком», но, право, им до этого «кабака» очень далеко.
Близился день рождения Фурье. В Западной Европе ежегодно 7 апреля в различных городах устраивались банкеты. Имели они место и в Нью-Йорке, в Рио-де-Жанейро, на острове Маврикия.
В десятилетнюю годовщину со дня смерти Фурье, в 1847 году, в этих банкетах участвовало 2 тысячи человек, и они состоялись в 34 городах.
Русские социалисты не хотели отставать.
Братья Дебу упросили Европеуса предоставить свою квартиру. Во Францию был отправлен заказ на большой поясной портрет Фурье.
Посвящать или не посвящать Петрашевского? Сказать ему о том, что Филиппов уже бегает по городу и на деньги, данные им, Спешневым, заказывает различные типографские принадлежности? Он бы посвятил. Ведь Петрашевский — человек огромной энергии, целеустремленный, его помощь в организации тайного печатания бесцензурных произведений была бы незаменима. Но это тайна не его одного.
Филиппов, наверное, будет против. А Николай Александрович Мордвинов — большой приятель Спешнева, сын сенатора, который сейчас помогает Филиппову, — даже незнаком с Петрашевским.
Достоевский после ночного разговора с Аполлоном Майковым, видимо, решил не впутываться в это дело, как и его брат Михаил. Как ни старается Спешнев втянуть Достоевского в практическую революционную деятельность, Федор Михайлович не изменяет своим, строго говоря, либеральным взглядам. Он готов писать статьи. Но будет призывать не к революции, бунту. Воздействовать на моральные струны общества, вскрывать его недостатки и исправлять их с помощью правительства — вот максимум Достоевского.
Владимир Милютин — другое дело. Хотя он еще очень молод, но уже успел обрести большую популярность среди студентов университета. Его статьи и особенно «Пролетариат и пауперизм», напечатанная еще в 1846 году, вызвали острую дискуссию.
Милютин обещает стать ученым первой величины. Как остро он поставил вопрос о политической экономии! Не описание, а открытие законов, по которым совершается материальное развитие общества. Он познакомил русскую образованную публику с английским политэкономом Мальтусом.
Только очень обидно, что Владимир Алексеевич тяжело болен и все время находится в каком-то состоянии безысходной тоски. Говорят, что это неразделенная любовь.
Географическое общество, действительным членом которого Милютин избран в прошлом году, посылает его вместе с Заболоцким в западные и южные губернии России для исследования некоторых отраслей отечественного производства. Может быть, эта поездка рассеет грусть Милютина, и тогда он включится в число литераторов, поставляющих статьи для подпольной типографии.
Кое-что Спешнев уже успел приобрести. Можно печатать, как только будет собран станок.
Значительная часть «дуровцев», открыто не протестуя, все же не поддержала идею создания типографии. Дуров еще раньше закатил истерику Филиппову за его предложение литографировать, а теперь стал уговаривать Николая Александровича перенести заседания кружка в его, Спешнева, дом. Чем вызвана эта просьба — сказать трудно, ведь Дуров по-прежнему бывает у Петрашевского. Значит, это не трусость.
Но Спешнев не стал создавать своего кружка. Зато он решил пригласить «дуровцев» к себе на обед. Как хозяин, он будет направлять разговоры за столом.
Обед удался на славу, тем более что Спешнев преподнес на десерт сюрприз — «Солдатскую беседу» Григорьева.
Григорьев все же молодец! Он с такой силой обрушивается на бар, устройство отечественной армии и т. д. Впервые в русской бесцензурной литературе! А как он верит в народ!
Правда, Спешневу известно, что есть еще более замечательный документ — «Письмо Белинского к Гоголю».
Плещеев достал его копию в Москве и переслал сюда. Но пока Николай Александрович с удовольствием предлагает Григорьеву прочесть отдельные места из «Беседы».
«— Расскажи-ка нам, дедушка, сказку, да с присказкой, али про свою службу. Чай, много походов сломал?
— Да, чай, и палок на тебе много сломано, — прибавил балагур Крючков…
— Я сдаточный из крепостных. Мальчишкой был я сорвиголова и рос не по дням, а по часам. Как стал я себя помнить, то нас продали другому барину из немцев. Вот уж был злодей-то, с живых кожу драл. Обеднели мы, разорились вконец, а то прежде нешто про себя жили, да на беду я попал в солдаты… Служил я честно; получил Георгий. Это было в 1813 году. Был я и в чужих землях и под туркой и в Польше, а лучше как у француза не видал. Вот уж так залихватский народец, амбиция большая. Полюбили они меня, звали у них остаться, да нет, как-то все на родину тянет. А уж у них не житье ли? Нет там графов, ни господ, все равны. Говорят, после и у них стало было жутко. Король, слышь, больно деньги мотал, богачей любил, а бедных обижал. Да вот в прошлом году как поднялся народ да солдаты, — из булыжнику в городе сделали завалы, да и пошла потеха. Битва страшная. Да куда ты, король с господами едва удрал. Теперь они не хотят царей и управляются, как и мы же в деревне. Миром сообща и выборными. Тот уж ни мешать, ни грабить не смеет, а то самого по усам. Рекрутства там мало. Берут малого лет 20-ти, прослужит 3 года и домой, как будто на заработках был, палкам и помину нет; амбиция огромная. Жалованье и пища хорошая. Служба просто шутка; палок солдаты и не знают, и боже упаси! и не тронь его палашом, аль просто в зубы, так огрызнется, что и своих не узнаешь; одно только и есть наказанье, что под арест — как офицеры у нас; и офицеров-то солдаты выбирают среди себя. Там все служат, до единого, и барин, и купец, и наш брат мужик. Вот так раздолье. Но все я не остался; думаю, авось и дома не оставят. А вышло иначе. Учили меня, били, ломали, как собаку паршивую! Еда дрянь, жалованье грош — собачья жизнь. Сами знаете — кто из начальства хорош, того долой. Протянул я двадцать лет, выпустили по билету. Пришел домой, отец и мать уж померли, сестра тоже счахла, дом отдали другому. Стал было я наниматься, да на сборы затаскали. Тут вышла отставка. Пришел сюда, стал мебель таскать, заболел, одряхлел, и вот теперь без крова и пищи, и замерз бы сегодня, если бы вы, господа, не пригрели. Ходил, просил — кто сжалится? Богаделен нету. Обидно, ребятушки! Видно, мы нужны, пока есть силы, а там как браковку в овраг собакам на съедение. Служил я честно, а вот теперь руку протягиваешь под углом. А сколько нас таких? За все солдатство обидно… С каждым годом служба все тяжелее, а все колбасники проклятые; все захватили, да и мучат православных. Есть и у нас люди именитые, вот, например, Московский митрополит Филарет, генерал Ермолов, что немцам солоно пришелся, и другие, ну да об них что говорить, одни в немилости, а другие в Сибири — кормильцы наши, защитники.
Нет, братцы, знать, царь-то наш не больно православных русских любит…
…Ну, да погоди еще! И святое писание гласит: первые будут последними, а последние первыми! Вот французы небось у себя так и устроили, да и другие-то тоже. Только у нас да у поганых австрияк иначе. Дивны дела твои, господи! Ну чем мы хуже француза, подумаешь, а ему лучше нашего доля пришлась! Видно, правду отцы говорят: на бога надейся, да сам не плошай!..
Нас больше, чего бояться чудо-богатырям, залихватским, разудалым добрым молодцам, удалым братцам солдатушкам? Умереть так умереть, лишь бы не дать в обиду богачам да нехристям своих кровных и свою волюшку!
Старик замолчал и опустил грустно голову…
И тут как во сне представилось каждому… и родная деревня, и старик отец с матерью, и жена, и малютки-сиротиночки, и воля, дорогая волюшка.
— Ну, а за что же солдат-то морских посадили? — спросил Крючков.
— А за то, — отвечал старик, — что с морозу зашли в штофную, что у Калинкина моста. Только что мальчуга стал им наливать да подносить — шасть царь, да и ну тузить солдат-то; те было барахтаться, да увидели, что офицер, и струсили; а мальчуга-то и кричит: „Ну ваше ли дело, ваше благородие, — говорит, — здесь драться?“ Он давай да и мальчугу. А они, вишь, его никто не узнали. Велел лавку запечатать, да, я думаю, торговцы с министром отстоят, они ведь крепко за своих стоят. Народу-то што, народу-то! что, на балаганах о святой собралось тогда.
— Тьфу, ты пропасть! И залить с горя не велят! — крикнул Крючков (а он заливал часто, то с горя, то с радости). — Вишь, по кабакам шатается, не за кражею, а за солдатиками гоняется. Его ли дело! А поди ты, тоже кричит „здорово“, ребята! Не поздоровится, брат, от твоего здорово! Знаем мы тебя давно.
Вдруг звонок. Динь, динь, динь…
— Вон, живо, Михаил едет!
— Вишь, рыжий пес, в какую погодку понесла нелегкая, — проворчали солдатики и бросились на плацформу.
Горемыка старик поплелся за ними».
Рассказ отставного солдата Григорьев исправил, и получилось очень хорошо.
Нужно было видеть Достоевского, когда Григорьев читал. Федор Михайлович так и ерзал, так и ерзал на месте. А потом принялся уговаривать автора уничтожить свой рассказ. А у Спешнева есть еще «10 заповедей» Филиппова. Но читать их при Достоевском — боже упаси!
В конце концов Достоевский поддался общему настроению и прочел «Письмо Белинского к Гоголю». Ошеломляюще. Достоевский должен прочесть его на «пятнице» у Петрашевского.
Львов взял у Федора Михайловича список письма и хочет размножить копии. Если будет налажена типография, то, конечно, это письмо нужно отпечатать в первую очередь.
Квартира Европеуса празднично сияет блестящим паркетом, медными ручками дверей. Большой стол уже накрыт, и над ним склонился портрет Фурье. Это в его честь сегодня, 7 апреля 1849 года, соберутся русские фурьеристы и подымут бокалы.
Гости уже сходятся. Пришел Кашкин вместе с Ахшарумовым, Есаковым и Ващенко. Дебу привел Ханыкова, Спешнева. И Петрашевского. Не пригласить на обед в честь дня рождения Фурье первого русского его последователя было просто неудобным. Константин Дебу отказался бы тогда от обеда, да и брат его и Ханыков — тоже.
Надеялись, что, так сказать, «официальная часть» завершится речью Ханыкова. Заранее договорились, что она одна «должна быть произнесена, как обусловливающая самое празднество, а после того всякий может говорить, что желает».
Собралось 11 человек. Данилевский, которого тоже пригласили, не явился.
Сдвинуты бокалы. Ханыков — «более всех фурьерист» — поднимается с места и, обращаясь к собравшимся и портрету, начинает говорить. С большой экспрессией, восторженно, хотя и слишком быстро.
— Я начинаю говорить с тем увлечением, с тем одушевлением, какое внушают мне и наше собрание и то событие, которое мы празднуем здесь, событие, влекущее за собою преобразование всей планеты и человечества, живущего на ней…
Хорошо говорит Ханыков. Бокал с вином, который он держит в руке, чуть вздрагивает, и рубиновые отсветы вспыхивают, переливаются.
Он говорит о борьбе сословий от глубокой древности и уверяет, что уничтожить ее «может только учение Фурье».
А бедная Россия?
— Отечество мое в цепях, отечество мое в рабстве, религия, невежество — спутники деспотизма —; затемнили, заглушили твои натуральные влечения; отечество мое, думал я про себя, прислушиваясь к толкам современных славян, где твое общинное устройство, родное село, колыбель промышленной и гражданской жизни, где ты, народная вольница — великий государь Новгород?.. Заунывной песнию… отвечала ты мне, угнетенная женщина… «не люби меня, не ласкай меня, закон царский, господский, христианский заклянет, угнетет мое детище, изведет меня семья».
Ханыков говорит о семье, отрицая ее как фурьерист, а Петрашевский думает, глядя на портрет: «Заунывно, как русская песня, жалуется отечество на царские и барские законы, а для тех, кто любит родной народ, уготовлена каторга». Ханыков поднимает бокал к самому лицу Фурье, словно молящийся воздевает!руки перед иконой.
— Как открытие ни будь, господа, истинно, благодетельно само в себе, но по косности, невежеству большинства, вытекающему из теперешней организации общества, оно не может быть принято скоро и повсеместно, и всякая новая идея выдерживала и выдерживает до сих пор борьбу упорную, сильную. Но не нам бояться этой борьбы, когда ее вызвали неопровержимые доводы нашей науки, наш тесный, дружный союз на всех концах земного шара, во имя ее начала и закона… Преображение близко!
Братья Дебу целуют Ханыкова, а он еще не произнес тост в память Фурье. Гремят аплодисменты.
Петрашевский хлопает со всеми. Но ему так хочется вернуть этих людей из-за облаков на землю.
И когда он поднимается, начинает говорить, все разом смолкают, опасливо посматривают на него.
Петрашевский не очень жестоко, но критикует систему Фурье, систему, которой только что была произнесена такая восторженная хвала. Он ратует за знание действительности как основы всякого знания, он призывает к политической направленности, к борьбе с самодержавием.
Европеус слушает с недоумением. Петрашевский объявил себя старейшим социалистом-фурьеристом, а уверяет, «что не все основание довольства и покоя заключается в экономических вопросах».
Ханыков немного обижен. Ну, как это Михаил Васильевич непонимает, что в такой день не следует призывать к соединению пропаганды социальной с политической. «Разумение народа русского еще не пробуждалось» — ведь это прямой намек на готовящееся народное восстание.
Ханыков за восстания и всегда будет рядом со Спешневым, Петрашевский. Но сегодня не стоило, не стоило об этом говорить.
Но все опять аплодируют дружно и пьют за здоровье Петрашевского.
Регламент нарушен. Ахшарумов тоже держит речь. Он призывает разрушить безобразные, чудовищные города, положить конец страданиям миллионов безвестных тружеников земли.
И всю эту жизнь мучений, бедствий, нищеты, стыда, срама превратить в жизнь роскошную, стройную, веселья, богатства, счастья и всю землю нищую покрыть дворцами, плодами и разукрасить в цветах — вот цель наша, великая цель, больше которой не было на земле другой цели.
И не должно быть разногласий между фурьеристами, — Ахшарумов смотрит на Петрашевского и Спешнева.
— Да, господа, обед сегодняшний — событие важное: он дается нами… во имя будущего торжества истины над невежеством, истины, которою скоро избавлен будет род человеческий от невыносимых страданий.
Как радостно звенит хрусталь бокалов! И как хорошо Петрашевский читает Беранже!
— За здоровье Спешнева!
— За здоровье хозяина дома!
— За здоровье Кашкина!
Ипполит Дебу предлагает общими усилиями переводить Фурье, чтобы каждый взял на себя какую-то часть из одной книги. Поспорили, из какой, и остановились на «Theorie de l'unite universelle».
Следующий день был пятницей. Впервые к Петрашевскому пришел Кашкин.
У Антонелли нет ни минуты свободного времени. Начиная с января 1849 года он ежедневно доносит по начальству о результатах слежки за «известным лицом», как величал в своих рапортах Петрашевского «образованный шпион».
После того как ему удалось проникнуть на «пятницы», донесения к Липранди часто приходили дважды в день. Антонелли следовал за Михаилом Васильевичем как тень, попадался ему на глаза в министерстве, встречал в ресторанах, притворяясь заинтересованным, выспрашивал, провоцировал, брался выполнять любое поручение и хотел казаться революционней самого поднадзорного.
Не забывал шпион и друзей Петрашевского. Он навещал Толля, ходил с ним в концерты, а потом уговорил переехать на одну квартиру с общим столом.
За месяцы слежки Антонелли привык запоминать имена и фамилии, содержание разговоров. Заметно улучшился стиль его рапортов Липранди. Шпион стал настолько «своим» человеком среди гостей Петрашевского, что решился даже пригласить их к себе на обед, и очень обижался, что это приглашение перебил вернувшийся из командировки штабс-капитан Кузьмин. Он отплатил Кузьмину, сообщив Липранди, что собравшееся у штабс-капитана общество — «гадость, грязь. Все люди необразованные и отличающиеся от мужиков только фраками да отсутствием здравого смысла. Люди, которые видели свет через рюмку, наполненную водкой, а об просвещении слышали, что, дескать, существует такое чудо».
Обед у Антонелли прошел весело и пьяно. Агент уже слышал от Липранди, что скоро друзей «известного лица» арестуют, и заботливо предупреждал, что средь них есть силачи — Дуров, Филиппов, Толль, у многих всегда при себе оружие, а потому дом в Коломне нужно атаковать одновременно с двух сторон — через кухню и парадный вход.
Агент-провокатор старался, лез из кожи, путал, специально сочинял, чтобы представить открытый «заговор» как можно более страшным и тем самым набить себе цену. Обижался, что два других шпиона — Наумов и Шапошников, люди малообразованные, тоже следят за друзьями Петрашевского, обложили со всех сторон студента Толстова, литератора Катенева.
Небо чистое-чистое. Но еще не летнее. Немного блеклое, без синей глубины. Пахнет весною. Распускаются почки на деревьях. Укладываются в сундуки шубы и валенки.
Вечерами столичная публика наслаждается переливами огней Петербурга, толчется на набережной, гадает: будет ли в эту весну половодье и не выйдет ли река из берегов?
15 апреля 1849 года.
То и дело хлопает дверь в доме Петрашевского. На. «пятницу» собрались двадцать человек. Никого не нужно знакомить, представлять, и все чувствуют себя в этой квартире как хозяева. Баласогло, Момбелли, Федор Достоевский, Дуров, Львов, Ахшарумов, Филиппов, Ястржембский расхаживают по комнатам, листают книги. У всех весеннее настроение, и сегодня им хочется не речей, а пения. Или выкинуть что-либо этакое!..
Достоевский хитро посматривает на веселые молодые лица и нет-нет да запускает руку во внутренний карман сюртука. Что-то нащупывает, как будто считает деньги.
Дуров беззвучно смеется. Федор Михайлович приготовил сюрприз, но об этом знают уже многие собравшиеся.
Момбелли теребит хозяина — пора начинать и, пожалуй, нужно закрыть окна.
Петрашевский делает приглашающий жест Достоевскому.
Федор Михайлович читает переписку Гоголя с Белинским. Письмо Гоголя уже многим известно, но ответ Белинского!.. Достоевский читал великолепно, как человек, которого воодушевляет, трогает каждая строка, каждая мысль письма.
Петрашевский положил голову на руки и так застыл. Белинский предвосхитил его идеи. Недаром ведь Петрашевский у Фурье учился думать о будущем, бороться за него, а у Белинского ненавидеть и понимать настоящее, искать выхода в борьбе революционной.
«Самые живые, современные национальные вопросы в России теперь: уничтожение крепостного права, отменение телесного наказания, введение по возможности строгого выполнения хотя тех законов, которые уж есть».
Но ведь Белинский этими словами разрешает спор, который с таким ожесточением вел Петрашевский всего две недели назад. В тот вечер у него впервой появился Головинский — чиновник министерства юстиции, человек упорный, убежденный, не хуже хозяина знающий юриспруденцию, так как окончил училище правоведения.
Головинский на первое место ставил уничтожение крепостного права. Петрашевский — судебную реформу. Белинский тоже ратует за уничтожение рабства. Выходит, Головинский прав. Но только тогда, когда он говорит об «уничтожении» крепостного права, а не о правительственной крестьянской реформе. Легально можно провести реформу суда — крепостное право падет только в результате революционного натиска на царизм.
Белинский говорит не о реформе, нет, о реформе может болтать Беклемишев в своей «Переписке двух помещиков», он за отмену, чтобы предупредить крестьянскую революцию. До этого додумались и другие либералы. Они требуют от правительства полумер. И правительство выполняет эти требования.
Но кому не видно, что делается это только для того, чтобы подновить обветшалое здание крепостного права, залатать его фасад!
Нет, не так должны относиться к решению этого вопроса революционеры — освобождение крестьян с землей, без каких-либо вознаграждений помещикам. Петрашевскии составил по этому поводу проект, и придет время, этот проект может стать манифестом. Разве можно рассчитывать на то, что помещики добровольно согласятся землю отдать крестьянам, откажутся от прав владеть людьми и не попытаются содрать с крестьян три шкуры?
Нет и еще раз нет!
Только крестьянская революция может привести к этому. Спешнев, насколько известно Петрашевскому, придерживается того же взгляда. Да и Головинский говорит о том же. Но разве можно следовать его призывам? Ведь правовед считает, что освобождение крестьян — дело легкое, что крестьяне осознали всю тягость своего положения, и нужно только организовать их немедленное выступление. Ошибается правовед — крестьяне еще не поняли, что главный их враг не сосед-помещик, а царизм. Нужна пропаганда и пропаганда. Умерьте свой жар, господа Головинские!
Вот судебная реформа — дело другое.
Как обрадовал Петрашевского Белинский заявлением, что нужно исполнять хотя бы те законы, которые есть.
Это его давнишняя мысль. И ее можно осуществить легальным путем. 60 миллионов русского населения ждут реформы суда. Судебная реформа будет понята всеми, тут не нужно особо пропагандировать. «Злоупотребления судебные и административные велики — это известно всякому, так что в устах народа стало значить слово чиновник почти грабитель, официально признанный вор…»
Ввести открытое судопроизводство. «Публичное наказание и публичный суд». «Открытый для всех суд, равенство перед законом, защита идей справедливости в суде — вот что подготовит в конечном итоге народ к восприятию и революционных идей».
Достоевский окончил чтение. Нужно было видеть, как восторженно жали друг другу руки Баласогло и Ястржембский. «Пан» тоже нашел отголоски собственных мыслей, собственных идей. Ну, а Александр Пантелеймонович готов об заклад побиться, что кто-то в свое время показал Белинскому проект организации книжного склада, читальни и типографии. Ведь Белинский говорит его словами: «Публика …видит в русских писателях своих единственных вождей, защитников и спасителей от русского самодержавия, православия и народности и потому, всегда готовая простить писателю плохую книгу, никогда не простит ему зловредной книги. Это показывает, сколько лежит в нашем обществе, хотя и в зародыше, свежего, здорового чутья, и это же показывает, что у него есть будущность».
Письмо решили «распустить» в нескольких экземплярах.
Когда все разошлись довольные, в каком-то радостно-приподнятом настроении, Петрашевскии по своему обыкновению уселся за книги. Но читать он не мог.
За окном потухли огни Петербурга, и только луна отбрасывала длинные тени от домов, церквей. Ее неверный свет перерисовывает гордые профили статуй царей в сгорбленные силуэты крадущихся убийц, дворцы — в темные сараи.
Сегодня Белинский подвел итог четырехлетней деятельности пропагаторов. Мало, мало они сделали, но уже нащупан верный путь. Недаром Филиппов говорил, что их метод единственно правильный.
Будут еще встречи, придут новые люди, откликнется Москва, в которой, по словам Плещеева, тоже есть единомышленники, за ней потянется провинция. Может быть, ему, начинателю, и не дожить до счастливого дня преображения родной земли, родного народа, но о нем вспомнят, он заложил первые камушки здания народного счастья.
Уже сложился кружок людей, готовых идти на бой, если нужно и умереть. И пусть они не слишком-то приветливы с Петрашевскии, неважно, это налет личного, игра страстей, но он знает: Спешнев, Григорьев, Филиппов, Момбелли, Ханыков, Львов, Плещеев, Ахшарумов и даже восторженный Баласогло — люди будущего.
Липранди складывал свои полномочия. Он организовал тринадцатимесячную слежку, он подослал агентов, принимал и обобщал их донесения. Но царь не хочет больше тянуть. У монарха не выдержали нервы.
Министр внутренних дел должен теперь все передать Третьему отделению. Перовскому оставалось повиноваться. Граф Орлов опять восторжествовал.
21 апреля в руках шефа жандармов были уже все документы, которые он и переправил Николаю I.
«Посылаю Вашему Величеству записки об известном деле, из которого Вы изволите усмотреть:
1-е, обзор всего дела, 2-е, три тетради с именным списком участвующих, и с описанием действий каждого из них, и с означением их жительства.
В обзоре Вы изволите усмотреть удобнейшее средство к арестованию виновных. Предложение это будет исполнено, ежели Ваше Величестзо не сделаете каких-либо изменений. По моему мнению, это вернейшее и лучшее средство…»
Николай одобрил, просил спешить, но без огласки и…
«Дай бог во всем успеха!»
Ночь тянется бесконечно, теплая, апрельская. Одно за другим потухают окна, и дома проваливаются в черноту. Месяц едва теплится где-то там, высоко-высоко. На землю свет сеется, как дождевая пыль. Стучат колотушки сторожей, да Петропавловская крепость вскрикивает протяжно, уныло:
— Слу… ша-ай! Месяц скатился к горизонту, его света теперь хватает только на то, чтобы чуть-чуть припудрить серебром редкие облака. Темнота сгустилась, собралась, как перед прыжком, — еще немного, и её вспугнут первые лучи солнца.
Светится окно в спальне императора. Горят окна дома у Цепного моста. А кругом темно-темно.
Четыре часа утра. Петрашевский устало потягивается. Захлопнулась дверь за последним посетителем. Теперь можно и отдохнуть.
Гаснет лампа. В открытую форточку вдувается предутренняя свежесть, сырость тающих снегов.
Волнение вечера еще не улеглось. Сколько несогласий во мнениях, даже среди близких по духу и идеям людей! Хотя теперь, после того, как он видел реакцию этих людей на письмо Белинского, разногласия его не пугают. Это просто разница темпераментов, цели же остаются общими.
Сегодня он говорил о литературе и журналистике. И, кажется, все сошлись на том, что журналистика в Западной Европе потому и имеет такой вес, что там всякий журнал — отголосок какого-нибудь определенного класса общества. А русская — вся насквозь пропитана духом спекулятивности, не то что на Западе. Там каждый знает, о чем пишет, а наши писатели со школьной скамьи воображают, что гении, и спекулируют этим, ровно ничего не зная.
Только ушли писатели — Достоевский и Дуров, как Баласогло стал исходить желчью. Он назвал литераторов людьми тривиальными, безо всякого образования, убивающими время в безделье…
— Посещали наши собрания, — язвил Баласогло, — уже три года, могли бы, кажется, пользоваться и книгами и хоть понаслышке образоваться, а ни одной порядочной книги не читали, ни Фурье, ни Прудона, ни даже Гельвеция!..
Мысли путаются. Петрашевский засыпает прямо в халате.
На лестнице какой-то шум. Вспыхнувший свет пробивается сквозь щели в двери. Куда-то движется…
Перед Петрашевским генерал. Голубой! Он знает его. Это Дубельт.
Ну и приснится же всякая чертовщина!..
— Будьте любезны одеться и ехать со мной в Третье отделение собственной его императорского величества канцелярии!
Петрашевский крепко зажмуривается. Трясет головой.
Генерал не исчезает.
Михаил Васильевич подтягивает оторванный рукав халата и велит казачку подать сапоги.
— Я готов!
— Однако!.. — Дубельт шокирован. Это уже слишком. Неуважение к властям. Лично к нему.
— Неужели вы думаете ехать в таком костюме?
— Сейчас ночь, а я в это время не привык одеваться иначе…
Дубельт овладел собой. Этот забияка еще припомнит генерала. Но каков Липранди, остался в карете. Генерал вспомнил, что Антонелли предупреждал о возможности вооруженного сопротивления.
— Вы не знаете, с кем вам придется говорить, и я советую вам надеть более приличное платье…
— Ладно.
Генерал рассматривает огромную библиотеку хозяина.
— Генерал, ради бога, не смотрите этих книг.
— Почему же?
— Потому, что у меня, видите ли, есть только запрещенные сочинения; при одном взгляде на них вам станет дурно!
— Почему же вы бережете такие книги?
— Это дело вкуса.
Генералу нечего возразить. А Петрашевский уже добродушно покачивает головой. Он готов!
Достоевский воротился домой уставший, довольный и завалился спать. Это была славная «пятница», что бы там ни говорили о литераторах. Зашли потом к Григорьеву, малость «разговелись», и теперь голова приятно кружится.
Перед глазами мелькает конский хвост. Почему хвост? Почему конский? А!.. У извозчика была такая забавная лошадка, сама серая, а хвост белый…
Или это отсвет серой ночи?..
— Вставайте!..
Лошадка махнула хвостом и заржала. Заржала таким приятным мягким баритоном и нацепила на себя пушистые подполковничьи эполеты!..
Потом она стала голубой и за что-то со звоном зацепилась.
— Что случилось? — Достоевский хотя и привстал с кровати, но сон еще туманил ему глаза.
— По повелению…
Федор Михайлович, наконец, проснулся. Частный пристав в окладе лохматых бакенбардов. Голубой жандармский подполковник с лошадиным хвостом на каске, лошадиным оскалом и приятным баритоном. Голубой солдат с саблей у дверей, унтер из тех же голубых…
«Действительно, по повелению…»
— Позвольте же мне…
— Ничего, ничего, одевайтесь. Мы подождем-с, — мурлыкал жандармский конь, запуская копыто в ящик письменного стола.
Пристав бакенбардами выметал золу из печки. Длинный чубук хозяина, которым он шарил там, только подымал пыль.
Унтер, пыхтя, уцепился за карниз печи. Достоевский с интересом следит за его натужливым усердием. Карниз обрывается. Унтер опрокидывает стул и летит на пол.
Подполковник уже не мурлыкает.
Пристав уперся пальцем в пятиалтынный, лежащий на столе.
Достоевский понял его намерение:
— Уж не фальшивый ли? Пристав пойман с поличным.
— Гм… Это, однако же, надо исследовать… И со вздохом монета присоединена к «делу».
— Я готов!
Здание у Цепного моста все еще светится подслеповатыми окнами, хотя утро уже подвесило солнце над хмурой Невой.
У подъезда стопорят кареты. Одна отъезжает, подлетает другая. Как будто торопятся на бал.
Но на улицу не прорываются звуки кадрили.
«Гости» в зале перед кабинетом начальника штаба корпуса жандармов Дубельта заспанные, одетые кое-как. Они стоят полукругом, и каждого отделяет от соседа солдат. В зале слышится сдержанный говор. Когда он усиливается, солдаты стучат прикладами о паркет.
Суетится какой-то статский чиновник. Он — в который раз! — проверяет по длинному списку арестованных.
А они прибывают и прибывают.
Штабс-капитан Кузьмин появился совсем как на званый вечер. В парадной форме и с миловидной дамой.
Дама в списке не значится. Генерал Сагтынский возмущенно спрашивает Кузьмина:
— Кто эта дама?
Кузьмин с улыбкой отвечает по-французски:
— Зачем же ее привезли сюда?
— Да уж таков этот жандармский капитан!
— Нужно ее отпустить.
— Это уж ваше дело, генерал! Арестованные сдерживают улыбки.
Потом их лица темнеют. Раздаются негодующие возгласы. Достоевский сумел заглянуть в. список. В нем возле имени Антонелли стоит карандашом: «Агент по найденному делу».
Этого уже нельзя скрыть.
Генерал Дубельт «принимал» арестантов в своем кабинете. С некоторыми перекидывался отрывистыми фразами, других отпускал молча. Жандармские унтеры ловко обыскивали и разводили по комнатам. Считавшихся наиболее важными запирали поодиночке.
Штабс-капитан Кузьмин очутился в зеркальной комнате. Рассеянный свет раннего утра с трудом пробивался сквозь задернутые портьеры. В полумраке зеркала тускло повторяли стертый силуэт узника. Штабс-капитан много слышал об ужасах Третьего отделения. Кто-то рассказывал, что там имеются комнаты с опускающимися полами, чтобы невидимые агенты могли сотворить над жертвой «розочное сечение».
Тогда Кузьмин посмеялся над рассказчиком. Теперь он жмется к стенам, боясь ступить на средние квадраты паркета.
Аресты продолжались. К 24 апреля не были еще задержаны только трое из списка: поэт Плещеев, кандидат университета Михайлов, моряк Тимковский.
В петербургских гостиных, литературных салонах сразу же заметили исчезновение Достоевского и Дурова, Спешнева и Кашкина, Момбелли, Львова, Петрашевского.
Никто не знал, в чем виноваты эти молодые люди, но каждый! строя догадки, прибавлял к общим слухам еще одну небылицу.
Графине Блудовой писали из Москвы: «В Питере нашлись люди, которые хотели всех нас перебить».
В Москве барыни шептались сквозь чепцы: «Клубисты-то хотели перерезать всех русских до единого и для заселения России выписать французов, из которых один какой-то считается у них Магометом».
В придворных кругах злорадствовали и старались поддержать версию о страшных, пагубных последствиях, которые имел бы «заговор», если бы его вовремя не пресекли.
Слухи проникали в Тамбов и Тулу, в Рязань, Ригу, Смоленск. В Петербурге Чернышевский записал в дневник, что он только случайно не оказался среди посетителей Петрашевского, а «эти скоты, вроде этих свиней Бутурлина и т. д., Орлова и Дубельта и т. д., — они должны были бы быть повешены».
«Злоумышленников» свозили в Петропавловскую крепость. Свозили ночью. Тихо.
Шеф жандармов и император очень опасались, что на Неве, чистой ото льда, может начаться половодье и мосты будут разведены, а Исаакиевский понтонный придется спешно убирать.
Но к 2 часам все было кончено. Комендант Петропавловской крепости выдал последнюю расписку на доставленного арестанта.
Крепость, никогда не видевшая под своими стенами врагов и никогда не стрелявшая боевыми ядрами, давно обрела не ратную славу защитницы столицы, а мрачную репутацию узилища для всего лучшего, что рождалось в России. Здесь, в сырых крепостных казематах, заживо хоронили врагов царизма.
A IB крепостном соборе в пышных саркофагах покоились тела русских императоров. И крепостные куранты, отсчитывая вечность, хрипели: «Коль славен» и «Господи помилуй».
Куски изодранного бархата, черного внизу, бледно-розоватого там, где красная поперечная черта разграничивает стены с потолком. Подоконник на уровне головы. На него можно положить только подбородок, как это делают собаки, которым хочется гулять. Матовое стекло перечеркнуто серыми полосами теней внешней решетки. Тьма, сменяющаяся полумраком; полумрак, отступающий перед тьмой.
Изразцовая печь. Деревянное ведро. Деревянная кровать. Деревянный крашеный стол без ящиков. И стул. Они никогда не меняются местами.
Петрашевский не запомнил, какими путями его вели от комендантского дома Петропавловской крепости. И, только очутившись в камере, он скорее угадал, чем догадался, что находится в Алексеевском равелине.
Для узников равелина нет даже тюремных правил. У них отняты имена, они исчезли для всего мира. Сюда могут заходить только царь, шеф жандармов и комендант крепости. Даже министр внутренних дел не имеет доступа в это узилище.
Стража бессловесна. Она такая же принадлежность равелина, как стены, кровать, стул. Часовым в коридоре не разрешено подходить к дверям камер, заглядывать в «глазок». Когда узника ведут по коридору, часовой делает четкий поворот на месте, чтобы оказаться к нему спиной. Смотритель без свидетелей не заходит в камеры.
Он говорит: «да», «нет».
Вероятно, начался новый день. Хлеб с запеченным тараканом отличается от вчерашнего только тем, что вчера таракана не было.
Чешется грудь, шея. Противный зуд в ногах. Это от тюремного белья. Штаны — толстые холстяные мешки, с заплатами в несколько слоев. Рубашка подкладочного холста и халат из солдатского сукна.
Обед в 12 часов.
Петрашевский не обращает внимания на то, что ему приносят. Щи или бульон консоме, тарелку размазни, а может быть, паровую стерлядь?
Должен пройти еще один день. Третий. По законам Российской империи не позже третьего дня ему должны объявить вину. И если это не будет сделано на четвертые сутки, то, по закону, его должны выпустить на поруки.
Еще одни сутки…
Их едва хватает, чтобы вспомнить статьи уложения и попытаться самому очертить состав преступления.
Пусть коридор изредка громыхает шагами. Даже холодок, вползающий в камеру откуда-то, хотя забиты все щели во внешний мир, не могут оторвать Михаила Васильевича от светлячка окна. Хорошо, что стекло матовое, — это помогает сосредоточиться.
Четвертые сутки.
Холодно. Кого-то рядом уводят, приводят, и далеко-далеко бьют куранты.
Смотритель должен знать законы. Почему он молчит?
А комендант? Пусть комендант явится со сводом, и Петрашевский убедит его буквою.
Все молчат. И только куранты где-то там, далеко-далеко, отзванивают четверти.
«Секретная следственная комиссия, высочайше учрежденная в С.-Петербургской крепости над злоумышленниками».
Такой надписи не висело ни в одном помещении Петропавловской крепости. Комиссия была секретной. Ее возглавил комендант крепости генерал Набоков.
Заседания должны были происходить в комендантском доме, в большой комнате.
Комендант Набоков никогда и не помышлял очутиться в роли председателя следственной комиссии, как, впрочем, и не мечтал быть комендантом узилища для государственных преступников. Служака, он свято верил, что если человека посадили в тюрьму, значит он виноват. И это определяло его отношение к подследственным. Правда, к старости у него появились кое-какие слабости, и среди арестованных, отбывающих наказание в крепости, были даже любимчики.
26 апреля. Куранты Петропавловской крепости, должно быть, отсырели, и «Господи помилуй» звучит как напев балаганной шарманки.
Комиссия в полном составе. На лицах угрюмая важность. И все молчат. Молчит и генерал Набоков. Он менее всего расположен говорить. Ему, как председателю, надлежит, открывая это первое заседание, довести до сведения членов комиссии порядок работы. А он не знает, каким должен быть этот порядок. Вчера генерал заглянул к статс-секретарю князю Голицыну — и пришел в ужас. Вспомогательная комиссия по разбору бумаг арестованных сразу же утонула в них. Набокову даже показалось, что он стоит где-то на берегу: вокруг белым-бело ото льда, а в полыньях барахтаются чиновные следователи.
От такого количества бумаг и книг можно с ума сойти. Но, наверное, эти бумаги и содержат в себе ключ к раскрытию тайного заговора, уставы и планы подпольной организации, ее связи с периферией?
Может быть, может быть. Комиссию Голицына величают «ученой». В нее входит просвещенный сыщик Липранди и чиновник Третьего отделения генерал Сагтынский. На них возлагают большие надежды.
А пока бумаги не разобраны, председатель следственной комиссии не знает, с чего начать. Перед ним донос, составленный Липранди на основании сообщений его шпионов. Но в доносе сплошь общие места, устрашающие выводы и почти никаких фактов. А комиссии нужны факты, чтобы уличать, запугивать, добиваться признаний.
Князь Гагарин считал себя как члена Государственного совета персоною грата и был обижен, что комиссию возглавил этот служака-строевик Набоков, а потому признавал одного князя Долгорукова как равного по рождению и все-таки товарища военного министра.
В составе комиссии еще Дубельт и начальник военных учебных заведений генерал Ростовцев. Он давно известен как пустозвон, человек взбалмошный да к тому же еще и заика.
Князь Гагарин насмешливо поглядывает на Набокова. С таким председателем они будут только топтаться на месте, а государь император повелел вести ускоренное следствие. Поход русских войск в Венгрию вопрос решенный, и до его начала государь хочет иметь ясность в этом деле.
Видно, князю придется взять на себя фактическое главенство в комиссии. Набоков вряд ли будет протестовать, а с остальными можно и не считаться. Долгоруков глуп, Дубельт хоть и умен, да чином не вышел, недаром же он безропотно сносит, когда шеф жандармов Орлов обзывает его во всеуслышание дураком. Да к тому же милейший Леонтий Васильевич будет по горло занят в Третьем отделении арестами, предварительными допросами и просто текущими делами.
Князь Гагарин нарушил молчание.
Он предложил, пока суть да дело, начать словесные расспросы арестованных, требовать от них чистосердечных признаний, кого убеждать, кого запугивать.
Набоков знает, что значит запугивать.
— А именно, ваше превосходительство?
— Вы же понимаете, князь, мы имеем дело с людьми, едва достигшими зрелого возраста! Их нетрудно застращать.
Гагарин на это и рассчитывает. Подследственные не обладают достаточными сведениями в области юриспруденции.
— А Петрашевский? Петрашевский?
Да, он знает свод законов лучше князя Гагарина, лучше генерала Набокова, не говоря уже о генерал-адъютанте Долгорукове.
Леонтий Васильевич сомневается? Напрасно.
Господин Петрашевский несколько лет состоял частным адвокатом. У него богатая практика хождения по делам.
— Петрашевского нужно призвать к ответу в последнюю очередь.
Никто из членов не возражал.
А пока… пока можно заняться и второстепенными фигурами.
— Князь, прошу вас, ведите заседание, — генерал Набоков вздохнул облегченно и вновь почувствовал себя хозяином. Пусть Гагарин ведет расспросы. Он, Набоков, — комендант, в его доме заседает комиссия, и он обеспечит ей условия!
Начали со второстепенных.
Начали с угроз.
Для этого не требовалось особого ума, и генерал Ростовцев и князь Долгоруков чувствовали себя превосходно и вполне на месте.
Три первые жертвы — три офицера: Пальм, Кропотов, Григорьев. Генералу Ростовцеву нечего терять, он обвинитель и может обличать офицеров в измене присяге, в желании произвести государственный переворот, да мало ли что может наговорить этот заика для того, чтобы запугать, сбить с толку.
И Пальм, и Кропотов, и Григорьев были не робкого десятка, но…
Пальм вернулся в камеру оглушенный. Ему было страшно оставаться наедине с самим собою, с таким ужасным преступником… Нет, нет, произошла какая-то роковая ошибка, он должен восстановить истину.
Пальм написал исповедь.
Кропотов тоже написал исповедь. Но он не хотел, чтобы его причисляли к этой компании. Он и на «пятницах»-то бывал от случая к случаю. Не столько слушал разговоры, сколько наблюдал, чтобы при случае донести и выдвинуться. Нюх у штабс-капитана был отличнейший. Но недосмотрел и сам угодил в яму. Значит, чтобы выкарабкаться, все средства хороши. Пока у него одна возможность — тотчас дать письменные показания. Все равно ему теперь уже неважно, как на него посмотрят, когда он выйдет из крепости, а потом — следствие секретное, бумаги тоже.
«Петрашевский — дурак», нет, его можно даже окрестить «человеком полупомешанным, чудаком, несчастным по характеру и по постройке головы».
Кропотов знает анекдоты о Петрашевском, которые ходят по Петербургу. Сюда их! Пусть не поверят, зато увидят, каков он. И фурьеризм и прудонизм в одну навозную кучу.
На минуту закралась мысль: а собственно, что же ты сам-то ходил к Петрашевскому? Зачем? Нет, он не откроет истинных своих целей. Теперь ему не поверят. Пусть, лишь бы вновь очутиться на воле и смотреть на Петропавловскую крепость с другого берега Невы.
Первый «генеральский натиск» смутил не многих. Львов никак не хотел признать, что в собраниях Петрашевского был какой-то антиправительственный умысел, тайный заговор. Ольдекоп попросту поставил генералов на место, чтобы они не говорили чуши и не искали за разговорами тайный смысл, которого нет и не было.
Бедный художник Бернардский и вовсе смутил комиссию своим невежеством.
Едва художника ввели, как Ростовцев, указуя на него перстом, вращая белками и заикаясь, крикнул:
— Вы ко…ко…мму…нист? Бернардский не понял.
— Нет, я Бернардский!
Князь Гагарин от неожиданности даже охнул. Потом захихикал. Сцена была действительно потешная: грозный генерал с открытым от удивления ртом и удивленный художник, повторяющий что, право же, его фамилия Бернардский.
Пришлось комиссии с первых же дней работы расписаться в собственной непоследовательности. С одной стороны, она признала, что донесения Антонелли «о характере собраний Петрашевского достоверны», с другой — 4 мая ходатайствовала перед государем об освобождении сразу девяти арестованных.
Комиссия князя Голицына мало могла помочь следствию. Хотя, конечно, среди этого моря бумаг попадаются письма и дневники с дерзостными рассуждениями, либеральными идейками…
И снова допросы, допросы… Генералы вели их, не раздумывая. Князь же Гагарин все больше и больше нервничал. Какая-то ерунда получается, все как сговорились, руками и ногами открещиваются от заговора, тайного сообщества и твердят одно: «собирались», «иногда посещали», ну, беседовали, ужинали… Черт возьми, но если в ближайшие же дни комиссия не получит каких-либо серьезных улик, то в каком положении окажутся они, члены комиссии, и государь император? Быть может, им не повезло: на первые допросы попались такие ловкие и упорные конспираторы, что комиссия, вместо того чтобы продолжать выпытывать из них сведения, ходатайствует об освобождении из-под ареста?
Впрочем, взять того же Серебрякова. Мелкий чиновник, малоинтеллигентный, запуган. Квартировал у Петрашевского. И двух слов толком сказать не может. Твердит одно: «Петрашевский склонен к антирелигиозной пропаганде». Или другой сожитель того же Петрашевского — Деев. Сразу признал, что бывал у Петрашевского с 1846 года, и не дурак, хотя университета не сумел окончить, а тоже ничего рассказать не может.
Замок щелкнул.
Деревянный пол в коридоре глушит стук удаляющихся каблуков.
Надвигается новая ночь кошмаров. А куранты отбили только половину седьмого.
Вечерняя прохлада, как дары небес, изредка впархивает в форточку. И гонит всякую мысль о сне.
Петрашевский садится на стул. Боком, в самой неудобной позе. Каждый вечер, уставившись в одну точку, он старается унять беспорядочный бег мыслей, довести себя до полного безразличия. А когда отекут не только руки и ноги, но и голова, — валится на постель.
В коридоре опять каблуки.
Натужливо скрипит замок.
В камеру входят смотритель и солдат. Не говоря ни слова, кивком головы смотритель приказывает надеть платье, которое принес караульный.
Петрашевский одевается. Да, да, это его сюртук, его брюки.
Смотритель, полковник Яблонский, как филин, уставился на узника своим единственным глазом. Взгляд тяжелый, укоряющий. В полутемной камере где-то под потолком неестественно серебрится его голова. Филина ничто не трогает, у него нет чувства простой человечности, сострадания.
Глоток чистого воздуха рвет легкие. Хочется не дышать, а пить эту чудесную, ни с чем не сравнимую прохладу.
До комендантского дома недалеко. И так близко — рукой подать — Нева, лодки и блеклое марево Зимнего дворца, мелькнувшее и исчезнувшее, как мираж.
Комендантский дом пустынен и тих. Здесь живут генерал Набоков, чиновники комендантского управления, их семьи. Но крепость не терпит веселых детских голосов — дети резвятся за ее стенами.
За продолговатым столом сидят генералы и штатский. Петрашевский догадывается, что его привели в следственную комиссию и сейчас начнутся расспросы.
Сегодня 16 мая. Прошло 23 дня с момента ареста. Наверное, его допрашивают последним. Что же, это логично, ведь он главный преступник в глазах этих вот… И прежде чем взяться за него, они должны были заполучить от других улики.
Штатский, не глядя на арестованного, бросает усталым голосом:
— Господин Петрашевский, вы обвиняетесь в бунте и пропаганде фурьеризма.
Обвинение столь нелепое, ничем не подкрепленное, что Михаил Васильевич на минуту смешался.
Быть может, господа следователи позволят ему просмотреть свод законов, чтобы дать потом необходимые объяснения?
— Вы должны говорить не то, что считаете сами нужным, но то, что нужным считает комиссия.
Петрашевского взорвало.
Ах, так! Тогда он ничего не намерен говорить.
— И пусть комиссия судит обо мне, как знает!
Теперь даже самое сильное снотворное не повергнет его в дрему. Он отказался отвечать и тем самым обрек себя на произвол.
Слово за словом он вспоминает этот первый допрос, взвешивает, анализирует. И опять дни сменяют ночи, но он уже не считает их.
В голове неотвязно бьется мысль — все они жертва клеветы. Но если не отвечать на клевету, значит только увеличить ее вес, служить орудием торжества для того злодея, который возвел эту клевету на погибель ближних — для основания собственного благополучия.
Нет, напрасно он позволил гневу взять верх над разумом.
Клевету можно и нужно развеять. Истина должна восторжествовать. А так как истина — это прежде всего желание сделать добро для всего человечества, истина — это свет учения Фурье, свет, открытый немногим и нужный всем, то пусть же они знают, что это не преступление, а добродетель.
Он будет отвечать. Он будет бороться. Он снимет обвинение и с себя и с тех, кто верил ему, шел за ним, разделил его участь.
А быть может — как знать? — он добьется полного триумфа, превратит обвинителей в своих единомышленников.
Ему на всякий случай дали бумагу для письменных показаний.
Хорошо, он напишет, напишет «исповедь сердца того человека, для любви которого тесен круг семьи, тесны пределы отечества, для которого человечество — семья, а в природе всё друг и учитель, отчет в делах человека искренно благонамеренного, который может без страха обратить взор на свое прошедшее, ибо знает он, что прошедшее его будет говорить не против него, а за него».
Он смутит следователей натиском, покажет им, что с их образованностью, их знанием законов нельзя браться за разбор не поступков, а мыслей, не действий, а идей, сокрытых для них тьмой российского деспотизма, невежества, косности.
Он будет действовать, как полководец, у которого разбита армия. Есть беглецы и пленные, а война перенесена на его территорию. Невозможно снестись со своими соратниками. Ну что же, значит теперь он не только полководец — он передовой отряд армии. Так вооружимся оружием, отнятым у противника, высвободим своих пленных!
Смерть или победа!
Кто этот штатский, который так нагло себя держит, задает вопросы в тоне, несвойственном ни следователю, ни просто воспитанному человеку?
А что, если это «приниматель доноса»? Ведь ясно, что на него и на посетителей его «пятниц» сделан донос.
Но тогда они были обязаны зачитать текст доноса, а не статью уголовного уложения «об умысле на бунт». … …
В доносе «должны быть обозначены все обстоятельства, могшие служить его подтверждением. Зачем потом мне глухо объявлено, что обвиняюсь в распространении фурьеристского толка? Зачем не прочитаны ст. Уг. уложения, относящиеся до ересей и расколов, — должны же быть какие-нибудь этому причины, — зачем не объявлено определенно, что такое за толк фурьеристский — в доносе это должно было быть объяснено».
Все светлей и светлей в камере. Свет раздвинул стены, их уже не видно. Не заря ли это победы, а может быть, пламя пожаров, охвативших неприятельский стан?
Стук в дверь оторвал Петрашевского от стола. Почему он сидит за столом? Ведь только что ходил по камере и рассуждал сам с собой вслух.
Он не заметил, как уже исписал целый лист.
Стук в дверь не прекращается.
Плошка, плошка! Загорелось масло, фитиль полыхает копотью. Караульный не может войти к узнику — он может только стучать…
Петрашевский подтянул фитиль, погасил горящее масло и, разбитый волнением, лег.
Но сон не шел.
Он решил давать показания. Так берегитесь, господа следователи, у вас не будет хватать времени на то, чтобы их прочитывать. Вот только худо, что пишет он тяжело. Но ничего, пусть трудятся. Он не станет на колени и о милостях просить не будет. Только наступать, и они подчинятся его уму, его знаниям, он будет руководить следствием так, чтоб неприятельская армия оказалась в плену.
В эту ночь караульные снова неистово стучались в камеру № 1, разбудили весь Алексеевский равелин.
Но Петрашевский ничего не слышал.
Следующее утро застало Михаила Васильевича уже за столом. Он успокоился. Возможность писать, обобщить мысли, накопившиеся годами, сделала его почти счастливым.
В довершение всего полковник Яблонский куда-то отлучился, а дежурный инвалидный поручик разрешил прогулку.
Только теперь Михаил Васильевич разглядел Алексеевский равелин. Замкнутый треугольник приземистых кирпичных стен. Окна камер выведены наружу, и перед каждым тоже стена. Внешняя.
Внутри треугольника — садик. Чьи-то заботливые руки уже взбили пухлые подушки двух клумб. Между ними скамейка. Четыре яблони роняют свои цветы на дорожку, обсаженную кустарником.
Где-то он слыхал, что эти яблони посадил декабрист Батенков. Посадил семечками от яблок, которые ему давали на десерт. Рядом низкорослые березы и столетняя липа. Она одна гордо заглядывает за стену равелина, ей одной открыт и простор Невы, и улицы города, и пьянящие струи ветра.
Пятнадцать минут прогулки после стольких часов заточения в заплесневелом каземате не могут иссушить сырость, осевшую в легких.
А поручик торопит. Наверное, его дожидается следующий счастливец.
Следующий?..
Михаил Васильевич даже останавливается.
Следующий?..
Как это он раньше не подумал о том, что в равелине, кроме него, заточены, наверное, и другие кружковцы. Хотя равелин невелик, в нем несколько камер. Это легко сосчитать по трубам, которые выведены наружу из каждой темницы.
Напрасно весь остаток дня он выстукивал стены. Его камера крайняя по малому коридору. Справа логово смотрителя, а налево… налево, по-видимому, никого нет.
Но может быть?
Петрашевский вновь и вновь стучит согнутым пальцем.
Ни звука! Только при неосторожных ударах отскакивают ломтики сырой штукатурки.
И еще яростнее он накидывается на бумагу. Утром она была его другом, его спасителем. Теперь он ненавидит эти ровные, идеально чистые листы.
Они думают, что он беззащитен, что свод законов Российской империи столь велик, запутан, противоречив, что всегда найдется статья, по которой он может быть подвергнут самому ужасному наказанию.
Нет, не на такого напали!
Они хотят поставить ответчиков в неравное положение с обвинителями. Обвинитель может советоваться с законами, в его руках показания обвиняемых, свидетелей. А они разобщены, им даже на пять минут не позволяют взять в руки свод.
Но закон публикуется не только для истцов, его нельзя скрывать и от ответчика.
Вы хотите, чтобы у правосудия были двойные весы. Справедливость? Вы встали на сторону того мерзавца в штатском? «Считаю долгом объявить на г. штатского следователя свое подозрение — и просить вас, прочие г.г. следователи, об его отводе…»
«Еще не началось следствие, я вижу уже в самых предварительных действиях комиссии три обстоятельства, рисующие мне не блистательную перспективу: 1, непрочтение мне формально доноса, не объявление имени доносчика, 2, лишение меня в пользу доносчика общего всем права человеческого — именно равенства перед законом и 3, злоупотребление доверия некоторых из следователей во вред обвиненному — и пристрастие в допросе».
Наступать на противников, не давать им ни минуты передышки.
Их мозг должен капитулировать перед умом более возвышенным, он, как гипнотизер, внушит им свою волю.
Но как поведут себя на допросах остальные? Ведь схвачено так много едва знакомых людей, что они представляются одной безликой шеренгой, как солдаты на плац-параде.
Только теперь он может оценить предупреждение искренних друзей. А они сетовали на то, что он допускает к себе всякого готового слушать. Слушающих было неизмеримо больше, чем говоривших. Те, кто говорил, невольно раскрывали не только ученые проблемы, но и свои души.
А вот молчальники?
Как дать знать о себе единомышленникам, как собрать под знамена армию, чтобы она действовала в едином строю?
Штабс-капитан Кузьмин почему-то считал, что ему всегда и во всем везет.
Хотя его каземат вряд ли шел в сравнение даже с плохонькими провинциальными гостиницами, к которым он привык за время скитаний, у каземата одно бесспорное преимущество — камера № 5 своим единственным окном выходит на площадь около дома коменданта крепости. Из окна дует. Но какое это имеет значение, если весна теплая, а ветер приносит запахи травы, свежесть реки и даже отдельные слова, сказанные кем-то там, на воле.
А потом в форточку видно, как к двухэтажному каменному дому против Никольской куртины подъезжают экипажи, снуют какие-то люди в штатском и военном, приводят на допрос и уводят арестованных.
В этом доме заседает следственная комиссия.
Кузьмина тоже вызывали и допрашивали.
Князь Гагарин усердствовал. И так и сяк вельможный следователь пытался уличить штабс-капитана в либерализме, коммунизме, фурьеризме, подсовывал ему заранее сфабрикованные показания, выведывал о других участниках собраний.
Кузьмин не запирался, обстоятельно рассказывал о необходимости отменить крепостное право, реформировать судопроизводство, ввести свободу книгопечатания. Но виновным себя не признавал.
Однажды в форточку он увидел своего брата Алексея. Тот и посетил-то «пятницы» Петрашевского один-два раза. Теперь он свободен. Кропотов тоже выпущен. Кузьмин его плохо знает. Во всяком случае, он несимпатичен. Они вышли из двухэтажного дома, и никто их не сопровождал. Объятья и поцелуи, поцелуи и объятья.
Эти уже на свободе!
Алексей внимательно всматривается в окна камер, но Павел не может ему крикнуть или махнуть приветливо рукой. До комендантского дома далеко.
Кузьмину надоело заглядывать в форточку. О нем забыли, и он напомнит о себе сам. Князь Гагарин и Ростовцев ждут, дополнительных показаний.
Но штабс-капитан просит только одного: исходатайствовать ему право вступить рядовым в действующую армию на Кавказе.
Следователи всполошились: Кузьмин требует для себя наказания, тогда как комиссия не нашла в его действиях состава преступления. Но если доложить государю, тот разгневается на комиссию.
Кузьмина отговаривают от «дикой затеи».
А штабс-капитан хитрит. Он не случайно попросился на Кавказ. Если его просьбу удовлетворят, значит его ожидала худшая участь, если нет — то дело, видимо, не так безнадежно.
А следователи готовы во всем уступить капитану. Он просит, чтобы на принадлежащие ему деньги были куплены книги и стеариновые свечи? Пожалуйста.
Князь Гагарин каждое утро встает с тяжелой головой.
Несколько дней назад подкомиссия Голицына открыла среди бумажных россыпей речь Тимковского и «Переписку двух помещиков» Беклемишева.
За авторами послали жандармов в Ревель.
Круг преступных лиц расширяется, расширяется и география преступного заговора.
Голицын усердствует. Он, видимо, выбрался на «обетованную землю» и теперь засыпает следователей документами.
Что ни день, то в комиссии переполох. Найден спешневский проект «обязательной подписки» члена тайного общества. Только «приняли меры», как Голицын шлет «Солдатскую беседу» Григорьева, потом «10 заповедей», написанных Филипповым.
А тут еще военный министр Чернышев передал распоряжение: государь требует «ускорить разбор дела». Но как ускорить, когда месяц фактически трудились впустую. Только Сейчас и начинается «дело».
Целый день комиссия сочиняет ответ. И только к вечеру, испортив стопу бумаги, сочли возможным довести до сведения императора, что «представляются такие обстоятельства, которые ведут к новым важным открытиям, так что прежде бывшие в виду преступления изменяются».
Генерал Набоков долго не решается отправить адъютанта к военному министру.
Князю Гагарину, конечно, виднее, но ответ слишком обтекаем: «что прежде бывшие в виду преступления изменяются». Этак его величество прогневается и ввиду явной неспособности разгонит комиссию, а отвечать кому?
Набоков удручен. Он так надеялся на Гагарина, с таким усердием целый месяц допрашивал, запугивал, а тут, на тебе, в один день оказалось, что Петрашевский — щенок по сравнению со Спешневым.
Комиссия, посовещавшись, предложила Спешнева заковать в кандалы, если он по-прежнему будет запираться.
Петрашевского каждый день выводят в сад. Именно выводят, и невольно напрашивается сравнение с собакой, которую по утрам прогуливают бонны или гувернеры.
Ему не хватает воздуха. Пятнадцать минут неторопливых шагов по дорожке. Безо всяких мыслей.
Но разве можно вовсе не думать?
Он живой человек.
Человек?
Так по какому же праву ему отведены четверть часа воздуха и сутки ядовитых испарений тюремной плесени? Кто дал право одним людям судить о поступках других? Даже не о поступках, а о мыслях. Тысяча ответов на этот единственный вопрос, но ни один из них не может освободить его из камеры.
Сегодня он заметил, что дорожка утоптана чьими-то подошвами. Утром прошел дождь, и на сырой земле следы. Разные, хотя тюремные «коты» почти близнецы. Но он недаром занимался криминалистикой. По садику до него прогуливались по крайней мере пять узников.
Как только захлопывается дверь камеры, он машинально выстукивает левую стенку.
И снова сыплется штукатурка.
Она покрыта плесенью. Петрашевский сдирает темный бархат.
Чертит ногтем линии, кресты.
Он не может больше оставаться без дела, наедине со своими мыслями. Его лишили даже бумаги.
Теперь он понимает, почему в тюрьмах люди сходят с ума.
В камере изучен каждый закоулок, каждая щель. Он, закрыв глаза, по скрипу, может определить, на какую половицу ступила его нога. Половиц восемь. Может быть, они составляют гамму?
В стене зияет жерло вентилятора. Простая труба, вроде дымохода. Она выведена в коридор. Труба прикрыта жестяной решеткою. Четыре зуба, между ними черные провалы.
Петрашевский вскакивает на стол. Прислушивается.
Смотритель кого-то прогуливает. Караульные на местах.
Он едва дотянулся до решетки. Зуб отогнулся. Несколько раз согнуть его туда, обратно, и зуб вентилятора у него в руках.
Почему так неистово колотится сердце?
Простой кусок жести. Края тщательно заглажены. Ни одного острого выступа.
Петрашевский ищет камень, чтобы заточить жестянку.
Зачем?
А он и сам не знает зачем! Но когда под рукой есть «оружие»… Хорошо оружие!.. Небольшого усилия двух пальцев достаточно для того, чтобы «клинок» превратился в обруч.
И все же он его отточит.
В коридоре по-прежнему тишина.
Петрашевский точит жестянку о стену. Отсыревшая штукатурка отваливается, как куски сколотого льда.
Зачем ему жестяной нож?
Вскрыть вены и конец мучениям, кошмарам, борьбе?
Нет!
Штукатурка и зуб вентилятора…
Зуб и штукатурка?
Спешнев часами лежит без движения. Его лицо ничего не выражает. Он не вздрагивает, когда караульный стучит в дверь, не поворачивает головы, когда вносят обед, ужин, завтрак.
За стеной Есе время слышится голос, человеческий? голос, но разобрать слова невозможно.
Не вставая с постели, Спешнев стучит в стену.
Просто так, чтобы услышать ответный стук. Тюремной азбуки он не знает.
Стук вспугивает соседа, и тот надолго замолкает. Потом без устали начинает говорить. Вскрикивает, мечется, затихает.
И снова говорит.
Спешнев понял, что его сосед сходит с ума.
Это не подняло его с постели, но в отросшей бороде протянулись седые пряди.
30 апреля его допрашивали. Отвечал лаконично, и ничего нового комиссия от него не узнала.
Потом почти двадцать дней его никто не вызывал. Кормили плохо.
Гулять выводили редко.
Узник за стеной затих.
И вдруг все перевернулось. Каждый день, по два раза в день, его приводят в комиссию, подолгу заставляют ждать в отдельной комнате.
«Подписка» при вступлении в тайное общество сделала Спешнева в глазах следователей фигурой куда более опасной, чем Петрашевский.
Спешнев объяснил, что эта бумажка случайно сохранилась с тех времен, когда он интересовался историей тайных обществ, писал исследование и делал выписки.
Ему не поверили И пригрозили надеть кандалы. Даже зачитали резолюцию наследника, цесаревича Александра Николаевича. Он разрешал, «если эта мера употреблялась прежде».
Конечно, употреблялась. Заковывали декабристов.
Как необходим был сейчас Спешневу дружеский совет, поддержка! Хотя бы кто постучал в стену или как-нибудь передал записку.
Сторож Алексеевского равелина убирал садик рано-рано утро, когда еще не делали побудки. В другое время ему ее дозволялось появляться во избежание встреч с заключенными.
Убирать, собственно, было нечего. Узники, гуляющие в саду, прохаживались по дорожке. Курить им не разрешалось, сорить нечем. До осени далеко, а яблони уже отцвели.
Сторож для виду водил метлой, чтобы на песке, которым посыпана дорожка, остались следы прутьев. Он дорожил своим местом — работы почти никакой, жалованье хорошее. Ночью хотя и приходится сидеть в сторожке, да кто полезет в равелин? А уж из него и подавно не вылезешь. И опять-таки караулы — их дело охранять заключенных.
Генерал Набоков иногда поворчит на то, что плохо истоплены печи, да потом забудет.
Из-под метлы вылетел какой-то белый плоский предмет, ударился о землю и рассыпался.
Вот тебе и раз! Откуда в сад могла залететь штукатурка? Наружные стены равелина кирпичные, голые. На обломках штукатурки куски краски и пятна от плесени.
Сторож взволновался. Он много лет при равелине, по окраске может сказать, из какой камеры «вывалился» этот кусок. Так и есть. Это из первой.
А вон под кустом валяется и еще один, а дальше еще и еще…
Это неспроста. Все куски из первой камеры.
Осторожно поднял, стал разглядывать, на штукатурке каким-то острым предметом нацарапаны буквы.
Кажись, не по-русски.
Вчера утром этих кусков не было, за это он ручается. Сегодня никого из заключенных еще не будили. Значит, их кто-то подбросил сюда. Но кто?
Сторож снял фартук, завернул восемь кусков штукатурки и пошел к комендантскому дому.
— Господа, я теперь окончательно убежден, что заговорщики стараются провести нас и ни одному их показанию нельзя давать веры, — с этими словами генерал Набоков вошел в комнату, где заседала комиссия. — Полюбуйтесь!
Генерал вывалил на стол штукатурку. Князь Гагарин схватил самый большой кусок.
— Любопытно, любопытно!
Гагарин с трудом разбирает французский текст:
«Отрицать прошлую подписку — это „Revue de deux mondes“, (Pevue) „Britanique“ — журнал экономистов, ученых, „Монитер“. Не отвечать на вопросы неопределенные, неясные, вкрадчивые, требовать, чтоб их вам объяснили. Задавать вопросы следователю. Стараться по возможности стать в положение нападающего, задавать вопросы навстречу. Таким образом выяснить, что он хочет и что он надеется найти».
— Так, так, но каким образом это написано? Кем, я не спрашиваю, так как сразу узнал руку Петрашевского.
— Князь, Петрашевский на ваш вопрос ответил этой вот, с позволения сказать, запиской: «Писать можно зубом от вентилят. Требовать, чтоб объявили инструкцию, объявлены законы. Дайте ваши имена».
— Я уже проверил камеру злоумышленника. Штукатурка в ней отбита, зуб вентилятора выломан и спрятан под подушку.
— Господа, — генерал Дубельт даже вскочил с кресла, — это бог знает что такое…
«Обвиняю г. Дубельта в злоупотреблении доверия и власти, если он не председатель».
— Успокойтесь, Леонтий Васильевич, стоит ли обращать внимание на эти инсинуации полупомешанного. А в том, что господин Петрашевский помешался, я не сомневаюсь.
— Господа, вы еще не успели познакомиться с его последними показаниями. Они столь любопытны, что стоят того, чтобы их прочел его величество. Вот послушайте.
Князь Гагарин читал и наслаждался:
— «Милостивые государи, почтеннейшие следователи.
Вы призывали меня вчера к себе в комиссию, дабы объявлено было мною о тех четырех предметах, о которых желал я известить лично его императорское величество, — при том вы обнаружили некоторое ко мне доверие и тем показали мне, что едва ли не последняя тень подозрения в неблагонамеренности, над мною носившаяся, рассеялась в вашем сердце и все предубеждения противу меня в вас исчезли.
Не боязнь и смешной страх, чтобы воспользовались плодом моего умственного труда, удержали меня от обнаружения того, что я решался было сам объявить его императорскому величеству, но желание точнее и определеннее выразить мою мысль заставило меня не исполнить ваше предложение — и предпочесть словесному выражению своей мысли письменное. Примите это изъяснение мыслей как новое выражение к вам искреннего чувства признательности. Вот они…»
Гагарин просто упивался, стараясь даже телодвижениями подчеркнуть — «смотрите, мол, ну разве такое напишет нормальный человек?». Но Гагарин ровно ничего не понял из записки Петрашевского. Гагарин издевался над предложением Михаила Васильевича — разрешить курение на улицах, «высокоумно» запрещенное в связи с пожарами. Заключенный высчитал, что это даст не менее 600 тысяч рублей дохода. А полученные деньги можно употребить с пользою. Искренний фурьерист Петрашевский призывал правительство отпустить главе школы фурьеристов Консидерану 200 тысяч рублей ассигнациями для того, чтобы приобрести участок земли под Парижем и устроить фаланстер. Михаил Васильевич был уверен, что мера сия будет способствовать улаживанию взаимоотношений между народами, уймет волнения в Европе. Ратовал он и за предоставление староверам прав свободного отправления культов, прекращение преследования, что в значительной мере предотвратит надвигающуюся на страну «пугачевщину». Конечно, упоминание о Пугачеве было аргументом за принятие его предложения, а не осуждением народного движения вообще.
— «Предрассудки—это хроническая болезнь народного духа, которую разом уничтожать не следует, чтоб от этого в целом организме не произошло сильного потрясения. Насилие и в добром деле не годится. Сверх того, лучше уму-разуму учиться из чужого опыта.
Во всяком случае, удастся ли или не удастся опыт во Франции, я, как фурьерист, твердо убежден в его удаче. Мера эта, или лучше сказать, заем, при соответственном обстоятельству этому манифесте изложенный, должен иметь весьма благотворное влияние на политику…
Вот те… меры, о которых хотел я объявить государю императору; найдете их блажью расстроенного воображения — не сообщайте, найдете достойными монаршего внимания — представьте, это зависеть будет вполне от вас.
Что считал должным сделать… сделал… но покуда я еще арестант и мои товарищи тоже…
С чувством истинного и искреннего уважения честь имею пребыть etc. M. Буташевич-Петрашевский. 28 мая 1849 года»
И снова Павел Алексеевич у форточки.
Книги книгами, но разве можно пропустить такое «развлечение», как похороны великого князя Михаила Павловича?
Весь двор перед домом коменданта забит экипажами. Грустно переговариваются колокола. Потом гремят залпы салюта. Лошади пугаются, бьются, стройные ряды экипажей смешались, сквозь орудийный грохот прорываются звуки ломающихся оглоблей и ржание.
Штабс-капитан смеется.
Когда начался разъезд, перед форточкой Кузьмина оказался князь Гагарин. Следователь галантно снял треуголку и раскланялся с узником. Кузьмин в ответ сделал неопределенный пасс рукой. Но князю показалось этого мало, он возвел очи горе, потом показал на землю и завздыхал. Кузьмин повторил его движения.
Карету подали. Князь еще раз салютовал треуголкой.
Кузьмин сделал для себя вывод, что дела его не так уж плохи.
Допросы продолжались. Набухали папки с письменными показаниями арестантов.
И князь Гагарин уже больше не тревожился о бесполезности следствия. Наметились две тенденции, два определенных лагеря среди привлеченных по делу.
Петрашевский все время старается направить комиссию на путь научных рассуждений о пользе фурьеризма. Специально для следователей выводит современные социалистические теории из чисто христианских посылок — и смазывает решительность коммунистических программ.
Но это тактика. Тактика умного, стойкого, убежденного человека, ученого, изощренного не только в вопросах социальных, умеющего всегда найти юридическую формулу, свидетельствующую о его правоте.
А вот секретари сделали сводку показаний обвиняемых, и выявилось, что собрания у Петрашевского и Спешнева были отнюдь не аполитичны, как это продолжает утверждать Петрашевский. С 1848 года политика ворвалась в фурьеристские утопии и захватила даже самых осторожных. И не случайно все тот же Буташевич, умеющий чутко улавливать настроения, на очередной «пятнице» 15 апреля 1849 года уже не выступал против восстания, но предупреждал, что не следует (рисковать с немедленными революционными действиями, торопиться.
Как это противоречит заявлениям Петрашевского в комиссии! Но кто влезет в голову этого человека? Если верить его «религии», то, как истинный фурьерист, он должен ратовать за преобразование общества через фаланстеры с помощью мирных реформ.
Комиссия верила плохо.
Ведь бесспорно, что его пропаганда фурьеризма в конце концов, не будь она пресечена, привела бы к возбуждению умов, морально подготовила бы революцию.
Петрашевский не сознается. Ведь не кто другой, а он кричал Головинскому, что «убьет диктатора». Но разве революция обязательно должна породить диктатуру одного лица?
А уж если проследить до конца развитие революционных настроений Спешнева, Ханыкова, Филиппова и даже Баласогло, то не остается сомнений — эти готовились к практической деятельности.
С ними не спутаешь Федора Достоевского. Читал письмо Белинского к Гоголю, даже соглашался участвовать в литографировании статей. Но это увлечение. За него он понесет наказание, но меру его определит уже не следственная комиссия.
Спешнев в конце концов сделал «истинное признание». Оно стоило ему долгих размышлений и даже угрызений совести. Едва ли его устрашили кандалы, скорее он считал, что никого из скомпрометированных уже сильнее не подведет, а малозамешанных ведь он не называет…
Но Спешнев ошибся и открыл комиссии «Братство взаимной помощи» Момбелли. Открыл и приобретение печатного станка, но все взял на себя, всячески выгораживая Филиппова. На квартире у Спешнева обыск. Кроме пустых ящиков, ничего не нашли.
Показания Момбелли о Спешневе не оставляли места для каких-либо сомнений:
«Спешнев предлагал просто политическое общество с целию воспользоваться переворотом, который, по его мнению, должен был сам собою произойти в России через несколько десятков лет, подобно как это случилось в западных государствах».
И чем-то обиженный на Спешнева Петрашевский тоже подтвердил:
«…Спешнев хотел создать тайное общество и готовился к действию».
Петрашевский был уверен, что Николай Александрович, давая откровенные показания комиссии, вину берет на себя, чтобы выглядеть значительнее, чем это имело место в действительности.
Петрашевский продолжает путать комиссию. В показаниях он воздает хвалу монарху, а на «пятницах» величал императора «богдыханом» и верил в республику, жаждал республики.
Момбелли тоже республиканец. «Примеры республик, древней и новейшей истории, тоже не увлекательны, не заманчивы; однако ж, несмотря на страшное противоречие фактов, в особенности новейших времен, я сочувствовал и идее республиканского образа правления, как идеально более кроткого, более и скорее смягчающего нравы».
Баласогло поставил комиссию в тупик. Так или иначе почти все обвиняемые что-то скрывали. А он ничего. Генералы ищут в этой откровенности уловку и пытаются его сбить. Тогда Баласогло замолкает.
Его отправляют в камеру. Император, по представлению следственной комиссии, жалует семью Баласогло единовременным пособием.
Комиссия роется в бумагах, тщательно продумывает вопросник. Предлагает его Баласогло и получает от него блестяще написанную исповедь. Она настолько искренна, так проникнута неподдельным чувством любви к отечеству, болью за его невзгоды, что отпадает всякая мысль о возможности притворства.
Он коммунист?
Да, он этого и не скрывает:
«…Я — коммунист, т. е. думаю, что некогда, может быть, через сотни и более лет всякое образованное государство, не исключая и России, будет жить не случайными и несчастными агрегациями, столплениями людей, грызущихся друг с другом за кусочки золота и зернышки хлеба, а полными и круглыми общинами, где все будет общее, как обща всем и каждому разумная цель их соединения, как общ им всем всесвязующий их разум».
Какие страшные картины встают со страниц исповеди, какой чудовищный произвол, насилие чиновничества они обнажают и как обнаженно чувствует автор связь свою с народом, свое «представительство» народа: «…Простой народ, да и многие темные люди, которые по своей бедности только по платью не считаются безграмотными, в России ничего не значит; это бедная, жалкая, но все-таки в существе добрая и готовая на все лучшее
Но «разум», то есть обвиняемые, определенно настроены на. уничтожение монархии, на ликвидацию крепостного права, на бунт. И этого «хочет», это «чует» «масса», «основа».
Князь Гагарин, генерал Ростовцев и Дубельт знают — именно так. Потому-то и томятся в крепости эти люди, потому-то император Николай I неистовствует и хочет отделить «разум» от «теста», «основы», растоптать его.
Когда комиссия поняла это, ей открылись и другие горизонты. Вновь вчитываются в бумаги Петрашевского, в его показания — и вдруг обнаруживают, что этот «чистый фурьерист» только по требованию комиссии изложил учение Фурье о социализме. Комиссия знает: фурьеризм — это мечта о будущем. А Петрашевский весь в настоящем, и какая злободневность звучит в его письмах и статьях, какая беспощадная критика российской действительности!
Следственная комиссия не ученый совет университета, но и ей ясно, что Петрашевский во многом отступает от теорий Фурье. Он не принял космогоническую фантастику своего учителя, да и прочие мистические идеи. Он не сидел, как Фурье, в умилении, ожидая миллионера, который даст деньги на организацию фаланстера, а действовал и призывал к действию. Он и его единомышленники хотели действовать в плане широких революционных преобразований. Ведь недаром же Ахшарумов считал необходимым создание «особого министерства для рассмотрения новых проектов и улучшения общественной жизни». Он твердо убежден, что необходимо «переделать во всех основаниях общество и всю нашу глупую, бестолковую и пустую жизнь».
О Спешневе и говорить не приходится. Он призывал к пропаганде «социализма, атеизма, терроризма, всего, всего доброго на свете». Национализация земли и обобществление всего народного хозяйства, отмена крепостного права — вот его идеал, идолы, на которые он молился.
Но ведь Петрашевский и Спешнев, Ахшарумов и Филиппов, Баласогло и Ханыков хорошо понимают, что всех этих преобразований не добиться мирным путем.
Другое дело — Данилевский, Беклемишев, Тимковский. Эти только и знают, что разглагольствуют о Фурье. Данилевский написал для комиссии целый ученый трактат.
Современность его, видимо, не беспокоит, революция — боже упаси, фурьеризм чужд революции, он носит «мирный и безвредный характер». За что же судить Данилевского? Если он и распространял учение Фурье среди студентов университета, то ведь все преобразования по Фурье осуществятся мирно и «научными путями», никаких потрясений существующего в России экономического и политического строя не произойдет.
Беклемишев усвоил фурьеризм как панацею от революционных бед, он в «Переписке двух помещиков» так и говорит: «сообщества» крестьян и помещиков приведут к умиротворению крестьянства, достаток крестьянина — гарантия спокойной жизни помещика.
Какой переполох на первых порах наделал Тимковский! А потом оказалось, что это вовсе безвредный человек. Он, конечно, фурьерист, но именно в системе Фурье видит средство к предотвращению революционного движения. У него в голове полнейшая путаница. Уравнительный потребительский коммунизм, призыв к немедленным революционным действиям. Потом разочарование в пропагандистской деятельности Фурье. Отказ от бунта, требование реформ. И все это вперемежку, не переводя дыхания.
Постепенные мирные реформы обеспечат устойчивость существующего общественного порядка, предотвратят «смуты», отвлекут от «либеральных затей» и в конечном итоге сделают невозможной революцию, которая «есть преступление и бесполезное пролитие крови».
Эти не страшны.
Комиссия освобождала Петропавловскую крепость. В казематах останутся самые «зловредные», остальных — на свободу и на всякий случай под надзор полиции.
Кое-кого выслать для назидания в отдаленные губернии.
А кое-кому просто сделать еще раз внушение, которого они не забудут всю жизнь.
Осень. Моросят дожди. Уныние в природе, уныло и на сердце. Форточка в камере закрыта, как будто захлопнулась последняя связь с внешним миром.
Надоели книги. Надоело слушание шумов коридора, надоела жизнь.
Опять вечер, и смотритель придет с последним обходом.
Шаги. Нет, это не смотритель. Кузьмин отворачивается к стенке.
— Открыть пятый номер! Кузьмин вскакивает с постели. Плац-адъютант и солдат, у которого в руках его платье.
— Одевайтесь!
Дом коменданта темной стеной обращен к окнам камер, но на половине генерала Набокова слышатся голоса.
Генерал был недоволен плац-адъютантом — привел арестованного прямо в залу, а у него гости, дамы так и расцвели от любопытства.
В кабинете Набоков прочел Кузьмину решение комиссии об освобождении. Отобрал у него подписку «о неразглашении» и предложил выбрать шпагу из коллекции, составившейся от арестованных офицеров.
— А что, будете теперь читать Фурье?
— Отчего же не читать, читать только с толком и не увлекаться фантазиями.
— Нет, уж лучше не читайте! Прощайте, очень рад, что вы свободны.
Кузьмин, не надеясь найти приют у кого-либо из своих знакомых, выпросил у плац-адъютанта несколько рублей до следующего дня.
Последние дни работы следственной комиссии. Петрашевский возвращается в камеру как побитый. Генералы его осмеяли, да так нагло, грубо… По-генеральски.
И почему он изменил решению молчать, увлекся несбыточной мечтой обратить в свою веру этих сановных бульдогов? Глупец, трижды глупец! Они иезуитски выпытали у него все, все! Льстиво улыбались, говорили ободряющие слова, сочувственно кивали головами. Младенческое простодушие, слюнявая незлобивость, та доброта, которая довела его до тюрьмы.
Господи, ведь он требовал от комиссии даже признания за ним ума выдающегося; то-то они посмеялись…
Как он мог верить, что комиссия считает его уже оправданным, очищенным от обвинений? Ведь только эта вера заставила его написать о вознаграждении.
Он требовал возмещения убытков, которые понесли обвиняемые в результате их ареста. Он точно высчитал сумму, которую должен получить. Но пострадали не только заключенные, а и все общество, лишенное их присутствия, их благотворного влияния. И он предложил в вознаграждение обществу соответственно сократить сроки заключения для политических.
А они смеялись, смеялись!
Этот смех заполняет камеру. Он, наверное, проникает через стены.
Кривляются рожи караульных, и единственный глаз смотрителя тоже смеется. Филин…
А он юридически — самоубийца. Сам поверил, сам разоблачил себя и теперь…
Что это там за окном? Кто там шумит?
Окно… настежь, берег широкой-широкой реки и толпа народу. Почему все смотрят на него, показывают пальцами. Кто-то кричит! Кричит: «Поймали колдуна!», «Поймали очарователя!», «Планиту небесную знать хотел!», «Приворотные травы найдены… Топить его!.. Топить его!..»
Его схватили сзади. Нет, нет! Он вырвется, он сильный!
Вот уже связаны руки, ноги, его несут к воде…
А, это князь Гагарин? Нет, Николай I — ведь это он создатель процесса о колдунах и ведьмах.
Его хотят отравить. Хотят покончить разом, так как судить не за что.
Эти боли в желудке доводят до потери сознания. А потом пытки…
Пытки, пытки! Они существуют в российских тюрьмах, это он знает определенно. Нет, не каленым железом и не на дыбе…
Постоянный глухой шум, стуки над ухом, за стеной. Они не дают спать..: И каждую ночь он видит, как его связанного несут к воде…
Кто-то за стеной шепчет, шепчет, подсказывает, затемняет разум, отодвигает мысли, навевает чужие. Обессиливает.
Утром Петрашевский не дотрагивается до воды — в ней примесь медного купороса. У него желтые локти, пятки, кости хрустят.
Ему подсовывают бумагу, чтобы он написал его императорскому величеству прошение о милосердии.
Они знают, что перо вываливается из его рук, а перед глазами туман…
Он упал на колени прямо перед портретом императора. Потом быстро поднялся.
Комиссия пытается внушить ему, что этого акта достаточно, что он «безмолвно подал просьбу его императорскому величеству в том, что дерзнул, подчиняясь чуждым влияниям, отозваться о нем неодобрительно».
А он не подавал такой просьбы, он просто был в состоянии беспамятства.
Сегодня ему легче, и Петрашевский требует, чтобы ему дали прочесть завещание. Что оно составлено — он помнит твердо, но был ли он тогда в своем уме?
Да, оно написано уже в беспамятстве, но вторая часть должна остаться в силе «Во имя отца, сына и святого духа. Сим завещаю в полной памяти и уме. Что все имущество принадлежащее как движимое, так и недвижимое отдать моей сестре Ольге Васильевне Петрашевской, а никому другому, с тем чтобы она одну треть соблаговолила из сего капитала вручено было за продажу имущества отдала Консидерану, главе школы фурьеристов для основания
Из кишок или жил, хорошо не знаю, попробовать сделать струны. Проекты, какие у меня в бумагах находятся, отдать в распоряжение князя Гагарина, чтоб он им дал ход, равно как и следственной комиссии, — но если можно, то бумаги мои отдать Дебу и Ханыкову.
Михаил Васильев Буташевич-Петрашевский.
Воскресенье».
Петрашевский выздоровел, когда следственная комиссия уже завершила свою работу.
Выводы ее расходились с выводами, сделанными Липранди на основании донесений агентов. Липранди был этим чрезвычайно удручен. Что-что, но он гордился своей ролью в этом деле. Это он пресек гидру мятежа внутри России, когда Россия пошла укрощать «гидру мятежа в Европе».
Липранди составил «особое мнение», стараясь опровергнуть, как ему казалось, «мягкие» выводы следственной комиссии. Но это мнение комиссия отвергла. Она не нашла в показаниях обвиняемых самого главного, на что указывал Липранди, — «организованного Общества пропаганды» и его разветвлений по России.
17 сентября комиссия составила подробнейший доклад о работе и «обвинительные статьи» о каждом состоящем под следствием и содержащемся в крепости.
В своем докладе следственная комиссия очень подробно останавливалась на истории возникновения собраний у Петрашевского, слежки за ним и посетителями его «пятниц», «арестовании злоумышленников». И так как следственной комиссии не удалось установить каких-либо деяний обвиняемых и суду предавались все же идеи, то она сочла нужным дать им краткую характеристику:
«Системы коммунистов и социалистов имеют для одних целью, а для других предлогом, уравнение всех людей на земном шаре, отвергая не только любовь к отечеству, но даже и любовь к семье, как понятия односторонние, своекорыстные, враждебные любви ко всему человечеству. Социалисты и коммунисты согласны в главной идее, в равном распределении довольства между всеми людьми; не согласны лишь в мерах, как привести это в исполнение».
Фурье такой же социалист, с тою только разницею, что он разрушительные свои правила прикрывает увлекательными вымыслами какого-то фантастического единства и блаженства на земле, предлагая достигать оного без всяких насильственных переворотов, только путем учения и примера…
Он делает окончательный вывод, что человечество должно быть обновлено и перевоспитано, что лучшее устройство общественное есть жизнь не государствами, а фалангами от 800 до 1 800 человек.
Последователи Фурье (в том числе и Консидеран), выбрав учение его не целью, а средством, развивали идеи его с большею подробностью и уже с явно враждебными видами достигнуть переворота насильственными мерами.
…Эта самая система Фурье и была… предметом толков на тех сходках или собраниях, «а которых хозяева и посетители, завлекая друг друга все более и более, одни сознательно, а другие бессознательно, увлеклись до такой степени, что начали применять систему Фурье к России, стали разбирать все вопросы русского общежития, осуждая все уставы и меры своего правительства, и желать усовершенствования не постепенного, как предполагал Фурье, а по возможности быстрого. Побудительными причинами к сему были: недозрелая, заносчивая ученость, неудовлетворенное самолюбие или честолюбие, неудовлетворенные житейские нужды, желание создать себе значительность, хвастовство либеральными мнениями и притязание на глубокомыслие и на дарование».
В Петропавловской крепости осталось 28 человек. Последние из освобожденных до суда ничего не могли сообщить родным и знакомым об участи, ожидаемой для этих людей.
Поговаривали, что государь «любит прощать». Но для этого нужно, чтобы судная комиссия вынесла строгий приговор, иначе, если суд посмотрит на «дело» снисходительно, император не сможет проявить своего «милосердия».
Кое-кто из более осведомленных уклончиво заявлял, что «дело не имеет придаваемой ему важности,? но важность оно имеет как по букве закона, так и по современной язве века».
«Язва века» — это социалистические и коммунистические теории. Они подсудны, если этого пожелает император российский.
Император пожелал.
Пожелал предать обвиняемых, оставшихся в заключении, военному суду по полевому уголовному уложению.
Военный министр князь Чернышев, которому было передало пожелание, понимал, что Николай I преступает законы, так как среди обвиняемых большая часть — люди штатские, а не военные и тем более что «преступления» их никак не могут быть предусмотрены полевым уложением, рассчитанным на условия военных действий.
Но князь был опытным царедворцем, верным холопом. Военно-судная комиссия будет смешанной — три военных, трое штатских, а в остальном все как «повелел».
Председательствовать должен генерал-от-кавалерии, генерал-адъютант его императорского величества Василий Алексеевич Перовский. Он знаменит тем, что в 1839–1840 годах совершил неудачный поход на Хиву и вынужден был оставить управление Оренбургским краем, но зато никто не может лишить его права оставаться родным братом министра внутренних дел России.
А это кое-что да означает!
Военные члены судной комиссии не обладали столь ярко выраженными достоинствами. Граф Строганов 2-й, генерал-адъютант, один из усмирителей польского восстания, не слишком удачливый товарищ министра внутренних дел, потом управляющий этим министерством, томился в Государственном совете, ожидая губернаторского назначения. Николай Николаевич Анненков 2-й ведал канцелярией военного министерства, были еще и генерал Толстой и три гражданских сенатора — князь Лобанов-Ростовский, Веймарн и Дурасов.
Судная комиссия на первых порах так же, как и следственная, замешкалась. Штатские ее члены никак не могли представить, как на основании военного уголовного устава они будут судить невоенных. Генералы свысока посматривали на «сданных в сенат» коллег.
Военный министр Чернышев положил конец недоразумениям. Если полевое уголовное уложение не содержит определений тех «преступлений», которые вменяются обвиняемым, то тем хуже для обвиняемых.
«В общих правилах законодательства изложено: если закон не определяет ни рода наказания, ни вида его, то суд сам должен определить существо преступления, сравнить его с другими однородными и к нему по свойству ближайшими, а потом положить наказание. На основании сего закона смешанный суд обязан сделать аналогическое применение преступлений подсудимых к военным законам.
В числе преступлений, изложенных в законах для военного времени, определены разные виды измены, некоторые же из них упомянуты и в законах для мирного времени. Преступления эти в главных свойствах имеют тождество с преступлениями государственными, в коих обвиняются нынешние подсудимые: те и другие происходят от одного начала — нарушения верноподданнической присяги, те и другие имеют одну преступную цель — вред государственный.
…Чтобы отклонить всякое недоразумение, я поручал генерал-аудитору лично объясниться с генерал-адъютантом Перовским обо всем, что относится до производства нынешнего суда, что им и исполнено. После сего все недоразумения по сему предмету должны быть устранены».
Просто и легко, не затрудняя себя и военно-судную комиссию излишним изучением законов, генерал Чернышев предначертал ей те «сходные статьи», по которым физическая расправа с обвиняемыми должна была стать единственным исходом «суда».
Военно-судная комиссия взялась было прочесть все подлинное следственное дело, заседая ежедневно утром, днем и вечером с очень небольшим перерывом на обед. Лихой генерал Перовский считал, что это куда проще, чем завоевание Хивы.
Но когда обнаружилось, что в «подлиннике» 9 тысяч страниц, генералы и сенаторы приуныли.
Сочли за лучшее обязать делопроизводителей составить краткие записки о каждом обвиняемом и не утруждать ни себя, ни их допросами, а попросту требовать признания вины, как она изложена делопроизводителем на основании заключений следственной комиссии.
При такой процессуальной процедуре оправданий быть не могло, судьи допускали только «дополнительные показания» и раскаяние по признанию «вины».
Все та же знакомая и постылая зала комендантского дома. Изменились только лица и мундиры. Изменились к худшему, если можно было придумать что-либо хуже гагаринской физиономии.
Военно-судная комиссия не была «секретной»; и хотя сюда не приглашены представители сословий, как этого требует процессуальный кодекс, зато ее заседания охотно посещают «вельможи» в генерал-адъютантских чинах.
Петрашевский, еще слабый после болезни, еще плохо верящий в то, что он выздоровел, не верит и своим глазам.
Какая безвкусная декорация, золото да золото! И среди сияний погон и эполетов одиноко, бесприютно белеет огромная казацкая папаха. Петрашевский не отрывает от нее глаз.
Посреди зала столик, покрытый алым сукном. Как будто из крепостного собора вытащили аналой. Но на аналое вместо евангелия—объемистая папка: «Дело о…», и рядом не поп, а аудитор, правда, с крестом на шее, но крест у него владимирский.
Аудитор что-то читает.
Не все ли равно!
Петрашевский уловил только, что его и других обвиняемых судят по полевому уложению. Это какая-то бессмыслица, вопиющее нарушение.
Хотя пусть себе. Он опять смотрит на белую папаху. Ее теребит чья-то рука. Петрашевский поднимает глаза. Господи, на возвышении, как бутафорский атаман, восседает генерал в полном казачьем облачении. Да кто это такой?
У генерала Перовского неприятно скрипучий голос и неожиданный французский акцент.
Он обращается к Петрашевскому. Уж лучше бы говорил по-французски!.
Петрашевский понимает одно: ему нужно подойти к другому «аналою», стоящему у стены, и что-то подписать.
Он ведь подал в военно-судную комиссию прошение, жаловался на пытки, на то, что в состоянии беспамятства следователи вынудили его признать факты, которые на самом деле не имели места. Чего они еще хотят?
Петрашевский читает:
«Г. титулярному советнику Буташевичу-Петрашевскому. Высочайше учрежденная для суждения вас по полевым военным законам военно-судная комиссия предлагает вам объяснить: не имеете ли вы, в дополнение данных уже вами при следствии показаний, еще чего-либо к оправданию своей вины представить?»
Оправдание?
Перед кем же он будет оправдываться? В чем оправдываться? Ведь ему даже не предъявлено обвинение. Или он прослушал?
Нет, он не признает этого суда. Какой бы ни был произнесен приговор, если он останется в живых, то будет требовать пересмотра всего дела.
И не потому, что царские «судьи» надругались над ним, Буташевичем-Петрашевским, и еще двумя десятками обвиняемых, но потому, что царский суд измывается над нормами общечеловеческого права, которые неотъемлемы от каждого родившегося на свет божий.
«Не имею ничего прибавить к оправданию себя. М. Буташевич-Петрашевский.
И подтверждаю мои показания с теми оговорками, какие были мною сделаны. 21 октября 1849 г.
М. Буташевич-Петрашевский»
К крепости привыкли, как привыкают к неизбежному. Тем, кто содержался не в Алексеевской равелине, разрешили переписку с родными, передачу продуктов и даже книг. Ахшарумов нащупал слабую струнку генерала Набокова, жаловался на сырость, на неисправность стражей и добился того, что после двукратных перемещений из камеры в камеру, в последнем его пристанище через форточку видна была улица, прохожие. А потом даже появился родной дядя, которому он успел крикнуть:
— А Фурье все-таки прав!
Часто вечерами пели. Начинал кто-нибудь один, потом подхватывал весь коридор. Специально для смотрителя исполняли «Марсельезу» и радовались, как дети, когда верный служака, заткнув уши, рысцой бежал к коменданту жаловаться.
Сорок дней заседала судная комиссия, хотя при избранной ею процессуальной процедуре могла бы закончить всю «комедию» вдвое быстрее. Но нельзя было и торопиться. Иначе многие бы заподозрили, что это не суд, а простая бутафория, обставленная генеральскими и сенаторскими мундирами.
Проявляя «беспристрастность» и «снисхождение», суд ходатайствовал перед императором об освобождении еще пяти обвиняемых по их «малой причастности».
Были выпущены под надзор полиции и высланы: Данилевский, Баласогло, Ващенко, Есаков, Беклемишев. Литератор Катенев успел за это время тихо помешаться.
А суд заседал.
16 ноября генералы и сенаторы подводили итоги.
Они согласились, что судить за приверженность к тем или иным философским и экономическим теориям нельзя, «если эта приверженность не выразилась преступно», и «судили» за обнаруженные факты, «которые сами по себе, без отнесения их к теоретическим началам, составляют противозаконные действия».
Фактов было явно недостаточно. И невольно вновь пришлось вспомнить о теориях. Но сделали это ловко и польстили императору.
«Тщательная оценка этих фактов доставила комиссии новое доказательство непреложной истины слов, изреченных вашим императорским величеством в манифесте 13 июля 1826 года: „Не просвещению, но праздности ума, более вредной, нежели праздность телесных сил, недостатку твердых познаний должно приписать сие своеволие мыслей, источник буйных страстей, сию пагубную роскошь полупознаний, сей порыв в мечтательные крайности, коих начало есть порча нравов, а конец — погибель“».
Манифест был издан по случаю казни 5 декабристов. И невольно судьи приобщали и этих людей к тем «злоумышленникам», о которых император не мог даже слышать.
Решение тем самым было предопределено.
Военный суд приговорил 15 человек «к расстрелянию» (Буташевича-Петрашевского, Момбелли, Спешнева, Григорьева, Шапошникова, Д. Ахшарумова, Львова, Филиппова, Дурова, братьев Дебу 1-го и 2-го, Головинского, Ф. Достоевского, Пальма и Толля), Ястржембского к 6 годам каторги, Ханыкова, Кашкина, А. Европеуса и Плещеева на 4 года к каторжным работам в заводах, К. Тимковского — к поселению в отдаленных местах Сибири.
Черносвитов оставлен «в сильном подозрении», так же как и Катенев, но его даже не водили на суд.
Приговор направлен в генерал-аудиториат, и минул еще месяц. Генерал-аудиториат счел, что хотя и не было обнаружено тайного общества, но если бы «деятельность» преступников не пресекли вовремя, то такое общество наверняка бы возникло. И в доказательство приводилась «подписка» Спешнева.
Степень виновности каждого была, конечно, различной, но так как всех обвиняемых «судили» по полевому уголовному уложению, которое приравнивает соучастников к преступникам, то генерал-аудиториат приговорил не 15, а 21 человека к расстрелу, Черносвитова — сослать, Катенева, если он выздоровеет, предать вновь военному суду.
После этого генерал-аудиториат лицемерно ходатайствовал перед государем о смягчении наказания и сделал свое предложение. Теперь Николай мог блеснуть «милосердием».
Он конфирмовал приговор и собственноручно отредактировал официальное сообщение о «деле». Сообщение должно было появиться в «Русском инвалиде».
Царь вычеркнул «учение социалистов», вычеркнул «начала социализма и коммунизма», «тайное общество», «прогрессисты», то есть всякие упоминания о теориях передовых, о возможности действовать против правительства. Дабы никто и подумать не посмел. Сообщение оканчивалось назидательным обращением к родителям, чтобы они следили за «нравственным воспитанием детей», для остальных же это «дело» должно служить предостережением.
Но мстительный венценосец хотел, чтобы жертвы почувствовали всю силу его ненависти и его власти. Он дал точную инструкцию о том, как должна проводиться публичная расправа над «злоумышленниками».
Солнце напрасно старается подняться повыше, чтобы разглядеть землю. Сквозь морозную дымку декабрьского утра его лучи не светят и не греют, и кажется, что на земле уже никогда не> будет тепла.
Деревья стоят настороженные, боясь шелохнуться, ведь не часто мороз одевает их причудливым инеем. Местами иней напоминает изодранный саван. Над Петербургом висит черная решетка от дымных столбов. И солнце заглядывает в столицу, как в тюремную камеру.
Еще очень рано, но улицы полны народу. Тысячи ног уминают рассыпчатый, искрящийся снег. Люди торопятся на Семеновский плац. Здесь состоится публичная казнь. Никто не помнит подобного. Правда, 25 лет назад казнили декабристов. Но не публично. Пятерых из них без лишних свидетелей повесили на кронверке Петропавловской крепости, а тут — «публично».
Людей обгоняют черные закрытые кареты, сопровождаемые конными жандармами. Кареты как летучие мыши на белой простыне снега. Они проносятся одна за другой.
Люди прибавляют шагу.
Семеновская площадь зажата в клещах войскового каре. Батальон лейб-гвардии Московского полка, лейб-гвардии егерского, лейб-гвардии конногвардейского. Полки подобраны специально: ведь в конно-гренадерском служил Николай Григорьев, в лейб-гвардии егерском — Федор Львов, а в Московском— Николай Момбелли.
Каре замыкает черный помост и три столба рядом.
На валу, тесно прижавшись друг к другу, молчаливые тысячи зрителей.
Кареты высаживают «преступников» прямо в глубокий снег. Они в легких летних пальто, штиблетах. Им холодно. Согреваются объятьями, поцелуями, жаркими пожатиями рук. Каждый смотрит на всех, как в зеркало, и с трудом узнает себя. Длинные, и у многих седые, бороды, ввалившиеся щеки, землисто-желтые лица, глаза, слезящиеся от радости и света, которого не видели почти восемь месяцев. Все глубоко дышат и никак не могут надышаться. И солнце, наконец, растопило морозную дымку, оно холодное, но к нему тянутся лица. И оно уже светит.
Петрашевский хмуро, исподлобья оглядывает площадь, войска и товарищей. Перед ними он чувствует себя виноватым, но только перед ними.
У помоста эшафота сгрудились военный генерал-губернатор Петербурга, полицмейстер, оба столичных коменданта. Петрашевский отворачивается от блеска эполет — они режут глаза.
Как осунулся, постарел Спешнев! Оброс, под глазами синь, переходящая в черноту. Едва держится на ногах. И Кашкин, и Ханыков, Григорьев, Момбелли — да, видимо, всем выпало одинаково! Ахшарумов и Ипполит Дебу никак не могут нацеловаться, как дети держутся за руки.
В толпе кто-то не выдержал, запричитал, потом поперхнулся слезами, умолк…
Генерал Сумароков, командир гвардейской пехоты, терпеть не может всяких там сантиментов.
— Теперь нечего прощаться. Становите их! — загремел генеральский бас, когда отъехала последняя карета.
Какой-то тщедушный чиновник со списком начал пискливо выкрикивать фамилии:
— Петрашевский, Григорьев, Момбелли… Откуда-то сбоку вынырнул священник с крестом.
На морозе крест жег ладони, и попик поминутно перебрасывал его из руки в руку, не уставая приговаривать:
— Сегодня вы услышите справедливое решение вашего дела. Последуйте за мной, последуйте за мной! — И, путаясь в длинной рясе, что-то бормоча под нос, священник двинулся вдоль шеренг каре.
За ним потянулись «преступники». Снег набивался в ботинки, ветер выдувал последние остатки тепла из-под легких пальто. Никто не понимал, к чему предпринят этот обход войск, стоявших перед ними по стойке «смирно».
Черный эшафот и столбы около него заслонили войска, зрителей, вытеснили мысли.
Значит, расстрел?
Старались успокоить себя надеждой на каторгу.
Несколько ступеней помоста, и все перемешалось. Осужденные нарочито громко произносят слова, толкаются, чтобы согреться. Начальство злится. «Обреченные» нарушают торжественность предсмертных приготовлений.
Снова появился пискливый чиновник, началось новое построение.
Их поставили в два ряда, лицом к лицу, позади каждого застыл солдат.
Протяжно, нараспев, резко оборвавшись на последнем слоге, прозвучала команда:
— На-а ка-а-р-р-аул! Кляцнули ружья.
Момбелли даже в эту предсмертную минуту подумал о том, что солдаты по-прежнему развинчивают курки, полки для пороха, чтобы при исполнении ружейных приемов стоял «малиновый звон». «Из таких ружей трудно будет попасть в приговоренных».
— Шапки долой!
Никто из осужденных не принял этой команды насвой счет.
— Снять шапки, будут конфирмацию читать! Солдаты сбивали шапки с замешкавшихся. Стало еще холоднее, и в душу закралось безразличие.
Чиновник ходил между рядами, останавливался перед каждым, вычитывал вину, переходил к следующему.
Неуемный озноб колотил «преступников». Быть может, оттого, что крепчал мороз?
Они ничего не слышали, кроме последних, оглушивших слов:
— Полевой военный суд приговорил всех к смертной казни — расстрелянием, и 19 сего декабря 1849 года государь император собственноручно написал: «Быть по сему».
«Быть по сему! Быть по сему!»
Слова плохо доходили до сознания, и только стужа напоминала о близкой могиле, где не будет ни этого солнца, ни этой блеклой сини неба, ничего…
Забытье, холод; тлен..
Но каждый раз, когда мысленный взор упирался в землю, живое тело вздрагивало, крик отчаяния, заглушённый последним усилием воли, переходил в бешеный стук сердца, становилось жарко и пот замерзал сосульками на висках.
Приготовление к смерти продолжалось, как будто на тот свет совершенно необходимо явиться в холщовых саванах и дурацких колпаках.
Елейным голосом священник напутствовал смертников:
— Братья! Перед смертью надо покаяться, кающемуся Спаситель прощает грехи… Я призываю вас к исповеди!..
Никто не тронулся с места. И никто не сопротивлялся, когда проворные руки солдат натягивали поверх пальто белые балахоны.
Еще не верили, что все это всерьез.
Никто не чувствовал за собой вины, грехов, в которых нужно было бы покаяться. Но Тимковский поцеловал евангелие, а Петрашевский как-то машинально, что-то сказав священнику, приложился к кресту, впрочем, поп сунул его прямо в губы Михаила Васильевича. За ним поцеловали крест и остальные. Это было не актом веры, а обрядом смерти. Никто не знал его таинств и поэтому невольно подчинился тому, кто напутствовал в могилу многих. К жизни вернул генеральский окрик:
— Батюшка! Вы исполнили все, вам больше здесь нечего делать!
Священник исчез.
И невольно глаза стали искать палача.
Но на помост взошли солдаты, схватили под руки Петрашевского, Момбелли, Григорьева, стащили их с эшафота и начали привязывать к столбам рукавами саванов.
Теперь в неизбежность поверили все. На глаза привязанных надвинули колпаки. По площади разнеслась команда:
— Клац!
Шестнадцать ружей уперлись в грудь Петрашевского, Момбелли, Григорьева.
Сейчас прольется кровь первых, а затем наступит очередь остальных.
Проходили минуты, и по мере того как ужасная пауза затягивалась, росло возмущение.
Нет, они не бараны, и так просто на убой их не стащишь. Головы подымались с вызовом.
Но что это? Бьют барабаны! Разве они могут заглушить залп?
Стволы уперлись в небо.
Одиноким выстрелом хлопнула дверца подъехавшей кареты.
Щеголеватый флигель-адъютант протянул какую-то бумагу.
Петрашевского, Момбелли, Григорьева отвязали, привели на эшафот, чтобы они вместе с остальными выслушали «царскую милость».
Смертной казни не будет, будет каторга, будут арестантские роты, будет гражданская казнь.
Петрашевский уже не чувствовал холода, не расслышал и нового приговора. Он с удивлением рассматривал площадь, людей, эшафот, не понимая, откуда, для чего все это. Ведь он уже мертв, а мертвым не снятся сны. Или его еще не добили? Вон на эшафот всходят какие-то люди в цветных кафтанах и со шпагами в руках. Кто-то сильно и властно прижал его колени к помосту, над головой раздался хруст ломающейся стали…
Сознание возвращалось медленно — «царской милостью» ему, кажется, уготовлена вечная каторга. Но за что, за что? Он юрист, он хорошо знает законы, даже по этим драконовским законам его действия не имеют состава преступления.
Хотя у него впереди еще много времени, чтобы все обдумать, а пока… кто-то там ругается? Ипполит Дебу.
— Лучше бы уж расстреляли, чем эта комедия! Я не хочу получать жизнь из рук царя, ему нечего мне прощать, а так всю жизнь будешь ходить в должниках!..
«Лучше бы расстреляли!»
Лучше ли?
Ореол мученика? Память потомков? Вечно живые цветы на могиле!
Или жизнь в вонючих, мокрых рудниках, где сначала гибнет сознание, потом заживо гниет тело?
Кто-то набросил на плечи грязный овчинный тулуп, От него пахло тюремной сыростью и могилой.
Загремели железные кандалы. Петрашевского подхватили, вывели на середину эшафота. Кандалы накладывались прямо на голую кожу. На морозе она прилипала к железу.
Петрашевского душит гнев. К черту царских кузнецов! Он сам.
Генералы оторопели. Но Петрашевский уже подымается с помоста. Он ведь просил следственную комиссию надеть на него кандалы раньше, чтобы привыкнуть к ним.
К эшафоту подъехала карета. Петрашевского увозили в Сибирь прямо с Семеновской площади.
Но Петрашевский отказался сесть в экипаж.
— Я еще не окончил все дела!
— Какие еще у вас дела? — с удивлением воскликнул генерал Сумароков.
— Я хочу проститься с моими товарищами! В этом трудно было отказать.
Михаил Васильевич, тяжело переставляя ноги, морщась от боли, путаясь в цепях, подошел к Спешневу, обнял его, потом замер в объятьях Момбелли. Медленно, громыхая железом, он переходил от одного к другому, говорил несколько слов или молча целовал.
В толпе на валу рыдали.
Петрашевский сел в кибитку рядом с фельдъегерем, жандарм взобрался на козлы к ямщику, и тройка лошадей тронула, покружила среди экипажей и скрылась на Московской дороге.
«Милосердие» было выказано.
Петрашевский лишался всех прав состояния и ссылался на каторжные работы в рудники без срока.
Момбелли, Спешнев, Григорьев лишались прав состояния и приговаривались к каторжным работам в рудниках: Момбелли и Григорьев — к 15 годам, а Спешнев за то, что дал «откровенные показания», — к 10 годам. Филиппов, Д. Ахшарумов — в военные арестанты на 4 года, а затем рядовыми на Кавказ. Львов — на 12 лет в каторжные работы. Ханыков — рядовым в Оренбургские линейные батальоны. Ф. Достоевский и Дуров — 4 года каторги, а затем рядовыми. К. Дебу — 4 года военный арестант, затем — рядовым. И. Дебу — 2 года военный арестант, затем
С Ястржембским государь расправился по-царски. Он припомнил ему «богдыхана». Генерал-аудиториат считал возможным вместо расстрела назначить ему 4 года каторжных работ, но Николай повысил срок до 6 лет.
Толль получил 2 года каторги.
Плещеев был назначен в Оренбургские линейные батальоны, Кашкин — рядовым на Кавказ. Пальм отделался переводом тем же чином из гвардии в армейские части.
Тимковского упрятали на 6 лет в арестантские роты, Европеуса, без лишения дворянства, отправили на Кавказ в линейные батальоны рядовым.
Черносвитова, хотя и с пенсией, — в Кексгольмскую крепость «на житье».
Его оставили в «сильном подозрении» судебные власти, а Спешнев и Петрашевский до конца подозревали, что он шпион.
Окончился первый акт трагедии. Трагедии зарождавшегося, но еще не созревшего революционного демократизма. Еще разночинец не вытеснил со сцены революционной борьбы дворянина, но уже вслед за Белинским он подымал свой голос. От дворян-революционеров «петрашевцы» унаследовали непоследовательность, колебания. Они еще метались между признанием необходимости реформ и надеждами на крестьянскую революцию. Зарождавшийся революционный демократизм толкал их к организации социалистических кружков, и они положили им начало. Они восприняли идеи социалистов-утопистов, но в отличие от своих учителей не прекраснодушествовали, а готовились к революции.
Эти метания, эту непоследовательность порождала переходная эпоха, когда рушилось старое, феодальное, когда развивающийся капиталистический уклад подрывал основы крепостничества. Но еще не создал условия для появления промышленного пролетариата.
И еще не загремел «Колокол» Герцена. Еще Чернышевский только засел за алгебру революции.
Ни толчки на ухабах, ни вскрики ямщика, ни даже колючий репейник снега, бьющего в лицо, не могли вывести Михаила Васильевича из неподвижности.
В последний раз мелькали перед ним окраины Петербурга.
Он еще не пытался заглянуть в будущее, но и не рвался назад к прошлому. Он просто на время сделался частью кибитки, несущейся, подпрыгивающей, ввинчивающейся в бескрайную, унылую, белую пелену. От толчков позвякивали кандалы на ногах да жандарм в сердцах поминал всю родословную.
А лошади все быстрей и быстрей перебирали ногами.
И казалось, что Петербург, крепость, Семеновская площадь, друзья просто пригрезились, как сон, как тень чьей-то чужой жизни. А он?
Он вечно скакал по ухабам и видел перед собой согнутую спину ямщика да белый хоровод вокруг.
Шли часы, мелькали деревни. И солнце давно уже нагнулось над макушками сосен. Студеное, зловещее. По снегу продернулась вечерняя синь. Замерзли руки. Тысячи иголок клевали сведенные судорогами ноги. Снег залепил лоб, брови, бороду.
А он все еще бесчувственно, почти ничего не видя, смотрел в спину ямщика.
Без мысли, без желаний.
Лошади стали. Первый станок.
Сколько часов минуло, Петрашевский не знал. Не считал. Голос жандарма напомнил, что он все еще живой и нужно зайти погреться.
Петрашевский пошевелился и застонал.
Жизнь возвращалась нестерпимой болью в ногах, руках, спине.
Его чем-то кормили. Кто-то швырнул полушубки в угол.
Петрашевский уснул.
И только во сне к нему явилось прошлое. Такое зримое, недавнее, трепещущее. Оно наплывало картинами, в которых не было ни кандалов, ни жандармов, ни этой режущей боли измученного тела.
Но был все тот же бесконечный снег и зимнее не греющее солнце. Он слышал цоканье копыт, посвист полозьев, первые утренние звуки проснувшегося леса.
Стучался Дятел. Пели синицы.
А над головой дятла ломали шпату…
Пение синиц? Как кандальный звон!..
И нестерпимо пахло овчинами. Петрашевский задыхался.
«Все, все горит, Петербург, фаланстер, Россия…»
Проснулся, резко привстал. Прислушался. Острая боль пронзила поясницу, ноги. В нос ударил кислый запах.
Где-то далеко-далеко, не приближаясь и не замирая, побрякивал колокольчик.
И тишина, тишина, тишина!
Сон отнял остаток сил. И теперь нахлынули мысли о будущем.
Сибирь. Рудники…
Ночь тянулась нескончаемо. Петрашевский забывался на минуты, и тогда грезился Петербург. Лица друзей. Недругов. Знакомых, чужих.
Острая боль прогоняла грезу.
Ночь! Она могла свести с ума.
Михаил Васильевич замечал, что начинает галлюцинировать. Как тогда, в крепости. Ему слышался крик толпы: «Колдуна поймали!» Впотьмах на него глядели пустые глаза Гагарина. Протягивались к горлу руки Набокова…
Когда же рассвет?
И снова ухабы, копыта лошадей, армяк ямщика.
И снег, снег, снег!
Чем дальше от Петербурга, тем больше снега, тем глубже он. Несколько дней не показывалось солнце. И снег справляет хороводы под напевы ветра. Он крутится легкими змейками. Взмывает языками белого пламени. Обжигает лицо. Лижет стволы деревьев…
В «хороводе» промелькнули села, заспанные городишки. Петербургская, Московская, Ярославская губернии — как страны!..
Возок застревал в сугробах. Петрашевский помогал вытаскивать его и горько смеялся. Он вытаскивал собственный катафалк, чтобы скорей, скорей добраться до могилы.
Москва осталась далеко в стороне. А ямщики гнали и гнали. Чаще меняли лошадей, короче становились минуты отдыха. Воспаленные глаза все реже и реже подымали занавес век.
Деревни, города?
А, пусть себе! Они все на одно лицо — деревянные, пустынные, ленивые.
Иногда только вспыхивало любопытство. Ведь рождество, и в деревнях пьяное веселье, гульбища. Целыми селами сбегаются крестьяне смотреть на каторжника. Дети часто принимают за Деда Мороза, бегут за возком, что-то кричат. Взрослые жалостливо качают головами, бабы кидают пироги.
А потом опять белое молоко снега.
Одиннадцать дней, тысячи верст.
И, наконец, Тобольск — столица каторжного края.
Оживились жандарм и фельдъегерь. Они довольно пофыркивают, как лошади, почуявшие конец пути.
На высоком берегу Иртыша засветились маковки церквей. Выплыл купол кафедрального Софийского собора. Но глаза ищут не приют для богомольцев, а приют для отверженных.
Вот они, белые стены острога.
Приказ для ссыльных — небольшая бревенчатая изба с маленькими оконцами, длинными лавками. Затхлые молодые люди в невообразимо заношенных мундирах, как будто их не снимали с плеч по крайней мере полстолетия, полудремлют, ничего не ожидая, ничему не дивясь.
Петрашевского сдали с рук на руки под расписку, как вещь. Жандарм вручил чиновнику те несколько рублей, которые составляли весь капитал Михаила Васильевича. Чиновник пересчитал замусоленные рубли, отдал владельцу, но предупредил, что в остроге их все равно отберут и лучше, если он не будет сопротивляться, не станет протестовать.
Смотритель острога тщательно ощупал каждую складку одежды и несколько раз пытался заглянуть оз рот.
Потом позвал кузнеца.
Сколько дней он не менял белья! Ноги стерты оковами в кровь. Наконец с него спадут кандалы…
Кузнец еще крепче затянул железные полукружья.
Чашка щей, кусок хлеба и ломтик говядины. Его не удивить этим! Пусть кто-то вспоминает Петропавловку, пусть кто-то подражает ей!
23 декабря открытые сани с жандармами и фельдъегерем впереди увезли из столицы Спешнева, Григорьева, Львова, а 24-го в Сибирь отправили Дурова, Достоевского, Ястржембского и Толля. Момбелли заболел и был оставлен в крепости для лечения.
Они ехали след в след, по свежему следу Петрашевского. Из отрывочных разговоров на станциях узнавали, что Михаил Васильевич только-только проехал.
Потом, ближе к Уралу, ударили 40-градусные морозы, и стало невозможно скакать по 10–12 часов в сутки. Отсиживались в станках, часами бездумно смотрели, как пляшут огоньки в русской печи. Болтали без устали, изголодавшись по слову, дружеской беседе. Фельдъегерь Достоевского и Дурова оказался добродушным стариком. Из открытых саней он пересадил осужденных в крытые. Незаметно приплачивал своими деньгами, чтобы сократить расходы каторжан.
Ямщики, по случаю праздников, были в армяках серо-немецкого сукна с алыми кушаками и совершенно пьяные.
Болели отмороженные руки: «болтливый пан» Ястржембский немного приумолк и все время расти? рал кончик носа, морщился; Достоевский старался не раскрывать рта — золотушная язва чутко реагировала на холодный воздух. Заболели и жандармы, сопровождающие Достоевского и Дурова.
Спешнева, Григорьева, Львова увезли вперед. Стало совсем тоскливо.
А впереди молчаливо вздыбливались опухоли Уральских хребтов.
Лошади натуженно тащили в гору, вязли в глубоком снегу, а горы выглядывали одна за другой, потом прятались за спины соседних, тяжело отдувались метелями и еле мерцали в морозной дымке серого студеного дня.
Однажды, под вечер, сани окончательно застряли. Лошади только вздрагивали под ударами кнута, жалобно ржали. Эхо из гор отзывалось зловещим криком. Снег валил, словно его вытряхивали на землю полными ведрами.
Достоевский безучастно стоял в сугробе и смотрел, как жандармы, Дуров, Ястржембский надрывались в усилии вытащить сани.
Зачем?
Он чувствовал за своей спиной пропасть. Опрокинуться навзничь и лететь, лететь куда-то вниз… Он знал, что полет кончится падением, смертью, но перед тем, как отойти в небытие, он будет свободен, будетлететь…
Ушаты снега напомнили вдруг масленицу, снежные крепости, на которые с залихватским посвистом скакали всадники. Вихри-кони птицами взмывали над белыми стенами, хохот, визг, хмельное брожение в голове.
Он был тогда свободный.
Лошади рванули в последнем усилии, и снова эта бесконечная дорога, снега, метель…
В Тобольск прибыли 11 января 1850 года. Спешнее, Григорьев, Львов уже успели обжиться в остроге.
Львов добился, чтобы с него были сняты кандалы, так как в списке телесных наказаний кандалы значились под первым номером, а дворяне были освобождены от телесных наказаний.
Дворяне? Достоевский грустно усмехался. Бывшие дворяне!
Как странно, он никогда раньше не дорожил этим званием, даже стыдился тех привилегий, которые оно давало ему.
В маленькой каморке Дуров, Ястржембский и Достоевский едва могли уместиться.
Они знали, что их товарищи находятся где-то здесь, рядом, но как подать о себе весть, как перекинуться с ними словом, запиской, когда в глазок на дверях все время заглядывает неусыпный страж да и толстые стены, забранные железной решеткой окна, стерегут более надежно, чем люди?
Однажды утром вместо фунта хлеба и пустых щей узники получили чудесные калачи, масло, копчения и настоящий пахучий чай. Караульный солдат как бы невзначай подсунул и записку.
Она была от «ссыльных старого времени», от жен декабристов — Муравьевой, Анненковой, Фонвизиной.
Достоевский растрогался до слез. Почти 25 лет эти гордые женщины добровольно томятся в изгнании, облегчая участь мужей своих. Давно пролетела их молодость, давно померкли надежды, но не иссякли силы и желание скрашивать жизнь людей, ставших «отверженными» по прихоти Николая.
Они утешали, они ободряли, они сообщали о настроениях товарищей и спрашивали о нуждах. Значит, и Спешнее, и Львов, и Петрашевский обласканы, обогреты ими.
Эти вездесущие ангелы сумели разузнать, что Достоевского и Дурова через несколько дней направят в Омск, и просили скорее сообщить, в чем они нуждаются из платья.
Нуждались же они во всем. Достоевский выехал налегке, и воспоминание о том, как он промерзал до сердца, пробирало его дрожью даже в этой душной острожной каморке.
Платье было доставлено на следующий день, а также продукты на дорогу.
Перед отправкой Достоевского и Дурова посетил доктор. Он оказался декабристом Вольфом. С удивлением отметил врач почти полное исчезновение на морозе золотушных язв Достоевского, хотя Вольф хорошо знал целительные свойства сибирского климата. Он сообщил, что у Спешнева появились зачатки чахотки — видимо, тот простудился на Семеновском плацу. Но Вольф был уверен, что в Сибири все это быстро излечится.
И снова дорога.
Уже когда садились в сани, из острога выбежали Львов и Григорьев. Последние рукопожатия, поцелуи, лошади тронули.
Месяц в Тобольском остроге тянулся однообразно. Петрашевский угрюмо бродил по казарме, ни с кем не заговаривая. Он почти не замечал холода, не замечал он и злобных взглядов, которые бросали на него каторжники из мира «кобылки». Для этих убийц, воров, контрабандистов он и в остроге оставался барином, дворянином. Они радовались тому, что беда постигла и «их благородие».
Львову было легче. Хотя и он был дворянином, — . мало того, в остроге как-то прознали, что Федор Николаевич приходится родным сыном таганрогского полицмейстера, а худшей рекомендации для «кобылки» быть не могло, — но Львов умел дать почувствовать свое превосходство. Болезненный и хилый, умел он и постоять за себя. К тому же Федор Николаевич не терял времени даром. Если уж судьбе было угодно так жестоко обойтись с ним, то он наперекор ей будет с еще большим прилежанием изучать химию.
Петрашевский только фыркал в бороду, глядя, как Львов на клочках бумаги, на голых досках нар углем выписывает длинные химические формулы, что-то бормочет, и в эти минуты его лицо красит блаженная улыбка.
Из Тобольска в Иркутск — пешком. В составе партии каторжников.
В Европейской России снег цепляется за тенистые лесные укромины, прячется от солнца и истекает плакучими ручьями. Обнажаются прошлогодние увядшие травы, холодная, еще не ожившая земля.
Кое-где выскочили торопливые подснежники, но их пора еще не наступила.
Лошади рвут сани из снежной кашицы, на колесах и вовсе не проедешь.
А Сибирь играет метелями, перестилает снежные покрывала с города на город, с тайги на степи, окутывает деревни, стойбища, рудники.
Но солнце уже и здесь заглянуло под сосны и пробирается сквозь колючую гущу елей. Скользит по льду Байкала, щекочет Ангару.
В такую пору идти пешком еще тяжелей, хотя с Петрашевского, Спешнева, Львова и Григорьева сняли кандалы.
Они могли бы нанять лошадей и возок, у Спешнева есть деньги. Но их преследует злоба императора. Это он распорядился, чтобы «преступники» были «в полном смысле слова… арестантами соответственно приговору. Облегчение их участи в будущем времени должно зависеть от их поведения и монаршьего милосердия, но отнюдь не от снисхождения к ним ближайшего начальства».
Ближайшее начальство не всегда соглашалось с монаршьим повелением. Но в Восточную Сибирь два года назад прибыл новый генерал-губернатор — Муравьев; он наводит «порядки» и еще далеко не окончил «генерал-губернаторскую чистку».
Уголовная партия с утра наполнила двор острога кандальным перезвоном. Тюремный коваль с переносной походной кузней осматривает цепи, кое-кого, как лошадь, подковывает. Петрашевский с ужасом смотрит на эти нищенски одетые, заросшие существа. Он знает, что многие из них убийцы, грабители, и все же их мучения заслоняют в его душе юриста, он готов плакать о страданиях людей.
Слабосильные и больные должны были следовать за партией на подводах. С удивлением Петрашевский заметил, что среди «больных» — здоровенные дяди, с которыми он успел познакомиться еще в остроге.
«Дяди» были опытными бродягами. Они много раз убегали с каторги, появлялись привидениями на почтовых трактах, шатались по тайге и вновь возвращались в острог, чуть первые морозы прихватывали ледком осенние лужи.
«Дяди» знали солдат и офицеров, знали удобные этапы, полуэтапы, знали они и то, что через месяц весна скроет их следы.
И так до Иркутска по 500 верст в месяц. Этапы — похожие на загоны для скота, полуэтапы с разбитными сибирячками, бойко торгующими пельменями, вареным картофелем, гороховой похлебкой.
Ушла зима, и весна уступила место лету. А они шли и шли.
Тарантас конвойного офицера плетется позади. Солдаты отшагивают вместе с каторжниками. И все глотают пыль. Солнце иссушило целину. Облако пыли заметно за версты.
Когда пыль оседает, то знакомые не узнают друг друга. Иногда «этапным богачам» за десятку удается найти себе «подмену», и они застревают в селах и деревнях, а за них путь продолжают бродяги, которые знают, что все равно убегут.
Петрашевский не имел десяток, часто даже куска хлеба. Какой-то каторжник, политический и, судя по выговору, поляк, поделился с ним последней коркой. Петрашевский плакал, он никогда не ел такого чудесного хлеба.
Но вот и Иркутск.
Два генерала задумчиво смотрят на огонь, лениво теплящийся в камине.
Тот, что помоложе, с завитками светлых волос, — генерал-губернатор Восточной Сибири Николай Николаевич Муравьев. Ему едва исполнилось сорок, но он заметно располнел, хотя и пытается скрыть брюшко под специально сшитым мундиром.
Второй уже в летах, голова поседела, — это генерал Казимирский.
Муравьев изредка поглядывает на Казимирского, как будто стараясь что-то вспомнить. Казимирский не замечает этих взглядов.
В его морщинах застревают отсветы огня.
Муравьев в Иркутске третий год, Казимирскому кажется, что он всю жизнь провел в Сибири.
Глядя на старого генерала, Муравьев вспоминает о декабристах, ссыльных поляках. Они все боготворят этого старика.
Но ведь он и сделал немало для облегчения их участи.
Сегодня Муравьеву не дают покоя приступы печени, и генерал-губернатор не в духе.
В Петербурге явно недовольны его деятельностью. И особенно амурскими проектами. Это все интриги Русско-Американской компании, барона Врангеля и его подручных. Окаянные немцы, они делают все, чтобы нанести удар по престижу России, хотя сами только и знают, что сосут из нее соки. Кто-то здесь, в Сибири, строчит на него, Муравьева, доносы; он, видите ли, покровительствует ссыльным, особливо декабристам. А ведь государь слышать не может о них. Муравьев разрешил жить в Иркутске старику Волконскому. Ну и что из этого, ведь князь вполне безвреден. Сам метет тротуар и мостовую перед своим домом, ходит не иначе, как в холщовой рубахе навыпуск.
Э! Декабристы у него ныне вот где сидят, но менять своего отношения к ним он не намерен. Ведь он — Муравьев, а Муравьевы принимали участие в бунте. Что это он в самом деле? Нашел чем гордиться.
Да, впрочем, ссыльные бунтовщики не слишком-то балуют генерал-губернатора изъявлением благодарности. На слова скупы, живут так, словно каждую минуту к ним может нагрянуть полиция. Вон Волконский себе дом построил в Иркутске, так на улицу только окна выходят, а двери со двора, какие-то коридоры и коридорчики, сам черт запутается, прежде чем до хозяев доберется. И то уж, если нагрянут, так хозяева поуспеют что нужно припрятать.
А вот Казимирского они любят. Он желанный гость в их домах.
Муравьев тяжело поднялся с кресла.
Встал и Казимирский. Визит окончен, пора уходить, а он так и не решился доложить генерал-губернатору просьбу Завалишина. Ссыльный декабрист развил бурную деятельность, ему нужна материальная поддержка, чтобы начать изучение богатств края. Но Муравьев хмурится — лучше он в другой раз…
В кабинет вошел чиновник особых поручений.
— Ваше превосходительство, вы приказали доложить, как только в Иркутск прибудут ссыльные из Тобольска. Они прибыли!
Некстати! Некстати ему сейчас эти новые «возмутители», или, как их успели уже окрестить в Петербурге, «петрашевцы». Государь разгневан. Велено не делать никаких послаблений каторжникам. От Тобольска до Иркутска — этакую далищу — их прогнали пешком.
Завтра о них будет знать весь город, и весь город будет ожидать, как себя поведет генерал-губернатор. Если он отвернется от «бунтовщиков», то иркутяне отвернутся от него самого.
Но где же выход, где?
Обласкай он преступников, не оберешься неприятностей. Ведь не случайно из Петербурга запрашивали о Черносвитове. И черт его дернул беседовать с этим исправником и золотопромышленником. В Петербурге все с ума посходили с заговором. Военный министр Чернышев и карлик канцлер готовы и его, Муравьева, в число заговорщиков записать.
Казимирский выжидающе смотрит на генерал-губернатора. Муравьева вдруг осеняет.
— Яков Дмитриевич, не откажите, ради бога, сделайте милость, возьмите моих лошадей, съездите
Казимирский хорошо понимает генерала: трусит сибирский падишах, трусит, ну, а ему терять нечего. Уж ежели за декабристов его по сей день не упекли, то, дай бог, и здесь все обойдется.
— Слушаюсь, ваше превосходительство!
— Да прошу ко мне ужинать! — уже вдогонку кричит Муравьев, довольный, что на сей раз выход найден.
«Хитрит, хитрит его превосходительство!» — эта мысль все время билась в голове жандарма. Старый генерал немного завидовал наместнику. Что ни говори, а тот сделал блестящую карьеру, а ведь, будучи тульским военным и гражданским губернатором, он поднимал вопрос об освобождении крестьян и был причислен императором к категории «либералов и демократов». Но… тут Казимирский терялся в догадках. Муравьева назначили в 1847 году генерал-губернатором Восточной Сибири.
«Пути твои, о господи, неисповедимы», — Казимирский заученным жестом осеняет лоб крестом.
Генерал-губернатору все сходит с рук: и либеральная фраза и дикая расправа. Либерал и сатрап в нем прекрасно уживаются.
А ведь декабристы его хорошо раскусили. Они с ним любезны, приветливы, но и только. Вот Мария Николаевна Волконская даже в доме генерал-губернатора принята, а к себе его не зовет. Муравьев бывает там так, невзначай. В друзья к наместнику они не набиваются, за подачками и милостью не ходят.
Но вот и пересыльная тюрьма. Казимирский знает каждый ее закоулок лучше, чем собственный дом.
Надзиратель щелкнул ключом и отступил на шаг от окованной железом двери.
Казимирский вошел в камеру.
Молчание длилось недолго, но за эти мгновения и генерал и узники успели подумать о многом. Казимирский, глядя на обросших, усталых людей, пытался угадать: кто из них Петрашевский. Узники ожидали, что генерал объявит о какой-либо новой несправедливости: чего еще можно ожидать от жандарма?
Казимирский представился и спросил о нуждах.
Петрашевский, сумрачно поглядывая на генерала, ответил, что они премного довольны всем. Спешнев подтвердил.
Казимирский понял, что в его добрые побуждения не верят. Для этих людей он жандарм, символ всех бед, которые они уже претерпели и к которым готовятся.
— Господа, поверьте, я приехал к вам не официально, и, право, генерал-губернатор, пославший меня, желает помочь. Ведь вы длительное время провели в тюрьме, проехали через всю Сибирь, шли пешком по этапу. Я не верю, чтобы после всех лишений у вас не было нужд и пожеланий.
Спешнева тронули слова генерала. Поблагодарив его за внимание, он с улыбкой признался, что бутылка лафита доставила бы ему сейчас истинное наслаждение.
Петрашевский усмехнулся, но промолчал.
И снова этап.
Меняются солдаты конвоя. Остаются в острогах и на шахтах каторжники. А до Нерчинского завода далеко.
Иногда попадаются сердобольные партионные офицеры, как тот осанистый старик капитан, что сопровождал их от Верхнеудинска до конца пути.
Он расковал арестантов, дозволил им искупаться в жару, а потом вел их раскованными чуть ли не до самого Иркутска. И верил, что за его доброту самые «отпетые» ответят добром. Он не ошибся. Ни один не переплыл на другой, «вольный» берег озера, никто не ругался, когда на него вновь надевали кандалы.
Этап теперь только воспоминание. Так казалось, когда пришли на Нерчинский завод.
Но горный начальник решил иначе. Львов и Петрашевский должны отправиться в Шилку. Там тоже завод, и «очень здоровое» место. Начальник хотел казаться благодушным и даже любезным.
Новый этап. Ноги движутся сами. Они отмерили уже столько верст… Последние семьдесят перед Шилкой были самыми тяжелыми. За Култумским рудником горный хребет рассекает дорогу.
В Култуме дневка. Львов бродит по улицам бедного, унылого селения. Петрашевский спит. Он проснулся только после того, как была подана команда двигаться дальше, и с завистью слушает Львова, который возбужденно рассказывает о своем неожиданном знакомстве с ссыльными поляками.
Подъем тяжелый. Дорога осталась где-то там, внизу. Ветки кустарника исхлестали руки, лицо; ноги то и дело задевают острые камни.
А подъем тянется, тянется бесконечно, хотя пройдено два десятка верст.
Хворост предательски укрыл ямы. Ступишь — и очутишься по пояс в воде. На перевале зной уступил место метели, ямы полны обжигающего снега.
А дороге нет конца…
Спуск был не легче подъема, но уже близился конец пути.
Конец?
Петрашевский несколько раз ловил себя на мысли, что все на свете относительно. Банальная мысль. Но после изнурительного пешего перехода даже каторжный Шилкинский завод казался обетованной пристанью, и он откровенно мечтал скорее очутиться а нем.
Горы отступили, сменились сопками, напоминающими могильные курганы, с крестами, воздвигнутыми на их вершинах по сибирскому обычаю.
Между возвышенностями петляла река Шилка. Неширокая, со многими отмелями и бродами, она не спеша перекатывала свои воды к Аргуни. У Шилкинского селения левый берег, низменный в верховьях реки, начинал подниматься, а потом палал отвесными скалами в воду. В бесчисленных заводях то и дело раздавались всплески — осетры, севрюга, а иногда и белужьи туши нет-нет да и мелькали на поверхности.
Шилкинский завод растянулся по левому берегу реки версты на две. Дальше — обрывы, скалы, сопки преграждали путь к низовьям.
Четыреста верст до Аргуни можно одолеть только пешком и с невероятными трудностями.
На заводе живет до 3 тысяч человек. Все больше мастеровые, приписанные к предприятию, ссыльнокаторжные, местное начальство да три-четыре купца. Купцы торгуют снедью и потихоньку скупают краденое золото. На Шилке его не добывают, зато рядом, на Каре, золотые прииски. И золото там очень высокой пробы.
Первые дни устройства, знакомства с местным начальством, обычаями…
Сначала пришлось обживать гауптвахту, но уже через некоторое время, вслед за Львовым, Петрашевский и Григорьев поселились на частной квартире.
У Львова на первые дни в наличии 100 рублей. Петрашевский не имеет ни копейки. И если Львов не мог рассчитывать на помощь родных, то Петрашевский мог, но не рассчитывал, зная скупость матери и ее нелюбовь к сыну.
Поэтому сразу приходилось решать, как добывать хлеб насущный. Петрашевскому хотелось заняться врачеванием. Но у него не было достаточных для этого знаний, не было и книг, откуда бы он мог их почерпнуть.
Львов не без умысла старался заинтересовать своих квартирных хозяев устройством солнечной системы, рассказами о неведомых странах. И скоро по заводу пошел слух, что вновь прибывшие каторжники весьма учены.
Первым к Львову явился с просьбой «образовать» детей бывший беглый вор, а затем каторжный делец — «банкир». Он сам был неграмотным, но сыновей хотел учить. Недорого ценил этот заботливый отец труд преподавателя — 2–3 рубля в месяц. Но за ним потянулись другие.
Нашлись и завистники, пытавшиеся оговорить Федора Николаевича. Но родители заставили их замолчать.
Завод работал днем и ночью. Днем трудились ссыльнокаторжные, ночами — работники «честного имени». И никого это не удивляло, хотя ночная работа по сравнению с дневной была поистине каторжной.
Уроки работной команде задавались тяжелые. Техники никакой. И уныло звучит песня:
На разрезе соберутся,
Слезой горькою зальются,
Лишь примут урок.
Попадет сажень, другая,
Одна галька лишь сливная,
А урок отдай.
Не берут ни клин, ни молот,
Да к тому ж всеобщий голод
Сделал всех без сил.
Казна выдавала ссыльнокаторжным 2 пуда муки на месяц да 57 с половиной копеек. Приварок нужно было заработать самим.
Петрашевский помогал Львову учить детей, но особого влечения к преподаванию не испытывал. Он не оставил мысли заняться медициной, лечить. Даже попытался выписать через свою достопочтенную матушку сочинение Распайля «Medecin de soi meme», знакомое с давних пор. Но каторжане не имели пра
Нехватка врачей на Шилке, Нерчинском заводе, Акатуе была страшная. Болезни свирепствовали и особенно в 1850–1851 годах, когда Нерчинскими золотыми промыслами стал заведовать печальной памяти Разгильдяев.
Этот горный инженер сумел заинтересовать своей особой генерал-губернатора Восточной Сибири. Он пообещал ему поднять добычу золота до 100–125 пудов в год, если ему дадут 3 тысячи мастеровых и кое-какие машины.
Муравьев обрадовался. Это так кстати. Казна отказывает ему в средствах, а он размахнулся, у него грандиозные планы. Приобрести во что бы то ни стало обширнейшие Амурско-Уссурийские земли, со времен Нерчинского мира 1689 года считающиеся за Китаем. Но Китай их не осваивает и не заселяет. Еще в 1849–1850 годах Муравьев добился отправки экспедиции того самого капитана Невельского, с которым познакомился в Петербурге у Баласогло. Невельской должен исследовать устье Амура и подходы к Сахалину.
Невельской убедительно доказал, что Сахалин — остров, а устье Амура судоходно.
Муравьев размечтался. Ему уже мерещилось переселение жителей Центральной России на Амур, пароходы, бегущие по могучей реке, русские форпосты на берегах, Сахалин — опора российского могущества на Тихом океане, а он владыка всех этих богатств и «национальный герой».
Но министр финансов, этот лизоблюд, подхалим, выстукавший, в полном смысле этого слова, затылком пост министра, и слышать не хочет об отпуске денег на такие рискованные затеи. Канцлер Нессельроде тоже против. Карлик боится столкновений с Китаем, неприятностей с Англией. Стоит ли терпеть все это из-за какой-то азиатчицы?
Разгильдяев для Муравьева просто находка. Разъезжает по горным селениям Нерчинского округа, произносит речи, призывает охотников на Карийские прииски. Добивается пригона 600 каторжан.
Охотники нашлись, каторжных согнали. Но золота намыли едва 60 пудов. А близилась зима 1850–1851 годов. Никто не позаботился о постройке теплых жилищ, никто не запасся зимней одеждой. И все рассчитывали с наступлением морозов вернуться на обжитые места.
Разгильдяев ускакал в Петербург, но работную команду распускать не велел.
И начались эпидемии.
Лазареты с каждым днем вспухали от притока больных. Не было мест на койках, лежали на полу, под кроватями. Из всех щелей дул студеный ветер, и мечущиеся в тифозном бреду потные люди не замечали, как их растрепавшиеся волосы примерзали к доскам, подоконникам.
Хоронить не успевали. Земля промерзла, могил копать было некому. Трупы едва засыпали, а это угрожало с первыми летними днями привести к распространению эпидемии сибирской язвы.
Сильно машины гудели,
А толпы людей редели,
Мерли наповал.
За работою следили,
А в Ключевке положили
Тысячи больши:
Кто с печали, кто с заботы,
Больше с тягостной работы —
Вечный им покоив
Положенья не намыли,
До трех тысяч схоронили —
Вот были года!
За год схоронили на Каре тысячу человек. А сколько их погибло в пути, когда распустили команду и люди бежали с прииска, как от ада преисподней?..
Но Разгильдяева недаром величали «фокусником и шарлатаном». Опыт Потемкина и его деревень пригодился горному инженеру.
Слухи о Карийской трагедии дошли до Иркутска, и летом 1851 года на Нерчинские заводы должен был прибыть сам генерал-губернатор Николай Николаевич Муравьев.
Генерал-губернатор плыл на барке в специально сооруженном домике. Он не мог миновать Шилку, направляясь в Усть-Кару.
Разгильдяев выслал на Шилку своего помощника Эйхвальда. Шилкинский завод спешно готовился к приему высокого начальства. Никто не знал, заглянет сюда Муравьев или проплывет мимо. Но политических каторжан предупредили, что, быть может, им придется вернуться с квартир в тюремную казарму, а то, не дай бог, разгневается генерал-губернатор за вольности, хотя местные власти знали, что в Иркутске Муравьев заигрывает с ссыльными декабристами. Но это в Иркутске, и либеральничает сам Муравьев, а подобает ли это делать мелкой сошке?
Муравьев принял Эйхвальда на барке, в Шилку не заехал. Но оставил у Петрашевского впечатление неважное всей той шумихой, сплетнями, рассказами о себе, которые растекались за баркой, как след на воде. На следующий день Разгильдяев встречал генерал-губернатора верхом на лошади и по пояс в воде, он всем видом своим говорил о рвении, усердии и нетерпении их проявить.
«Штабс-капитан из той же компании», — отрезал Петрашевский фразой из «Игроков» Гоголя, когда Львов полюбопытствовал мнение Михаила Васильевича. Точно так же Петрашевский. отозвался о Муравьеве и раньше, при посещении генерал-губернатором каторжной тюрьмы.
Мнений своих Петрашевский не менял и довольно редко ошибался.
Разгильдяев получил в управление и Шилкинский завод. После этого положение Петрашевского, Львова, Григорьева стало невыносимым.
Разгильдяев не считался ни с кем и ни с чем. Мастеровым и каторжанам — плети. Надзирателям рудников, если они попадались на воровстве, — публичное позорище. И нередко опальные чиновники оказывались сидящими на барабане, а цирюльники обрывали у них галуны и бросали в костер.
Петрашевский не мог оставаться сторонним наблюдателем. Его не коснулись плети, но разгильдяевские зверства, лихоимство и продажность чиновников он обличал перед мастеровыми, ссыльными.
И Разгильдяев, доведенный до бешенства, угрожал Петрашевскому и Львову высылкой на Акатуй.
После долгих стараний Петрашевский и Львов сумели перевестись на Александровский завод. Подальше от Разгильдяева и поближе к друзьям. Ведь на Александровском заводе находились Спешнев и Момбелли.
И снова Петрашевский отмеривает версты. Пешком, так как нанять подводу нет денег.
Федор Николаевич Львов нигде не унывал. Александровский сереброплавильный завод радовал его сердце химика. По-дедовски, по-дедовски добывают тут серебро из руд. «Сухим путем». Львов показал новый, «мокрый способ», известный за границей, но мало применявшийся в России. Химик умел делать ваксу и приготовлять краски, лить стеариновые свечи, быть полезным при аптеке. Живой, общительный, он быстро сходился с людьми, завоевывал их расположение.
Петрашевскому это было труднее.
В 1854 году Львов перебрался на Нерчинский завод. Он расширял свои «химические опыты».
Крымская война далеким отголоском долетала до каторжных рудников. Газеты приходили сюда нерегулярно, и о ходе военных действий приходилось только догадываться. Но Петрашевский очень пристально следил за тем, как развертывались события. Он плохо верил в победу, зная состояние русской экономики, техники, уровень вооружений царской армии. Но хотелось, чтобы русские солдаты вышли и из этой войны непобежденными. Никто никогда не мог бросить Михаилу Васильевичу упрек в том, что он не патриот.
Но патриотизм Петрашевского не был «квасно-водочным», славянофильским. Он не сошел с позиций, которые занимал, составляя «Карманный словарь». «Тогда только может какой-либо народ внести свою собственную лепту в сокровищницу человеческих знаний, дать самостоятельный толчок общечеловеческому развитию, когда будет им усвоено, вместится в нем совершенно вся предшествующая образованность и будут поняты им все интересы жившего до него человечества и пережиты им все его страдания путем собственного тяжелого опыта. В этом смысле Россию и русских ждет высокая и великая будущность».
Выиграет войну русский царизм — и тогда в Европе вновь надолго восторжествует самая свирепейшая реакция, возобновится «священный союз» монархов. Проиграет царизм — выиграет европейская демократия. И хотя она буржуазная, «демократия биржи», ненавистных капиталистов, но при ней люди скорее поймут необходимость перемен, необходимость социалистического переустройства.
Проиграет царизм — и по крепостничеству, по феодальной монархии будет нанесен сокрушительный удар.
Петрашевский охотно делился своими мыслями с теми, кто умел и хотел думать, кто не был скрючен каторгой и заглядывал вперед. Пропагатор не остыл в Михаиле Васильевиче даже в лютые сибирские морозы.
Родные забыли Петрашевского. Изредка как напоминание о том, что они живы, что ни в чем не нуждаются, приходили деньги. Небольшими суммами, по 100–150 рублей в год. Михаил Васильевич обносился и поневоле вместо шубы ходил зимой в нагольном тулупе, жил тем малым, что полагалось ссыльнокаторжному.
Спешнев и Григорьев были в положении ином. Но они нарочно не хотели как-то выделяться, жить безбедно, когда рядом так нуждался Петрашевский, так трудно добывал каждую копейку Львов.
Мысль открыть настоящую школу для обучения детей, как мальчиков, так и девочек, пришла в голову не только Спешневу. Об этом думал и Григорьев, его поддержал Момбелли. Опасаться, что учеников будет мало, не приходилось. До Иркутска, где имелась мужская гимназия и институт для девиц, было 1 300 верст. Куда в такую даль отправишь юнцов! Да притом за многие годы местные чиновники на опыте убедились, что в гимназии этой учат плохо, ссыльные преподают лучше, добросовестней.
А тут Спешнев объявил, что в школе будут обучать иностранным языкам, и, таким образом, дети, окончив начальное обучение, хорошо подготовятся к завершению образования в стенах самых лучших гимназий.
Петрашевский тоже сделался учителем, но учителем поневоле.
Ученики были еще слишком малы, чтобы понимать основы наук общественных, хотя ссыльные учителя старались развить в них чувство человеческого достоинства. Момбелли не забыл о «Братстве» и внушал ученикам необходимость дружбы, товарищества.
18 февраля 1855 года официальная Россия оделась в траур. Скоропостижно, загадочно умер Николай I.
Ссыльные узнали об этом значительно позже и не старались скрыть своей радости и своих надежд.
Крымская война близилась к своему трагическому финалу. В России должны были произойти перемены. Никто не знал, какими они будут, но что они произойдут — в этом не сомневались.
Петрашевский ничего хорошего не ожидал от нового царя Александра II. И этот был «штабс-капитаном из той же компании».
Бывший цесаревич может сменить министров, но что изменится от этого? Когда-то Петрашевский разделил всех министров на три разряда: Меньшиков, Перовский, Киселев — умные, Чернышев и Уваров— ни то ни се; Вронченко, Клейнмихель, Протасов — просто идиоты.
Наверное, Александр II прежде всего прогонит умных, но Петрашевский не будет жалеть ни об одном из них.
Если действительно Россия накануне перемен, то эти перемены должны коснуться и положения политических ссыльнокаторжан. Это «облегчение» может прийти только как милость, как снисхождение всемогущего монарха, которому не страшны упрятанные по закоулкам Сибири «бунтовщики» и «помышлявшие на бунт».
Все внутри Петрашевского протестовало против этого. Он не желает милостей от царей. Он готовил людей к революции, и принять «прощение» из монаршьих рук — значит отказаться от убеждений, значит признать ложными свои идеи, зачеркнуть революционное прошлое.
Нет!
Обличать, пользуясь новыми веяниями, разоблачать порядки кончившегося царствования, чтобы в начавшемся они не повторились. И это средство, которое ускорит распространение социалистической идеологии в России.
Но как это можно практически осуществить?
И впервой Петрашевскому пришло в голову написать прошение о пересмотре «дела».
Ведь даже по существующим в России законам «процесс 1849 года» был сплошным нарушением «порядка форм и обрядов судопроизводства». Действительно, в следственной комиссии отсутствовали депутаты от сословий, не выполнялось требование очных ставок, в военно-судной комиссии не было защитников, осужденным не объявили приговора, да вообще их не имели права судить военным судом, а значит, и приговор должен был утверждать сенат, а не генерал-аудиториат.
Обличить суд неправедный — значит еще раз потребовать реформу, демократизацию суда. Петрашевский не отказался от взлелеянной ранее мысли.
Манифест 27 марта 1855 года опередил Петрашевского. Монарх жаловал «прощение» и «облегчение участи».
Но, как бы отвечая намерениям Петрашевского, в манифесте было сказано: «Кто за деяния, до обнародования сего манифеста учиненные, будет впоследствии подведен под силу оного и не пожелает тем воспользоваться, тот может в течение одного месяца со дня объявления ему состоявшегося о нем постановления просить о рассмотрении дела его на законном основании. Такие лица, в случае осуждения их, уже не могут подлежать прощению по силе сего манифеста».
Петрашевский не боялся «осуждения», но кое-кто из каторжан, а также Момбелли, Григорьев, как казалось Михаилу Васильевичу, «слишком запуганы прошедшим».
Петрашевский, как только ему объявили, что по манифесту он освобожден от каторжных работ и переведен в разряд «ссыльнопоселенцев» с водворением в Восточной Сибири, отправил помощнику управителя Константиновской дистанции Рындину прошение в департамент сената:
«…Производство дела, послужившего поводом к моей ссылке, было совершенно несообразно с его юридическою сущностью, почему я… равно как и другие, сопричтенные к сему делу лица, не был подчинен прямому действию закона… К присутствованию при производстве следствия не были приглашены г.г. следователями от разных ведомств и сословий надлежащие депутаты, могшие устранить пристрастность допросов… Был устранен при производстве сего дела охранительный для обвиненных надзор стряпчих и прокуроров, установленный законами при производстве дел особой важности… При следствии не было делаемо надлежащего различия между лицами, кои были сопричтены к делу, и свидетелями по оному… Не были даны мне очные ставки с лицами, коих показания, в списках и извлечениях мне предъявлялись… Невзирая на непринадлежность мою ни к одному из званий или ни к одной из категорий лиц, подлежащих суду военному, я был подвергнут ему… Противу сего изменения формы суда и подсудности, противного основным отечественным государственным законам, было мною протестовано пред Военно-Судною комиссиею… Приговора своего Военно-Судная комиссия ни сама, ни чрез кого никому из подсудимых не объявила… Вследствие чего я и другие подсудимые были лишены возможности выразить свое неудовольствие или удовольствие на решение Военно-Судной комиссии и предъявить свои требования или жалобы высшим инстанциям, смотря по надобности… Потом дело сие… перешло в Генерал-Аудиториат».
Далее в своем прошении Петрашевский указывал, что генерал-аудиториат не имел права разбирать дела не военных, а гражданских лиц. Это тоже было нарушением судебного процесса. Поэтому Петрашевский требовал отмены приговора генерал-аудиториата 1849 года и настаивал на «пересмотре всего дела».
Осенью 1855 года Петрашевский перебрался на Нерчинский завод и по приглашению протоиерея Боголюбского стал заниматься с его сыном, а также с детьми купца Кандинского.
Будучи добросовестным преподавателем, Петрашевский делал все, что мог, чтобы передать свои знания ученикам, но мысленно он уже решил: наступил новый период его жизни. Теперь, когда прошение послано, когда он написал еще дополнительные разъяснения, педагогическая работа только временное занятие.
Он даже поделился своими надеждами с матерью. Не в пример товарищам по ссылке, не пожелавшим требовать пересмотра приговора, Михаил Васильевич писал, что «смотрел на ссылку, как на истинное начало… политической карьеры, как на положение, которое… возложило новые обязанности» на него, пропагатора, бойца.
«Я ни на минуту еще в жизни не приходил в отчаяние и не печалился, и… чтобы не разубедиться, а напротив того, еще более убедиться в своих мыслях, тех, за которые я был сослан, надо быть сосланным в Нерчинские заводы».
Прошение застряло в Нерчинском горном правлении и было возвращено, как поданное «не по принадлежности».
19 декабря 1855 года Петрашевский пишет новое. Но и оно остается без движения. Петрашевский настаивает на его отсылке, выражает свое неудовольствие и, наконец, добивается того, что горное начальство переправляет второе прошение ссыльнопоселенца председательствующему в совете Главного управления Восточной Сибири генералу Венцелю. Но генерал после консультаций запрашивает нерчинское начальство об умственных способностях просителя.
Петрашевский собирался в дорогу. Он должен быть в Иркутске и оттуда уже добиваться пересмотра дела.
Манифест 26 августа 1856 года сделал поселенцами и Спешнева, и Момбелли, и Григорьева. Момбелли отправлялся на Кавказ, рядовым, по предоставленному ему праву, Григорьев был уже болен, у него началось «меланхолическое помешательство», и родные хлопотали об отдаче его под «надзор семьи». Львов колебался — ехать или нет на Кавказ, где можно было рассчитывать на быструю выслугу.
Спешнев по ходатайству Муравьева вступал на гражданскую службу в Забайкальское областное правление.
Расставались тепло и с лучшими надеждами на будущее.
Парадная дверь генерал-губернаторского дворца захлопнулась за Петрашевским. Но теперь он знал, что будет часто сюда заходить. И не потому, что Николай Николаевич обласкал его сегодня.
Муравьев не понравился Петрашевскому при первом же знакомстве. Но в доме генерал-губернатора собираются лучшие люди города, здесь запросто бывают оставшиеся еще в живых и прижившиеся в Сибири декабристы, а Михаил Васильевич так «изголодался» по людям за эти постылые годы каторги.
Петрашевский наугад бредет по незнакомым улицам города, занятый своими мыслями, не вглядываясь ни в прохожих, ни в дома. Какой-то нехороший осадок оставила в душе сегодняшняя встреча с генерал-губернатором.
До сих пор ему все еще верилось, что прошения дойдут до сената, будет назначен новый разбор «дела» и он уедет в Петербург, даст свои показания и никогда больше не вернется в эту страну отверженных и всемогущих. Да, но Муравьев намекал на обратное, иначе, как понять широкий генеральский жест, приглашающий обосноваться в Иркутске прочно. Быть может, генерал-губернатору уже известно об участи ссыльнопоселенца? Недаром же все прошения застревали здесь, в Иркутске.
Спешнее тоже приехал в Иркутск как ссыльнопоселенец. Его перевели из Забайкальского областного правления в Главное управление Восточной Сибири — ввиду «отличных способностей». Поселились вместе. Но Спешнее спешит обзавестись хозяйством, а Петрашевский живет, как на почтовой станции, тем более что пятерка, с которой он явился в Иркутск, уже истрачена.
Михаил Васильевич не замечает, как исчезли дома и он выбрался на берег какой-то неведомой речушки, вливающейся в необъятную ширь Ангары. Может быть, в другое время, в другом настроении он бы и полюбовался этим зимним простором, этой сибирской мощью, но сейчас ему не до них. Да к тому же вечерний сумрак уже слизнул очертания предметов, а Михаил Васильевич очень близорук. Невдалеке смутно проступает силуэт какого-то монастыря. В неверном отсвете вечерней зари он кажется повисшим в воздухе — и под ним и над ним простираются белые равнины, чуть-чуть подернутые розовым светом. Петрашевский понял, что ушел за черту города.
Быстро темнело. Нужно было выбираться.
Порывистый холодный ветер дул теперь в спину.
Из тьмы выглянул сияющий огнями генерал-губернаторский дворец.
Ветер, будто подгоняя, не давал отвернуть в сторону, подвывал: «Иди, иди на поклон, здесь ходят все…»
Настроение, такое светлое еще утром, катастрофически портилось. Иркутск казался такой же затерянной, захолустной дырой, как и те заводы, в которых он провел каторжные годы. Разве только побольше размером.
Мысли путались, и Петрашевский никак не мог додумать до конца что-то самое важное, самое сокровенное.
То ему казалось, что после стольких лет каторжных скитаний, нужды, голода он имеет право подумать о себе, забыть гордость, забыть прошлое, и нижайше ходатайствовать о возвращении прав состояния. (Это минуты слабости — и он гонит коварную мысль.) То перед глазами появлялись лица товарищей, которые все еще томятся где-то в Омске, Томске, по заводам и штрафным ротам. Им хуже. Но что же делать? Ужели и здесь он должен давать частные уроки детям сибирских самодуров, детям, которые, за 1редким исключением, уже испорчены с детства обстановкой постоянной праздности и мечтают только о богатстве и грубых, а подчас и жестоких забавах. О нет, он не педагог, не воспитатель. Уроки — крайность, насущный хлеб.
Проще всего стать стряпчим. Но это значит — помогать все тем же купцам обделывать свои темные махинации.
Ветер задувал в душу.
Петрашевский поежился и невесело рассмеялся: он ли это? Фурьерист, человек, познавший сладостную мечту человечества, поборник социализма. Он ли это? Разве он забыл свою мечту? Разве мелкие дрязги, которые ему придется разбирать по судам, ублажив его карман, успокоят ум, душу? Петрашевский в сердцах даже сплюнул.
Но и то правда: большое складывается из мелочей. А что, если умело взяться за эти мелочи? Если каждую из них воспринимать не как таковую, а смотреть шире, оценивать малое с позиций единственно вечной, справедливой идеи, с точки зрения социального счастья людей на земле? Может быть, тогда эти мелочи, как пропагаторы, и будут нести огромную идею в обществе?
Петрашевский остановился. Ему никак не удается четко сформулировать мысль. Он произносит вслух: «мелочи… дрязги… пропагаторы фурьеризма…» Кощунство, и как только такое «залетает» на ум?
Михаил Васильевич плотнее закутывается в свое ветхое пальто и, плутая по темным улицам незнакомого города, спешит.
Спешнев все еще «производит впечатление»…
Вот только Петрашевский! Странный он человек: не остался обедать, несмотря на любезное приглашение графа, что-то пробрюзжал в ответ и откланялся. Нет, он положительно становится невозможным! Эти вечные фантазии, вечная неудовлетворенность и вечное умение попадать в скверные истории. Но ведь для этой иркутской чиновничьей шатии Спешнев то же, что и Петрашевский, как Петрашевский — Спешнев. Над ними обоими сияет нимб мучеников. А Михаил Васильевич делает все, чтобы этот нимб стерся, потускнел. Он непременно хочет добиться пересмотра «дела» — глупо! Пересматривать будут — если будут — все те же люди и тот же цесаревич, ныне царь Александр II, который когда-то дал согласие наложить оковы на него, Спешнева.
Нет, он будет добиваться свободы и независимости иным путем, и пусть Михаил Васильевич на него не посетует!
Львов перебрался в Иркутск в 1857 году. И, конечно, прямо на квартиру к Петрашевскому. Но как это мило — и Спешнев тут же. А хорошо бы им всем втроем… Петрашевский и не представляет иначе. В доме есть свободная комната, она невелика, как и две другие. Мебель самая простая—вероятно, сделана каким-либо местным мастером. Без претензий, но по-сибирски добротно. Львов невольно вспомнил квартиру Петрашевского в Петербурге. Похоже, и только голые стены напоминают, что до столицы 6 тысяч верст.
Петрашевский тут же за ужином сообщил, что квартира дешевая, вдвоем со Спешневым они платят 12 рублей, ну, а за троих придется накинуть еще рубля два. Львова немного удивляет поведение Спешнева. К его величавой молчаливости он привык, но куда девалось барство? Спешнев по-прежнему богат, но почему-то живет в этой нищенской квартире. Петрашевский — другое дело. Он гол как сокол, матушка его обобрала, а теперь и слышать о своем «Мишуньке» не желает. Ему и 12 рублей в месяц — золотые горы. Неспроста все это!.. Спешнев никогда не жаловал Петрашевского…
А Петрашевский искренне рад приезду товарища. Суетится, стараясь поплотнее накормить с дороги. И рассказывает без умолку. Они оба, он и Спешнев, приняты в доме у генерал-губернатора и часто бывают там. Петрашевский только для того, чтобы воспользоваться огромной библиотекой Муравьева и особенно одним углом в кабинете, где свалены заграничные издания о России.
Петрашевский знает, что Муравьев вмешался и в судьбу Львова. Генерал-губернатор не допустил его отправки на Кавказ рядовым в действующую армию. Федор Николаевич не уверен, к лучшему ли это. Чем черт не шутит!.. Военное дело ему не в новинку, ведь друзья помнят его в чине штабс-капитана. Стычек с кавказцами хоть отбавляй: если не убьют, то можно быстро получить и офицерский чин, а с ним возвратить дворянство, выйти в отставку и заняться научной деятельностью.
Федор Николаевич не скрывает от друзей, что приехал в Иркутск по вызову Муравьева — с тем чтобы вступить в должность канцеляриста Главного управления Восточной Сибири. Генерал-губернатор обещал давать ему частые командировки на места для исследования минеральных богатств Сибири — это-то его и соблазнило.
Петрашевский всецело одобряет решение Львова. Дворянство от него не уйдет, зато какой простор для научной деятельности!
Спешнев настроен скептически. Конечно, на Кавказе нетрудно и пулю в лоб получить, но насколько романтичнее — если хотите, благороднее — обрести и права и состояние, заработав их своею кровью, бесстрашием! Львов ехидно напоминает, что и Спешневу была предоставлена подобная возможность, но он, однако, тоже в Иркутске и корпит над бумагами.
Спешнев смотрит в окно, как будто хочет разглядеть сквозь тысячеверстную тьму залитые солнцем горы, услышать всплески волн.
И невольно вспоминаются друзья. Константин Тимковский… Как горячо он взялся за проповедь фурьеризма в холодном, туманном Ревеле, как тепло писал ему, Спешневу! И вот после стольких лет гонений в арестантских ротах Константин Иванович добился перевода рядовым на Кавказ. В 1855 году он уже унтер-офицер, спустя несколько месяцев, за штурм Карса, получил прапорщика.
А они тут гниют в иркутской глуши! Муравьев предлагает Спешневу место начальника газетного стола и редактора «Иркутских губернских ведомостей». Как на это посмотрит Федор Николаевич? Львов в раздумье. Спешнев разбередил ему душу. — Николай Александрович, я помню Тимковского, душевно рад за него, а вот бедняга Филиппов при том же штурме Карса 17 сентября 1855 года получил смертельную рану. И нет неугомонного спорщика, пламенного сумасброда… А ведь ему ко дню смерти едва исполнилось тридцать лет.
Сведения о друзьях доходили самые скудные, отрывочные, противоречивые.
От Муравьева Петрашевский слышал, что Феликс Толль из каторжного Керевского завода перебрался в город Томск, туда же, как надеется генерал-губернатор, вскоре приедет и его печально-знаменитый племянник Михаил Бакунин.
О Бакунине они много слышали еще в Петербурге, им и восхищались и возмущались одновременно. И невольно Петрашевскому напрашивались сравнения. В Томске встретятся педантично-честный, чуждый тщеславию и эгоизму Толль и тщеславный, не слишком-то хорошо себя зарекомендовавший с точки зрения благородства Бакунин.
Спешнев, невозмутимый Спешнев, готов вспылить: Петрашевский говорит с чужого голоса, пусть это голос и самого Белинского. Но он-то, Спешнев, знает Бакунина, его бесстрашие, его благородство. Он встречал Бакунина за границей.
Львов успокаивает спорщиков и опять начинает выспрашивать. Петрашевский убеждает Федора Николаевича во всем следовать его тактике. Тактика эта нехитрая, хотя Михаил Васильевич уверен, что он великий хитрец и дипломат.
— Надобно эксплуатировать либерализм и прогрессизм Муравьева, которыми он желает блистать!..
Спешнев пожимает плечами.
— Во имя чего, Михаил Васильевич? Ради того, чтобы лестью усыпить его грозный нрав, а потом, хихикая, подсунуть генерал-губернатору горькую пилюлю и наслаждаться его гримасами?..
Ссора готова вспыхнуть вновь. Львов понимает, что, видимо, не впервой эти упрямцы, эти антиподы спорят о своем отношении к генерал-губернатору. Ничего, он присмотрится сам. Сейчас же ему ясно одно: Муравьев даже для них — солнце, вокруг которого описывают орбиты все, кого судьба занесла в Восточную Сибирь. Что бы там о нем ни говорили, а человек он интересный.
Долго в эту ночь ворочается Федор Николаевич на новом месте. Его тревожит Петрашевский. Сегодня он впервые заметил, что тот стал нетерпим и ожесточился. Действительно, ну к чему дразнить зверя: всем ведь известен бешеный нрав Муравьева, и это поддразнивание — фронда, камушки в окно кареты, брошенные детской рукой. Петрашевский просто не может найти себе места, точки приложения в жизни. Вот он, Львов, знает, чем займется, и уже сегодня его томит нетерпение. Скорее бы окунуться в жизнь ума, исследующего природу. А Михаил Васильевич не привык довольствоваться кропотливым трудом ученого, собирающего истину по крупицам, его ум приспособлен для широких обобщений, его сфера — общественная деятельность, и тесно, тесно ему в одежке стряпчего, за учительским столом.
Спешнева же Львов совсем не может понять. Видимо, тот твердо решил уцепиться за Муравьева, как за спасительный канат, и с помощью всесильного вельможи выбраться наверх. Тогда Петрашевский для него лишний и ненужный груз. Но Спешнев держится за Петрашевского, так же как и Петрашевский держится за Спешнева. Львов никогда не поверит, что Петрашевский делает это только из-за каких-то эфемерных материальных выгод. Нет, Михаил Васильевич не таков.
Скорее всего Петрашевский, такой непосредственный, неспособный на хитрости, просто ценит воспоминания о былом. А ведь Спешнев — это и прошлое.
Если Муравьев сдержит свое слово и Спешнев станет редактором «Иркутских губернских ведомостей», то Петрашевский, наконец, обретет какую-никакую трибуну, общественную деятельность, единственно милую его сердцу. Львов радовался за друга.
Нет, это просто великолепно, что они опять вместе. В годы, проведенные на Александровском заводе, Федор Николаевич успел убедиться в стойкости, неутомимом трудолюбии и неизменности убеждений этого человека. Хотя Львов хочет всерьез заняться химией, но и дела общественные он не намерен забывать. А вдвоем они смогут влиять и на Спешнева. Он не только их друг, но и человек, в котором Муравьев принимает самое живейшее участие. Через него они смогут влиять на местное общество, внушать ему свои идеи.
Жандармский офицер с удивлением поглядывает на своих поднадзорных. Муж и жена! Мужу за сорок, а ей, наверное, и двадцати нет; тоненькая, хрупкая даже в этих неуклюжих, топорщащихся дорожных одеяниях.
Муж заботливо укутывает ей ноги, то и дело заглядывает в глаза и, поймав улыбку, с жаром целует руки. Жандарм его нимало не смущает.
Офицер хорошо знает, кого он должен доставить в резиденцию генерал-губернатора Восточной Сибири из захолустного Томска. Имя Михаила Бакунина известно всем образованным людям, жандармы осведомлены о нем значительно больше.
Как сейчас не похож этот заботливый супруг на того мрачного, со взглядом хищного зверя и львиной гривой, страшного революционера, за которым долго охотилась полиция крупнейших европейских стран. Он ныне смирен, почтителен в разговоре. Никаких крамольных фраз или даже намеков. Видимо, пообтесали его годы, проведенные в Петропавловской крепости и Шлиссельбурге. Да, государственные тюрьмы — это тебе не Баден-Баден или Дрезден, и Сибирь тоже не курорт.
Конечно, Петропавловская крепость, одиночка сделали свое дело. Не хочется и вспоминать, ведь тюрьма вырвала у него покаянную «исповедь» перед монархом. И право дышать свежим воздухом Сибири он заработал ценой унижений.
Но жандарм ошибается: Сибирь куда целебнее гейзеровых источников Баден-Бадена. А потом ведь генерал-губернатор Муравьев приходится ему, Бакунину, дядюшкой. Что ни говори, а с таким дядей не пропадешь.
Это он сломил упорство старика Квятковского, и тот все же выдал за Бакунина свою дочь.
Ах, как тепло, как призывно горели плошки с жиром, расставленные на улице вокруг дома ссыльного, когда там справляли свадьбу! Половина города сбежалась на празднование. Николай Николаевич, граф Амурский, был посаженым отцом.
Теперь Бакунин рассчитывал с помощью дяди обрести, наконец, полную свободу и подыскать себе доходное занятие. Ему надоело каждый раз выпрашивать деньги у матери и братьев.
Жандарм пытается представить себе этого здоровяка в платье монтаньяров Французской революции 1848 года. Ведь, говорят, он не вылезал из их казарм и денно и нощно проповедовал коммунизм.
Разное говорят. Жандарм слышал, что его императорское величество Николай Павлович, как военный, остался доволен действиями своего бывшего артиллерийского офицера в Дрездене.
А там, в этом городе, взбунтовавшиеся профессора и студенты поставили Бакунина во главе восстания, и он обучал их военному искусству.
Он какой-то вездесущий бунтарь. Когда ехал где-то по дорогам Германии, наткнулся на возмущение крестьян. Поселяне что-то кричали и угрожающе подымали кулаки к каменным башням замка. Бакунин выпрыгнул из возка, поговорил, а когда садился обратно в телегу, замок уже пылал со всех сторон.
Офицер внимательно разглядывает запястья рук Бакунина. Нет, на них не видно следов оков, а ведь в Ольменце австрийцы полгода продержали его на цепи, прикованной к стене; наверное, цепью были закованы ноги.
Бакунина раздражает этот офицерик, так бесцеремонно и вот уже который день разглядывающий его особу. Черт бы его побрал, нужно будет на будущее добиться от дяди, чтобы тот разрешил ему свободно, без подобных сопровождающих разъезжать по Сибири.
Он еще не решил окончательно, чем займется по прибытии в Иркутск. Да если сознаться, ему не хочется ни служить, ни обделывать дела купчишек, ни преподавать. Но деньги есть деньги, а их у него мало, во всяком случае, долгов в десятки раз больше. Хотя пусть о долгах пекутся те, кто давал взаймы, — он не хочет унижаться до того, чтобы из-за долгов выполнять любую черную работу и вообще отвлекаться от грандиозных планов, которые зреют.
Бакунин удобнее усаживается, осторожно перекладывает уснувшую жену в угол кареты, долго смотрит на ее спокойное юное лицо, чуть приоткрытый рот, потом бросает тяжелый взгляд на жандарма и вновь отдается мыслям. А они как убегающие за окном кареты версты…
Их много исчезло за спиной за эти годы тюрем, ссылок.
Жена как немой укор.
Нет, нет, он, конечно, любит ее, предан ей, но ведь и она страж его свободы…
А что, если ему все-таки придется бежать?
Мысль о бегстве и из Сибири и из России впервой пришла в голову именно тогда, когда убегали версты.
Но прежде чем бежать и для того чтобы бежать, нужно усыпить бдительность стражей, добыть средства…
Средства! А, дьявол, этих-то средств у него и не хватает, вернее — вовсе нет. А для побега, для поездки через полмира кружным путем нужно много денег, этак тысчонок восемь. Дядя хоть и генерал-губернатор, но не богат, да, говорят, на каких-то там амурских акциях потерял 80 тысяч. И потом, что это он, право… занимать у Муравьева деньги для бегства от Муравьева же? Нет, он не хочет ставить дядюшку в нелепое положение, тем более что, если его поймают, дядя еще пригодится.
Шелест страниц заставил Бакунина оторваться от раздумий. Ну и ну, такое ему впервой приходится видеть. Жандармский офицер, чтобы скоротать бесконечные часы, развернул журнал, лежавший на чемодане перед Бакуниным. «Читающий жандарм!» Читающий англофильский «Русский вестник»! Гоголя сюда! Гоголя!
Жандарм и проповедь парламентаризма!..
Но мысль метнулась по другой тропе.
«Русский вестник»? Да ведь его издает Катков!
Вот действительно находка — занять деньги у бывшего недруга! Конечно, тогда, много-много лет назад, он вел себя глупо у Белинского. Наговорил Каткову кучу московских сплетен, потом начал с ним ругаться и в конце концов получил по физиономии.
Но Белинский тоже хорош: стоял и смотрел на драку, а когда он, Бакунин, вызвал Каткова на дуэль, согласился быть секундантом Каткова, да еще трубил по всему городу:
— «Иду на войну», да и только, что твой Афанасий Иванович, когда он пугал Пульхерию Ивановну!
Черт его знает, что хотел он этим сказать, — видимо, намекал, что будущие дуэлянты трусы и никакой дуэли не будет. Да ее и не было, дело потом забылось.
Но какой мерзавец! Бакунин даже возликовал, увидев, что жандарм уснул над катковским журналом. Катковское детище как снотворный бальзам! Хотя чего же ждать от Каткова да и от жандарма тоже?
Но он обязательно снесется со своим бывшим недругом, напросится в сотрудники. Более того, он попросит его открыть подписку в свою пользу. Право, найдется немало людей, которые охотно соберут для него деньги, как это сделали когда-то Герцен и Огарев, чтобы отправить его, Бакунина, за границу.
О долге Герцену Бакунин не вспомнил.
Лошади въезжали в город.
Жандарм спешно оправлял шинель, готовясь к официальной сдаче «поднадзорного».
Бакунин прочно обосновывался в Иркутске, чтобы при первой возможности бежать, если Муравьев не выхлопочет ему прощения.
Петрашевский, надеясь, что его прошения о пересмотре «дела», наконец, дойдут до сената, жил налегке, ожидая вызова в столицу.
Бакунин изыскивал источники доходов и забрасывал родных просьбами выслать деньги.
Петрашевский кое-как зарабатывал на хлеб «хождениями по делам» и вовсе махнул рукой на мать и сестер, которые упорно молчали, не желая ему помогать.
Два узника, два изгнанника встречались в доме Муравьева. Но Бакунин чувствовал себя в нем как родственник и самый ярый адепт генерал-губернатора. Петрашевский знал, что перед ним-то двери открывает лишь показной либерализм сибирского сатрапа, и не прятал своего иронического и даже враждебного к нему отношения.
Муравьев пытается вздернуть Восточную Сибирь на дыбы, подобно тому, как это некогда сделал с Россией Петр I.
Но то Петр!
Муравьев и впрямь считал себя стоящим вровень с царем-преобразователем, а восторженный хор подхалимов принимал как должное, как признание своих заслуг.
Вызов из сената не приходил, хотя еще 17 февраля 1857 года Муравьев переправил в Третье отделение прошение Петрашевского. Там его подшили к «делу».
Михаилу Васильевичу поневоле приходилось прочнее оседать в Иркутске, глубже вникать в круг местных интересов.
Спешнев же, по-прежнему молча, восстанавливал свои утерянные права. 16 мая 1857 года за его подписью как редактора вышел первый номер газеты «Иркутские губернские ведомости».
Спешнев хорошо понимал, что те рукоплескания и похвалы, которые достались целиком ему во время приема в губернаторском доме, наполовину должны быть адресованы Петрашевскому и Львову. Именно возможность участвовать в издании этой газеты помирила на первых порах Петрашевского с мыслью о том, что он «задерживается» в Иркутске. Наконец и он обрел трибуну. Ту общественную деятельность, к которой всегда стремился и которой единственно мог отдаться целиком.
Как чуткий барометр, Михаил Васильевич угадывал изменение настроений в общественной жизни России. Казалось, что ничего еще не произошло, и Россия по-прежнему краснеет от стыда за поражение в Крымской войне, и больше ее ничто не занимает, ни о чем ином ее лучшие умы и не думают.
Но так казалось только равнодушным.
Уже пахнуло свежим воздухом. Первый его порыв ощутился сразу же после загадочной смерти Николая.
Страна будто очнулась от тяжелого, хмельного сна. Проснулась трезвая, но с головной болью, не. зная еще, куда идти, но уже твердо решив не повторять пройденного.
К середине 50-х годов XIX века не нужно было быть экономистом, чтобы понять: крепостное право — тормоз в развитии производительных сил страны. И оно должно пасть. И не случайно новый император публично признал необходимость освобождения крепостных рабов.
Громче зазвучали голоса критикующих, и критиковать захотелось всем. В этом самозабвенном самоистязании критики могли заглохнуть разумные призывы людей, видящих будущее России.
Отголоски этой критики долетали и до Иркутска. И затихали где-то здесь, у ступеней муравьевското дворца.
Генерал-губернатор не терпел никакой критики — ни разумной, ни пустозвонной. Он считал, что стоит вне ее. Критиковать мог только он. Но это называлось не критикой, а разносом.
И по-прежнему «провинившиеся» чиновники в страхе выбегали из его кабинета, забыв надеть шинели и фуражки, спасались отставками или старались мелким подлизыванием смирить гнев паши.
Петрашевский достаточно насмотрелся на подобные сцены. Они возмущали его всегда — теперь же стали просто невыносимы.
Газета должна дать понять Муравьеву, что за его делами, следят пристально, что и он может попасть под огонь критики, что изменились времена.
Иркутская газета была плохонькой. Для ее печатания использовали старый, стершийся шрифт губернской типографии и серую оберточную бумагу.
Но Петрашевский не замечал этого убожества. В 9-м номере должна появиться статья Петрашевского — «Несколько мыслей о Сибири». Мыслей накопилось много, очень много. Ведь о Сибири Михаил Васильевич думал еще в петербургскую пору, ждал от нее чудес, верил, что эти чудеса произойдут и Сибирь консолидирует русскую народность и провозгласит республику. Теперь он знает Сибирь и сибиряков. Они многое могут сделать, но еще не знают, за что взяться.
Он подскажет.
Сибирью начинается Азия, Сибирь граничит с огромными азиатскими странами, и именно она должна стать для них проводником науки и цивилизации, передовых общественных идей, подобно тому, чем была до самого недавнего времени Западная Европа для России.
Сибиряки рассуждали иначе:
«Нам ли, темным людям, приниматься за это, нам ли, живущим в каком-то образцовом захолустье мира, куда свет наук доходит с трудом, где любовь к знанию не поддерживается на расстоянии семи тысяч верст ни одним учреждением…»
Петрашевский считает, что да, им, сибирякам, это по плечу, если только они будут понимать, что нужно жить не «под ферулою административных и бюрократических преданий», а… «под покровом точного разума закона».
«В следующем номере ждите продолжения статьи и рецепции…»
Продолжения не последовало. «Административные предания» сделали свое дело. Цензор газеты и председательствующий в совете Главного управления Восточной Сибири генерал Венцель окончательно «убедился», что Петрашевский «тронулся».
Спешнев ничем не мог помочь Михаилу Васильевичу. Уж очень Петрашевский размахнулся — Россия и Азия, Сибирь и общечеловеческие идеалы добра и зла. А редактор с трудом протаскивает сквозь цензурные сциллы и харибды статейки, обличающие взяточничество исправников и управляющих заводами, самодурство купцов.
Ну, об этом могут сказать и корреспонденты с мест, не велик труд. Если же начальству не угодно пропускать его, Петрашевского, статей, то он найдет себе другую аудиторию.
18 февраля 1858 года в Иркутске открылась частная библиотека. Открыл ее Протопопов, а затем она перешла в ведение образованного купца Шестунова.
Сюда не заглядывает Бакунин, не забегают и муравьевские искатели чинов. Муравьев покровительствует бывшим и настоящим военным, хотя бы те были дураки дураками, обожает лицеистов и презрительно относится к «университетской швали», предоставляя ей возможность устраиваться, как знает, или убираться восвояси.
Те, кто «не убрался», ненавидят муравьевских чинуш и находят радушный прием в шестуновской библиотеке.
Ораторский дар Петрашевского здесь оценили быстро, равно как и его огромные знания.
Муравьев называет библиотеку «якобинским клубом» и нервно реагирует на речи, произнесенные там Петрашевским.
В последнее время амурские проекты генерал-губернатора подвергаются все большим и большим нападкам. Конечно, присоединение Амурской области к России — событие исключительной важности. Но присоединить Амур без людей, без факторий, без военных баз — только бумажная расписка, которую, кстати, еще и не получили от китайского правительства.
Муравьев собирается заселить Амур административным путем.
Петрашевский издевается над этой генерал-губернаторской идеей — облагодетельствовать край генеральским окриком.
Прошел год. Петрашевский и не заметил, как втянулся в круг интересов, определявших жизнь Восточной Сибири.
Словесная война с Муравьевым не мешала Михаилу Васильевичу бывать у генерал-губернатора и даже вести с ним продолжительные беседы «обо всем». Но за этими стычками внимательно следили в Иркутске и Забайкалье. Для сибирского купечества многие действия Муравьева были непонятны, и выступления Петрашевского так или иначе их комментировали.
Иркутские воротилы мало прислушивались к осторожной пропаганде идей социальных, которую Петрашевский не мог не вести. А вот критика порядков, заведенных генерал-губернатором, одних радовала, других отпугивала.
Частенько Михаил Васильевич увлекался, и желание во что бы то ни стало критиковать администрацию делало его пристрастным, а иногда и несправедливым. Львов не раз пытался исправить последствия таких выпадов своего друга, но Петрашевский всегда обижался: даже Львов не понимает, что эта критика ведется с двух позиций.
Критикуя, к примеру, положение дел в Амурской компании, учрежденной стараниями Муравьева «ради процветания края», Петрашевский рассказывал читателям «Иркутских ведомостей», что действительно нужно было сделать для освоения Приамурья, как привлечь к этому купеческие капиталы, развернуть торговлю.
Читатели хорошо знали: если в лавках компании лежат лишь черствые сухари, прогорклое коровье масло да червивая колбаса и за все местное население платит втридорога — это результат не столько плохого управления делами компании со стороны ее главы Белоголового, сколько возмутительное отношение к ее делам местных властей, разоряющих компанию и в конце концов разоривших ее дотла.
Значит, прицел в компанию — выстрел в Муравьева. При таком способе ведения войны, единственно открытом Петрашевскому, приходилось иногда сгущать краски, усиливать нападки, акцентировать выводы. И в этом он не знал меры, за что и упрекал его Львов.
Петрашевский убедился, что «Иркутские ведомости», хотя их и издает пока Спешнев, скоро станут недоступны для него, Петрашевского. Ведь эта газета официальная, и критику на ее страницах начальство задушит.
Поэтому Михаил Васильевич исподволь стал склонять Муравьева к мысли, что надо учредить еще одну газету. На этот раз она должна быть частной — пусть это будет рупор общественного мнения Восточной Сибири.
Муравьев клюнул на приманку. «Иркутские губернские ведомости» замечены в столице, их направление одобрено и в правительственных кругах и на страницах прессы. Много похвальных слов сказано и в генерал-губернаторский адрес. Петрашевский удачно избрал момент для уговоров.
А Михаил Васильевич и деньги достал для издания. Их пожертвовали купцы из кружка, сложившегося вокруг Петрашевского в библиотеке Шестунова.
Редактировать новую газету, которую не без умысла хотели назвать «Амур», должен был профессор иркутской семинарии Михаил Загоскин. Местное обозрение соглашался взять на себя Петрашевский, внутреннее — Шестунов, иностранное — Горбунов, бывший воспитатель в семье декабриста князя Трубецкого, человек начитанный. и «страстный политик».
Муравьев отписал в Петербург, и теперь оставалось ожидать, когда придет разрешение.
А пока Петрашевский продолжал войну и с Муравьевым, и с его чиновниками, и с Третьим отделением.
В Петербурге упорно замалчивают прошение о пересмотре дела.
Боятся?
Если боятся, то это плохо; значит, догадались об истинной цели, которую Петрашевский преследует, добиваясь пересмотра.
Пересмотр дела — это новый суд, и, по всей вероятности, суд открытый, так как уже поговаривают, что вместе с крестьянской реформой готовится и еще ряд реформ, в том числе судебная.
С трибуны суда он прежде всего обрисует страшную картину российской действительности и противопоставит ей идеально устроенное общество по Фурье. Это будет понятно всем, доходчиво для каждого. И в условиях, когда Россия тревожно заглядывает в завтра, многие, очень многие задумаются и обязательно придут к мысли: зачем нужны полуреформы? Уж раз взялись за ломку, то ломать до основания и строить совершенно иное общество!
На суде он расскажет, как нужно освобождать крестьян. Подвергнет уничтожающей критике те проекты, которые там строчатся дворянами вкупе с правительством. Он не знает их содержания, но что можно путного ожидать от царя и его наперсников?
Вот почему важно добиться пересмотра всего «дела». Если новый суд его оправдает, то публично признает и идеи, которые он пропагандировал 10 лет назад и собирается провозглашать теперь.
А если снова осудят?
То это будет лучшим комментарием к тому, чего нужно ожидать от царя и царских реформ.
Его устраивает всякий приговор, а личная судьба не имеет существенного значения.
Конечно, Петрашевский ни с кем, даже со Львовым не делится своими надеждами. Федор Николаевич хороший товарищ, но он менее всего хотел бы снова оказаться под судом и, может быть, вновь испытать каторгу и тюрьмы. О Спешневе и говорить не приходится.
И очень горько слышать обидные прозвища: «сутяжник», «жалобщик». В светских кругах это называют idee fixe «борьбы на легальной почве».
Нет, он не страдает такими идеями и остается верным своему призванию социалиста. Ни тюрьмы, ни каторга не «излечили» его, как «отрезвили» многих; он борется, а не ждет и не ищет возможностей вернуться в столицу и сидеть за печью ниже травы и тише воды.
Знает Петрашевский, что каждую минуту жизнь может потребовать от него решительных действий, но он спокоен; он не побоится открыто сказать, на чьей стороне его ум и сердце, хотя это приведет к разрыву с Муравьевым и многими, кто не захочет потом компрометировать себя знакомством с «бунтовщиком».
Веселый перезвон колоколов извещал о том, что сегодня пасхальное воскресенье. Вспомнился Петербург.
Обычно под пасху стояли теплые «ночи и грязь. Крестный ход утопал в грязи, но у всех настроение бывало приподнятое, и никто не замечал мутных луж, не слышал противного чавканья увязающих ног. И десять лет назад под пасху было тепло и грязно. А тут по-прежнему белым-бело, хотя уже апрель. Только пронизывающий ветер, отдыхавший почти всю зиму, теперь, будто набравшись сил, носит по небу рваные облака, срывает с крыш длинные шлейфы снега.
А колокола заливаются, и по улицам, пошатываясь, бредут основательно разговевшиеся богомольцы.
Настойчивый стук в дверь.
И кого это несет в такую метель? Петрашевский нехотя отпирает.
В комнату вваливается молодой человек с красными глазами то ли от ветра, то ли от бессонной ночи.
— Неклюдов? Раздевайтесь! Чем обязан?
Неклюдов медлит, словно не знает, стоит ли вылезать из теплой шубы. Потом решительно стягивает ее с себя, ищет вешалку и, не найдя, бросает шубу на стул. На нем парадный мундир, свежая пара перчаток. Но белокурые волосы взлохмачены, руки дрожат.
— Да что с вами?
Неклюдов тяжело дышит. Петрашевский подает ему кружку воды. Понемногу гость приходит в себя, успокаивается, но еще долго молчит. Молчит и Петрашевский.
— Михаил Васильевич, — голос Неклюдова прерывается, он глотает слюну. — Михаил Васильевич, я к вам за советом по поводу… от которого может зависеть моя жизнь.
Петрашевский уже по внешнему виду Неклюдова догадался, что случилось что-то из ряда вон выходящее, но вступление показалось ему слишком напыщенным. Впрочем, они едва знакомы — Петрашевский не видит причин для сближения с этим столичным искателем чинов.
— Вот уже скоро год как я не нахожу себе места в этом городе. Одно спасение — частые выезды то в Забайкалье, то на Амур, в Кяхту, Пекин. На то я и чиновник по особым поручениям. Но как только возвращаюсь в Иркутск, все начинается сначала. Будто они ждут моего приезда и иных дел, как травить меня, у них нет.
Петрашевский понимает: речь идет о муравьевских чиновниках из числа бывших лицеистов — о „навозных“, как их тут величают за то, что они вывезены из столицы самим Муравьевым. А глава их — Беклемишев.
— Когда на масленой я вернулся из Пекина, эта свора клеветников распустила слух, что якобы я воспользовался казенными прогонами и по всей дороге даром забирал у китайцев верблюдов… Но это вздор… грязная сплетня!.. Тогда же они не допустили меня в Благородное собрание, хотя я лично был приглашен Муравьевым. Беклемишев собственноручно вычеркнул мое имя из списка чиновников, дававших по подписке обед Корсакову… хотя никто не позаботился даже вернуть мне внесенные деньги…
Неклюдов задохнулся, схватил кружку воды.
— Успокойтесь, ради бога! Я ведь знаю о всех дрожжах „навозных“. Известно мне и то, что не могут Они вам простить ваше нежелание сближаться с ними.
— Нет, нет, вы подумайте, что произошло не да» лее как час тому назад… Как обычно, сегодня по случаю пасхи я приехал к Муравьеву с поздравлением. Народишку набилось полным-полно, я едва пробрался в залу. Отдав визит, уже собирался было уехать домой, как подошел ко мне один чиновник, взял под руку, отвел в угол и сообщил, что, когда я входил в залу, Беклемишев громко заявил, обращаясь к окружавшей его публике: «Как! И этот вор и мерзавец смеет показываться в обществе порядочных людей?»
Признаю, мое первое движение было набить подлецу физиономию, но Беклемишев уже уехал. Идти жаловаться Муравьеву? Какой толк! Беклемишев, Гурьев, Анненков — все они генерал-губернаторские лизоблюды, да и, признаться, я не принадлежу к числу жалобщиков… Вот и приехал к вам, Михаил Васильевич!..
«Приехал к вам!..» Не случайно. Неклюдов у него ищет и защиты и совета. Михаил Васильевич понимает, что в Иркутске его считают главой оппозиции всей муравьевской партии.
Но в данном-то случае речь не об оппозиции. Просто один чиновник генерал-губернатора оскорбил другого. Личная ссора, никак не связанная с Муравьевым, с его действиями. И вправе ли он, Петрашевский, вмешиваться в этот скандал? Михаил Васильевич, конечно, сочувствует Неклюдову, вместе с ним возмущен хамством Беклемишева …Один совет он может дать — и не как глава оппозиции — как человек:
— Я не судья в делах чести, господин Неклюдов. Если подходить строго юридически, а я, знаете ли, имею к этому слабость, то оскорбление было передано вам третьим лицом, значит вы можете попросту не обращать на него внимания или потребовать от непосредственного оскорбителя объяснения и действовать сообразно ему.
Петрашевский был уже в своей стихии и готовился цитировать статьи законов, но Неклюдов не собирался вдаваться в юридические тонкости.
«Не обращать внимания или потребовать объяснения!..»
Наспех попрощался, не благодаря.
Из церкви вернулся Львов. К происшествию он отнесся сдержанно.
— Неклюдову нужно уезжать отсюда, всякое объяснение с Беклемишевым закончится новыми оскорблениями, «навозные» закусили удила. Тем более Муравьев, несмотря на праздники, сегодня уезжает, и надолго, а без него за Неклюдова никто не вступится.
Муравьев уезжал. Вместе с ним в длительную экспедицию на Амур и в Японию отправлялся Спешнев как правитель путевой канцелярии генерал-губернатора. В последние дни перед отъездом он редко ночевал дома, хлопот по сборам экспедиции было достаточно.
Между Петрашевскйм и Спешневым произошло заметное даже для постороннего глаза охлаждение, хотя внешне они оставались приятелями. Петрашевский в душе возмущался нежеланием Спешнева добиваться пересмотра их дела. Спешнев не отговаривал Михаила Васильевича, но сам избрал для себя иной путь.
На днях Муравьев добыл для Спешнева чин коллежского регистратора за его деятельность в качестве редактора «Иркутских ведомостей». Знакомый канцелярист показал Петрашевскому собственноручное представление Муравьева на имя управляющего делами Сибирского комитета В. Буткова.
«Статьи этой газеты („Иркутские ведомости“) присылаются со всех концов Восточной Сибири, а отнюдь не составляются в редакции, и
От Петрашевского, конечно, не ускользнуло, что чин Спешневу исходатайствуется и потому, что он, Петрашевский, «никакого влияния на издание газеты не имеет».
А если бы имел? То, наверное, шеф жандармов Долгоруков, как и в прошлый раз, полтора года назад, отказал бы и в чине и в возвращении прав состояния.
В Третьем отделении не могут слышать его имени, это понимает Муравьев и просит чин «вопреки». Нет, это только еще раз укрепляет его в решении добиваться не милости, а пересмотра дела.
Спешнев заехал попрощаться. Все такой же сдержанный, молчаливый. Он не оставлял пожеланий и ничего не поручал друзьям, как будто собирался навсегда покинуть и этот убогий дом на Большой улице и этот город на Ангаре.
Львов в шутку заверял всех знакомых, что «они отправляют Спешнева с Муравьевым на Амур», но сейчас Федор Николаевич чувствует, как у него сжимается сердце. Вот и еще один товарищ, единомышленник уходит от них.
Надолго ли?
Быть может, навсегда.
Наверное, навсегда.
Если они когда-нибудь и увидятся, то это будет встреча уже не единоверцев, а просто знакомых. Разве Львов может по-прежнему доверять Спешневу, особенно после того, как Муравьев оказал ему такое предпочтение и покровительство?
Петрашевский в эти последние минуты не находит себе места. Может быть, он напрасно — хотя и в мыслях — обижает подозрениями Спешнева. Тот неподдельно расстроен и, видимо, не зная, что сказать, сует Петрашевскому деньги. При чем тут деньги? Ах да, Спешнев вносит свой вклад на издание газеты «Амур». Но ведь деньги-то уже собраны. Спешнев непонимающе смотрит на Михаила Васильевича, потом растерянно улыбается, машет рукой и неуклюже целует Петрашевского в колючую бороду.
— Пишите обо всем, а я буду вас держать в курсе всех событий на Амуре… Ну, да ладно, до встречи!
Петрашевский и Львов провожают Спешнева до генерал-губернаторского дома. Площадь забита тройками, много верховых лошадей под седло. Муравьевская компания будет сопровождать своего предводителя до Байкала и там разопьет последние бутылки шампанского. Петрашевский и Львов не хотят заходить с визитом. Сегодня он будет расценен как просьба о милости. Они не хотят милостей.
Спешнев ушел.
Неклюдов весь день провел, как в бреду. В толчее провожающих он совершенно затерялся. И когда кавалькада тронулась, тихонько отстал.
Дома ни минуты покоя. Сегодня, до возвращения Беклемишева с пикника, он должен все решить. Петрашевский прав: если сейчас же потребовать от Беклемишева объяснения, дело закончится потасовкой. Беклемишев трус и зашел слишком далеко. Муравьев уехал, а оставшиеся власти: управляющий губернией Извольский и военный губернатор Иркутска Венцель — друзья Бекламишева, он вертит ими, как хочет.
Неклюдов подходит к зеркалу. У него хороший рост, сильно развитые плечи да и силушка недюжинная: «Пойти и отдубасить обидчика!»
Нет, нет, бросить все и уехать подальше от этой азиатчины, выйти в отставку, ведь есть и земля, есть и крепостные, на жизнь хватит.
Но оскорбление? Уехать — значит опозорить свое имя. Эти не оставят в покое и там, в России.
Второй день пасхи. В городе только колокольный звон. Проносятся нарядные тройки.
Неклюдов тростью стучится в окно дома, который занимает Беклемишев. Несмотря на поздний час, тот только встал и с наслаждением пьет огуречный рассол — вчера на проводах генерал-губернатора дым стоял коромыслом.
Неклюдов вошел в гостиную, даже не сняв шапки.
— Милостивый государь, извольте объяснить ваше поведение вчерась на приеме у генерал-губернатора!..
Беклемишева визит застал врасплох, он даже готов подумать, что это какое-то пьяное наваждение. Но нет, перед ним Неклюдов. В голове помутилось.
Неклюдов не слышал истерического визга Беклемишева — ясно, что это тщедушное животное снова его оскорбляет.
Пощечина была увесистой. Неклюдов повернулся к двери, когда на его шее повис Беклемишев. Как институтка, член Главного* управления Восточной Сибири кусался и своими длинными, холеными ногтями старался исцарапать лицо противника.
Неклюдов тоже взбесился. Несколькими ударами он свалил Беклемишева на пол, и плохо пришлось бы «навозному» фавориту, если бы не подоспела прислуга.
— В полицию его, на гауптвахту!.. — хрипел Беклемишев в пьяной бессильной ярости.
Полицмейстер Сухотин как будто дожидался за дверью. Он друг Беклемишева, и, конечно, Неклюдов будет наказан по заслугам.
Неклюдов отсидел на гауптвахте, а потом, не заходя домой, исчез, как будто пешком ушел из города.
В библиотеке Шестунова стоит несусветный гвалт. Посетители пришли сегодня не для того, чтобы просмотреть газеты или почитать новые номера журналов. Право, Муравьев как будто предвидел сегодняшнее сборище, окрестив библиотеку «якобинским клубом».
Петрашевский не успел снять пальто, как его оглушили:
— Слыхали, Неклюдов избил Беклемишева!
— Да не избил, а просто съездил хаму по морде!
— Если бы только по физиономии, говорят, ребра пересчитал!
— Господа, господа, не все сразу! Что же все-таки произошло?
И снова разноголосые выкрики, все друг друга перебивают. Но Петрашевскому ясно одно: вчерашний визит Неклюдова сегодня закончился для Беклемишева хорошей лупкой. Ну и поделом этому подлецу и генеральскому прихвостню! Но вряд ли беклемишевские собутыльники так просто проглотят пилюлю. Неклюдов нанес пощечину всей высшей местной власти, даром, что ли, они заодно с Беклемишевым травили его. — Господа, думаю, что дело окончится дуэлью…
И сразу наступила тишина. Еще секунду назад все ликовали и славили Неклюдова, хотя почти никто из присутствующих не знал его близко. Но дуэль? Иркутск не помнил дуэлей. А если сюда и забредали известия о трагическом поединке Пушкина, Лермонтова, то они были окрашены в романтические тона. «Поэты, мало ли что им в голову взбредет, чуть что — сразу за пистолеты!» Представить же себе располневшего Беклемишева в одних брюках и белой рубахе а 1а Байрон у барьера — смешно.
И потом — это Сибирь, Иркутск, а не Петербург или Кавказ. К тому же ни Беклемишев, ни его компания не принадлежат к когорте рыцарей чести, да и храбрецами их не назовешь. «Навозные швабры» так и остаются «навозными», хотя и пооканчивали всякие там лицеи, где и Пушкин учился.
— Нет, Беклемишев — и дуэль?! Не смешите! — Это вам не Петербург, да и времена не те!
— Ах, оставьте, козлы, они всегда останутся козлами, особливо если при этом задета дворянская честь.
— Я вас попрошу выбирать выражения!
— Вот видите, видите?
— Нет, господа, если уж и мы заговорили о дуэли, то администрация города будет о ней оповещена заранее и не допустит…
— Глупости!
Беклемишев появился в доме полицмейстера Сухотина с подвязанной щекой. Он хотел разжалобить городские власти и, оставшись в стороне, отомстить Неклюдову. Неклюдова могут выслать из Иркутска в сопровождении жандармов. В столице есть друзья и доброжелатели. Одним словом, карьера этого драчуна будет испорчена.
Сухотин не согласен с ним. У Неклюдова тоже есть друзья и доброжелатели. А его мать все-таки Нарышкина. И как там, в Петербурге, посмотрят на всю эту историю — неизвестно. Конечно, Муравьев будет на их стороне, но вряд ли Беклемишев не знает, что генерал-губернатор всесилен только здесь, в Восточной Сибири. Не лучше ли покончить с этим делом сейчас же, пока Неклюдов не уехал из Иркутска? А он собирается уехать, полицмейстеру все известно.
Беклемишев растерялся. «Покончить? Здесь?»
— Это дуэль?
— Конечно!
Да, но на дуэли убитым может оказаться не Неклюдов, а его противник. Полицмейстеру легко советовать, а вот если бы он сам на месте Беклемишева вышел к барьеру?
— Ну полно, полно! Нужно верить друзьям, они никогда не оставят в беде.
«Друзья» не замедлили явиться к Сухотину. Гурьев, Анненков.
Да, да, Беклемишев должен драться, это единственное средство смыть оскорбление. Разве он не дворянин? Друзья настаивают.
Почему же они так беспечны? Почему никто не сочувствует ему, как будто дуэль такое же обычное дело, как и прогулка по Дворянской улице?
Иркутск не блистал талантами, особенно по вокальной части. Сюда почти не забирались заезжие знаменитости, а любители пели хотя и охотно, ко плохо.
Зато начальник штаба войск Восточной Сибири полковник Кукель превосходно играет на фортепьяно. Особенно Шопена. В холодном Иркутске Шопен согревает сердца и навевает грусть. Знатная и высокомерная смолянка старуха Варвара Петровна Быкова никак не ожидала встретить тут поклонников Шопена. Она явилась в Сибирь полгода назад вместе с сестрой, которая занимает пост начальницы Иркутского института.
Петрашевский хорошо ее помнит по Петербургу, тогда он запросто бывал у них в доме. А вот когда он здесь, в Иркутске, по старой памяти нанес ей первый визит, «благородная девица» долго колебалась: принимать этого «бунтовщика» или нет?
Ханжа, только и знает, что твердит о всепрощении и милости божьей, а сама зорко следит за делами земными. Приняла его только после того, как узнала, что Петрашевский вхож в дом Муравьева.
Э, да и Бакунин тут. Музыкальный журфикс обещает обернуться вечером сплетен и интриг. Бакунин на них большой мастер. С Петрашевский он едва здоровается. И тоже только потому, что с ним здоровается генерал-губернатор.
Странно ведет себя «саксонский король», как прозвали в Иркутске Бакунина. Революционер с громким именем, он чурается ссыльнопоселенцев, особенно декабристов и его, Петрашевского. Поговаривают, что Бакунин изо всех сил старается замолить грехи прошлого, предать их забвению и выслужиться. Так ли это?
Говорят, Бакунин распускает о Петрашевском вздорные слухи, будто бы тот ведет распутный образ жизни в компании трактирной публики, вольноотпущенных лакеев, играет напропалую в карты и не оплачивает проигрышей.
Ему ли, Бакунину, говорить о долгах? Он из них, видимо, до конца дней своих не вылезет, да, судя по кое-каким жалобам, и вылезать не собирается.
Петрашевский не может больше оставаться в этом «музыкальном собрании»…
Бакунин и не заметил Петрашевского. Наконец-то ему представился случай «сыграть роль».
Неклюдов собирается уклониться от дуэли. Сегодня к нему на квартиру несколько раз наведывались друзья Беклемишева, но всякий раз заставали только слуг.
Бакунин, несмотря на рост, Грузность, легко пробирается между кресел, он и на хорах и у колоннады. Кого-то хватает за руку, к кому-то наклоняется и что-то шепчет.
Вот уже вокруг него образовался кружок. Доносятся возбужденные голоса.
— Этак только поощряться будут всякие безответственные лица…
— Да, да, врываться в чужой дом и набрасываться на хозяев…
— Они должны стреляться…
Но Бакунину этого мало. Дуэль дуэлью, а Неклюдов куда-то скрылся. Говорят, что Венцель выдал ему подорожную. Если это так, то Неклюдова уже не догнать. Тогда в Петербурге его догонит позорная клевета.
Бакунин предлагает в случае чего разослать письма за подлинными подписями, что возмущенные отказом Неклюдова драться на дуэли нижеподписавшиеся публично высекли нарушителя кодекса дворянской чести.
Пятнадцать швабр, с восторгом готовы поставить свои подписи.
На следующий день Петрашевский опять столкнулся с Бакуниным. Теперь он уже не мог уйти, но и крупно поговорить с интриганом тоже невозможно. Они в Иркутском институте, хозяева — престарелые дамы. Варвара Петровна Быкова одинаково недоброжелательно смотрит и на Петрашевского и на Бакунина. Для нее они «преобразователи», о которых и говорить противно. Но они её гости. Их право — «врать всякую чушь», к тому же она не может отказать им в светском воспитании.
Быкова пытается отвлечь гостей от скользкой темы. Но разговор вновь и вновь возвращается к злосчастной истории. Бакунин будто забыл о своем вчерашнем адвокатстве в пользу Беклемишева. Его бас гремит в гостиной:
— Посадить бы их в темную комнату да заставить стреляться через стол, а потом разом внести свечи и, наверное, увидели бы такую картину: пистолеты на столе, а они оба под столом!
Какой цинизм! А отвечать нечего. Петрашевский вовсе не намерен вступаться за попранную честь Неклюдова. В конце концов тот такой же искатель чинов, как и Беклемишев, и если бы не стечение обстоятельств, то был бы и он в «золотой компании». Все эти толки, это возбуждение только еще. раз свидетельствуют о настроениях иркутского общества. Конечно, не того «общества», к которому льнут Беклемишевы и компания, а общества людей интеллигентных — ссыльнопоселенцев, части местного купечества.
Вчера какой-то негодяй и взяточник, но доверенное лицо графа, — Петрашевский не знает его фамилии, — витийствовал о том, что-де Муравьева ненавидят апологеты старого рупертовского режима. Те купчишки-эксплуататоры и местные чиновники иркутяне, которые держали и самого генерал-губернатора и всю Восточную Сибирь в своих руках, хапали баснословные суммы, раскрадывали казну.
Ну, а новое начальство, новый генерал-губернатор? Говорят, что он не берет взяток. Очень может быть, очень. Во всяком случае, его никто не поймал за руку. А вот Беклемишев берет.
Муравьев просто самодур, и его разменная монета — люди. Ради честолюбия, славы да из барской прихоти он и либерал, приближающий к себе бывших «возмутителей», и сатрап, подписывающий ведомости, в которых итог — десятки тысяч разоренных и сотни мучительно умерших, несчастных переселенцев на Амур. Скорее бы кукушка прокуковала двенадцать. Он откланяется.
Львов тоже чувствует себя плохо в институте благородных девиц и только делает вид, что игра все того же и неизменного Кукеля поглотила его целиком.
16 апреля 1859 года. Почти десять лет минуло с того памятного и несчастного дня, когда стены Петропавловской крепости сузили его мир до нескольких каменных аршин. Вот уже которое утро подряд он просыпается с этим чувством последнего свободного столичного дня.
Львов лежит с закрытыми глазами, но Петрашевский хорошо видит, как приоткрываются его веки.
Десять лет — это почти четверть прожитых годов.
Прожитых!
А разве эти десять он жил? Конечно, жил. Но опустошенно и пока бесплодно.
Странно складывалась жизнь. Он все время стремился к тому, чтобы переделать ее, она делала все, чтобы внушить ему, что она незыблема.
Кто же победил?
Пока никто!
Наверное, такие люди, как Бакунин, пришли бы в восторг от подобного вывода.
Никто!..
И это в борьбе с самой жизнью!
Нет, он боролся не с жизнью, не со стечением обстоятельств. Он боролся за жизнь в том ее совершенном понимании, которое открылось ему давным-давно.
— Ты спишь, Михаил? Львов полусидит в подушках.
— Я знаю, тебе тоже пришло в голову, что минуло уже десять лет…
Петрашевский не отвечает.
Прошло еще с полчаса, и снова Львов привстал на кровати.
Он вряд ли нуждался в слушателях, тем более в таком, как Петрашевский, ведь Михаилу Васильевичу известны все обстоятельства той «ошибки». Но он больше не мог молчать:
— Бенедиктов, мой сожитель, встретил меня словами: «Сегодня ночью ошибочно вместо вас взят капитан Львов, Петр Семенович». Он советовал мне надеть мундир и ехать прямо к генералу Ростовцеву, рассказать об ошибке и тем смягчить наказание. А я, дурак, не послушал доброго совета. И ждал. А чего ждал? Наверное, мессии в лице какого-либо доброжелателя или богатого дядюшки. И он явился, явился в то же утро с полуторатысячами рублей в кармане и советом убраться как можно скорее из Петербурга, а затем и из России. Я его поцеловал и отказался. И снова ошибка — нужно было уезжать, бежать, бежать…
Сильный стук в дверь прервал Львова на полуслове.
— Спите?..
Петрашевский никак не найдет очки, чтобы разглядеть незваного посетителя. Да и знаком ли он с ним?
— Неклюдов не уехал, а стрелялся!.. Говорят, убит или уже. отходит!..
— Ну и дурак! — У Львова это вырвалось непроизвольно.
Дверь захлопнулась.
Иркутск бурлил, как бурлит Ангара, когда солнце сбрасывает с нее ледяные оковы.
Сторож казенной палаты Пежемский, живущий в караульном доме при винных магазинах, видел пролетку, четырех господ недалеко от заимки Кукуева и слышал выстрел. Да, да, пистолетный выстрел, и причем один.
И караульный солдат Файнберг, стоявший в будке у вишюго подвала, тоже слышал выстрел. Один, один! Вот только он не может определить, из ружья был сделан выстрел или из пистолета.
Но кто же эти четверо?
— Двое — Беклемишев и Неклюдов.
Лекарь Кашин подсказал, что секундантом Беклемишева был Анненков, а Неклюдова — Молчанов.
Молчанов?
Его знали, как собутыльника Беклемишева. Надворный советник, он был в милости у Муравьева. Что же заставило Молчанова стать секундантом Неклюдова? Его навязали жертве.
А где были власти?
Власти были на колокольне!
Да, да, иркутский полицмейстер Сухотин — цепная собака и комнатный пес графа Муравьева, — оказался на колокольне Успенского собора.
Полицмейстер уверяет, и это уже известно всему городу, что-де он «желал предупредить» дуэль, о которой знал «по слухам», заехал утром, 16 апреля, на Большую улицу, надеясь застать дома проживавшего там Беклемишева, да не застал. Поскакал по дороге до собора, но там дорога разветвляется…
Вот он и взобрался на колокольню, чтобы оглядеться, нет ли где поблизости «лошадей или экипажей».
— Врет полицмейстер. Он следил с колокольни за тем, чтобы какой-либо случайный прохожий не помешал убийству!
— Убийству?..
Это слово было произнесено в Иркутске утром же 16 апреля, после того, как стало известно, что смертельно раненный Неклюдов скончался, так и не приходя в сознание.
Убийство! Умышленное! И только для декорации обставленное атрибутами дуэли.
Но где доказательства, факты?
Молчанов и Анненков, за ними Гурьев и многие другие «благородные» честью свидетельствуют, что это была дуэль.
Дуэль?
А выстрел один?
Молчанов уверяет, что их было два, но они раздались одновременно, даже столкнулись два дымовых облака.
Но разве можно верить Молчанову?
Анненков проговорился, что когда заряжали пистолеты, Беклемишев заметил соскочивший пистон. Потом пистолеты якобы опять перезарядили, Молчанов смешал их за спиной…
Перезарядили ли?
Зловеще! Зловеще! Трое на одного, и у этого одного мог оказаться в руках пистолет без пистона. Тогда действительно достаточно выстрела и сделанного по всем правилам, чтобы пуля вошла в правый бок, как это бывает на дуэлях. Ну, а там она уже найдет дорогу.
Убийство, убийство, убийство!
Петрашевский и Львов почти уверены, что дело нечисто. Да к тому же беклемишевская компания устроила оргию на балконе дома Большой улицы. Одна эта вакханалия заставляет уже стать на сторону тех, кто сегодня требует сурового наказания убийцам.
Оргия была недолгой. Днем 16 апреля Беклемишев, высунувшийся было из дому, был встречен вездесущими гимназистами:
— Убийца! Убийца! Убийца идет!..
Петрашевский не пошел к дому, где лежало тело Неклюдова, как это сделали сотни возмущенных иркутян.
Он понял, что наступил тот момент, когда жгут корабли.
За эти годы жизни в Иркутске он приобрел большое, по крайней мере нравственное, влияние на горожан. В библиотеке Шестунова его авторитет оратора по всем вопросам общественной жизни России непререкаем. И не потому, что природа, отказав ему в даре писателя, щедро наградила другим даром, и его «замечательный талант к агитаторству» вынужден признать даже Бакунин. Нет, не в этом дело. Те несколько лет в столице, прожитые в атмосфере горячих споров по «пятницам» и холодных рассуждений над прочитанными книгами в остальные дни, обогатили его настолько, что никто в Иркутске не может соперничать с ним.
Если бы он мог сейчас оказаться в Петербурге или Москве, то, конечно, участвовал бы в подготовке крестьянской реформы. Его давнишнее убеждение в необходимости ликвидировать крепостное рабство ныне становится реальным действием правительства.
Конечно, правительство обманет крестьян. И очень важно этот обман разоблачить, чтобы вспыхнул бунт. Так должны участвовать в «подготовке» реформы революционеры.
Но Сибирь не знает крепостного землепашца, здесь не созданы губернские комитеты для обсуждения способов отмены крепостного права, и говорят об этом сибиряки лишь потому, что о крестьянской реформе толкует вся Россия. Зато с каким вниманием слушают Петрашевского чиновники из бывших студентов, учителя, мало-мальски интеллигентные купеческие сынки, когда он говорит о необходимости гласного судопроизводства. На местных, близких всем примерах показывает, как административный произвол уничтожает всякое правосудие.
Библиотека получает более 20 периодических изданий. Читатели воочию могут убедиться, насколько раздвинулись рамки проблем, ставших ныне предметом гласного обсуждения. Разве можно сравнить «Современник» или «Русское слово», когда в них писал Белинский, с «Современником» Некрасова и Чернышевского. Обидно, что Ханыков в свое время так и не познакомил его с Николаем Гавриловичем. Он завидует Чернышевскому, имеющему возможность высказать вслух именно те мысли, которые Петрашевский выстрадал каторгой.
А проповедь Герцена! «Колокол». Его удары долетают и до Иркутска. Петрашевский добывает почти все номера. Герцен зовет к революции. И призыв его находит отклик. Петрашевский тоже не против революции, но разве подготовлена к ней Сибирь? Нет, это темное царство. Нужны тысячи пропагаторов и годы, чтобы раскачать этот край. Петрашевский делает все от него зависящее. Он держится старой тактики обличения. А каков результат?
Просвещенное сатрапство Муравьева по-прежнему торжествует. Но именно сейчас оно просто нестерпимо. И чего стоит теперь генерал-губернаторский показной либерализм!
Если во времена николаевского террора он вызывал удивление и даже восхищение у некоторых, то ныне в глаза бросается прежде всего самодурство, тот самый бешеный николаевский окрик, который уже не слышен Европейской России. Будто не произошло никаких перемен в общественной жизни, будто Николай не умер, а перенес свою столицу в Иркутск. Нет, долг. Петрашевского именно сейчас открыто противопоставить себя сибирскому самодержцу, примером своим увлечь лучших, пробудить в них чувство гражданственности.
А убийство Неклюдова только предлог, и нет времени размышлять над тем, хорош он или плох.
Как метко сказал однажды Шестунов: «Заматерелые рутинисты и консерваторы вовсе не опасны, опасны либералы на словах, эти духи тьмы, они на деле всегда оборачиваются защитниками произвола и деспотизма».
Разоблачая Беклемишева и всех этих «людей белой кости», он будет разоблачать прежде всего их.
А воти церковь. У входа в руки провожающих опять влетают бумажки. Но на них нет генеральской подписи.
«С дозволения начальства. Шайка разбойников, воглаве которых атаман Беклемишев… Сотник, полицмейстер Сухотин, и проч. и проч. принимают заказы на убийства…»
Благочиние церковного отпевания нарушено.
Простой люд ропщет.
— Если бы наш брат убил, его бы плетьми да в каторгу, а баре убивают, им нипочем…
«Чистая» публика старается выбраться из церкви, но ее цепко держит толпа. Кладбище напоминает городской сад в дни гулянья. Людской муравейник ни на минуту не умолкает и все время в движении.
Петрашевский чуть не свалился в яму, на краю которой стоит гроб.
Его плохо слушают. Порой он и сам не слышит своего голоса. Все время к гробу подходят какие-то люди, кладут бумажные цветы или просто, осенив себя крестным знамением, молча целуют покойного в лоб.
Только слова, что Неклюдов жертва «изменнического убийства», на минуту водворили тишину.
Потом Петрашевский уже не мог продолжать. Но он сказал достаточно.
Теперь удар нанесен. В самое сердце Муравьеву. Его приближенные, люди, которых он отстаивал, — убийцы.
Во вторник фоминой недели богомольные христиане идут на кладбище с радостной вестью о воскресении Христа. Души умерших родных и близких должны возликовать. Могилы поливают медом, на них раскладывают пасхальные угощения, в землю зарывают крашеные яйца.
Могила Неклюдова как праздничный стол: яйца, куличи, подовые пироги.
Старушки кладут земные поклоны и молятся «убиенному Михаилу» как святому.
23 апреля 1859 года в № 17 «Иркутских губернских ведомостей» появилась статья за подписью Ф. Львова.
Автор не называл имен, но они были всем хорошо известны.
Он рассуждал о дуэлях. Может ли поединок доказать правоту одного и виновность другого? Нет, не может. И часто убитым оказывается именно правый. Однако законодательство различает убийство на дуэли и просто убийство, тем самым делая снисхождение предрассудку чести. Но для того чтобы это снисхождение было оказано, необходимо подтверждение, что «дело было ведено с обеих сторон с тою честностью, которая должна характеризовать людей, нарушающих закон из правил чести, в противном случае поединок справедливо относится к разряду самых гнусных убийств».
Указывая на небывалое брожение, которое вызвала дуэль среди жителей Иркутска, Львов требует судебного разбирательства, чтобы, наконец, открылась истина. Если это было убийство, преступники должны понести по заслугам.
Под суд беклемишевско-муравьевскую шайку убийц!
Городовая управа осматривала труп Неклюдова и местность, где происходила дуэль. Теперь нужно, чтобы убийца и его пособники были взяты под стражу, а материалы об их гнусных делах переданы в Иркутско-Верхоленский окружной суд.
И никто не обратил внимания на то, что статья Львова появилась 23 апреля 1859 года, в десятую годовщину со дня ареста петрашевцев.
Львов требовал суда. Но суда не только над убийцами Неклюдова. Он требовал кары тем, кто с той же безнаказанностью, с тем же произволом обрек тысячи лучших людей России на каторгу, тюрьмы, гибель.
23 апреля звучало символом.
Суда над сатрапами требовал осужденный ими петрашевец.
Это заметил Спешнев, когда на далекий Амур пришел номер газеты. Не ускользнуло это и от генерала Муравьева. Досужие клеветники, муравьевские прихлебатели, вместе с газетой прислали множество писем, в которых 3 тысячи человек, провожавших гроб Неклюдова, выросли в 10, речь Петрашевского— в призыв к революции, требование суда над убийцами — в ниспровержение основ. Этого было достаточно, чтобы Муравьев понял, что подрываются прежде всего основы могущества и самодурства генерал-губернатора Восточной Сибири.
Муравьев метал гром и молнии. Каких-то два «мерзавца» сумели возмутить весь Иркутск! А «мерзавцы» только из милости генерал-губернатора живут в этом городе. Но не похороны и не возбуждение иркутян вызвали гнев «либерального наместника». Он чувствовал, что нравственное преобладание на стороне Петрашевского и его влияние в Иркутске увеличивается за счет падения авторитета Муравьева.
Из Кяхты Спешнев предупреждал друзей о неудовольствии Муравьева. Но они «отступились» от генерал-губернатора и не собирались по его возвращении в Иркутск являться с повинной.
Петрашевский считал, что начавшийся в Иркутско-Верхоленском суде процесс над «убийцами» Неклюдова должен превратиться в суд над всеми злоупотреблениями местной администрации. Никакие угрозы, никакие попытки муравьевских фаворитов вызвать Львова и Петрашевского на скандал и скомпрометировать не удавались.
Двадцать лет каторжных работ в рудниках — вот наказание Беклемишеву и его секундантам.
В губернском суде мнение судей разделилось. Двое заявили, что никакого убийства не было, третий, Ольдекоп, считал, что окружной суд правильно определил меру наказания. Ольдекоп написал свое особое мнение, и в этом ему деятельно помогал Петрашевский. Советник губернского суда был старым посетителем «пятниц» Петрашевского, другом и союзником по развернувшейся вокруг дуэли борьбе.
Составляя «особое мнение», Петрашевский вложил в него все свои знания юриста, всю убежденность пропагатора и сделал это мастерски.
1 января 1860 года генерал-губернатор прибыл в свою «столицу».
Ни Львов, ни Петрашевский не явились во дворец с поздравлениями по случаю благополучного завершения экспедиции, а заодно и с Новым годом. Но теперь их бы и не пустили в генеральский дом.
Через неделю Муравьев на торжественном приеме купечества уже сыпал угрозы на головы «возмутителей». А заодно дал понять иркутянам, что все, кто осмелится принимать Львова и Петрашевского, впадут в немилость у генерал-губернатора. 3 немилость впали многие, а на «подозрении» был почти весь Иркутск. Взбесившийся сатрап хотел возвести демонстрации, происходившие во время похорон, в ранг государственного преступления, а Львова и Петрашевского обвинить в «нарушении общественного спокойствия».
Уже в конце января Львов лишился места в Главном управлении Восточной Сибири. За ним не числилось каких-либо служебных проступков, даже, более того, значительное время, когда разыгрывались иркутские события, Федор Николаевич провел в командировке.
Но его понятия о чести, «обнаруженные» в статье по поводу дуэли, не сходятся с понятиями графа Амурского, и этого достаточно. Он опальный, с ним опасно разговаривать даже дамам.
Львов последовал примеру Петрашевского и. подал жалобу на действия генерал-губернатора в сенат. Петрашевский был этим очень доволен. Пусть жалобы, прошения останутся и без последствий для их авторов. Но они разоблачают администрацию, весь царский бюрократический аппарат. И как бы их ни скрывали, они будут прочитаны многими. Ведь недаром же его прошение из Нерчинского завода опубликовал «Колокол» Герцена. Герцен пристально следит и за трагедией, которая развертывается вокруг суда над убийцами Неклюдова. Похоже, что это будет суд над судьями.
Львов обвинял Муравьева в самоуправстве, в том, что он угрожал воспользоваться чистым бланком императора и подписать Львову смертную казнь. В «Одесский вестник» полетела статья с разоблачением панегириков в честь Муравьева. Ее копию читали в Петербурге, читали в Иркутске.
Разоблачения сыпались со всех сторон. Декабрист Завалишин, немного сгущая краски, рассказывал об ужасах, творящихся на берегах Амура, страданиях переселенцев во имя удовлетворения честолюбия графа Муравьева-Амурского.
Муравьев бесился все сильней и сильней. Львов собирался уехать из Иркутска в село Олонки по приглашению декабриста В. Раевского.
А Петрашевский еще пытался сотрудничать в газете «Амур». Прямо или косвенно он высмеивает административные потуги сибирского паши, намекает, и на отсутствие «гражданственности», на вмешательство администрации в дела судебных учреждений, наконец, на принудительное заселение Муравьевым Приамурского края.
В результате уже 1 марта 1860 года в № 9 «Амура» появилось сообщение: «Местного обозрения в этом номере нет по причинам, не зависящим от редакции».
Причины действительно от редакции не зависели, так как автор внутренних обозрений в газете — Петрашевский был еще 27 февраля выслан из Иркутска в Енисейскую губернию.
Петрашевский проиграл иск, который он возбудил против золотопромышленника Пермикина. Он почти три года был у него частным стряпчим, долго и упорно отбивал нападки бывших компаньонов купца, желавших присвоить себе 75 паев в приисках компании. Петрашевский в случае выигрыша дела должен был получить в вознаграждение 10 тысяч рублей с прибыли, которые дадут золотые прииски.
10 тысяч… А если Петрашевский умрет к тому времени, когда прииски дадут прибыль? Тогда Пермикин должен выслать деньги Виктору Консидерану, проживающему в Бельгии.
Петрашевский оставался верен себе. Дело тянулось, и постепенно склонялось в пользу Пермикина. Но богатеющий золотопромышленник становился все более и более жадным. Он уже не хотел оплачивать Петрашевскому суммы за «бесспорные иски», хотя они не превышали двух-трех сотен рублей.
Городская управа, куда, наконец, обратился Михайл Васильевич, в иске на Пермикина отказала. Губернский суд тоже. Тогда Петрашевский пожаловался в совет Главного управления Восточной Сибири. Но и тут отказ. И новая апелляция в Иркутский губернский суд. А в суде заседает все тот же надворный советник Молчанов — секундант и «убийца». Петрашевский дает ему отвод.
Замещавший Муравьева Корсаков решил, что накопилось достаточно поводов, чтобы отделаться от беспокойного ссыльнопоселенца. Участь его была решена без лишних проволочек.
Очень часто бессонными ночами или в разговорах с товарищами, мысленно или вслух, вспоминалось прошлое. Годы помогли забыть кое-какие детали, некоторые из них окрасили в новые цвета. Ошибки памяти, не исправленные вовремя, впоследствии стали казаться достоверностью. Даже отдельные фразы, сказанные некогда, обрели новое звучание. Но и с ошибками, вновь переосмысленное, это прошлое революционеров и пропагаторов социализма не должно умереть вместе с ними. Есть, правда, следственное дело, и когда-нибудь его извлекут из секретных тайников царского суда. Но это когда-нибудь. А опыт борьбы, опыт и ошибки пропагаторов нужны ближайшим поколениям революционеров. Преемственность идей, преемственность образа действий не должны прерываться. Это хорошо понимал Петрашевский. Понимал и Львов. Понимали это и многие, многие другие. Даже те, кто никогда не бывал в коломенском домике и не (всходил на эшафот Семеновского плаца.
Из Читы в письмах Дмитрий Завалишин расспрашивает Львова о Петрашевском. Завалишин не понимает, откуда у Михаила Васильевича такое пристрастие к гербовой бумаге. Что заставляет его так упорно подавать свои прошения и обличения в форме жалоб?
Завалишину можно ответить письмом. А для тех, кто интересуется их прошлым, но не пишет писем, не знает, куда и кому их посылать, для тех они обязаны оставить воспоминания.
Их написал Львов и отдал Петрашевскому, чтобы тот исправил, дополнил, уточнил.
Получилось интересно. А главное, поучительно. Эти воспоминания будут хорошим комментарием к бумагам следствия. Не все, не все сказано судьям. И не все сказанное истина.
Правда, в передаче Львова в добавлениях Петрашевского исчезло ощущение трагедии, разыгравшейся на Семеновском плацу. Но не это главное. Главное — идеи, во имя которых они стояли под дулами и приняли каторгу. Эти идеи переданы в образах людей, описании встреч, в беглых характеристиках далеких, а иногда уже и усопших товарищей. Воспоминания должны прочесть те, кто сейчас на воле продолжает борьбу. Они адресованы единомышленникам.
Исполняющий должность председательствующего в совете Главного управления Восточной Сибири Корсаков потребовал к себе Петрашевского. Он припомнил ему, что в присутственном месте Петрашевский назвал губернатора Корсакова вором за задержку присланных Михаилу Васильевичу денег и неправильные вычеты из них в счет старого долга Главному управлению.
Корсаков не слушал никаких объяснений. Явился полицмейстер Сухотин, Петрашевского водворили в секретную, а в 11 часов вечера 27 февраля 1860 тог да на квартире полицмейстера уже были его вещи. В столовой дожидался Львов.
Последнее «прости» с последним товарищем.
Спешнев еще раньше уехал в Петербург.
Его увез Муравьев. Перед отъездом они не виделись, так как после возвращения из экспедиции Спешнев остановился
Петрашевский жестоко заблуждался.
Николай Александрович не верил в прошения, не верил, что ему удастся самому, без помощи Муравьева, вырваться из сибирского плена. А в Европейской России зрели новые события. События, о которых в конце 40-х годов он мог только мечтать. Крестьянская реформа повлечет за собой крестьянскую революцию, и чтобы успеть вовремя, все средства хороши.
Он уехал с Муравьевым. И встретил по дороге в столицу, в Москве, друга и соратника Плещеева. Старый кружковец, поэт — создавший еще в 40-х годах знаменитый гимн «Вперед без страха и сомнений», тут же отписал Добролюбову: Спешнев «…едет из Сибири с Муравьевым и будет непременно у Чернышевского, с которым желает познакомиться. Я дал ему й ваш адрес. Рекомендую вам этого человека, который, кроме большого ума, обладает еше качеством — к несчастию, слишком редким у нас: у него всегда слово шло об руку с делом. Убеждения свои он постоянно вносил в жизнь…
Можно сказать положительно, что из всех
Расходились дороги.
Петрашевского увозили дальше, внутрь сибирской тайги.
Спешнев ехал на запад, в центр страны.
Но на разных дорогах они оба продолжали бороться.
Последнее объятье. Вот и Львов исчез в темноте. Сотник Разгильдяев и казак увозят Петрашевского в неизвестность.
Потянулась последняя дорога. Дорога длиною в шесть лет.
К Завалишину пошло письмо. «Иркутск августа 4-го. Многоуважаемый Дмитрий Иринархович! Я получил письмо Ваше со вложенным в него письмом к Петрашевскому, которое я отправил по назначению, сняв предварительно с него копию.
Письмо это имеет большую для меня важность (независимо от внутреннего его достоинства)…
…Вы справедливо замечаете, что у нас путаница, что мы друг друга не понимаем, а потому прежде всего спешу разъяснить, что только могу: начну с личности самого Петрашевского, которую Вы почти не знаете, а потому несколько ошибаетесь. Мих. Вас. прежде всего человек страстный, увлекающийся… Душа у него добрая, способная не только сочувствовать всему, что заслуживает сочувствия, но и действовать горячо, настойчиво, даже запальчиво в пользу предмета его симпатии и напротив: для уничтожения антипатичного ему лица или дела… Множество бескорыстных поступков, полных самоотвержения, было им совершено предо мною…
Характер у него до крайности непреклонный, он стремится к цели своей настойчиво, дерзко, не останавливаясь ни перед какими препятствиями. Но, при этой силе, которой он обладает, и не жалея лба, чтобы проломить стену, он вдруг прибегает к хитрости, к интриге, то есть к оружию слабых. И это бывает почти всегда неудачно, точно как усатый гренадер нарядится в юбку, закроется платком и воображает, что его примут за женщину…».
Отослав письмо к Завалишину, Львов как бы завершил свои воспоминания о петрашевцах.
Воспоминания в Лондон, к Герцену, повез А. Белоголовый.
Ну, а что касается гербовой бумаги, то Завалишин должен и сам понимать — иных средств борьбы, кроме публичных обличений и протестов, у Петрашевского нет. А их можно писать только на гербовой.
Окно хаты выглядывает в деревенский проулок. Проулок сворачивает на Ачинский тракт.
За селом дорога ныряет в балку и скрывается в тайге.
Петрашевский стоит у окна и смотрит на дорогу. Он знает, что за лесом она поползет в гору, потом перепрыгнет через речушку. Это тот, противоположный, ее конец. А здесь, в селе Вельском, она уперлась в окно его хаты. И дальше пути нет.
Петрашевскому каждый раз казалось, что вот он доехал до самого края земли, или, вернее, его «довезли» сопровождающие сотники и урядники.
Но всякий раз, когда замирал свист полозьев, скрип колес, становилось ясно, что это только остановка.
Одни были продолжительными, другие мимолетными.
А дорога, оказывается, тянулась бесконечно. На этой дороге он болел. Лечился. Боролся. Страдал.
Надеялся.
Шесть лет его везут и везут к месту поселения.
Сколько кругосветных путешествий он сделал? Одно-то уж во всяком случае.
Шесть лет «вокруг земли» его «сопровождали» — везли в поисках такого места, где бы он не мог больше беспокоить начальство. Где бы он не встречался с другими политическими.
Где бы о нем забыли все.
Забыла мать. Но вспомнили сестры, вспомнил зять, которого Петрашевский никогда не видел.
Вместе с деньгами они прислали ему свои добрые пожелания и упреки родственников, знакомых.
Его упрекали в упорстве, в том, что своими прошениями он настраивает против себя начальство. И его ли дело вмешиваться в местные дрязги?
На упреки нужно было отвечать.
Не оправдываться, нет! Отвечать, чтобы подать голос, напомнить о себе, напомнить о том, что борьба еще далеко не окончена.
«Можно, руководствуясь чувством или соображениями мелочного благоразумия, винить меня за то, что в сем случае я не выказал скромности только что вышедшей в свет институтки или savoir faire г. Молчалина, тогда бы, разумеется, я бы избежал многих неприятностей. Если бы я был сослан за воровство, мошенничество, измену отечеству, а не за то, что требования нравственные общества, требования общего блага понимал яснее других, говорил, когда все молчали, также отмалчивание и даже нахваливание явно бесчестных действий всякой власти… могло было быть мне по сердцу. Но если я смело однажды выступил на борьбу со всяким насилием, со всякой неправдой, то теперь уже мне не сходить с этой дороги…»
И эта дорога «борьбы со всяким насилием» тянется уже много, много лет.
Здесь, в селе Вельском Енисейской губернии, куда в 1866 году его водворил енисейский губернатор Замятин, дорога упирается в его окно.
А из окна видно, как стекаются две деревенские улицы по склонам оврага к реке. Сейчас, летом, в ней больше травы, чем воды, а зимой, наверное, ее и не угадаешь под сугробами.
В: воздухе армады мошкары. Тучи их туманят солнце и впиваются в каждый открытый кусочек тела.
В Вельскую волостную управу иногда забредают ссыльные. Среди них поляки, участники восстания 1863 года.
От них Петрашевский узнает новости.
Обычно новости бывают печальные.
«Ночью 3 августа 1865 года в Кадаинском руднике скончался Михаил Илларионович Михайлов».
В августе 1865-го, значит уже год…
А четыре года назад он встретился с ним все на той же дороге борьбы, но тогда у него была продолжительная остановка в Красноярске…
К Красноярску Михаил Илларионович Михайлов подъезжал с твердым решением — задержаться в городе подольше и непременно повидаться с Петрашевский.
Они разные люди. Петрашевский — юрист, законник и мечтатель, никогда и никому не признававшийся в этом; Михайлов — поэт, ненавидящий такую «дичь», как законы, не признающий бесплодной мечты, хотя все время говорящий о ней в стихах.
Но их роднила идея, идея торжества социальной справедливости, приверженность социализму, вера в его грядущее будущее.
Петрашевский был последней жертвой политической ненависти шпицрутенного, палочного императора Николая I, Михайлов — первым, кого осудил на каторгу «либеральный» царь-«оовободитель» Александр.
Между двумя «гражданскими казнями» прошло ровно 12 лет.
В Красноярск въезжали рано утром 7 февраля 1862 года. Михаил Илларионович в продолжение этой длинной, ухабистой, метельной дороги как-то невольно привык, что его всюду встречают, как дорогого гостя. Ни словом, ни намеком не напоминают о том, что он «государственный преступник», каторжник. Эта «фронда» образованной провинции очень облегчала дальний путь, притупляла горечь подневольного положения. Как изменились эпоха, люди, настроения! Разве так встречали каторжан в прошлое царствование? Шестидесятые годы воздействовали на умы.
Жандармы, сопровождающие Михайлова, тоже привыкли, что к их подопечному спешат с визитами вице-губернаторы, полицмейстеры, чиновники, учителя. Поэтому, как только тройка вкатила на улицы Красноярска, жандармы сразу двинули не в острог, а на станцию, разместившуюся в одном доме с гостиницей.
Жандармы не ошиблись. Михайлова уже поджидали в городе.
Не успел он сбросить шубу и выпить стакан горячего чая, как в комнату ввалились четверо гостей. Трое были малоприметными местными деятелями, зато четвертый!..
Михайлов с интересом разглядывал капитан-лейтенанта Сухомлина. Даже если он не сумеет почему-либо повидаться с Петрашевским, к которому уже послано предупредить, то, пожалуй, вознаградится встречей с этим моряком.
В Красноярске капитан-лейтенант проездом. Его вызывали в Петербург к морскому начальству.
Как же все-таки бежал Бакунин?
Да, Бакунин надул генерал-губернатора Восточной Сибири Корсакова. Получил открытый лист для свободного проезда к морю, усыпил бдительность стражей и с благословения вот этого капитана пересел с русского клипера «Стрелок» на американский барк «Викерс».
И был таков.
Петрашевский с удовольствием пожимал маленькую, но сильную руку поэта. Времени для беседы мало, а сказать хочется о многом. И как всегда бывает в таких случаях, они не коснулись главного — что же нового внесли 60-е годы в освободительную борьбу? Правда и то — жандармы мешали.
Поневоле заговорили о невеселых сюжетах того будущего, которое ожидает поэта и которое, как надеялся Петрашевский, стало для него самого прошлым.
Конечно, Петрашевский был для Михайлова кладезем знаний местных условий, сплетен, интриг. Именно под впечатлением этих рассказов Михаил Илларионович твердо решил — не цепляться за Иркутск, а ехать куда-либо в глушь, где можно без помех заниматься литературой.
Из разговора Михайлов вынес превратное мнение о настроениях Петрашевского и предубеждение против «местных борцов», «местных интересов».
Он решил, что у Петрашевского разные иркутские интриги заслонили интересы более широкие и общие.
Но Михайлов ошибался.
Ему, живущему верой в близкую революцию, знающему, как собираются силы для штурма, казалось, что все великое свершится там, в Петербурге, только там есть люди, способные на подвиг во имя общего, широкого.
Эта была уже «столичная ограниченность». Михайлов еще не испытал на себе всего ужаса провинциального, каторжного быта, когда живое слово глохнет в тайге, в ежедневном напоминании о том, что ты преступник, отверженный, когда даже то малое, что дозволяют нелепые российские законы всем, недоступно тебе.
Счастлив тот, кто может заняться литературой, преподаванием, изучает лесные богатства, радеет о процветании края. Но ведь все эти занятия отвлекают от общего, великого, забирают все время и столько сил.
Об этом писал в своих «Выдержках из воспоминаний ссыльнокаторжного» Львов.
И это возмущало Михайлова.
Петрашевский же был умудрен опытом.
Расстались тепло, довольные проведенным вместе Днем.
А на следующее утро Михайлов отправлялся дальше.
Петрашевский пришел проводить его. У Михайлова болезненно сжалось сердце. Еще накануне он обратил внимание на сюртук и панталоны Михаила Васильевича — они были потерты, кое-где виднелись заплаты, наложенные неопытной рукой. На улице потрескивал тридцатиградусный мороз. Михаил Васильевич зябко кутался в какое-то допотопное пальто, но смеялся и храбрился, уверяя, что его хламида как печка.
Лошади подхватили.
Петрашевский крикнул:
— До свидания — в парламенте!..
О чем он думал тогда, стоя на дороге? О Михайлове и причине его ареста? G крестьянах, которые получили «волю» и с еще большим ожесточением «взялись за бар»?
В окне тот же Ачинский тракт. До Енисейска 101 верста.
По тракту идут люди. Они, как родные братья, похожи на крестьян села Вельского. Угрюмые, обросшие, бесчувственные ко всему, что не касается их живота. А Михайлов верил в крестьянскую революцию.
И дети их вырастут такими же. Вельские мальчишки умеют только драться и доводить Петрашевского до слез.
Они могут следовать за ним целый день и дразнить, дразнить, дразнить… На них не действуют уговоры, угрозы, их нельзя ничем подкупить. В этой глуши, в этом богом потерянном селении все надоели друг другу, и новый человек вызывает любопытство. Мальчишки в восторге, что этот грузный, бородатый, очкастый дядя плачет от них. Нет, маленьким сибирякам незнакомо чувство сострадания, они его не видели ни дома, ни на улице.
Михайлов умер.
Чернышевский на каторге.
Ужели погибли все надежды? Ужели остается смириться?
Тогда в Красноярске у него была минута слабости.
Только минута.
И в этом повинны люди, искренне ему сочувствовавшие. Они уговаривали Петрашевского последовать примеру Бакунина и бежать, бежать. Они готовы были помочь. И он заколебался.
Но бежать — значит прекратить борьбу. Он не Бакунин, и за границей, в кругах русской революционной эмиграции, никто не раскроет ему навстречу объятий.
Даже Герцен.
Хотя Герцен и сочувственно отнесся к его выступлениям против Муравьева. А когда этот «глупыш-курьер» Корсаков выслал Петрашевского без теплого платья, без денег, ночью из Иркутска да еще получил за это от Муравьева благодарность, Герцен обрушился на графа Амурского.
Нет, Петрашевский не бежал из России. Послал новое «прошение» на высочайшее имя.
Сколько уже послано этих прошений! Не хватало денег на гербовые сборы, и где-то остался сюртук. Посылал из села Шушенского, посылал в 1863, 1864 годах и, наконец, послал и из такой дыры, как Верхний Кебеж. На 71 странице. Это уже 1865 год. Послал графу Валуеву с приложением письма к Герцену.
Граф Петр Александрович Валуев торопливо проследовал в свой кабинет и так хлопнул дверью, что дежурный адъютант от неожиданности выронил увесистую папку с тисненой надписью «К докладу».
Из папки выпорхнуло несколько десятков листков, исписанных торопливым, неровным почерком, но без единой помарки. Адъютант, чертыхаясь, ползал по приемной, собирая листки и проклиная автора за столь объемистое прошение.
Министр был явно не в духе, и адъютант не знал, стоит ли беспокоить его сиятельство. Еще, чего доброго, накричит или, что хуже, ушлет куда-либо по «особому делу». А это значит — опала, испорченная карьера.
И какая муха его сегодня укусила?
Министр имел утром аудиенцию у государя. Видимо, его величество выговаривало его превосходительству. А кому отдуваться? Адъютанту!
С минуты на минуту граф позвонит и еще отругает, почему задержался с докладом.
Звонок не заставил себя ждать. Продолжительный, нетерпеливый. Адъютант побледнел, вытянулся, мельком глянул в зеркало, поправил аксельбант и юркнул в дверь.
Министр стоял у окна и что есть мочи барабанил пальцами по стеклу. Дробь получалась четкая, резкая, министр мог бы с успехом заменить любого барабанщика даже на царском смотру. Адъютант застыл в почтительной позе. Дробь не смолкала.
— Ну-с, извольте показать, что у вас там за бумаги? — Министр резко обернулся, с сожалением прервав дробь.
— Смею доложить, ваше превосходительство, опять этот сумасшедший ухитрился, минуя инстанции, переслать, прошение на ваше имя с возмутительным приложением…
— Кто-о?..
Валуев подскочил к адъютанту, и, казалось, он сейчас начнет срывать с него аксельбанты, эполеты. Адъютант стоял бледный, откинувшись назад, смешно вытягивая вперед руки, на которых покоилась папка с ярким тиснением.
Нет, адъютант не произнесет имени. Министр может сегодня уволить без мундира и пенсии. Он никогда его не видел таким.
Валуев схватил папку. Чуть ли не бегом бросился к столу. Плюхнулся в кресло. Рывком открыл бювар. Адъютант с ужасом заметил, что листы прошения перепутаны и первым лежит это неслыханное приложение.
— Что это такое? Я вас спрашиваю, что это такое? — Министр тряс в воздухе листок бумаги. — Нет, подумать только, какой наглец, какая беспримерная циничность. Он пишет через меня в Лондон и не к кому иному, как к государственному преступнику Герцену…
«М. г. Ал. Ив. Мне сообщили, что в изданиях Ваших помещены статьи, содержащие несогласные с истиною отзывы или показания обо мне, неверные сведения о деле, из-за которого я и другие были сосланы, и о состоянии дел в Сибири. Мне весьма интересно знать содержание всех таковых статей положительно, вследствие чего я всепокорнейше прошу Вас, М. г., оные мне выслать, адресуя так: г. Министру Внутр. Дел, для передачи Мих. Вас. Буташевичу-Петрашевскому, так как о разрешении мне: их получить и произвести за них из моих денег уплату г. Министру Внутр. Дел подано формальное прошение. Честь имею быть Вашим покорнейшим слугою. М. Буташевич-Петрашевский.
Жительствую в Енисейской губ., Минусинского округа, Шушенской волости в дер. Верхнем Кебеже».
Валуев только широко раскрыл глаза.
Сегодня его величество соизволило быть недовольно им. Этот нахал сумел-таки частным путем передать прошение на высочайшее имя. Он требует ни больше, ни меньше, как пересмотра всего дела о злоумышленниках, а также заявляет себя дворянином по указу 17 апреля 1857 года и настаивает на возращении в Европейскую Россию. При этом он пространно и в выражениях совершенно непристойных поносит все административные распоряжения по Сибири, как известно, удостоенные высочайшего одобрения! Сибирь, по его мнению, представляет что-то «вроде пашалыка или сатрапии, отданной на жертву личных прихотей всякого рода здешних державцев, или жалкой колонии, нещадно эксплуатируемой в свою пользу разного рода приставниками, досмотрщиками, дозорщиками, как прибывшими из метрополии, так и туземными».
— Отпишите генералу Корсакову, чтобы тот как можно строже внушил этому сумасшедшему, что указ семнадцатого апреля к нему, как ссыльнопоселенцу Восточной Сибири, не относится, а посему величать себя дворянином он не вправе. К тому же его императорское величество не обнаружил в прошении Петрашевского сознания «обязанностей верноподданнического долга и чувства благоговения».
Герцен не состоял в переписке с Валуевым и не получил письма Петрашевского.
Но напрасно Михаил Васильевич сетовал на издателя «Колокола».
Герцен не забывал о Петрашевском.
В 1851 году Герцен опубликовал на французском и немецком языках свое классическое сочинение «О развитии революционных идей в России».
Французский историк Мишле читал эту книгу великого русского патриота, «столбенея от изумления и восхищения». Мишле заинтересовался русскими революционными деятелями. И, поддерживая этот интерес, Герцен прислал ему специально написанную Энгельсоном биографию Петрашевского, видимо, самим же Герценом отредактированную.
«Если Барбье, говоря о святой черни, разумел величавую простоту, чистоту побуждений, смелость перед последствиями, полное отсутствие коварства и всякой задней мысли о личном тщеславии, — качества, которые в наше время встречаются, к сожалению, только в простонародье и, как исключение, в других классах общества, — то Петрашевского можно, без всякого преувеличения, считать святым. Парижский гамен, который идет умирать на баррикаду, не заботясь о том, вспомнит ли кто-либо о нем после смерти, а в случае победы забывает попросить себе должность или орден, — таков европейский тип, к которому ближе всего можно причислить Петрашевского. Он был „гаменом“ не по воспитанию и не по убеждению, — он был им по призванию, по характеру.
…В интимной обстановке Петрашевский был весьма мягкий и безмерно терпеливый человек. Всякое возражение со стороны порядочных людей, всякая критика, как бы горька она ни была, принимались им и никогда не возбуждали в нем никакой вражды. Никогда мысль о своем превосходстве над окружающими не только не проскальзывала в его словах, но даже не приходила ему в голову; он был слишком поглощен своими проектами, чтобы заниматься собственной персоной…»
Герцен захватил с собой в Лондон «Карманный словарь иностранных слов», изданный под редакцией Петрашевского.
Герцен поведал и о жестокой расправе «царя-рыцаря» с Михаилом Васильевичем и его соратниками. Прошло еще 7 лет. И снова Герцен вспомнил об изгнаннике.
«Колокол» опубликовал знаменитое, первое прошение Петрашевского о пересмотре «дела».
А еще через год Герцен в «Былом и думах» попытался обобщить тип революционера, который наследовал в России Белинскому и ему, Герцену.
Герцен умел делать тончайшие психологические наблюдения. Но он сделал их не на тех типах, которые были характерны для конца 40-х годов.
У Герцена «под рукой» был Энгельсон, посетитель журфиксов Петрашевского в самом их начале.
Были и другие. Бывали губернаторы, генералы, купцы, литераторы, дамы, старики и старухи, бывали студенты, — точно панорама какая-то проходила перед глазами, точно водопад лился, и это не считая тех, с которыми он видался с глазу на глаз. Какой-нибудь капитан в отставке, который нарочно поехал в Лондон из такой глуши, как Симбирск или Вологда, заявить свое сочувствие, объяснить, что он не ретроград, как и сосед его Степан Петрович и как кум его Петр Степаныч. «Это все, доложу вам, золотой наш Александр Иванович, люди благородные, свободомыслящие-с, да-с, этими людьми вся губерния наша может гордиться! И если б правительство умело выбирать людей, ценить бы-с умело благородство характера — давно бы-с они важные места занимали в государстве! Но у нас-с, как вы и сами изволили заметить, больше на низкопоклонстве можно выехать! Вот, например, наш исправник — уже вы его отделайте в „Колоколе“, вам за это весь уезд благодарен будет, мне даже поручено просить вас об этом. Человек развратный, жену свою бьет, проиграл в карты прокурору четыре рубля и не платит!» Являлись дамы с дочерьми и с сыновьями, просили нависать им в альбомы, являлись люди просить совета в своих семейных делах…
Среди этих капитанов и губернаторов, старух и стариков затерялись черты Петрашевского, которого Герден никогда не видел, знал, только по рассказам, письмам, официальным бумагам. Поэтому в «Былом и думах» появились такие характеристики:
«Тип, к которому принадлежал Энгельсон, был тогда для меня довольно нов. В начале сороковых годов я видел только его зачатки. Он развился в Петербурге под конец карьеры Белинского и сложился после меня до появления Чернышевского. Это — тип петрашевцев и их друзей. Круг этот составляли люди молодые, даровитые, чрезвычайно умные и чрезвычайно образованные, но нервные, болезненные и поломанные. В их числе не было ни кричащих бездарностей, ни пишущих безграмотностей, это — явления совсем другого времени, но в них было что-то испорчено и повреждено.
…Окруженные дрянными и мелкими людьми, гордые вниманием полиции и сознанием своего превосходства при самом выходе из школы, они слишком дорого оценили свой отрицательный подвиг или, лучше, свой подвиг в возможности. Отсюда — безмерное самолюбие; не то здоровое, молодое самолюбие, идущее юноше, мечтающему о великой будущности, идущее мужу в полной силе и в полной деятельности, не то, которое в былые времена заставляло людей совершать чудеса отваги, выносить цепи и смерть из желания славы, но, напротив, самолюбие болезненное, мешающее всякому делу огромностью притязаний, раздражительное, обидчивое, самонадеятельное до дерзости и в то же время неуверенное в себе.
…Счастья для них не существовало, они не умели ето беречь. При малейшем поводе они давали бесчеловечный отпор и обращались грубо со всем близким. Иронией они не меньше губили и портили в жизни, чем немцы приторной сентиментальностью. Странно, — люди эти жадно хотят быть любимыми, ищут наслаждения и, когда подносят ко рту чашу, какой-то злой дух толкает их под руку, вино льется наземь, и с запальчивостью отброшенная чаша валяется в грязи».
В этих и других строках Герцена, посвященных петрашевцам, много публицистического задора, непроверенных слухов, политических выпадов.
Но Петрашевский не читал «Былое и думы». И ни в чем не обвинял Герцена.
Два раза в год, в феврале и поздней осенью, в Вельском свирепо пьют и горланят песни. Хотя и кричат до хрипоты, песни какие-то унылые, похожие на стоны вьюги или предсмертный вой волка. Это старатели. Они нанимаются, получают задаток и спешат скорее оставить его в трактире вместе с сапогами и полушубком, только что полученными от хозяина. Потом в онучах, а то и босиком, по мокрой земле, колючей хвое, пойдут за тысячу верст копать шурфы, искать фарт. Многие не вернутся, вернувшиеся принесут домой, семьям отчаяние, злобу и лютую ненависть, которая выльется слезами избиваемых жен, детей. Зимой спячка, голодная, с утра до ночи, с ночи до утра. Часто целые избы засыпают и не просыпаются. И стоят они до весны холодные, занесенные снегами — бревенчатые могильники нищеты а горя.
К Петрашевскому забредают бедняки. Сначала робко — приходят навестить, затем с жалобами и просьбами.
Просят подлечить язву, замучила вконец…
Заскорузлыми пальцами разглаживают гербовую бумагу и ждут, когда Петрашевский спросит, о чем писать.
Он никому не отказывал и никогда не принимал вознаграждений, хотя часто писать приходилось при свете лучины — на свечи не было денег.
Писал и статьи, куда-то посылал их, но никогда не получал ответа.
Потом исчезал на несколько дней. Сельчане знали — поехал в Енисейск воевать с начальством.
Эта война напоминала Столетнюю, — когда Франция воевала с Англией. Ни один из тех, кто участвовал в первом сражении, не дожил до последнего боя.
Петрашевский не начинал войны с Муравьевым и Венцелем, Корсаковым и Замятиным, ее начали декабристы, вел Дмитрий Завалишин. Но если Михаил Васильевич не помнил первого боя, то во «втором сражении» он уже принимал участие.
А потом бой за боем, бой за боем!
Через Красноярск проследовали Шелгуновы. Михайлов называл Николая Васильевича и Людмилу Петровну Шелгуновых — «любовь и дружба».
Шелгуновы никому, даже Петрашевскому, не рассказали, что следуют за Михайловым, чтобы организовать его побег.
Побег они не организовали.
Шелгунов был арестован — за «распространение в России политических воззваний Огарева».
Петрашевский подвергся обыску.
А потом его посадили в тюрьму.
Петрашевский обратился в енисейскую казенную палату с просьбой о причислении его к красноярскому мещанству. И назвал себя потомственным дворянином. Когда Замятин донес Корсакову, что Петрашевский отказывается дать подписку в том, что не будет впредь величать себя дворянином, «почтовая лошадь» взбесилась.
Да как он смел! Новый генерал-губернатор Восточной Сибири проявил вдруг некоторые познания в вопросах теоретических/Он припомнил, что Петрашевский социалист.
Социалист-дворянин?
Генерал вызвал к себе пройдоху-подхалима Милютина. Тот должен отыскать статью, по которой Петрашевского за упрямство и проступки против местных властей надлежит примерно наказать.
Милютину не нужно было рыться в своде законов. 803-я и 804-я статьи устава о ссыльных гласят, что ссыльнопоселенцы «за маловажные преступления и проступки наказываются розгами до 100 ударов, или употребляются в общественные работы сроком до месяца, или могут быть сданы в завод, арестантскую рабочую роту сроком до года». Было в этих статьях сказано и о тюремном заключении сроком не более месяца.
Корсаков распорядился.
16 января 1864 года Петрашевского разбудил знакомый стук в дверь. Так умеют стучать только полицейские и жандармы. Он привык к этим частым, наглым ударам сапогами. Пусть отобьют ноги. Петрашевский не спешил отпирать.
Исправляющий должность полицмейстера Вахрушев не стал делать обыска. Ему хотелось спать. А потом в предписании было сказано — «доставить в острог».
Смотритель принял арестанта с рук на руки. Он был знаком с Петрашевский и даже встречался «в: обществе».
Но вот беда. В остроге нет свободных одиночек, и господина Петрашевского придется поместить в общей камере с уголовниками.
Нет, нет, это ненадолго. Смотритель уверен: недоразумение выяснится на днях.
Петрашевский сделал вид, что удручен и даже напуган перспективой сидеть в одной камере с «кобылкой».
— Господня смотритель, я не ожидал такого пассажа, и мне будет неловко в этаком платье отбывать с уголовниками. Надеюсь, вы поверите моему честному слову. Я отправлюсь к себе на квартиру., переоденусь, захвачу необходимейшие вещи и буду в вашем распоряжении.
Смотритель колебался. Хотя у него нет основания не верить Петрашевскому, да к тому же ом возмущен действиями Корсакова и Замятина.
— Извольте! Жду вас через час!
Темно, скользко! Нога то и дело срываются с деревянного тротуара.
Хотя бы огонек мелькнул где-либо.
Упал. Очки… Они где-то здесь, рядом. Петрашевский зажигает спячку за спичкой. Угольники желтоватого отсвета на снегу. А время идет.
Очки хрустнули под ногами. Целы, только немного прогнулись дужки.
Сальный фонарь затрепыхал отсветом где-то далеко-далеко.
Петрашевский бежал, не разбирая дороги. Спотыкался о тумбы, предательски выглядывавшие из-под снега, налетал на сугробы. Ему было жарко.
Мороз же легонько поскрипывал бревнами домов.
«Почта».
Заспанный телеграфист никак не может понять, чего хочет этот толстый, потный господин. Ему нужно отдышаться. Перо скачет в руках и сажает чернильные кляксы.
Михаил Васильевич хорошо знает, что телеграмма на имя управляющего Третьим отделением не освободит его от острога. Но какой переполох она наделает в доме генерал-губернатора! Они думают, что он смирился, что его, как клячу, предназначенную на живодерню, уже не может подстегнуть удар кнута.
Нет!
Острога не миновать. Но никто никогда не услышит от него униженной просьбы. Никто не увидит его поднятых кверху рук.
Пока уймется дрожь, он может немного подумать.
Наверное, этот взлохмаченный после сна телеграфист считает его сумасшедшим. Нет, он еще не сошел с ума и, назло своим гонителям, не сойдет.
Им дай только повод — и тогда «желтый дом». Разве не на его глазах Чаадаева объявили сумасшедшим?
Но минуло уже полчаса. А он должен еще забежать к своему поверенному.
«Прошу защиты!» Петрашевскому некогда рассуждать, как звучат эти слова телеграммы. Его незаконно заключили, под стражу — это главное. Сенат и суд должны решить вопрос о правах, возвращенных ему волей государя.
Денег едва хватило, чтобы расплатиться.
Поверенный пошлет вторую телеграмму — члену военного совета и инспектору войск генералу Лутковскому. Лутковский интересовался участью Петрашевского. Пусть знает, как Корсаков обращается с дворянами и вымещает свою личную неприязнь.
Смотритель острога не удивился, когда перед ним вновь предстал Петрашевский. Почему только Михаил Васильевич не переменил платья, как хотел? Да и вещей он не видит.
Петрашевский ничего не ответил.
— Тюрьма страшна только по первому разу. А я привык. Уж который год отбываю — счет потерял!
Арестант глядит хмуро, исподлобья и не понимает, чего от него хочет этот бородатый кряжистый заключенный. Писать прошения, требовать, чтобы состоялся новый суд? Ну, нет. Суды и судья всюду одинаковы. «Карман сух, так и судья глух». И законы — что дышло…
Петрашевского это заявление немного коробит, хотя не признать его вековую правоту он не может. Много ему помогла законность, когда он добивался пересмотра процесса 1849 года? А ведь тогда-то законы были нарушены самым беспардонным образом.
Но Петрашевский не отступает от узника, берется ему помочь, поражает его цитированием наизусть чуть ли не половины кодекса уголовных преступлений. Потом оставляет в покое.
Из тюрьмы можно досадить начальству новым прошением. И легче всего это сделать, адресуясь в Енисейский губернский тюремный комитет. Его засадили в эту камеру вместе с уголовной «кобылкой» для наказания. Ничего, он расскажет и членам тюремного комитета, каковы у нас в России начальники. Использовать права, предоставленные законом, для обличения тех же законов и их проводников в жизнь. Вот его идефикс законности. Не все это понимают именно так.
Проходили дни, недели. «Дерзкое прошение» в тюремный комитет давно отправлено. Петрашевского все время треплет лихорадка и гложут невеселые мысли. Его, конечно, вышлют из Красноярска. А между тем он нашел в этом городе «несколько прекрасных личностей», возможность заниматься литературным трудом. И опять надоевшее село Шушенское. Теперь ему известно, что «Колокол» заступился за ссыльного. Герцен припечатал «прогрессивного генерал-губернатора». «Неужели прогрессивный генерал-губернатор не понимает, что вообще теснить сосланных гнусно, но теснить политических сосланных времен Николая, т. е. невинных — преступно. Если же он не может с ним ужиться, то благороднее было бы, кажется нам, просить о переводе Петрашевского в Западную Сибирь, на Кавказ или куда-нибудь».
Месяц подходил к концу. Однажды утром Петрашевского разбудил угрюмый заключенный, протянул бумагу и молча отошел в сторону. Прошение, прошение!
Написано очень коряво, но с сердцем. Малограмотный, искалеченный тюрьмою узник обвиняет судей!
Петрашевский вспомнил разыгравшуюся три года назад в Иркутске трагедию, когда по проискам Муравьева и его петербургских доброжелателей был устроен суд над судьями Беклемишева и других убийц Неклюдова. Хотя, к позору Муравьева, вмешавшийся прокурор отменил дикие постановления этой расправы и даже назначил Ольдекопа прокурором в Казань. Но праведные судьи успели отсидеть в тюрьме десять месяцев, а убийцы пользовались свободой. Их даже повысили в чинах, Беклемишев уехал из Иркутска принимать чуть ли не губернаторский пост.
Такие прошения, как вот это, поданное простым вором, рецидивистом, — первая ласточка пробуждения сознания даже у «отверженных», самых, как их величают, «отбросов общества».
А не они «отбросы», отбросы — это Молчанов, эта мартышка Корсаков.
Нет, вор, сам того не зная, помог Петрашевскому преодолеть, наверное, самые тягостные дни.
Как странно! Ему вор помог найти силы для борьбы. И те же воры, убийцы, каторжане превратили Федора Михайловича Достоевского в человека из «мертвого дома».* Он отказался даже и от тех либеральных настроений, которые согревали его молодость.
И опять дорога, дорога…
Минусинск, Шушенское, Верхний Кебеж.
Дом окружного врача Вицына в Енисейске всегда открыт для Петрашевского. И, часто наезжая из Вельска, Михаил Васильевич гостит у него. Вицын любит поговорить с этим изгнанником, который, несмотря «а удары судьбы, происки начальства, не утерял ясности мысли, дара слова. А память у него — кладезь фактов.
Единственно, в чем он слаб, — в знании литературы изящной. Последний роман, который Петрашевский прочел и от которого в восторге — „Что делать?“. Вицын напрасно старается привить своему гостю вкус к беллетристике. Петрашевский умолкает, слушает рассеянно.
Сегодня 5 декабря 1866 года. Петрашевский стоит у календаря и ловит себя на мысли — какого же числа и месяца он родился?
45 лет. Из них 17 в тюрьмах, на каторге, в ссылках. За эти 17 лет никто не вспомнил о его дне рождения, не поздравил. И он забыл, забыл этот день.
А ведь были в детстве и веселые праздники, и подарки, лицейские ночные бдения в честь новорожденного и товарищеские пирушки в Пассаже».
Как странно!
Вицын никогда не видел Михаила Васильевича грустным. Все что хотите — смех, гнев, добродушие, но грусть, как она не подходит к этим близоруким выпуклым глазам, седине и огромной лысине, пропахавшей голову ото лба до затылка!
А ведь только что Михаил Васильевич ввалился к доктору сияющий, возбужденный. Он одержал какую-то там победу над енисейскими бюрократами. Вицын запутался; в тяжбах, которые вел Петрашевский.
В который раз он подал прошение о пересмотре?
— Михаил Васильевич! Не мое, конечно, дело отговаривать вас от безнадежной борьбы. Но скажите, на что вы рассчитываете, подавая прошения о пересмотре дела?
— На что я рассчитываю?
— Да, на что, особливо после того, как летом этого года в государя императора стрелял Каракозов?
Петрашевский не хочет поддерживать этот разговор. Несколько лет или год — он уже не помнит — как не беспокоил Петербург прошениями.
А ныне послал вновь. И, может быть, именно этот выстрел пробудил в нем силы, вдохнул жизнь.
Раньше он рассчитывал на суд и критику реформ с трибуны суда. Теперь он окончательно излечился от реформистских иллюзий.
До своего ареста, задумываясь о революции, о народном восстании, он считал что время для них не приспело. Теперь, в 1866 году, Петрашевский уверен; то, чего не удалось сделать ему — подготовить сознание масс к идее неизбежности революции, — уже сделали за него шестидесятники.
Суд не трибуна критики, а пьедестал, с которого он будет призывать к революции.
Только революционное действие может теперь помочь России.
Но доктору Вицыну об этом знать не следует. — Михаил Васильевич! А ваши, так сказать, соратники согласятся на пересмотр? Соратники…
Псковская губерния. Островский уезд. Уездный мировой посредник Николай Спешнев в ущерб дворянству отстаивает крестьянские интересы. В Третье отделение сыплются доносы.
Тверская губерния. Имение Ивашевки. Владелец Василий Головинский. Живет под надзором полиции, без выезда. Еще в 1858 году, будучи чиновником в Симбирске, пекся о крестьянах — вызвал ненависть дворянства, обратившего внимание жандармов на этого «висельника».
Александр Европеус подписал адрес тверских дворян об отмене запрещения обсуждать крестьянский вопрос, выслан в Пермь. Вернулся в Петербург и опять на подозрении.
Алексей Плещеев. О нем тепло говорил Михайлов. и на него холодно поглядывает полиция.
— Хватит, хватит! Откуда у вас такие сведения?
— Неважно! Но вернемся к пересмотру. Теперь только я, один я — из всех кружковцев, оставшихся в живых, — ссыльнопоселенец. И теперь я могу не считаться с их нежеланием и протестами против пересмотра…
— Прошу к столу! — Хозяйка мило улыбается. От обеда Петрашевский отказался, так как плотно закусил со своими доверителями. Вицын предлагал остаться на ночь, а не мчаться за тридевять земель под вечер. Да и метель могла разыграться. Но Петрашевский уехал.
И снова дорога.
Дорога, дорога, дорога!..
В темноте ее не видно. Ни ямщику, ни седоку.
И только мысленно, оглядываясь назад, Михаил Васильевич видит огромную ледяную гору. Она подпирает небо, задернутое тучами.
По этой дороге можно съехать только вниз.
Ехал более суток. Замерз.
Потом дома плотно поужинал. И лег спать. Засыпая, чувствовал, что от огромной русской печи веет угаром.
Во сне приснилась деревушка Верхний Кебеж, откуда он писал Герцену. Его выслали туда из Шушенской волости в далеком 1864 году.
И так же, как и в этой хате, он спал на деревянной лавке. Только изба в Верхнем Кебеже не была выморожена, и тысячи тараканов ползали по лицу, груди, щекотали в носу, уничтожали продукты, съели сапоги, полушубок.
Потом уже ничего не снилось.
Всю вторую неделю декабря 1866 года в Енисейской губернии царствовала пурга. Пустовал Ачинский тракт, съежились деревушки и села. Снег заносил дома, где-то в лесу замерзали охотники.
Доктор Вицын поневоле наслаждался отдыхом. Не так-то часто он выпадает на долю окружного врача, единственного на губернию, если не считать нескольких ссыльных лекарей.
Метель утихла, но еще долго будут расчищать дороги, выгоняя на работы целые деревни.
Только к Новому году возобновилось движение по Ачинскому тракту.
И первым, кто приехал в Енисейск, был бельский волостной начальник.
Он радостно сообщил енисейским властям, что 7 декабря 1866 года внезапно скончался ссыльнопоселенец Буташевич-Петрашевский. Труп находится в «холоднике» в ожидании доктора, который должен произвести вскрытие.
7 декабря. Доктор Вицын вспоминает, как Петрашевский, грустный, стоял над листком календаря — это было 5 декабря. Значит, буквально накануне внезапной смерти.
Но прошел еще месяц, пока доктор добрался до села Вельского.
Трудно вскрывать труп друга, трудно установить и причину его смерти через два месяца после ее наступления.
Квартирная хозяйка, видимо уже в который раз, заученно рассказывает, как приехал Михайло Васильевич веселый из города, плотно поужинал, да и спать.
А наутро, сердешный, уже и закоченел.
Доктор Вицын слышал и другие версии. Особенно упорно бедные крестьяне утверждали, что Михаилу в городе начальство ядами извело.
Но Петрашевский умер от повреждения клапанов сердца, сопровождавшегося при этом апоплексией мозга. Мозга, который своим объемом поразил доктора. По словам Вицына, вес его был «несравненно более 5 фунтов».
12 февраля 1867 года за кладбищенской оградой появился одинокий холм. Никто не украсил его венками, никто не поставил креста, ведь покойник ушел из жизни без церковного покаяния. И никто не провожал в последний путь Петрашевского.
Молчал и церковный колокол.
Но за тридевять земель, в Лондоне, «Колокол» известил о смерти бойца-социалиста, который не сгибал спины, не изменял убеждениям. «Да сохранит потомство память человека, погибшего ради русской свободы, жертвой правительственных гонений…»
/557—
Ленин В. И., Собр. соч., -т. 7.
Дело петрашевцев, тома I–III. Изд. Академии наук.
Петрашевцы в воспоминаниях современников. Сб. под ред. П. Е. Щеголева.
Государственные преступления в России. Сб. под. ред. В. Я. Базилевского, т. I, Женева, 1903.
Политические процессы николаевской эпохи Петрашевцы. Изд. В. Саблина. М., 1907.
Общество пропаганды 1849 г. Изд. Э. Каспаровича. Лейпциг, 1875.
Переписка Николая Павловича с шефом жандармов А. Ф. Орловым. «Былое», 1906, № 2.
Исторические сведения о цензуре в России. Спб., 1862.
Некролог Петрашевского. «Колокол», 1867, 1 апреля.
Рассказ А. Н. Майкова о Ф. М. Достоевском и петрашевцах.
Публикация Н. П. Овсянникова «Исторический архив», 1956, № 3.
Альминский П. (А. Пальм), Алексей Слободин. Семейная история в 5 частях. «Вестник Европы», 1872, № 10–12; 1873, № 2–3.
Анненков П. В., Замечательное десятилетие. Воспоминания и очерки, т. III, Спб., 1881.
Арефьев В., М. В. Буташевич-Петрашевский в Сибири. «Русская старина», 1902, № 1.
АрсеньевИ. А., Слово живое о неживых. «Исторический вестник», 1887, № 4.
Ахш арумов Д. Д., Из моих воспоминаний, 1849–1851. Спб., 1905.
Бакунин М. А., Письма к Герцену и Огареву. Женева, 1896.
Батуринский В., Герцен, его друзья и знакомые. «Всемирный вестник», 1904, № 7.
Белоголовый Н. А., Воспоминания и другие статьи. М., 1897.
Бешкин Г., Идеи Фурье у Петрашевского и петрашевцев. М., 1923.
Богданович Т. А., Первый революционный кружок николаевской эпохи. Петрашевцы, Спб., 1917.
Бурцев В. Л., За сто лет. Лондон, 1897, ч. I, ч. II.
Быкова В. П., Записки старой смолянки, т. II, Спб., 1899.
Венюков М. И., Из воспоминаний. «Русская старина», 1890, № 4.
Воинов В., Петрашевский-Буташевич. Русский биографический словарь. Спб., 1902.
Герцен А. И., Собрание сочинений в 9 томах. Гослитиздат.
Глинский Б. Б., Русская периодическая печать в провинции. «Исторический вестник», 1898, № 1.
Демор В. П., Петрашевский. Биографический очерк. П., 1920.
Зотов В. Г. Петербург в 40-х годах. «Исторический вестник», 1890, № 5–6.
Зотов В. Р., Наши энциклопедические словари. «Исторический вестник», 1888, № 5.
Корф М. А., Записки. «Русская старина», 1900, № 4–5.
Кузьмин П. А., Записки генерал-лейтенанта. «Русская старина», 1895, № 2, 3, 4.
Лейки на В. Р., Н. А. Спешнев. «Былое», 1924, № 25.
Лейкина В. Р., Момбелли. «Былое», 1924.
Лейкина В. Р., Петрашевцы. Под редакцией П. Е.; Щеголева. М., 1924.
Лейкина-Свирская В. Р., Революционная пропаганда петрашевцев. «Исторические записки», 1954, № 47.
Лейкина-Свирская В. Р., О характере кружков петрашевцев. «Вопросы истории», 1956, № 4.
Любавский. Русские уголовные процессы. СПб., 1867, т. 2.
Львов Ф. Н., Записка о деле петрашевцев. «Литературное наследство», 1956, т. 63.
Львов Ф Н., Выдержки из воспоминаний ссыльнокаторжного. «Современник», 1861, т. 89; 1862, т. 91.
Ляцкий Е. А., Н. Г. Чернышевский и Шарль Фурье. «Современный мир», 1909, II.
Майков А. Н., Письмо к П. Е. Висковагому. Сб. «Достоевский», П., 1922.
Мещерский А. П., Документы о пребывании М. В. Буташевича-Петрашевского в сибирской ссылке. «Исторический архив». 1960, № 1.
Миллер О. Ф., Материалы для жизнеописания Ф. М. Достоевского, 1883.
Милютин Б. А., Генерал-губернаторство Н. Н. Муравьева в Сибири. «Исторический вестник», 1888, № 12.
Михайлов М. И., Записки (1861–1862). Гослитиздат, 1952.
Новополвн Г., Петрашевцы к их время в воспоминаниях Н. П. Балина. «Каторга и ссылка», 1930, № 2.
Панкратов А., Последний петрашевец. «Русское слово», 1910, № 312.
Полонский В., Крепостные и сибирские годы М. Бакунина. «Красная новь», 1921, № 2.
Попов М., Львов Ф. Н., Русский биографический словарь. Спб, 1914.
Салтыков М. Е., За рубежом. «Отечественные записки», 1881, № 1.
Салтыков М. Е., Запутанное дело. «Отечественные записки». 1848, т. 57, март.
Скятловский В., Фурьеризм в России (петрашевцы). Сб… «К истории политической экономии и статистики в России». СПб., 1906.
Семевский В. И., Сен-симонисты и фурьеристы в России в царствование Николая I. Книга для чтения по истории нового времени, т. IV, ч. II. М., 1914.
Семевский В. И., Крестьянский вопрос в кружке Петрашевского. Гл. XII, т. II, кн. «Крестьянский вопрос в России в XVIII и первой половине XIX века». Спб, 1888.
Семевский В. И., М. В. Буташевич-Петрашевский и петрашевцы, ч. I, под редакцией В. Водовозова. М., 1922.
Семевский В. И., Следствие и суд по делу петрашевцев. «Русские записки», 1916, № 9—11.
Семевский В. И., Материалы по истории цензуры. «Голос минувшего», 1913, № 3,4.
Семевский В. И., Буташевич-Петрашевский. «Большая энциклопедия» под редакцией Южакова, т. 15, 1904.
Семевский В. И., М. В. Буташевич-Петрашевский в Сибири. «Голос минувшего», 1915, № 1, 3, 5.
Семевский В. И., Толль. «Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона», т. 33.
Семевский В. И., Петрашевцы. Кружок Кашкина. «Голос минувшего», 1916, № 2–4.
Семевский В. И., Петрашевцы. Дуров, Пальм, Достоевский и Плещеев. «Голос минувшего», 1915, № 11–12.
Семевский В. И., Дуров «Энциклопедический словарь Гранат», т. 19.
Семевский В. И., Головинский. «Энциклопедический словарь Гранат», т. 15.
Семевский В. И., Григорьев, «Энциклопедический словарь Гранат», т. 17.
Семевский В. И., Петрашевцы. Беклемишев и Тимковский. «Вестник Европы», 1916, № П.
Семевский В. И., Петрашевцы. Студент Толстое и Г. П. Данилевский, мещанин П. Г. Шапошников, литератор Катенев и Б. И. Утин. «Голос минувшего», 1916, № 11–12.
Семевский В. И. Салтыков-петрашевец. «Русское богатство», 1917, № 1.
Сосновский М., Д Д. Ахшарумов. «Русское богатство», 1910, № 2.
Столпянский П. Н., Революционный Петербург. П., 1922. Струве Б. В., Воспоминания о Сибири «Русский вестник», 1888,
Толль Ф. Г., Из записок моего сосланного приятеля. 1850 г. «Современник», 1863, г. 95.
Унковский А. М., Записки. «Русская мысль», 1906, № 6.
Устрялов Ф. Н. Университетские воспоминания. «Исторический вестник», 1884, т. 16.
Шелгунова Л. П., Из далекого прошлого. Спб., 1901.
Шляпкин И., Письмо М. В. Буташевича-Петрашевского к Н. С. Кирилову. «Голос минувшего», 1914, III -8.
Щпицер С. Новое о деле петрашевцев (предатель И. П. Липранди). «Каторга и ссылка», 1926, № 7–8 (28–29).
Шумахер А. Д., Поздние воспоминания о давно минувших временах. «Вестник Европы», 1899, № 3.