Вадим Прокофьев
Желябов
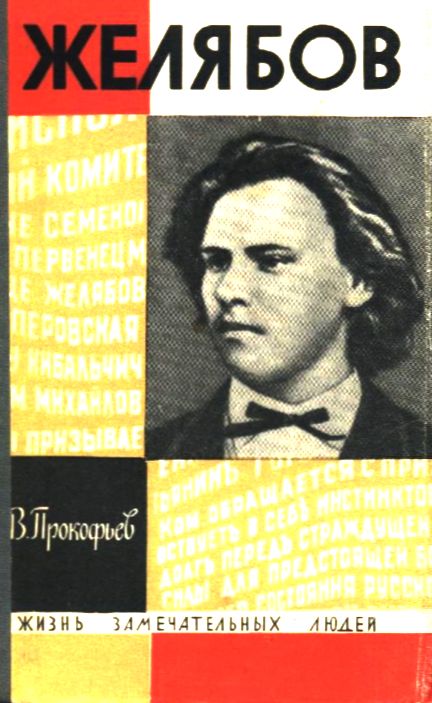
Церковный колокол загудел так внезапно, что Андрей вздрогнул, уронив книгу. Он совсем забыл, что сегодня великая суббота и в «божьих храмах» началась «полунощница», потом двинется крестный ход. Теперь колокола неумолчно будут греметь всю светлую седмицу.
Желябов пытается снова углубиться в чтение, но это ему не удается. В церкви рядом с гимназией колокол в прошлом году немного треснул и дребезжит. Пономарь перестарался, когда 4 апреля 1866 года шел благодарственный молебен по случаю чудесного спасения государя императора от смерти, уготованной ему «злоумышленником» Каракозовым.
Андрей отложил книгу, задумался.
В тот день их повели в церковь. На улицах стояла грязь непролазная, лужи такие, что в них и утонуть нетрудно. Гимназистов построили парами. Впереди чинно двигались директор, инспектор, учителя. Преподаватель Рещиков поминутно прикладывал большой красный платок к глазам. Ученики непочтительно хихикали. Они не испытывали ни страха, ни благоговения перед свершившимся. Андрей подставил ножку паре, идущей сзади, — те покатились в грязь, на них налетели следующие… Хохот, залихватский свист огласили улицу.
Директор гимназии, инспектор тут же потеряли свой торжественный вид. Они уже стояли возле церкви, и в гуле колокольного звона не было слышно их истошных криков, только смешно раскрывались рты да мелькали в воздухе зонтики.
Андрей улыбается этим воспоминаниям. С какой постной миной он тогда проследовал в церковь! Пока шел благодарственный молебен, разглядывал лики святых. Апостол Павел был похож на деда, а дед по матери — старообрядец, беспоповец, в церковь ни ногой. Архангел Гавриил — типичный грек или итальянец. В этом году к ним в пятый класс пришел новый ученик Мишка Тригони, он точь-в-точь походит на Гавриила, только молодого.
Андрей выглянул в окно. Пасхальная ночь была теплой, немного таинственной. В детстве он любил этот праздник. Дома сладкий творог, куличи и, конечно, крашеные яйца. И теперь пасха имеет свои прелести: не нужно готовить уроков, слушать гнусавую речь латиниста. Можно почитать, бездумно побродить по улицам.
Бездумно! Это в первом и втором классах было хорошо. А теперь думы одолевают.
Закрыв окно и потушив свет, Андрей попытался уснуть. Куда там! Вспомнился каракозовский выстрел. Чего уж греха таить, он радовался ему и чувствовал к царю такую же «симпатию», как к господам. А еще совсем недавно он «обожал» батюшку царя — за то, что тот крестьян «освободил» и его, Андрея. Ведь он родился в семье дворового человека помещика Нелидова. Теперь Андрей в гимназии учится. За каких-нибудь шесть лет столько изменений.
Шесть лет. Желябов хорошо помнит, как привезли его девятилетним мальчишкой в Керчь, определили в уездное училище и оставили одного. Учителя дрались, от батюшки всегда винищем разило. Жили впроголодь. Потом училище стало реальной прогимназией, а в 1863 году — классической семиклассной гимназией. Он тогда второй класс оканчивал, Майн Ридом зачитывался, Фенимором Купером.
Всему свое время. Тогда и в гимназии нравы были от бурсы. Линейка свирепствовала по рукам, а то и по затылкам учеников. Не раз Андрею приходилось сиживать в карцере, стоять в углу на коленях.
А потом пришли новые учителя. Они не дрались, учащихся называли на «вы». Тайком, с оглядкой давали почитать Белинского, Добролюбова, Писарева, книги «Современника».
Не все понятно в статьях «Современника», зато Писарев — это здорово! Всех метлой, даже Пушкина, а вместе с ним всяких там Рудиных, Обломовых.
Нигилисты! Сначала привлекало звучное слово и длинные волосы. Каждый гимназист считал своим долгом их отрастить. Инспектор ругался, грозился выгнать… Волосы остались. Зато он хорошо усвоил, что всю «протухшую» дворянскую культуру пора на свалку. Полное освобождение личности от наследия крепостнических времен.
В прошлом году опять перемены. Новых учителей прогнали, и снова словесник Андриасевич всех «тыкает». Но теперь это совсем нестерпимо. Андрей каждый раз густо краснеет и едва сдерживается.
Попечитель учебного округа предлагает гимназическому совету выведать настроения учеников. Каждую неделю сочинения: одну неделю на тему «Мечты юноши», другую — «Влияние литературы на жизнь народа».
Как бы не так, напишет им Андрей о своих сокровенных мечтах! Только с самыми близкими товарищами можно поделиться ими где-нибудь в укромном уголке. В пятом классе у него есть такой товарищ — Миша Тригони. Он не чета отпрыскам прокисших керченских обывателей. Перевелся из Симферопольской гимназии, поссорившись с учителем. Даже Андрей смотрит на него, как на героя, и решает за Михаила задачки. Тригони в арифметике ни бум-бум. Мишка — сын генерала, а мать его — дочь адмирала. Отца он помнит плохо: умер, когда Мише едва минуло девять лет. Мать всегда была вольнодумкой: читала Герцена, рассказывала сыну о Гарибальди, на чем свет ругала «царя-освободителя». И откуда такое у адмиральской дочери?
Но это не важно. Важно, что Мишка привез роман Чернышевского «Что делать?». Вот это книга! Даже дух захватывает. Рахметов! Спит на гвоздях, бродит по белу свету и закаляется, работает бурлаком, лес таскает, землю копает, железо кует и ест только то, что едят простые люди. А ведь сам из благородных!
И никакой любви. Мишка же влюблен в какую-то симферопольскую барышню. Нет, Желябов не влюбится.
Андрей отбрасывает одеяло, зажигает свет. На небольшой полке книги, и среди них заветное «Что делать?». Сколько раз он перечитывал эти строки: «Скуден личными радостями путь, на который они зовут вас… Мало их, но ими расцветает жизнь всех; без них она заглохла бы, прокисла бы; мало их, но они дают всем людям дышать, без них люди задохнулись бы… Это цвет лучших людей, это двигатель двигателей, это соль соли земли».
Да, Андрей будет таким!
Вот только куда они зовут? И Мишка не знает.
На каникулах студенты толковали о каком-то социализме. Андрей вновь и вновь листает книгу. А ведь и правда, как он раньше не заметил этих глав о социализме?
Социализм — это народное счастье. Но Чернышевский недоговаривает: цензура мешает. В керченском же захолустье не достанешь книг о социализме. Нужно думать самому.
И опять бессонная ночь — теперь над снами Веры Павловны. Ей снится такая жизнь, когда не будет никаких господ, все будут работать, не будет бедных, не будет и богатых. Интересно бы посмотреть, как помещик Нелидов чистит коровник! Нет, этот никогда не станет, его нужно силой заставить. И царь с ними, с помещиками, заодно… Вот потому Каракозов и стрелял в него.
Учебный год кончался. Всем надоела зубрежка, донимала жара, пыль. Скорее бы каникулы! Тригони звал Андрея к себе в Симферополь. Соблазн был велик, да разве отпустят! Нужно домой, отцу помогать.
Дед приехал неожиданно. Андрей надеялся еще день-два побродить по Керчи, в библиотеке тайком почитать о Каракозове. Но дед не станет ждать.
Телега громыхала по керченской мостовой. В городе пусто. Жара загнала обывателей в дома. И так просидят они по своим норам до тех пор, пока не спадет зной. Потом выползут на улицы, молчаливые, бездумные.
А среди гимназистов, учителей, адвокатов только и разговоров, что о каракозовском деле. Год прошел, а все толкуют.
Если послушать господ адвокатов, что в публичной библиотеке витийствуют, то это черт знает что. По их словам, «выстрел ворвался в праздничную атмосферу именин, которые справляло наше общество со дня освобождения крестьян».
Хороши именины! «Помещики набили карманы выкупными свидетельствами и благодушествуют, любуются своей гуманностью, царя восхваляют за то, что он не сдает в солдаты всех лучших писателей и поэтов русских, а только некоторых, самых лучших, ссылает на каторгу и то по суду». Андрей знает о судьбе Чернышевского…
А если послушать краснобаев, так все реформы царь надумал, а все репрессии дело рук его «недобрых министров» или «бестактных» радикалов, которые хотят больше, чем отпускается из царской лакейской.
Проезжая мимо городского сада, Андрей вспомнил, как в летнем ресторане подвыпивший учитель географии схватился с заезжим земским врачом. Они так шумели на веранде, что Андрей, гулявший в саду с Тригони, решил, что там очередная драка.
— Вот, вот, мы говорили, — кричал врач, — вот она, воля! Вот они, реформы!
— Да поймите же вы, что, этот выстрел вздор… нелепость! Мальчишка, неуч! Разве можно обобщать? Здравый смысл народа — против. Все негодуют!
Здравый смысл народа?! Все негодуют?! Как бы не так! Андрей тоже из народа. Ему шестнадцать лет, не неуч, слава богу, а вот поди ж ты, никакого негодования! Наоборот. Он ясно видит, что в среде людей мыслящих, интеллигентов произошел раскол. Все эти адвокатишки, земцы отшатнулись вправо, поближе к царскому трону. А вот другие, те, кто не мог спокойно жить, видя вокруг себя море обид, горя и неправды, ушли в «школу Рахметова», чтобы отдать всю жизнь свою на восстановление попранных прав человека.
Каракозов из них. Желябов тоже хочет быть с ними. Дайте только срок, окончит гимназию, и тогда…
Что тогда, Андрей еще не знает.
У Дворянского собрания, как всегда, стоят извозчики. Странный народ! Ну кто в Керчи ездит в наемных пролетках? У господ — выезд, обыватель дальше своей улицы да базара носу не кажет. Вот и толпятся целый день, лениво переругиваются, гуторят о нелегком житье-бытье, мусолят городские сплетни. Дворянское собрание, а у его подъезда извозчичий клуб. На стене дома выцветший портрет «спасителя» царя Комиссарова.
Недавно он узнал, что Комиссаров повесился. Ирония: покушавшегося повесили, «спаситель» повесился сам! Туда ему и дорога! Хотя в чем виноват этот неграмотный шапочник из Костромы? Наверное, затесался в толпу, собравшуюся поглазеть на императора, кто-то толкнул его, он — Каракозова — вот и «спаситель». Верноподданный мир обрадовался возможности посюсюкать: «народ предан», «народ любит царя», «вот доказательство». Ну и началась вакханалия… Царь дал чин, мундир, деньги. Царица выписала его жену из деревни и своими руками вдела бриллиантовые серьги, нарядила в кринолин и бархат. Бедные супруги стали посмешищем всего Петербурга. Комиссаров не выдержал: и раньше пил, а теперь запил горькую. Тогда его сплавили из столицы: царь пожаловал дворянство, дворяне — пятьдесят тысяч, имение в Костромской губернии — и оставили одного. А в результате — белая горячка, затем самодельная виселица…
Две виселицы — два символа двух России.
Вот и последний дом Керчи остался позади. Лошадь неторопливо перебирает ногами и только хвостом отмахивается, когда ее понукают. В этакую жарищу трудно бежать рысью. Кругом желтые, высохшие степи. У горизонта, слева, узкой полосой синеет море.
Изредка с моря долетают легкие порывы ветра, они сдувают с дороги пыль и бессильно оседают на сухие травы.
С пригорков открывается вид на далекие холмы; их очертания дрожат, струятся в знойном мареве.
На дороге безлюдно, поэтому и степь кажется вымершее пустыней.
Верста за верстой уносят воспоминания о городе, и с каждой новой наплывают картины детства.
Старик сосредоточенно правит лошадью и только изредка оборачивается на седока; тогда в его глазах мелькает радость. Юноша улыбается в ответ.
Ехать далеко. Здесь, в степи, все родное, знакомое. Керчь — это последние годы, а степь — детство, старик — тоже детство, и конь, и эта старая телега, запахи выжженной солнцем травы — все детство, детство.
Андрей смотрит на спину деда. Старый, а крепкий еще. Седые курчавые волосы прикрывают шею, огромную бороду задувает ветерком в сторону. Когда он оборачивается, Андрей не успевает разглядеть, есть ли на лице новые морщины. Но румянец остался прежний. И сюртук, длиннополый, из верблюжьего сукна, тоже старый, он старше Андрея.
Дед сам приехал в гимназию за Андреем, чтобы отвезти его домой на вакации. Это была большая честь для внука, и Андрей с любовью поглядывал на деда. Он первый его учитель, наставник, воспитатель. Даром, что ли, Андрей четыре года у него прожил! В доме отца псе было проникнуто почтением к господам помещикам Нелидовым, дед же с бабкой жили у помещика Лоренцова на птичьем дворе, которым ведала бабка. Здесь царствовал дух вольнолюбия. Андрея всегда тянуло в этот дом. В отцовском было скучно. Отец в вечных разъездах, он — управляющий в экономии, хоть и дворовый-крепостной. Важничает, а потому Андрею не раз влетало за проказы. Когда крестьянам «воля» вышла, отец ликовал, дед хмурился, бабка по-стариковски продолжала сокрушаться — как это она, вольная казачка, за деда, дворового, замуж пошла. Дед прикрикивал на нее: «Вольная ноне!», но бабка только рукой махала.
Андрей привстал на телеге. Впереди замаячили дома. Все те же мазанки, ободранные, под соломенной крышей. А ведь седьмой год пошел, как «волю» дали. Здесь ничего не изменилось.
Дед опять обернулся к внуку, кивнул бородой на дома и в сердцах огрел лошадь кнутом.
Радостное настроение постепенно падало. Андрею уже не хотелось домой, хотя он очень соскучился по матери. Эх, к деду бы!.. Засуетится бабка. Бросится к погребу, по дороге накричит на своих кур и гусей. А он обойдет тесную горницу, на минуту замрет у образов старого письма, высунется в узкое окошко и с ходу плюхнется на широкую деревянную лавку. Дед будет ласково следить за суматохой, но не улыбнется. Он никогда не улыбается. Потом возьмет с древнего комода псалтырь, откроет его перед внуком:
— А ну, прочти-ка этот псалом, не забыл титлов?
И Андрей, не глядя в книгу, наизусть… Он все псалмы помнит.
Часто они отправлялись в горы, в лес рубить дрова. И прежде чем взяться за работу, дед говорил:
— Ну, Фроленок, псалом такой-то! И Фроленок барабанил без ошибок. «Фроленок»! Его так дед прозвал. А ведь по отцу он Желябов. Но дед не любит желябовского духа. Там копейку берегут, в дворовых службах исправны, с помещиком почтительны. А вот Фроловы — те издавна бунтовщики. Дед, Таврило Тимофеевич Фролов, был дворовым помещика Штейна, вырос в Костромской губернии и вместе с ним приехал в Крым.
А по дороге женился. Помещик ехал не спеша, с обозами, дворней. Подолгу гостил у знакомых да у родичей. На Полтавщине месяц стояли. Вот тут-то дед и женился на Акулине Тимофеевне, вольной казачке.
Они под стать были друг другу. Бабка страсть как горевала, что ей в неволю идти придется, но пошла за дедом. А он хоть и дворовый, да раскольничьим духом заражен. Независимо держался. Его и помещик побаивался. Кто их знает, раскольники — они народ строптивый, озорной.
Скоро и Андреевка. А родился он рядом, в соседнем селе Султановке, сюда перебрались только после того, как на волю выкупились.
Дед остановит лошадь на барском дворе. Выбежит мать — Варвара Гавриловна, бросится на шею сына. Отец тоже небось ждет. Сын-то хоть и из бывших крепостных, а вишь ты, в гимназии обучается вместе с благородными. Ох, не любит Андрей этой отцовской спеси!..
Мать на стол собирать начнет, а отец обязательно на нее прикрикнет:
— Поворачивайся, ведь стоишь пятьсот рублей и пятак медный!
А ведь и правда, мать-то отец купил за пятьсот рублей. Покупал на свои деньги, но не сам. Он хоть и управляющим был, да крепостной. Но оброк помещику платил изрядный, вот и уговорил Нелидова купить у помещика Лоренцова дочь Гаврилы Фролова. А познакомился он с ней во время поездок из Султановки в Симферополь, где его барин Нелидов на военной службе состоял.
Деда сморила жара. Он с трудом разжимал слипающиеся веки, они сами закрывались. Голова опустилась на грудь, вожжи выпали из рук и волочились по пыльной дороге. Андрей ничего не замечал.
Лошадь встала. От неожиданности старик покачнулся и чуть не выпал из телеги. Андрей с удивлением оглянулся. Рядом стояла легкая бричка. На сиденье высился несуразный человек, с очень длинным туловищем и маленькой головкой. Он поглядел на старика, потом на Андрея. В глазах мелькнуло злобное выражение, и бричка обдала телегу пылью.
— Антихрист, выродок, прости господи! — Дед в сердцах плюнул.
Андрей узнал его. «Полтора-Дмитрия», приказчик Лоренцова, шпион, наушник и экзекутор в недавнем прошлом, когда еще пороли на конюшнях и развратничали в девичьих. Бабушка Андрея, прежде чем пожаловаться на горькую долю, подходила на цыпочках к окну, нет ли там «Полтора-Дмитрия». Приказчик слышать не мог имени Желябовых, на всю жизнь у него остался шрам: дядя Андрея за «добродетель» проломил ему голову.
Утро, так чудесно начавшееся, было испорчено. Дед больше не оборачивался, усиленно работал кнутом, хотя лошадь сама чуяла близость дома и резво бежала по знакомой дороге.
В голову лезут горькие воспоминания. Вот сейчас миновали пригорок, где когда-то он с бабушкой поджидал деда, возвращавшегося из Феодосии. Ведь дед всегда приносил внуку гостинцы. Сколько тогда было радости!..
А вспоминается нерадостное.
Как-то поздней ночью его разбудили рыдания. Простоволосая тетя Люба горько причитала, валяясь в ногах у деда: «Тятенька! Миленький тятенька, спасите!» Андрей кубарем скатился с полатей, да его бабка перехватила, втолкнула в боковую комнату и заперла там. Он только и успел заметить, что у тети порвано платье. Потом пришел «Полтора-Дмитрия». Все стихло. Утром бабушка плакала, а деда не было. Бабка говорила, что он за гостинцами в город ушел.
Два дня Андрей встречал его на горке. А дед все не шел да не шел. А когда встретил, то никаких гостинцев не получил и дед на руки не взял. А ведь всегда брал и версты две нес.
Дед ходил тогда в город искать суда на помещика, обидевшего тетю. Да какой там суд, крепостные — они не люди. Андрей все лето строил планы, как бы этого Лоренцова убить. Ведь как в душу запало, лет шесть только и думал о мести. А теперь поостыл. Толк-то какой?
Вот и мать говорила: «Все они мучители». Теперь он о другом мечтает.
Есть у него дядя. Этот не чета отцу. Отец земные поклоны помещику клал, а брат его от истязаний за Дунай бежал, а как жил там, Андрей и сейчас не знает. Теперь-то он дядю расспросит. И дядю Павла нужно потормошить, тот тоже беглый был, много лет в коробейниках под чужим именем ходил, пока его не признали, в кандалы не заковали и снова помещику не вернули. Дядя небось по сей день поваром на кухне. Эх, и рассказывал же он о своих походах! А кончал обязательно так: «Помещик как глянул на меня, как ногами затопал: «В Сибирь мерзавца!..» За столом все стихали. А мать совершала крестное знамение.
По дороге чаще стали попадаться виноградники, выжженные травы уступили место пшенице. Она только-только входила в силу и еще не пожелтела, переливаясь бледно-зелеными волнами сочных стеблей. На полях работали женщины и тянули унылые песни. А Андрей любил задорные украинские. Ему их бабушка спивала, да и другие пели. Ведь тут, в Крыму, невесть сколько беглого люда оседало, сюда уходили казаки из Сечи, с Гетманщины. Живы были старики, которые и батюшку Емельяна Ивановича Пугачева помнили. И песни-то все про волю.
Собачий лай отвлек Андрея. Да это Татарка лает и визжит. Узнала, на ходу прыгнула в телегу, и теперь не отобьешься, всего излижет.
Нет, все же хорошо возвращаться домой!
Каникулы всегда пролетают слишком быстро. Крестьянский сын отдыхал, занятый крестьянскими делами: работал в июле, ходил по дрова в лес, помогал матери по хозяйству. Забот много, а время идет. Так и не съездил к деду. Пришлось старикам самим навестить внука.
И снова Керчь, гимназия и омут тех же настроений, дум, неотступных поисков своего места в будущем.
В седьмом классе твердо решил поступать на юридический, вот только в какой университет податься? Этот трудный вопрос разрешился внезапно. Желябов узнал, что некий меценат Афанасий Лулудаки в канун смерти оставил значительные суммы для выдачи стипендий молодым людям Феодосийского уезда, обучающимся в Новороссийском университете.
Хотелось попасть в Петербург, но и Одесса кипучий город.
Последнее полугодие как в тумане. Зубрежка для аттестата, запойное чтение для образования. Остаток свободного времени — в гимназическом кружке. И опять чтения, споры. Но кружок дорог Андрею. Это была первая аудитория, в которой он учился говорить. Сначала было странно видеть, как затихали товарищи, как разгорались у них глаза. Потом, привыкнув к этому, Андрей стал прислушиваться к собственным словам. Они, и правда, звучат призывно, страстно. Фраза за фразой с неумолимой логикой развертывают мысль. Вот только бы мысли были верные!
Наконец долгожданное 4 июня 1869 года. Дворовый мальчик, сын дворовых, окончил гимназию с серебряной медалью. Гимназическое начальство хоть этим отомстило строптивому мужичку — ведь он должен был получить золотую. Придрались к поведению. Но и серебряная тоже неплохо.
— Господа, господа, я ненадолго задержу ваше внимание…
Ректор Новороссийского университета Леонтович устал. Август в Одессе невыносимо жаркий, море безмолвствует, деревья не шелохнутся. Конечно, это заседание мог бы провести и проректор, но он, как всегда, в самый нужный момент заболел, пришлось приезжать со взморья в эту одесскую баню.
— Мы разобрали прошения поступающих в университет. Среди них обращает на себя внимание заявление крестьянского сына Андрея Желябова, окончившего Керченскую гимназию с серебряной медалью. Я зачитаю его, с вашего позволения.
«Желая поступить в Императорский университет на юридический факультет и представляя аттестат, выданный мне от Совета Гимназии от 4-го июня с. г. за № 278 об окончании курса наук, а также свидетельство Феодосийского уездного Полицейского управления от 11 июля за № 4112 о моей несостоятельности, честь имею покорнейше просить Совет Университета зачислить меня в число студентов и освободить от взноса денег за право слушания лекций; о звании моем и бедности Мировой Посредник той Волости, к которой я приписан, имел честь уведомить Его Превосходительство Г. Ректора Университета.
Андрей Желябов».
Леонтович невзлюбил Керченскую и Кишиневскую гимназии. Причин этой неприязни никто не знает, но члены совета всегда готовы угодить начальству. Декан юридического факультета предлагает подвергнуть экзаменам всех выпускников Керченской гимназии. Предложение противозаконное, но члены совета торопятся домой, в зале очень душно, спорить не хочется.
На следующий день Желябов с удивлением узнал, что вопреки правилам зачислять в университет всякого, кто пожелает учиться дальше после окончания гимназии, ему и Тригони предстоит решить несколько письменных «задач».
«Задачки» оказались легкими, и уже в октябре попечитель учебного округа утвердил Желябова студентом. От платы за слушание лекции «по бедности своей и прилежанию к наукам» Андрей был освобожден.
Стипендия Афанасия Лулудаки — триста пятьдесят рублей в год — обеспечивала сносное существование и независимость. Теперь можно и оглядеться. Прежде всего Одесса.
Желябов предпочитал бродить по городу в одиночестве, хотя его новые товарищи одесситы наперебой предлагали показать «русский Париж».
Париж? Андрей назвал бы Одессу Вавилоном. Русские, армяне, евреи, греки, караимы, французы, итальянцы, поляки — да кого только не встретишь на ярко освещенных солнцем улицах!
По гранитным и известняковым торцам стучат пролетки представителей иностранных фирм, спешат экипажи банкиров, биржевиков, в шарабанах катят коммивояжеры всех национальностей.
На тротуаре живописная мешанина ярких цыганских шалей, тюрбанов, котелков, откровенных грязных лохмотьев. Гортанная речь вплетается в бойкую скороговорку одесского жаргона.
Улицы заставлены домами различных эпох и стилей. Великолепные постройки Торричелли, Боффо, Коклена, роскошные фонтаны, знаменитая лестница к морю и не умолкающий ни на минуту порт, а рядом старообрядческие скиты, добротные бревенчатые хоромы, напоминающие Замоскворечье. На окраинах хижины, землянки. Здесь живут истинные одесситы, потомки древних запорожцев, рыбаки, грузчики, садовники и огородники из пригородов, заводские и портовые рабочие. Пересыпь, Слободка, Молдаванка, Сахалинчик утопают в пыли.
Здесь Одессу называют «мамой». Вечерами «Одесса-мама» пьяно поет, дерется. Воры и налетчики сюда не заглядывают, тут нечего красть, а матросня всех флагов мира пирует здесь по грязным кабакам.
Андрей быстро освоился с Одессой, той Одессой, которая жила улицей, а не пряталась за тяжелые жалюзи и поглядывала на мир из-за легких маркиз шикарных дач на взморье.
Новороссийский университет как бы маленький слепок города. Дворянских отпрысков в нем немного. Среди профессоров — Мечников, Ценковский, остальные не блистают именами.
Юридический факультет задает тон всему университету. Одесса нуждается в адвокатах, юрисконсультах, посредниках торговых фирм. День ото дня растет торговля города. В год поступления Андрея в университет Одесса вывозила в основном пшеницы и сахара почти на пятьдесят два миллиона, а ввозила всевозможной мануфактуры, фруктов, напитков, каменного угля на шестьдесят один миллион рублей.
Одесские воротилы делали деньги «из воздуха» и искали юристов, которые могли узаконить их «воздушные операции».
Новороссийский университет — самый молодой среди русских университетов. В 1865 году его основали на базе Ришельевского лицея. В нем еще не успел укрепиться традиционный дух студенческого вольнолюбия. Не принял университет участия и в студенческих волнениях 1869 года.
Здесь все еще было «молодо-зелено».
Скоро Андрей сделался «своим» человеком. И даже среди студентов старших курсов.
На Гулевой улице, недалеко от кафедрального собора, студенты основали собственную кухмистерскую. За сходную цену здесь можно пообедать, выкурить с друзьями папиросу. Вечером кухмистерская превращалась в клуб. Столы сдвинуты, работает буфет, табачный дым разъедает глаза. Под низкими сводами гудят голоса заядлых спорщиков. По ночам храп: спят случайные и постоянные обитатели — на диванах, столах, лавках и даже на стойке буфета.
Кухмистерской заведуют выборные распорядители; Попасть в их число — большая честь. У них касса, они дежурят во время обедов и ужинов, без них не получишь ночлега.
Андрей непременный завсегдатай кухмистерской. Его знают все. В споре трудно осилить этого первокурсника. Говорит просто, ехиден, остроумен, находчив и начитан. Без него не обходится ни одно собрание. А если нужно что-то достать, добыть денег, Андрей незаменим. Из первокурсников он единственный избран распорядителем.
В кухмистерской обедают не только приезжие и нищенствующие студенты-одесситы. Здесь толкутся и сынки богатых родителей, к примеру, Афанасьев, Южаков, Карвацкий. Их зовут «белоподкладочниками». Они составляют кружок «мыслящих просветителей». В этом кружке все чинно: читаются рефераты, проводятся диспуты, но никакого радикализма. Афанасьев уже магистрант по кафедре всеобщей истории. Эрудит, блестящий оратор профессорского склада, неизменный председатель на всех сходках и собраниях. Он против крайностей монархии, его идеал — парламентарные формы правления. Всему виной считает темноту и невежество и всячески ратует за просвещение. Но это на словах. Дел за кружком Афанасьева пока не числится.
Желябов не в ладах с «белоподкладочниками», чистюли и пустословые ему противны.
Вскоре Андрей и его друг, студент-филолог Николай Шостаковский, создали свой кружок. В него вошли юристы — Евгений Гардецкий, Владимир Белкин и другие. Кружок всегда в сборе, так как почти все его члены живут в кухмистерской.
Желябов следил, чтобы кружковцы аккуратно посещали лекции — не те, казенные, а публичные. Их читают Мечников, Ценковский. Естественнонаучный материализм — и никакой мистики, поповщины. Часто после лекций, когда уходит профессор, стихийно возникают диспуты.
Ночами Андрей читал. Не было недостатка в переводных романах, в писанине «официальных наставников молодежи», а вот произведения Лассаля и Прудона, Сен-Симона, Фурье, книги «Современника» добывались с трудом.
Андрей и тут нашел выход. Ежедневно в Одессу прибывали пароходы. Они шли со всех концов земли. Были и такие, которые регулярно курсировали между Одессой и портами Франции, Италии. Кружковцы завязали дружбу с матросами этих судов, через них наладили доставку иностранной литературы, нащупали связи с русской эмиграцией, издающей за границей свои журналы.
«Исторические письма» Лаврова, печатавшиеся в журнале «Неделя», скоро стали кодексом морали, настольным справочником для ищущей мысли.
Добытые с таким трудом книги ценились на вес золота, зачитывались до лохмотьев, иногда пропадали. Кружок Желябова решил основать тайную библиотеку тут же, в кухмистерской. Попасть в число читателей и членов этой библиотеки было трудно, хотя доступ в нее специально не закрывался. «Афанасьевцы» стали членами библиотеки, внесли свою лепту, но контрабандными изданиями пользовались с оглядкой.
А Андрей читал запоем, пополняя пробелы в своем образовании.
Этот поток книг регулировался только интуитивными симпатиями. Беллетристика не пользовалась успехом, ее заменяли впечатления, вынесенные из студенческих похождений.
А их было немало. Веселый, задиристый, на редкость сильный, Андрей любил бродить с приятелями по ночной Одессе.
Тихо бренчит гитара, тихо поют голоса. Опавшая листва слабо шуршит под ногами. Ни огонька. И только в порту светятся, мигают, вспыхивают и вновь гаснут сигнальные фонари, отдуваются паром машины, да в ночном безмолвии приглушенно разносится: «Вира!», «Майна!»
В укромном углу бульвара на скамейке две темные фигуры. Для них не существует окружающий мир. Как тени склоняются над парой четыре «привидения», взмах руки, «Gaudeamus»… и крики перепуганных влюбленных.
Городовой заснул на посту, приткнувшись к полосатой будке. Еле слышно звякает сталь, шашка отделилась от ножен и воткнулась в песок…
Сонно трусит пролетка, седок похрапывает, кучер клюет носом. Но вот сердито фыркнула лошадь, замер цокот копыт. «Но! Но!» Свистит кнут, конь натужливо тащит экипаж. Шаг, два. Дружный хохот отпрянувших от задней оси весельчаков. Неистовая брань кучера. Проснувшийся седок ошалело хлопает глазами.
И снова тихо, пустынно. Изредка тявкнет собака, донесется далекий посвист полицейского.
В купеческом клубе дым коромыслом Окна настежь, тост за тостом, пьяные крики, а за зеленым сукном «пас», «вист», «три без козыря», «шлемик в червях»…
На подоконнике появляется белая фигура. Она беззвучно кружит. За окном печальный хор старательно выводит: «Умрем — похоронят…» Хохот. Крики: «Полиция!», «Черт те что делается!», «Безобразие!» Мелькают пущенные неверной рукой бутылки. Фигура исчезает. В раскрытое окно влетают сухие комья земли, дохлая кошка. И вновь тишина…
Утром по городу ползут тревожные слухи. Уличные зеваки гогочут, обыватели крестятся, власти пожимают плечами: на то они и студенты, чтобы шкодничать. Полицейские нравы в Одессе были еще патриархальными.
А не дай бог городовые заарестовали рабочего или тянут в околоток бездомного бродягу. С гиканьем налетают на них длинноволосые, удар по зубам, второй в ухо, заливистый разбойничий свист… и нет никого. Поди лови ветер в поле…
Быстро промелькнул первый, 1869/70 год учебы. Остались позади споры, удалые похождения. И снова каникулы, Крым, Андреевка.
Не успел Желябов оглядеться дома, как его вызвали в Керчь. Зачем бы это? Тревожно сжалось сердце. Оказалось, что директрисе женского пансиона Мусиной-Пушкиной на лето нужен воспитатель и учитель для ее сыновей-близнецов. Желябов недоумевал, кто бы это мог сосватать? Потом узнал: его имя назвали и директор гимназии, и преподобный, и словесник — ну и букет! Андрей готов был отказаться, но раздумал. Мусина-Пушкина сообщила, что лето ее сыновья проведут в имении тетки, в Симбирской губернии.
Новые места, новые люди, да и дома одним ртом меньше.
Дорога шла лесом, телега подпрыгивала на корнях, цеплялась за пни. А за каждым поворотом опять сосны, ели, лиственницы, дубы. Лес смешанный, густо поросший орешником, рябиной, бузиной. И грибы… Они более всего поразили Андрея. Нарядные мухоморы первыми приветствовали наступление тепла. Еще не настала пора для боровиков, но сыроежки, ранние вестники лета — подберезовики, нахальные белянки бесстрашно подступали к самой дороге. Андрей соскакивал с телеги, вырывал их, чем доставлял неподдельное веселье вознице. Подумать только — есть ведь на свете люди, которые впервой видят грибы.
Горки встретили Андрея веселым шумом юных голосов. Два брата Мусины еще в Керчи влюбились в наставника и теперь наперебой выражали свой восторг. Из-за приоткрытых гардин мезонина на Андрея с любопытством смотрели три пары взволнованных девичьих глаз. Барышни отметили и статность, и вьющиеся каштановые волосы, и высокий рост студента.
Андрей осмотрелся быстро. Уже вечером в день приезда он знал, что дядя его воспитанников, помещик Топоркин, ярый крепостник, хулитель всего нового, но не чуждый понятиям честности человек. Его супруга, Анна Васильевна, деспотична, религиозна; барышни-племянницы — типичные институтки, чуть-чуть задетые веянием времени; а братья Мусины — сорванцы с наклонностями к скверностям втихомолку. Но в Горках нет духа лицемерия, чиновничьей надутости, лгущей учтивости и пустого фанфаронства.
Утро начиналось с купанья. В шесть часов вода еще холодная, обжигающая Андрей с наслаждением плавал, подгоняя своих воспитанников. Над водой стоял легкий туман, и в тишине звонко разносились повизгивания барышень, не желавших отставать от студента, хотя купаться в такую рань им было не в обычай.
До одиннадцати Желябов вел классные занятия.
Братья клевали носами и оживлялись только тогда, когда легкий ветерок доносил из кухни раздражающие ароматы жареного мяса. Андрей пытался наставить воспитанников на путь истинный, но очень скоро убедился в тщетности своих усилий. Нет, этих лентяев нужно чем-то взволновать! Желябов решил впредь ничего не задавать и ни о чем не спрашивать. Просто беседовать, пробуждать интерес к наукам.
В этой богоспасаемой глуши можно и не скрывать радикальных взглядов. Конечно, ему не перевоспитать дядю, да и тетушку не сделать атеисткой. Но можно и нужно спорить с ними в присутствии племянников и племянниц. А на уроках рассказать об университете, кухмистерской и незаметно завести разговор вообще о знании, его силе и величии, напомнить о Колумбе, Галилее и, конечно, о деятелях Французской революции.
За завтраком ели помногу, и даже барышни. Андрей впервые пробовал грибы. И по тому, как хитро посматривала на него тетушка Анна, как весело посапывал хозяин дома, было ясно, что возница рассказал барам о необычном седоке, собиравшем без разбора мухоморы, сыроежки, поганки.
Завтрак окончен. Барышни сонно поглядывают на старших. Сейчас хорошо забраться в глубь сада, в тень и поваляться часок-другой. Они не слушают, что говорит студент. А Желябов требует, чтобы его воспитанники переоделись и шли в поле помогать мужикам. Уже пора и сено косить, а там придет время жатвы. Студент не терпит возражений. Ему доверили обучение и воспитание, он будет во всем следовать «своей программе».
Барчуки никогда не держали в руках косы. Она то зарывалась в землю, то со свистом обрезала макушки трав, грозя отхватить ноги. А Андрей уже далеко впереди. Он не отстает от мужиков. Час, другой. Косцы нет-нет да поглядят на солнце. Скоро полдничать, а этот длинноволосый все машет и машет. Ну и силища же у человека, а по виду из образованных!..
Но вот Желябов откинул в сторону косу, утер вспотевший лоб и подсел к мужикам.
— Из чьих, паря, будешь?
Разломив краюху хлеба, густо посыпав ее солью, Андрей жадно вцепился зубами в мякиш.
— Теперь мы сами по себе, а ранее был дворовым бар Нелидовых.
Косари недоверчиво переглянулись. Ну и брешет! Разве ж дворовые обучаются в гимназиях или там в университетах? А на нем рубаха барская да волос длинный. Но косить здоров, любого за пояс заткнет.
Воспитанники давно уже спали под кустом, когда Желябов кончил проходить полосу. Он растолкал их и повел к реке. Еще утром они заметили лодку.
Утлый челнок был малоустойчив. Под тяжестью трех человек борта его осели и стали сочиться. Андрей сидел на корме и ловко работал веслом, то с силой загребая, то осаживая лодку. Берега утопали в зелени, речушка петляла среди кустов и снова неслышно бежала дальше, к Волге.
Вечер наступал незаметно. Солнце садилось за лесом, бросая неверные отсветы на верхушки сосен, играя багровыми бликами в окнах усадьбы. На террасе задумчиво следили за закатом. С пригорка хорошо было видно, как растворяются в сумерках очертания дальнего села, и только белый призрак церкви еще четко вырисовывался на поблекшем небе. Церковь казалась голубем, который сложил крылья, вытянул вверх голову-маковку и что-то внимательно разглядывает там, за далекими облаками. Потом исчезла и церковь, как будто голубь взмахнул крылом и улетел.
Так проходили дни, недели. Давно уже Андрей покорил строптивого дядюшку, хотя тот пророчески ругал его «висельником», а иногда Сен-Жюстом. Барышни ссорились между собой, добиваясь благосклонного внимания Андрея, «братья-разбойники» смотрели в рот и всегда горой стояли за воспитателя в его спорах с тетушкой.
А спорили часто. Андрей воздерживался от диспутов на религиозные темы, однажды заметив, как болезненно реагирует на это Анна Васильевна. Он уважал в людях искренность и убежденность. В церковь не ходил, но не мешал воспитанникам, хотя те брели за теткой с кислыми минами.
Когда же разговор заходил о литературе, истории, Желябов не знал компромиссов. Барышни восхищались Пушкиным, пересыпая восторженные междометия цитатами. Андрей недолюбливал поэта, он считал его «слишком художником», хотя для «Сказки о рыбаке», «Капитанской дочки» и, конечно, «Послания Чаадаеву», «Кинжала» делал исключение.
Зато Лермонтова Андрей боготворил. Особенно «Песню про купца Калашникова» и «Мцыри». В разговорах Желябов любил вставить фразы из «Героя нашего времени», а иногда, следуя печоринским заветам, интриговал барышень. Хотя доктор Вернер импонировал Андрею больше.
Из соседних деревень до Горок докатывались тревожные вести. То в Троицком крестьяне отказались платить выкупные платежи и на миру порешили не ходить на барщину, то рядышком в Бублевищине запылала помещичья усадьба.
Топоркин негодовал, честил всех крестьян «канальями», «душегубами», призывал проклятья на голову «освободителя». Андрей день 19 февраля называл «светлым воскресеньем новой Руси» и крестьян в обиду не давал.
Не раз долетали с полей протяжные песни жнецов. Без слов, одной жалобной мелодией они нагоняли тоску. Желябов бродил по деревням, записывал сказы о Пугачеве, срисовывал узоры полотенец и деревянных коньков. Его подопечные не отставали.
Незаметно они втянулись в чтение и теперь часами просиживали над томами русской истории, читали вслух Гоголя, делали переводы из Гейне. Андрей открыл им Белинского, декабристов, петрашевцев. Новый мир образов, мыслей, чувств захватил юношей.
Не без гордости вслушивался Желябов в рассуждения братьев. В их словах он находил свои мысли. С каким негодованием говорили эти барчуки о надутом чванстве чиновников, пышном невежестве велико-светских франтов, с каким трепетом произносили имена Дантона, Демулена, Сен-Жюста!
Это лето много принесло и Андрею. Он поверил в себя, в свое умение заражать людей любовью или ненавистью, поверил в слово, способное окрылить человека.
Расставались со слезами. Тетушка плакала не таясь, дядя сопел и бормотал в нос:
— Так-то-с, молодой человек, значит, уезжаете?!
Одесса приветствовала Андрея всполошенным хором кающихся интеллигентов. Сначала Желябов никак не мог разобраться, что стряслось с его товарищами. В кухмистерской оратор сменял оратора, каждый бил себя в грудь, но пойди пойми, чего им хочется — «конституции или севрюжатины под хреном»? И только бесконечное повторение имени Лаврова давало путеводную нить, с помощью которой Андрей, наконец, выбрался из лабиринта путаных фраз и патетических всхлипываний.
Новый моральный кодекс Лаврова, освобождение личности от пут патриархальщины, разумный инстинкт, управляющий историей. Это будоражило мысль. Да и не только слова — вся жизнь Лаврова казалась идеалом служения революции. Полковник, профессор математики в артиллерийской академии, Лавров увлекся философией и стал читать публичные лекции, вызвавшие фурор своими социалистическими тенденциями. Каракозовский выстрел рикошетом попал в профессора. Он лишился погон, кафедры и был сослан в Вологодскую губернию. Но его уже знали, за его судьбой следили, и Герман Лопатин, дерзко, буквально из-под носа жандармов, извлек Лаврова из «снежной темницы».
Теперь его голос вновь взывал «оплатить неоплатный долг народу».
В прошлом году Андрей воспринял эту проповедь с усмешкой. Кому он и что должен? Народу? А кто же такой он, Желябов Андрей Иванович? Дворянин?
Купеческий недоросль? Потомственный интеллигент? Нет, он крепостной, сын крепостного, внук раба. Он никому ничего не должен. Его не гнетет совесть за то, что, пока он учился, народ пахал, пока он читал Пушкина и Байрона, народ сеял, пока он зубрил латынь, народ жал. Он сам пахал, сеял, терпел от Нелидова, дрожал, заслышав крики истязаемых на конюшне.
Пусть Афанасьев и Южаков каются, до них не доносился свист бича, и едкий пот непосильного труда не разъедал им глаза.
Но это было год назад.
Теперь же Андрей смотрел на мир иным взором.
У него есть долг перед теми, кто ему брат по крови, кто не окончил гимназию, кто едва складывает «аз» и «буки», кто целыми днями гнет спину, едва зарабатывая на пропитание.
Сколько таких обездоленных, нищих, грязных детей и подростков встречалось Андрею во время его скитаний по Одессе! Не раз заскорузлая детская ладошка, уже обезображенная мозолями, тянулась к нему за подаянием, а голодный взгляд убегал в сторону. Эти десяти - двенадцатилетние «рабочие» стеснялись просить «Христа ради», и Андрей понимал гордость «трудового человека», хотя «пролетарий» должен был еще играть в куклы или «казаки-разбойники».
Если бы собрать воедино те прекрасные слова, которые выпаливают ораторы в адрес народа, да пустить их пройтись вольным ветром по дворцам и департаментам, барским квартирам и полицейским околоткам, буря вымела бы всю скверну бюрократизма, собственнической корысти, алчности, кровопийства. Но слова бились о стены и, бессильные, растворялись в табачном дыму кухмистерской. Иссякали фразы, замирали восторги, и каждый брел к своему дивану, забирался на жесткий стул, чтобы уснуть. Только в снах некоторым грезилось слово, ставшее плотью и идущее по миру. Андрей и во сне старался не грезить.
К чему все это?
Из-за рубежа вновь летело: «Ступайте в народ!» Бросайте школы и университеты, отрекитесь от старого мира, обреченного на гибель. Только в сермяжной, замызганной деревне обретете вы свое счастье, свою науку. Растворитесь в народе, ведите его за собой к социальному и экономическому равенству. «В народ!» Как набатный звон отдавался этот призыв в сердцах молодежи.
Андрею захотелось покинуть кухмистерскую. И не потому, что надоели товарищи, кружок, ежедневные споры, громкие читки. Его деятельной натуре нужен был простор, нужна была улица, толпа. Желябов не шутя называл себя «демагогом» — народным трибуном.
Тригони отговаривал друга. Михаил все более и более увлекался будущей профессией. Он твердо решил по окончании университета стать присяжным поверенным. Андрей отшучивался:
— Кого же ты будешь защищать? Крестьянина, рабочего? Да ведь у них карман дырявый. А карман пустой — судья глухой. Адвокату гонорар платить нечем — значит, виновен.
Тригони по нескольку дней дулся на приятеля, потом снова как ни в чем не бывало не отставал от него ни на шаг.
Желябов уговорил его переехать на жительство в портовый район города.
— С будущей клиентурой за ручку познакомишься, глядишь, и пригодится.
Других кружковцев вытащить из кухмистерской не удалось. Зато Андрей добился, чтобы они открыли общеобразовательную школу для приказчиков и швей. Идея пришлась по сердцу.
Кое-как наскребли средства, помог Тригони и Лордкипанидзе, сын зажиточного одессита. Сняли пять больших полутемных комнат бывшей портняжной мастерской. Приказчики откликнулись вяло. В учении они не видели большого прока. Вон хозяин соседней ресторации богат, уважаем, а подпись под чеками едва выводит. У приказчика одна мысль, одна думка: копеечку к копеечке сложить, капиталец сколотить да в хозяйчики выбиться. Дважды два и без студентов сосчитают, а вот как трижды три целковым сделать — они не научат.
С охотой шли учиться швеи. Ведь они знали только — игла, наперсток, утюг с рассвета и до темна, а ночью барак, клопы и горячечный сон на пустой желудок.
Набралось пять групп-классов. Низший класс — совсем неграмотные, во втором — умеющие читать по складам.
Желябов взял на себя самое трудное: русский язык в низшем классе.
На первый урок шел с волнением. Волновались и ученики. Швеи задолго до начала занятий забрались в «школу», вымыли полы, протерли окна, столы, лавки и чинно расселись по местам, выложив тетради и карандаши.
Урок начался просто, Андрей стал читать «Песню о рубашке» Томаса Мура. И с первых же слов заметил, как дрогнули и полураскрылись губы, вспыхнули глаза у слушателей. Затем Пушкин — «Зима!.. Крестьянин, торжествуя…».
Начало было положено. Желябов нашел общий язык с учениками, его слово ловили. Теперь можно и за азбуку.
Рядом преподают Виктор Заславский, Железняк, Гольдштейн. Ведут уроки математики, истории, словесности. Детище Желябова ожило.
С замиранием сердца Соломон Чудновский вступил на панель Одессы. После унылого Херсона, куда его вначале выслали за участие в беспорядках петербургских студентов, Одесса казалась обетованным раем. Хотя и здесь ему предстояло находиться под гласным надзором полиции, это уже мало трогало, к надзору он привык.
Мартовский вечер был тихий, чуть-чуть подмораживало, но в воздухе незримо реяли бодрящие струи весны.
Куда идти? У Соломона было несколько адресов и даже рекомендательных писем в добропорядочные семейства одесских обывателей, но, памятуя о поднадзорности, он боялся ночным вторжением всполошить своих будущих «благодетелей».
Переночевав кое-как в ночлежке, Соломон уже на следующий день определился вольнослушателем естественного факультета.
Весть о прибытии петербургского поднадзорного студента взволновала кухмистерскую. На Соломона показывали пальцем, когда он проходил мимо, о чем-то шептались. Между тем ему не терпелось скорее окунуться в студенческую жизнь, вновь после двухлетнего перерыва ощутить прерывистый пульс острых полемик, споров, диспутов. Но для этого нужно было прежде всего стать своим человеком в кухмистерской. Соломон аккуратно посещал ее. Кухмистерская существовала хотя и открыто, но не совсем легально, поэтому постоянное пребывание в ней поднадзорного смущало многих: как бы не навел полицию на этот студенческий клуб. Но вскоре пришло успокоение.
Полицмейстер Одессы полковник Антонов и его правая рука секретарь полицейского управления Болотов не собирались уделять «неблагонадежному» много времени и внимания. Вид на жительство у него есть, ну и до свидания. Имеются дела и поважней. Полковник расширял сеть публичных домов, подсчитывая будущие прибыли, секретарь деятельно помогал шефу и старательно заметал следы своего пребывания в Одессе. А его искали по всей России, уготовив за «былые художества» теплое местечко среди уголовных каторжан Якутии. Болотов знал об этом и исправно сообщал в Петербург «о ненахождении» в г. Одессе Болотова.
Скоро Соломон был избран одним из распорядителей кухмистерской, и ему открылся доступ в кружки.
Признаться, Чудновский был несколько огорошен, узнав, что в Новороссийском университете их всего два. Он привык к тому, что в Петербурге на каждом курсе, на каждом факультете по два-три и более кружков. Хотя Новороссийский университет на всех курсах и факультетах насчитывал только четыреста пятьдесят студентов, но два кружка? Нет, это слишком мало.
Интеллигентски-культурнический кружок Афанасьева не сразу признал Соломона, а благосклонности у них он так и не добился.
Кто-то пустил слух, что Чудновский — нечаевец и прибыл в Одессу, чтобы создавать организацию, подобную той, которая была разгромлена полицией в столице и в Москве. Этого было достаточно, чтобы на Соломона стали смотреть косо.
Нечаевский процесс произвел на разночинную молодежь гнетущее впечатление. Процесс закончился, а споры вокруг него только разгорались.
Сергей Нечаев, незаметный учитель петербургской церковноприходской школы, что называется, «всплыл» на поверхность во время студенческих беспорядков. Он рьяно отстаивал студенческие требования и выпустил прокламацию в защиту политических прав народа вообще, хотя и говорил о студенческих массах в частности, — это влекло к нему студенческие сердца.
Но вся его последующая деятельность отталкивала честных, морально чистых людей.
Чудновскому лучше, чем кому-либо в Одессе, было известно, как однажды среди петербургских студентов распространилась весть — Сергей Нечаев заключен в Петропавловскую крепость. Студенты заволновались. А Нечаев был далеко, в Женеве, где мистифицировал Бакунина и Огарева, уверяя, что в России создана организация и страна готова к революции.
Умирающий Герцен не принял Нечаева, но поддался на уговоры Огарева и передал Нечаеву «бахметьевский революционный фонд» — 1000 фунтов стерлингов. Бакунин ввел Нечаева в Интернационал. Приходский учитель путем мистификации приобрел громкое революционное имя. Были деньги, появились и кое-какие единомышленники, но не было организации. Нечаев снова в России, в Москве. Знакомится со студентами Петровской сельскохозяйственной академии, создает кружки, интригует, выдает себя за представителя какого-то «Центрального комитета», уверяет, что Россия покрыта сетью революционных ячеек.
И все это с головокружительной быстротой, нечеловеческой энергией, страстью.
Устанавливаются связи между Москвой, Петербургом, Ярославлем, собираются деньги на типографию, заседают кружки. Общество принимает название устрашающее: «Общество народной расправы» или «Общество топора».
Наконец появляется и первая программа — «Катехизис революционера».
Нет; больше, времени, вещал этот документ, для мирного распространения знаний в народе, нужно действовать. Чтобы восторжествовала идея интернационального анархизма, все средства хороши, революция произойдет 19 февраля 1870 года. Царь, черт с ним, пусть пока остается в живых, чтобы потом предстать перед судом победоносной революции. А потому, революционеры, будьте нечеловечны, кровожадны, присоединяйтесь к разбойникам — этим почетным представителям русской народной жизни. И вот Нечаев — «генерал». Но в обществе есть строптивые. Например, Иванов. Он недоверчиво прислушивается к нечаевской лжи. Он самолюбив, приказы «генерала» не всегда им выполняются. Убрать губителя «хорошего дела»! Нечаев убеждает в этом Прыжова, Успенского, Кузнецова и Николаева. Иванова заманивают в грот.
Убийство Иванова открыло общество, более восьмидесяти человек должны предстать перед судом. Нечаев бежит в Швейцарию. Но теперь он не политический, а уголовник. Русские власти требуют его выдачи. И если швейцарская полиция выдаст, то виселица или Петропавловка — и никаких мистификаций.
Чудновский не заметил, как поведал вслух эту печальную историю пяти-шести студентам, собравшимся вокруг него.
Желябов был в их числе. Он понимал, что Чудновский никакого отношения к нечаевщине не имеет, но кружок Афанасьева поддерживает эти слухи. Они видят в Соломоне противника своим чисто культурническим целям и заранее стараются обезвредить. И Желябов решил привлечь Чудновского к своему кружку, укрепить его положение в студенческой среде. Через несколько дней Андрей предложил избрать Чудновского членом тайной библиотеки. Голосование состоялось. Соломон получил только один черный шар. Афанасьев был достаточно честен и прямодушен, чтобы сказать Чудновскому:
— Вы избраны почти единогласно, за вас подан лишь один черный шар, и я считаю долгом объяснить вам, что черный шар положил я, и положил я его вам потому, что во мне сложилось убеждение, что мы с вами преследуем различные политические цели.
Еще при первом знакомстве с Желябовым Чудновский был поражен его умением наэлектризовать слушателей, подчинить ход их мыслей своей логике, незаметно господствовать над ними. Чудновский с трудом верил, что этот пылкий юноша сын крепостного.
Желябов через организованное им «бюро добывания уроков» очень быстро достал для Соломона работу по переписке бумаг, а затем и уроки. День ото дня эти два человека сближались.
А март подгонял зиму прочь. Дни стояли ясные, солнечные. Ожили бульвары, сады, лужи весело перемигивались с солнцем и быстро съеживались под его теплыми лучами. Весна спешила с юга, а вместе с ней летели новые, волнующие, пьянящие, как весенний воздух, вести: в Париже революция, создана Коммуна. Пример рабочего Парижа — образец для будущих революционеров России.
В чопорном чиновном Петербурге еще не ощущается порывов весны. Столичные радикалы молчат. И только Государственный совет нет-нет да возвестит о новых ограничениях, ущемлениях в правах, предупреждениях журналам.
Земцы еще на что-то рассчитывают, правительство рассчитывает при помощи земств отвадить Россию от конституции.
Суды заседают в присутствии присяжных, двери открыты для всех. Нарядные дамы, заневестившиеся девицы, скучающие фраеры ходят сюда, как на спектакли. Судебные репортеры отвоевывают у редакторов строку за строкой, полосу за полосой.
Каракозовский процесс читают как роман, нечаевский воспринимается как детектив. Правительство из кожи лезет вон, чтобы опорочить всякого, кто посмел назвать себя революционером.
Адвокаты, которые отважатся произнести слишком смелую речь, административно ссылаются.
И меркли иллюзии. Желябов уже не называл 19 февраля «светлым воскресеньем».
Все чаще и чаще в Одессе раздаются призывы украинских националистов «за самостийную Украину». Их проповедь не имеет успеха среди большинства студентов, но кое-кто уже пытается притеснять русских, евреев, греков. Андрея они считали своим, хохлом. Преподаватель истории Смоленский надеется превратить желябовский кружок в националистическую ячейку.
Поговаривали об эксплуатации народа коммерсантами-евреями, натравливали на них коммерсантов-греков.
Парижская коммуна всколыхнула все слои русского общества. Настроенные оппозиционно к самодержавию радовались ее успехам, правительственные органы печати обливали ее грязью. Реакция насторожилась, сделалась более активной, стремясь направить просыпающиеся силы народа в нужную ей сторону.
Реакционные элементы спровоцировали в Одессе еврейский погром.
Никто, казалось, его не организовывал, но городовые христосовались с громилами. Это был первый день пасхи. Еще никого не убивали, не вспарывали бритвами животов, не выбрасывали из окон младенцев, но белый пух перин, покрывший улицы еврейских кварталов, уже леденил душу, как саван покойника.
Андрей был взбешен. Украинофилы с упоением живописали сцены погрома. Историк Смоленский бродил по улицам вслед за расходившейся ордой и приговаривал: «Бей, брат, жидов!», как будто речь шла о зайцах или собаках.
Три дня буйствовала толпа, учиняя дикую оргию. На четвертый погромщики стали уставать, и тогда появился новороссийский генерал-губернатор Коцебу с войсками. Из бушующей толпы солдаты выхватывали людей десятками, вталкивали за ограду греческой церкви, и розги не знали пощады. Хватали наугад, даже высекли какую-то нарядную даму. «Вожаки» же успели попрятаться. И трудно было решить, что безобразнее — пьяный погром, трезвое подстрекательство или варварская экзекуция. Коцебу подарил России «сеченую Одессу».
Еврейский писатель Бен-Ами во всем обвинял темную стихию толпы, которой подсказали объект нападения. Желябов спорил с ним, считая, что виной всему бесправное гражданское положение еврейства — частный факт общерусского бесправия. Погром — это только линия наименьшего сопротивления, по которой направилось недовольство существующим политическим и экономическим строем.
Андрей был уверен, что погромы станут повторяться. Те, кто уже готов был противостать российскому самодержавию, надеялись использовать стихию разгулявшейся толпы для революционного переворота.
«Революционного переворота»? Это плохо вязалось с идеями Лаврова. Но идеи идеями, а молодые силы искали выхода в поступках, в открытых схватках. Да и пропаганда, по Лаврову, была какой-то малокровной тенью революционной стихии. Андрей еще плохо разбирался в социалистических теориях, а разобраться было нужно, и как можно скорей.
И снова лето стучится в окна аудиторий. Заброшены частные уроки, ученики распущены на каникулы, «учителя» усиленно зубрят.
Легко и даже с блеском сдает Андрей экзамены. Пять, еще пять, опять пять, последний сдан на четверку, проклятая латынь, а может быть и латинист?
Переведен на третий курс, снова освобожден от платы. Это лето придется трудиться в деревне. К тому же нужно понаблюдать жизнь крестьян, казалось, так хорошо им изученную, понаблюдать с точки зрения Лаврова, Бакунина. Они считают крестьянина истинным социалистом. В крестьянском общежитии откапывают зародыши социалистических начал, зовут к народу, в народ.
Что ж, Андрей им верит, но больше доверяет собственным глазам.
Его убеждали, что мужик — истинный социалист, что издавна в деревне бытуют коллективные начала общинной жизни. Желябов напрасно искал эти начала в родной стороне. В Крыму не было крестьянской общины. Приходилось верить на слово, что артельные, общинные формы владения землей делают крестьянина прирожденным коллективистом, а община, построенная на «коллективных началах», — зародыш «социалистического переустройства».
Но как мало у мужиков земли! И как много крестьянской крови она впитала. И это не только кровь, сочащаяся из сорванных мозолей, это кровь, пролитая в битвах за землю. Тут Андрей не может сомневаться, крестьянин ненавидит помещика, он всегда стремился и после реформы стремится к тому, чтобы изгнать его из деревни, забрать себе помещичьи земли, а заодно прихватить и государственные, удельные, церковные.
Не раз бушевали крестьянские войны, и разинщина, и пугачевщина, да мало ли было схваток помельче, но не менее кровавых.
Люто ненавидит мужик и чиновника — тот всегда на стороне помещика. Андрей и сам ненавидит их. В них все зло. Полицейское государство, буржуазия, помещик — вот кровопийцы; они мешают крестьянам построить на земле справедливую, «праведную», артельную жизнь.
Значит, необходимо их уничтожить — и тогда царство труда восторжествует. Бакунин считает, что все крестьянские движения доказали антигосударственные наклонности поселян, воспитали их «политически».
Этого Желябов в крестьянах не замечал, как не замечал и того, что в нем самом борются два противоречивых начала. С одной стороны, он, как и все разночинцы-интеллигенты, тянулся к народу, верил в народ, наделял этот народ несвойственными ему чертами, подкреплял веру иллюзией безгосударственного крестьянского общинного социализма, что было уже утопией. С другой стороны, Желябов был мужик. То, что им принималось на веру, никогда не было прочно. Как истый крестьянин, он хотел до всего дотронуться своими руками, во всем убедиться на опыте, а не на словах. Вера — это учение социалистов об общине, опыт — крестьянин, всегда готовый биться за землю. Вера — это крестьянский социализм, опыт — вот тут-то у Андрея опыта не было и не могло быть. Крестьянин, каким его знал Желябов, был далек от социалиста, каким он мерещился Лаврову и Бакунину.
Еще так много нужно сделать, так много внушить этому лапотнику, просветить его, чтобы он внял идее социализма.
Легко сказать просветить! А как это сделать, когда цензура глушит всякое слово, когда правительство регламентирует «дозволенное и недозволенное» чтение, предает аутодафе сочинения, «опасные для юношества», когда в стране нет парламентской трибуны, оппозиционных партий, запрещаются сходки, собрания?
Вывод напрашивался сам. Лавров и Бакунин считают, что нужно изменить экономические условия жизни крестьян, дать крестьянским общинам землю, уничтожить социальное неравенство в обществе. Бороться же за политические свободы — слова, печати, собраний — это только играть на руку буржуазии.
Социалисты говорили своим ученикам: «Посмотрите на Запад. Великая революция во Франции гордо произнесла слово «гражданин», наделила его всеми политическими правами, а что получилось? Прошло без малого сто лет, и какова цена этому слову, этим свободам?»
Они не осчастливили тружеников, не дали им хлеба, земли, работы. Равенство всех перед законом — фиговый листок, которым прикрывается эксплуатация бедняков кучкой богатеев. К тому же на Западе эти демократические свободы отвоевала буржуазия. Ну, а как обстоит дело с ее развитием в России? В России благодаря отсталости нет условий для утверждения буржуазии. Россия tabula rasa — чистая доска, на ней еще можно записать «социализм», минуя капитализм.
Но и это приходилось принимать на веру. Где-нибудь там, на окраине, где море лесов, где нет городов и железных дорог, — не разглядишь фабричные трубы, не услышишь суетливый гомон торгового порта. На юге же, и особенно в Одессе, Андрей видел растущие, как сорняки, торговые и промышленные компании. Да и сам город пропитан духом буржуазного предпринимательства. И опять теория расходилась с опытом, вера с практикой. Но разве можно не верить Лаврову? Хочется верить. Капитализм, если судить по опыту Запада, развращает людей сильнее, чем царское самодержавие. Буржуазные свободы и разные там парламенты только усугубляют социальное неравенство.
Значит, нельзя призывать к борьбе за эти «свободы», такой призыв — преступление перед народом, крестьянином. Экономическая обеспеченность и социальное равенство — вот дорога к социализму.
«Социализм» противостоит «политике». А Желябов читал не только Лаврова, не только Бакунина, Лассаля, Прудона, читал он и Чернышевского, Писарева — ведь они родоначальники всех этих теорий.
Но разве Чернышевский и «нигилисты» 60-х годов отделяли социализм от политики? Нет, наоборот. Может быть, они еще питали надежды на реформы? Тоже нет. Кто-кто, а Чернышевский первым показал истинное лицо «великой» реформы.
А Андрей еще называл ее когда-то «светлым воскресеньем». Но тогда почему же, почему Бакунин, почему Лавров против завоевания политических свобод?
Это «почему» еще долго будет отравлять Андрею сознание, мучить своей недосказанностью, бросать его в объятия «политиков-либералов», и еще нескоро он выработает свое собственное понимание «борьбы политической».
А пока оставалась вера. Бакунин верил, что всякое государство — это только насилие, голое или прикрытое какими-либо конституционными лохмотьями. Государство должно быть уничтожено, также и буржуазная цивилизация. Вольная организация работной черни, всего освобожденного человечества.
Таким должен быть общечеловечный мир. Так, по крайней мере, уверял Бакунин.
Да, вот что называется экономическим преобразованием народного быта и социальной революцией. А политика? Пусть ею занимаются либералы, пусть тешатся.
Бакунин призывал к бунту. Стихийному, крестьянскому. Доведенный до отчаяния нищетой, разоренный дотла помещиками — мужик готов к бунту, как пушкинский Онегин к дуэли. Революционеры не должны им руководить — бунтом руководит стихия, они обязаны только дать первый толчок.
Бакунин имел успех на севере. Юг же на первых норах больше прислушивался к словам Лаврова. Он согласен с Бакуниным, что нужно уничтожать экономическое неравенство, бороться за социализм, а не за политические свободы, он тоже верил в крестьянскую революцию, но отрицал стихию, в которой так хотелось раствориться интеллигенту-разночинцу. Не верил Лавров и в готовность крестьян к революции. Нет, только настойчивая пропаганда социализма в народе, его просвещение приведут к тому, что народ станет сам пропагандистом, но уже на практике, и совершит революционное переустройство общества.
Лавров подкупал своей философией критически мыслящей личности. А Андрей — критическая, мыслящая личность. Лавров уверяет, что только они, homo sapiens, могут уловить, оформить общественные идеалы и по-своему, «исходя из высших соображений нравственности, истины», повернуть колесо истории в нужную сторону, стать во главе толпы. Герои, а не массы.
Было еще одно направление народнической мысли. Но о нем мало знали в России. И пока критиковали только за «якобинство». Якобинские идеи развивал Ткачев. Он жил за границей, имел очень мало последователей и собирал средства на издание газеты.
Он разделял народническую веру в крестьянскую социалистическую революцию. Но при этом считал, что исходным моментом этой революции должен быть захват власти революционным меньшинством. «…Овладеть правительственною властью и превратить данное консервативное государство в государство революционное». Эти «государственные» теории Ткачева противоречили анархизму Бакунина и Лаврова. А ведь у Лаврова все так просто, так понятно: «Государства так, как они существуют, враждебны рабочему движению, и все они должны окончательно разложиться, чтобы дать место новому общественному строю, где самая широкая свобода личности не будет препятствовать солидарности между равноправными лицами и обширной кооперации для общей цели».
Новая религия разночинцев строилась на антитезах. Разночинцы обращались к народу, но верили в героев, мечтали о социализме, но боялись политики, говорили о революции, а проповедовали бунт.
А если быть логичным до конца? Нет, логика тут только мешает, она сейчас же построит новые антитезы.
Андрей не замечал субъективизма учения Лаврова, его аморфности, отвлеченности. Оно импонировало прежде всего его собственному «я». Но и тут была раздвоенность мужика-интеллигента. Интеллигент тянулся к Лаврову, мужик — к Бакунину.
Хотя бакунизм и лавризм часто уживались вместе в недрах одного и того же кружка. Это Андрей тоже наблюдал, да и приходилось от товарищей, побывавших в Петербурге, слышать, что там создается центральный кружок и филиалы заводит. Их «чайковцами» именуют, живут дружно. И бакунизм с лавризмом ухитряются примирять.
Смутно было на душе. Андрей убеждался, что он не теоретик, а железная логика, присущая его мышлению, не находит четких решений, заводит в тупик. Но путаница идей не мешала вере. Верилось в близкую перемену. Хотелось участвовать в борьбе. А пока — прислушаться, приглядеться, уяснить…
Желябов не был одинок в своих попытках до конца разобраться в идеях, которые вскоре стали называться «народническими». Тысячи таких же, как он, юношей и девушек на юге и севере, в Поволжье и Киеве штудировали «Исторические письма» Лаврова, статьи Бакунина, заграничные эмигрантские издания. А заодно и их вдохновителей — Прудона, Лассаля. Одни принимали на веру каждое слово, каждую мысль. Другие что-то отрицали, третьи, подобно Желябову, метались, запутавшись в противоречиях теории и опыта, взятого прямо из жизни. Но все были единодушны — так дальше жить нельзя, нужно бороться, бороться с царизмом, бороться с бюрократизмом, а будущее покажет. О нем не слишком задумывались, веря, что оно будет прекрасным.
До России тогда еще не долетел голос Маркса. Перевод первого тома «Капитала» выйдет только в апреле 1872 года. А Маркс помог бы Желябову выбраться из лабиринта противоречий, раскрыл бы глаза на эклектизм Лаврова, напомнил бы Андрею о тех пароходах и поездах, на которых он ездил, заставил бы по-новому прочесть вывески торговых и промышленных компаний, познакомил бы и с новым человеком России — промышленным пролетарием. И тогда, быть может, Желябов-мужик задумался бы о рабочем классе и его роли в будущей жизни страны, тогда, быть может, Желябов-интеллигент усомнился бы в том, что социалистические преобразования совершатся силами крестьян и минуя капитализм, рождающий истинного социалиста-пролетария, тогда…
Но мало ли что могло бы тогда быть с тысячами Желябовых.
Маркс внимательно следил за ними, убийственно критиковал «друга Петро» — Лаврова, боролся с Бакуниным, подрывающим деятельность пролетарского Интернационала. Но Маркс был и осторожен. Россия становилась в ряды борцов за социализм, не нужно резкой критикой сразу гасить веру разночинцев в возможность его достижения.
Желябов так и не разобрался до конца в теории, но проникся убеждением в необходимости социалистического переустройства мира. Его еще разъедали сомнения и известный скептицизм по отношению к всевозможным доктринам, но это не мешало принять решение встать в ряды тех, кто уже борется.
На математическом факультете — «история»: Леонтович и шовинисты из университетского совета отвергли кандидатуру поляка Вериго, избранного факультетом на должность экстраординарного профессора.
Негодуя, профессор ботаники Ценковский подает в отставку, а он общий любимец, студенты в нем души не чают.
Мечников из-за границы грозит уходом. Сеченов, только прибывший в Одессу, делает вид, что собирает баулы. Одесские газеты радостно травят порядком надоевших всем «столпов» университета.
Студенческая масса шумит, волнуется, но открыто не выступает.
Каникулы, казалось, должны были утихомирить страсти. Но чуть осень, и снова в стенах университета чувствуется напряженность. Желябов жадно ловит эти первые признаки пробуждения недовольства. Ему обидно за университет. Вон в Москве и Петербурге в 69-м году какие волнения были, студентов повыгоняли, чуть было в солдаты не отдали! Новороссийский же — паинька: начальству не перечит, в кухмистерской кукиш в кармане показывает, а на улице — руки по швам. Быть может, теперь очнутся длинногривые. Только бы повод подходящий нашелся!
Профессор истории славянских законодательств Богишич не отличался эрудицией, едва говорил по-русски, зато хорошо знал, чем и как можно угодить начальству. Студенты-юристы плохо посещали его скучные, косноязычные лекции. Богишич злился, был придирчив на экзаменах, груб.
В субботу 16 октября 1871 года Богишич торопился: субботний день таит столько прелестей, а тут изволь читать в полупустой аудитории. Студенты не могут разобрать слов профессора, монотонно поскрипывающий голос усыпляет.
Всегда усердный, но не блещущий умом тихий Абрам Бер чувствовал, что медленно сползает со скамейки. До соседей донесся его подозрительный носовой посвист. Кто-то больно двинул кулаком под ребро. Бер проснулся, удобнее уселся на скамье и подпер голову руками, дабы она не свалилась на грудь.
Профессор заметил непочтительную позу Абрама. И хотя он знал, что студент весьма прилежен, ничем, кроме лекций, не интересуется, почтителен с ним, Богишичем, раздражение, копившееся с утра, вырвалось наружу.
— Что вы — в кабаке? Не хватает еще подушек. Если не умеете вести себя прилично, то можете идти вон!
От неожиданности Бер даже привстал, сон с него мигом слетел.
— Господин профессор…
— Молчать, вон!
Бер съежился и тихо опустился на место. Студенты замерли. Еще минута… но звонок исчерпал инцидент.
Вечером кухмистерская кипела. Бер, не стесняясь, ревел белугой: его выгонят из университета с «волчьим билетом», он сам виноват — уснул, уж очень скучно было, но в понедельник он будет просить прощения.
Желябов выпроводил струсившего студента за дверь. Студенты-юристы всех курсов решили устроить демонстрацию.
20 октября Богишич торопливо вошел в аудиторию, разложил на кафедре конспекты, написанные для него по-русски, но латинскими буквами, и уже произнес обычное: «Итак, господа…» Тишина аудитории поразила профессора. В первый момент Богишич не поверил своим глазам — зал был пуст.
В чем дело? Может быть, перепутал аудиторию? Да нет же, в этом зале слушают первокурсники.
Богишич в негодовании выскочил в коридор и был оглушен свистом. Напротив, в сборном зале, толпились его слушатели. Забыв конспекты, портфель, профессор ринулся по коридору в ректорат. Свистки оборвались. Стала слышна улица.
Медленно, подергивая плечами и поправляя пенсне, проректор Богдановский вышел к студентам. Первокурсники зашевелились. Желябов почувствовал: еще минута, и они разбредутся. Старших, надежных кружковцев нет. Пробравшись вперед, Андрей приготовился говорить, но его опередил проректор.
— Господа, я возмущен вашим поведением… Кто-то шикнул. Студенты загудели. Теперь Андрею уже нечего было опасаться. Проректор несколько раз порывался продолжить речь, но его слова тонули в гомоне десятков возбужденных голосов. Отчаявшись, Богдановский жестом призвал к себе троих студентов и спешно скрылся с ними в своем кабинете.
Через час стало известно, что ректор просит студентов успокоиться, собраться завтра, с тем чтобы выяснить их претензии и похоронить этот печальный случай, позорящий славное имя университета.
Сборный зал набит: здесь и юристы, и математики, и естественники. В профессорской смятение — Богишич напуган и готов принести извинения. Ректор считает, что этого делать не следует. Но ректору не по себе. Он был уверен, что быстро договорится с первокурсниками-юристами. Теперь же придется выступать перед всем университетом. Сеченов, видя колебания ректора, настаивает на извинении. Леонтовича взорвало. Заявив, что он не намерен разговаривать с бунтовщиками, ректор хлопнул дверью.
Богдановский все же уломал студентов, заставил их выбрать нескольких человек для переговоров с Богишичем, — говорить с «толпой» никто из начальства не будет.
Богишич обещал Желябову, возглавившему депутацию, публично извиниться перед студентами.
23 октября аудитория юридического факультета полна. Студенты считают, что задета корпоративная честь не только юристов, но и всех слушателей всех факультетов.
Пора бы явиться и профессору, но Богишича нет.
Проректор сообщил, что профессор заболел. Студенты возмущены: Богишич не желает выполнить данное обещание. Желябов призывает не расходиться до тех пор, пока не будет твердо решено, как дальше относиться к этому делу. Проректор умоляет разойтись, и снова на кафедре Желябов.
Он нападает на университетских ретроградов, говорит о попрании чувства достоинства студентов, обобщает жизнь университета со всеми порядками, царящими в России. Студенты взбудоражены этим экспромтом Андрея, они бурно рукоплещут.
Ректор послал за полицией и объявил, что занятия в университете прекращаются, участники беспорядков предаются суду.
На следующий день министр просвещения граф Толстой уже прислал распоряжение:
«По соглашению с советом университета и генерал-губернатором прошу принять строжайшие меры к немедленному прекращению беспорядков, исключенных немедленно выслать из Одессы.
Граф Толстой».
Решение суда, таким образом, было предопределено. Должны найтись виновные, исключенные, высланные. Министр спешил не случайно: со дня на день ожидался проезд царя через Одессу.
25 октября граф Толстой снова подгоняет университетский совет:
«Прошу ускорить судом и исполнением его определений, исключенных, как бы велико число их ни было, выслать немедленно из Одессы, до тех пор лекции прекратить. О решении суда прошу мне телеграфировать.
Граф Толстой».
Ректор и правление университета готовились к роли судей, готовились к суду и студенты.
На Софийской улице, в доме Маразли, сходка за сходкой. Здесь живет Желябов с Шостаковским и Гардецким.
Желябов спорит, Желябов убеждает в необходимости воспользоваться всей историей с Богишичем, воспользоваться судом, чтобы приобщить Новороссийский университет к духу и интересам всех студентов, всех университетов России…
Следствие по делу Богишича велось по всем правилам. Сначала обвиняемых допрашивали, а затем им предлагали дать письменные показания и письменно же ответить на вопросы.
Участники беспорядков по степени их активности были разбиты на три категории: I — зачинщики; П — студенты-юристы первого курса, не явившиеся 20 октября на лекцию и требовавшие удаления Богишича, а также студенты других факультетов, участники сходок; III — студенты-юристы первого курса, на лекцию 20 октября не явившиеся, но больше ни в чем не участвовавшие.
Ректор обладал известной проницательностью. Ознакомившись с показаниями Желябова, он собственноручно начертал:
«Желябова Андрея причислить к I категории виновных. Предать университетскому суду на основании его показаний, как студента, руководившего студенческими беспорядками».
Суд должен был быть скорый, граф Толстой уже в третий, четвертый раз напоминал об этом Леонтовичу. Поэтому университетский совет заседал ежедневно от десяти до трех часов дня и с пяти до девяти вечера 27, 28, 29 и 30 октября.
31-го был закончен обвинительный акт относительно 34 студентов, причисленных ко II и III категориям, а через неделю объявили приговор:
«Суд признал…» Да, многих признал суд виновными в беспорядках, многим объявил выговоры. С вожаками обошлись более сурово. «…Студенты Белкин, Желябов, виновные в неповиновении приказанию проректора, в крике в присутствии ректора и, сверх того, что принадлежали к числу руководителей и главных деятелей в беспорядках. Поэтому суд определил подвергнуть их увольнению из университета на один год без права поступления в течение этого времени в другое высшее учебное заведение».
Шостаковский был исключен из университета сроком на год, но с правом поступить немедленно в другой университет.
Не все профессора были согласны с мнением суда. Сеченов открыто заявил на совете, «что единственной причиной всех беспорядков были действия профессора Богишича». Совет пошел за Сеченовым и не поддержал мотивировку обвинения. Но решение суда утвердил.
11 ноября в университете возобновились занятия. Желябов, Белкин, Шостаковский, хотя им было известно решение суда, явились на лекции. Студенты шумно приветствовали своих вожаков, крепко пожимали руки. Прошла первая лекция, за ней вторая. В перерыве швейцар нашел Желябова и его друзей за столом, весело смеющимися над карикатурой, которую нарисовал на Андрея Тригони. Он только что приехал в Одессу из дому и не знал еще о «богишичевской истории».
— Пожалуйте в ректорат, господа!
Студенты притихли. Желябов, Белкин, Шостаковский, окруженные толпой слушателей, прошли в ректорат.
В зале заседаний уже собрались члены суда, члены университетского совета. Появление Желябова вызвало легкое движение среди профессоров. Они ожидали увидеть студента, пришибленного горем, а в зал вошел красивый юноша с высоко поднятой головой. Наступила неловкая пауза. Леонтович запаздывал.
Наконец явился и ректор. Председательствовавший в суде профессор уголовного права внятно зачитал приговор. На последнем его слове большие стенные часы неторопливо ударили два раза. И будто по сигналу, распахнулись двери зала, и, чеканя шаг, в него вошли четыре жандарма. Их появления никто не ожидал. Головы профессоров повернулись к ректору. Леонтович рассчитывал на иной эффект. Суетливо поправив галстук, ректор объяснил, что генерал-губернатор приказал взять Желябова и Белкина под стражу и водворить на отходящий в три часа дня крымский пароход.
Ректор боялся студенческих демонстраций, прощания Желябова с товарищами. Все было рассчитано точно. Желябову и Белкину оставалось времени только на то, чтобы кое-как сложить вещи и в жандармской карете прибыть на причал.
Студенты, собравшиеся у зала заседаний, терпеливо ожидали. Звонок никого не тронул с места. Появление жандармов без слов объяснило им все. Друзья Желябова бросились на улицу: Андрей успел крикнуть им, что пароход уходит в три часа.
Когда жандармская карета остановилась у причала, ее окружили. Андрея вынесли на руках. Жандармский унтер растерялся — ему было приказано доставить арестованных в порт, но не сопровождать их на пароходе. Настроение студентов было боевое, и унтер решил за лучшее убраться восвояси, тем более что приказ он выполнил, а остальное — дело начальства.
Пароход уже дал второй гудок, и у сходней пассажиры торопливо обменивались поцелуями с провожающими; многие стояли на палубе и махали шляпами, платками; в машине травили пар.
Море было неспокойно, откуда-то из-за горизонта на берег катилась крутая зыбь, хотя в воздухе не ощущалось ни дуновения.
Уже три часа, начало четвертого, а пароход не дает последнего гудка. Все тревожно вглядываются в море. С Большого фонтана наползает косматое облако тумана. Оно клубится, рвется на волнах, но скоро закрывает горизонт, море, волны. Порт оглашается вскриками гудков. А туман все плотней и плотней…
Пароход не пойдет, это стало известно ранее всего полиции. И когда Желябов еще решал вопрос, где провести ночь, градоначальник распорядился доставить его и Белкина в полицейское управление. Провожающие подняли шум. К градоначальнику направилась депутация во главе с Чудновским и Лордкипанидзе. Отказать им не могли. «Лорд» поручился, что в его доме не произойдет сборищ и Желябов с Белкиным проведут там спокойно ночь, а завтра отбудут с пароходом.
Наступила «спокойная» ночь.
В затемненной комнате ничего лишнего, огромный стол, стулья, на столе лес бутылок, полянки блюд с закуской и тридцать человек гостей. «Лорд» — хозяин-распорядитель, Желябов — «свадебный генерал».
В эту ночь каждый мечтает и веселится по-своему. Желябов предпочитает говорить, забравшись на стол. Его иногда сменяет Тригони. После каждой речи — общий тост и общие песни, старые студенческие и новые, тут же сочиненные:
Все студенты собрались
В зале актовой у нас
И отныне поклялись,
Что не будут слушать нас.
(Голоса профессоров: «О ужас!»)
Мы пойдем рубить, пойдем
Университетский дом
И наполним притом
Взводами солдат.
Слов нет, стишки неважные, зато они звучат как гимн вновь «окрещенных» студентов Новороссийского университета.
Утром у причала весь юридический. Опять Лордкипанидзе успел предупредить. К борту парохода тянутся десятки рук: кто передает деньги, собранные тут же на пристани, кто булку, фуражку и даже пальто. Желябов отбивается от подарков, но друзья искренни, они обижаются, и Андрею приходится уступить.
Пароход медленно отваливает, а с пристани над морем ширится песня.
Предписание полицейских властей строгое: выслан по месту жительства под надзор родителей и полиции. Но Андрей знает, что в Андреевке год будет потерян, а в Феодосии есть книги, есть и уроки.
Желябов явился к уездному исправнику и подал прошение, дабы было разрешено ему жить в Феодосии «в уважении того, что родители его бедные крестьяне, которые сами нуждаются в насущном хлебе, между тем как здесь, в Феодосии, он может уроками поддержать свое существование и даже уделить родителям».
Феодосия прилепилась к морю на плоском песчаном блюдечке. Она поменьше Керчи, поскучнее, если можно вообще сыскать места более унылые, чем Керчь. После Одессы, университета тоскливо бродить в одиночестве по берегу моря. Море черное, взлохмаченное, холодное. Валы катятся и катятся, торопясь обогнать низкие грязные облака. Когда долго всматриваешься в пенистые очертания берега, то кажется, что он куда-то плывет, к чему-то пристанет. Неуютно, холодно здесь в осеннюю непогодь. Хочется обернуться спиной к морю, заткнуть уши. Но тогда чудится, что ты на краю света…
Часами стоит Андрей, опустив голову, забыв о море, далеких горах, городе. Часами думает и беззвучно шевелит губами. Сталкивает носком ботинка камень и невидящим взором следит за его падением.
Так и запить с тоски недолго.
На уроках тупые, откормленные физиономии маменькиных сыночков, гераньки на окнах, половики, образа в красном углу, острые запахи лука, чеснока — и тоска…
А ведь там, за морем, там, за горами, — жизнь. Ее отзвуки долетают и до Феодосии.
В Новороссийском университете снова беспорядки: «крещение» не прошло даром, теперь студенты знают, как отстаивать свои права.
Изредка забредают в Феодосию столичные гости. Их слушают, как древних оракулов. Ничего определенного, но слова звучат тревогой или надеждой.
Некоторые врут с три короба, разыгрывая Хлестаковых, но не сановная спесь, не тысячи курьеров поражают воображение феодосийцев, а необыкновенные похождения, в которых герои противостоят полиции и Третьему отделению. Меняются времена, меняются и кумиры.
Зимой Андрей переборол тоску. Год не должен пропасть. Он будет готовиться к экзаменам за третий курс и осенью сдаст их, чтобы продолжать учебу со своими однокашниками.
«Не принимать во избежание зловредного влияния на студентов» — так гласила резолюция управляющего делами министерства просвещения Делянова.
Дорога в университет закрыта. Но Желябов занятий не бросил.
За год в Одессе произошли большие перемены. На улицах та же толчея, выкрики, тот же предпринимательский ажиотаж. Но духовная жизнь города схоронилась за стенами респектабельных адвокатских квартир, затаилась в студенческой кухмистерской, библиотеке.
В теоретических взглядах, в настроениях — страшная мешанина: лавристы, бакунисты, либералы-украинофилы, сектанты.
Каждый кружок не столько оттачивает свои идеи, сколько спорит с соседями. Спорят с русским ожесточением, одесской находчивостью и чисто интеллигентским верхоглядством.
Андрей старался познакомиться со всеми кружками сразу. Чаще всего он появлялся в кухмистерской. Но его уже не удовлетворяют чисто академические требования с налетом радикализма. Протестующая струнка деятельной натуры дает себя знать.
Терпение не относилось к числу достоинств Андрея. Прочитав какую-либо книгу, Желябов сразу бросался искать аудиторию, с которой можно поделиться новыми знаниями.
Как и в прошлом году, он пробует заняться пропагандой среди рабочих. Проповеди в духе Лассаля об экономической необеспеченности пролетариев находят широкий отклик.
Но Желябова лихорадит от нетерпения. Видимо, сказывается год, проведенный в глуши. Он никак не может примириться с тем, что даже рабочие так медленно, так туго усваивают идеи социализма. Но дело было не в рабочих. Дело было в Желябове. Он искал не аудиторию, а себя. Метался. Возмущался консерватизмом других. Но не хотел признать неопределенности за собой.
В кухмистерской Андрей часто сталкивался с какой-то странной фигурой. Не то студент, не то так, приставший к студенческому клубу интеллигент. И явно — неудачник.
Полный, неуклюжий, со светлыми волосами, он первым приходил сюда, встречал радушно посетителей в кухмистерской. Он же был и последним, кто гасил свет. Присмотревшись, прислушавшись, Желябов понял, что Иван Ковальский пользуется огромным влиянием среди студентов. И он незаменим в кухмистерской. Готовит чай. Моет полы. Убирает. Заодно, немного заикаясь, подтрунивает над Чудновским, которому нелегко дается «грязная работа».
В руках Ковальского касса. Он же буфетчик. Чрезвычайно щепетилен: за неимением весов продает виноград по ягодке. Всегда готов оказать услугу товарищу. Но сам никогда не обращается с просьбами. Денег у него нет, в кухмистерской питается бесплатно. Приятели его — шумливые радикалы. Но у них ни твердой теоретической основы, ни серьезного влечения к пропаганде. Чаще всего Андрей слышит, как они рассуждают о сектантах. Считают их хранителями истинно народных начал антицаристских настроений в крестьянской массе. Но это все не для него.
Соломон Чудновский видел метания Желябова. Искренне хотел помочь ему, но не знал, как это сделать. Между тем Соломон успел уже освоиться среди одесских социалистов. Завел связи с людьми, серьезно изучающими вопросы экономической и социальной жизни России. И вместе с ними готовился к тому, чтобы ближе познакомиться с народом.
Чудновский стал членом кружка, организованного Феликсом Волховским.
Волховский вступил в революционное движение давно, привлекался к процессу нечаевцев. Человек огромной эрудиции, талантливый литератор, по своим взглядам он примыкал к лавристам. В 1872 году идеи Лаврова наибольшее; распространение имели на юге, и этому немало способствовал Волховский. Его кружок завел нелегальную библиотеку, ряд небольших и тоже нелегальных школ.
Волховский обладал какой-то чудодейственной силой обаяния, редким остроумием, великолепной памятью. После почти двух лет, проведенных в одиночке, он страдал жестокими головными болями, но сохранил поразительную работоспособность. И при этом был необыкновенно нежным, ласковым и очень деликатным человеком.
В отличие от Ковальского Волховский требовал, чтобы кружковцы соблюдали дисциплину и строгую конспирацию. Попасть в его кружок мог не всякий.
Кружки кружками, а полиция остается полицией. К тому же нет денег. Полиция не спускает глаз с Андрея, интересуется, на какие средства живет, с кем встречается, не ведет ли антиправительственные разговоры. Андрей возмущен этим попечительством. Да, он живет случайными уроками, ни в какие кружки не входит.
Бедно, очень бедно жил Желябов. В бытность свою студентом он никогда не испытывал такой нужды. Товарищи зазывали на обеды, друзья предлагали деньги. Предложить Андрею помощь?.. На это могли решиться самые близкие люди. Но он отказывался.
И когда ему подыскали выгодное место на выезд — давать уроки дочерям известного в Одессе сахарозаводчика и землевладельца-капиталиста, гласного городской управы Семена Яхненко, — Андрей согласился. По крайней мере он получит деньги за труд; а потом ему казалось, что работать учителем у Яхненко не зазорно и социалисту.
Желябов, как, впрочем, и большинство одесских радикалов, почитал Яхненко чуть ли не революционером. Но это был просто чрезвычайно энергичный, сравнительно честный и бескорыстный человек. Его побаивались городские гласные. Ни лестью, ни лакейством, ни подкупом, ни наградой его не соблазнишь. Характер у Яхненко своенравный, крутой.
И, несмотря на все положительные качества общественного деятеля, он не был лишен самодурства, присущего буржуа. По своим политическим убеждениям Яхненко монархист, хотя он не против расширения прав земств в области самоуправления, увеличения ассигнований на просвещение, печать. Но и только…
Завод помещался в Киевской губернии, в небольшом поселке Городище. Здесь и в помине нет той патриархальности, которая царила в Горках. День расписан по часам.
Городище уже давно стало одним из культурных украинских центров. Сахарозаводчик тесно связан с украинской буржуазией, ее интеллигентскими националистическими кругами. Молодое поколение Яхненко настроено радикально, поддерживает связи с социалистическими кружками.
Дочери Яхненко, Ольга и Тася, почти все время проводят в Городище. Ольга недурно играет на фортепьяно, у Таси чудесный голос.
Сюда съезжаются гости, здесь так же, как и во всех интеллигентных семьях, спорят, играют в карты, устраивают любительские концерты. Ольга и Тася — главные исполнительницы.
Поздняя осень роняет золотые листья, они устилают дорожки сада, шуршат, потревоженные ветром. Последние астры устало склоняют головы к бордюрам клумб. Вечерние зори подернуты красными отблесками и затуманены тучами. Еще не хлынули противные, сырые ливни, еще днем пригревает далекое солнце, но ночи холодные, ясные, ветреные.
В степи редко мигнет огонек, и на десятки верст только ветер и тьма… Внешний мир не тревожит уюта помещичьего дома.
Вечерние часы заполнены музыкой. Задумчивые, немного грустные и безмерно широкие ноктюрны Шопена. Сказочные ритмы Грига.
Высокий женский голос старательно выводит сложную мелодию, ему вторит приглушенный баритон. Баритону тесно в доме. Он рвется в степь.
Тася всегда готова поспать. Андрей и Ольга могут музицировать до утра.
Днем уроки. Иногда поездки в Киев. Лукулловы обеды. Ужины с нагрянувшими друзьями.
Ольга Семеновна любила общество, любила блистать. Ей хотелось аплодисментов, восторженных похвал и, конечно, обожания. Учитель красив, остроумен, весел. Музыку любит до самозабвения. Ольге хочется, чтобы он так же любил и ее. И он любил. Но не так, по-своему, немножко по-крестьянски. Его коробило кокетство, и он более чем сдержанно относился к ее успехам в концертах. Это не мешало ему всегда быть ласковым. Иногда возникало желание позлить ее. И тогда трудно было найти лучшего актера. Однажды это кончилось слезами и бурным объяснением.
Потом заговорили о свадьбе.
Андрей должен стать зятем капиталиста, удачливого землевладельца. Мужем очаровательной женщины. При связях Яхненко, природном уме Желябова, его широком взгляде на вещи карьера Андрея могла быть блестящей, шумной, завидной.
Но Андрей честно зарабатывал хлеб, оставаясь учителем своей будущей жены. Труднее стало проводить уроки. Откровеннее стали разговоры. Ольга Семеновна безучастно относилась к социалистическим симпатиям мужа. Она не знала, что такое голод, изнуряющий труд, неравенство. Ей хотелось, чтобы Андрей занял положение в обеспеченном обществе, блистал в нем своим умом так же, как она своей игрой на фортепьяно.
Это предвещало в будущем разлад, а пока он был счастлив.
Андрей оставался в Городище и охотно проводил время с многочисленными гостями. А гости были разные, были и интересные. В былые годы у Яхненко находил приют Тарас Шевченко. На заводе работал деятель украинского движения член киевской «Громады» Чубинский. Он близко стоял к администрации всех производственных и торговых предприятий Яхненко и мог устраивать на заводах пропагандистов социалистического толка, сам оставаясь в тени.
Недалеко от Городища учительствовал Иван Белоконский, тоже причастный к радикалам. Да и семья Яхненко, состоявшая в родстве с Львом Симиренко, имела своего представителя среди одесских социалистов. Лев Петрович Симиренко близко сошелся с Андреем и был его гидом в кругу новых людей.
Из Городища ездили в Киев. Яхненко очень любили в киевской «Старой громаде» — этом широко известном кружке профессоров университета, преподавателей гимназии, либеральных адвокатов. «Старая громада» не была единой. Значительная часть ее членов преследовала культурно-националистические цели, занималась украинской литературой, историей, этнографией. Другая, меньшая, во главе с профессором Драгомановым, склонялась к идеям политической борьбы за «возрождение Украины».
Во всяком случае, Драгоманова считали социалистом, наиболее доверенные люди знали о его связях с политической эмиграцией в Цюрихе, Женеве.
Драгоманов был знаком с учением Маркса. Много занимался историей, политэкономией и все же при этом оставался типичным либералом-украинофилом. До встречи с Драгомановым Андрей, как, впрочем, и большинство социалистов, произносил слово «либерал» с иронией и с явным недоброжелательством. Драгоманов поколебал предубеждение Желябова. Это был интересный человек, его мысли о необходимости политических перемен в России звучали для истинного социалиста ересью, но поражали логичностью доказательств, широтой выводов.
Желябов впервые увидел Драгоманова на квартире Ивана Рашевского. Первое, что услышал и чему поразился Андрей, переступив порог квартиры, было характерное постукивание сапожных молотков. Андрей чуть со смеху не покатился. За длинным столом сидят престарелые «нигилисты», и волос длинный и очки на носу, «а la Чернышевский». Сосредоточенно прилаживают заплаты к подошвам, а голенищ-то нет. Один ходит, показывает…
«Готовятся в народ идти, зарабатывать на жизнь честным трудом», — подумал Андрей, но все же было смешно. А в комнате рядом руководитель одного из киевских кружков «чайковцев» Аксельрод спорит о судьбах грядущей революции с моложавым господином. Аксельрод горячится.
Чего уж там? Первый номер журнала Лаврова «Вперед» прочитан, программа ясна. Вот только какова эта действительность, с которой придется столкнуться тем, кто стучит сейчас сапожным молотком?
Иногда в комнату забегают «сапожники» — за чаем, за табаком, прислушиваются, потом молча исчезают.
Моложавый господин прибыл из Цюриха. Он понимает, что все его призывы к борьбе за политические свободы, как там, в Цюрихе, так и здесь, в Киеве, кажутся ересью. А ведь свободы политические — только трамплин для дальнейшей успешной социалистической деятельности.
Это был чистый «конституционализм».
Желябов не вмешивался в беседу. Моложавый господин был Драгоманов. Он не знаком с Желябовым и вряд ли даже заметил его присутствие.
Гораздо проще чувствовал себя Андрей среди членов «Киевской коммуны». В ней преобладала молодежь. Квартира «коммуны» скорее смахивала на помещение студенческого землячества. Здесь и жили, здесь и заседали, здесь мог заночевать любой заезжий революционер. Здесь скроют от полиции, хотя и не всегда смогут накормить.
В «коммуне» долго не засиживаются, все время одни уходят, другие приезжают. Постоялый двор какой-то…
Те же споры о социализме, пропаганде, но молодая кровь не терпит доктринерства. «Коммунары» — бакунисты-«бунтари».
Желябов познакомился здесь с Владимиром Дебагорием-Мокриевичем, Екатериной Брешковской, Яковом Стефановичем.
Но Андрей не склонен к «вспышкопускательству», увлекающему его новых друзей, поэтому он отмалчивается, только иногда позволяя себе иронизировать по поводу пышных букетов фантазии молодых Брутов.
Ранней осенью 1873 года Желябов вернулся в Одессу. Он был уже женат. Ольга Семеновна ждала ребенка. Андрей подыскивал место, чтобы иметь заработок: жить на деньги тестя ему не хотелось. Ольга Семеновна поступила на курсы акушерок. Она все-таки заразилась взглядами мужа и готовилась начать трудовую жизнь. Жили они на краю города, угол Гулевой и Дегтярной улицы. В комнате два-три стула, расшатанный стол, еле-еле держащаяся, расхлябанная кровать с тюфяком-блином. Но Ольгу Семеновну по-прежнему тянуло в общество, к фортепьяно — ведь когда родится сын, а это будет обязательно сын, долго не придется выступать.
Между супругами уже нет былого согласия, но еще ничто не предвещает разрыва. Только Андрей все реже и реже появляется в своей убогой комнате, только Ольга все чаще и чаще ходит с красными, заплаканными глазами.
Желябов очень болезненно воспринимал семейные неурядицы. Он не хотел, чтобы его жена «услаждала, — как он говорил, — слух аристократов и плутократов». Но он видел, как тянет Ольгу к людям ее круга. Андрей знакомил жену с теми, кого знал сам и кто мог прийтись и ей по душе. Так, они стали бывать в доме Семенюты — журналиста, радикала, старого приятеля по Одессе. Ольга Семеновна охотно в этой милой семье играла, пела. Желябов и Семенюта спорили.
Из-за границы вернулся Чудновский. Кружок Волховского поручил ему доставку нелегальной литературы, и Соломон сумел договориться с контрабандистами, наладил явки, обеспечил хранение. Чудновский ведал и сношениями кружка с Петербургом, Москвой, Киевом. Из столицы в Одессу приезжали представители «чайковцев» и прежде всего Николай Чарушин. Он предложил выработать договорные пункты, так сказать, союзнических отношений между кружком Волховского, «чайковцами» и другими кружками. Чарушин много странствовал по России и возбужденно рассказывал о том, как растет оппозиционное настроение интеллигенции. Чарушин был на стороне анархизма и поражался, что Волховский не склонен к нему; Чудновский же — откровенный «государственник», признающий прогресс человечества не иначе, как в рамках того или иного государственного строя, обеспечивающего общую дисциплину и законно-уполномоченную власть. Чарушину это казалось ересью, как, впрочем, и некоторым товарищам Соломона по кружку.
Чудновский искал новых людей, которые разделяли бы его взгляды. Желябов представлялся ему именно таким человеком, тем более что Андрей основательно «потерся» в кругах украинских либералов и должен был, как казалось Соломону, отрицательно относиться к идеям анархизма.
Между тем Андрей, используя связи зятя, устроил близкого своего товарища Владимира Зотова директором Одесского городского сиротского дома, подобрал ему штатных учителей. Среди них были Дмитрий Желтоновский и Андрей Франжоли — тоже члены кружка Волховского.
Чудновский хорошо знает Франжоли еще по Херсону, ведь это их родной город. Там по сей день существует самая модная аптека Миллера. В этой аптеке и служил в качестве аптекарского помощника Андрей Франжоли.
Его всегда тянуло к научной деятельности, но для «помощника аптекаря» путь заказан. Тем более что Франжоли не обладал практической жилкой. Он идеалист, человек увлекающийся, о таких говорят — «не от мира сего».
Андрей Франжоли — итальянец, но трудно найти еще одного такого истинного сына России. Франжоли болеет скорбями и печалями ее. Он бесповоротно отказался от надежд на ученое поприще, чтобы целиком уйти в революционную деятельность. Такой быстро распропагандирует кого хочешь.
Соломон познакомил Андрея с Волховским, настоятельно рекомендовал принять Желябова в кружок. Порешили, что Чудновский поговорит с Андреем.
Разговор был откровенный. Главное состоит в том, уверял Соломон Желябова, чтобы в скором времени двинуться в народ, внести в темную крестьянскую массу светоч знания, раскрыть ей глаза на несправедливость социальных и экономических условий жизни.
Андрей слушал внимательно. Не новые это были мысли. Новым и радостным было известие, что есть кружки, которые готовы поставить идеи социалистического преобразования общества на практическую ногу.
Чудновский не скрыл от товарища, что вступление в кружок сопряжено с риском — ведь кружок принадлежит к разветвленному по многим городам «Большому обществу пропаганды».
Андрей догадывался об этом. «Общество пропаганды» в основном состояло из кружков так называемых «чайковцев». Они были названы так в честь одного из основателей центрального кружка в Петербурге. Кружок Волховского примыкал к «чайковцам», как и некоторые другие в Киеве, Москве и т. д.
Волховский — лаврист, между тем в кружке есть и бакунисты. Пока ни то, ни другое направление не испробовано на практике — нет и слишком большого антагонизма. Ведь и лавристы и бакунисты — просто мечтатели, они верят в народ, верят в народное восстание, верят, что крестьяне в один прекрасный день снесут голову и самодержавию и буржуазии, ликвидируют государство, эксплуатацию.
Бакунисты отрицали государство вообще, но все сходились на том, что народ нуждается в экономическом благе и социальном равенстве. Все были убеждены, что преследуют вполне мирные цели.
«Розовая, мечтательная» юность не позволила долго колебаться. Но конспирация и мрачные предупреждения Соломона несколько смущали.
Когда Чудновский, исчерпав свое красноречие, замолчал, ожидая от Андрея решительного ответа, Желябов энергично зашагал по комнате, похрустывая пальцами. Изредка останавливался, смотрел на Соломона, как будто собираясь что-то сказать, потом опять мерил шагами комнату.
Так прошло с четверть часа.
— Как бы ты поступил, — вдруг глухим голосом спросил Андрей, — как бы ты поступил, если бы на твоих руках была нежно любимая семья: отец, мать, братья и сестры, благосостояние которых всецело зависело бы от тебя, и тебе при этих условиях было бы предложено примкнуть к такой организации, принадлежность к которой сопряжена была бы с серьезным риском и могла бы во всяком случае лишить тебя возможности быть полезным любимой семье?
Соломон понимал всю важность поставленного перед ним вопроса, в Херсоне у него тоже была семья. Но этот вопрос он решил для себя раньше, еще в Петербурге, и уже успел познакомиться и с полицией и с положением поднадзорного.
— Помимо любви к семье и родителям, есть более повелительное чувство долга перед родиной и народом…
И снова Андрей ходит по тесной комнате Соломона.
— Мне нужно три дня на размышления. Прости, но сейчас я уйду.
Чудновский не удерживал.
Три дня Желябова не было видно в кухмистерской, не появлялся он и в рабочих кварталах, словно внезапно исчез из Одессы. Соломон стал опасаться, что слишком круто поставил перед Андреем вопрос. Ведь одно дело сочувствовать революционным идеям, говорить с рабочими о социализме, другое — войти в революционную организацию. Чудновский знал Желябова — тот не умел делать что-либо наполовину. Для таких людей принятые решения — дело всей дальнейшей жизни.
Через три дня Желябов вновь в комнате Чудновского. Он осунулся, как будто все это время не ел и не спал. Крепко пожав руку и пристально глядя в глаза Соломону, Андрей сказал:
— Рубикон перейден, корабли сожжены. Я окончательно и бесповоротно примыкаю к вашему кружку и всецело предоставляю себя в его распоряжение.
Чудновскому не нужно было клятв. Андрею и в голову не могло прийти давать их. Он стал нетерпеливо расспрашивать о тех, кто составляет кружок.
Соломон рассказал о Викторе Костюрине, Леониде Дическуло, Мартыне Лангансе, Анне Макаревич, ее муже Петре.
И вот первое заседание, на котором присутствует Желябов.
Как и положено прозелиту, Андрей слушает скромно, благоговейно. Говорит Волховский. Усилием воли Желябов тушит огонек задора: он, Андрей, мог бы сказать ярче. Но много новых, свежих мыслей.
Волховский, несомненно, романтик, даже поэт. Обсуждается программа журнала «Вперед», лавристская программа, а он говорит о ней как о поэме.
Кружок поручил Андрею работу среди городской интеллигенции. Желябов взялся с охотой, но не порывал и с рабочим миром, хотя успел к этому времени немного разочароваться в пролетариях. И не случайно. Рабочее движение еще только-только нарождалось, заметить его специфические классовые особенности было попросту невозможно. Социалисты, и в их числе Желябов, видели в рабочем только вчерашнего крестьянина, завтрашнего вольного сельского хозяина — ведь капитализм не должен победить в России, не должен развиваться, как на Западе, а значит, и будущее не за рабочим.
Но Андрея иногда коробили собственнические инстинкты этих будущих социалистов. Сам живя впроголодь, в сырой, грязной квартире, никогда не имея за душой лишней копейки, Андрей поражался, как укоренилось в некоторых из них чувство собственничества.
Как-то раз, прочитав и разъяснив рабочим брошюру Лассаля, Андрей внезапно обратился к своему лучшему ученику:
— Что бы ты сделал, если бы кто-нибудь дал тебе, ну, скажем… пятьсот рублей?
Вопрос не застал рабочего врасплох: видимо, думка о деньгах давно гнездилась в его голове.
— Я? Я бы поехал домой и снял бы там лавочку… От неожиданности Андрей не сразу нашелся и уже не рад был заданному вопросу.
Интеллигенты, врачи, учителя, юристы тоже доставляли много хлопот. Их не проймешь брошюрами, они читают Прудона, читают заграничные издания русских социалистов, знакомы с «Капиталом» Маркса. И у каждого обязательно свое мнение, свои выводы. К мнениям прибавляется и самомнение, ведь они творцы истории — эту лавровскую идею интеллигенты восприняли прежде всего.
В Одессе, по примеру Киева, также создалась своя «Громада» с чисто национальными — вернее, даже националистическими планами. Андрей связан с ней. Националистическое движение мало затрагивает вопросы социальные и экономические: прежде всего политические свободы, самостийность Украины, украинская культура, преподавание на украинском языке.
Украинские радикалы особенно увлекались деяниями своих предков. Гайдамаки и сечевики, лихая вольница, над которой не стоит государство, демократический круг, сообща решающий все вопросы, избирающий атаманов…
Эти настроения были не только среди членов «Громады». И Волховский и Желябов ведь тоже украинцы, во всяком случае у Андрея мать казачка.
Память Андрея жадно впитывала все, что рассказывалось о прошлом казачества. А гайдамаки и сечевики не были социалистами, и восставали они не с брошюрами в руках, а с оружием.
Между тем по всей России социалисты готовились к походу в деревню.
Готовились и в Одессе и в Киеве. Но здесь было больше романтики, больше лихости, больше бунтарства, чем на «чопорном» севере.
И все же Андрей не поддался общему увлечению, стихийному порыву. Он еще окончательно не нашел себя. Был просто рядовым членом кружка, убежденным социалистом, демократом, прекрасным пропагандистом. Но знакомство с либералами — украинскими националистами оставило свой след. Андрей иначе, чем большинство правоверных социалистов, относился к идеям политическим. Это он почерпнул у либералов, хотя его возмущала трусость и продажность этих людей.
Андрей не считал себя еще революционером, да в Одессе и не было революционеров-профессионалов. И Волховский и Франжоли — все занимали определенные должности и жили легально. Пропаганду Желябов не рассматривал как революционное деяние. Ведь революции политической социалисты не признавали — значит, они и неповинны в антиправительственных действиях. Это было заблуждение, а не самоуспокоение. Искреннее и так дорого стоившее впоследствии…
С перевозом литературы через границу было много хлопот. Часто «транспорты» попадали в руки полиции.
В начале января 1874 года нависла угроза и над Чудновским. Ему стало известно, что «транспорт», в котором находилось восемь пудов всевозможных изданий — Маркса, Чернышевского, Лаврова, две тысячи экземпляров журнала «Вперед», — задержан на русско-австрийской границе. Но контрабандист уверял Соломона, что эти слухи ложные, что литература доставлена и лежит в надежном месте.
Соломон решил рискнуть и явиться на встречу с «доверенным лицом» в винном погребе, с тем, чтобы отправиться за литературой.
Желябов и Петр Макаревич вызвались его сопровождать и проследить, нет ли здесь подвоха.
27 января в семь часов вечера Соломон спустился в погребок, где его уже поджидал контрабандист Симха. Желябов и Макаревич заняли соседний столик. Ничего подозрительного они не обнаружили. Чудновский был хорошо загримирован, на верхней губе красовались пушистые черные усы, подбородок окаймляла черная борода, а наклейка увеличивала его и без того немалый нос почти вдвое.
Симха вел себя спокойно, и у Соломона исчезли всякие подозрения, но он все-таки предупредил контрабандиста, что в случае предательства ему, Симхе, не уйти живым из Одессы.
Вышли из погребка и сели на извозчика. Желябов и Макаревич наняли другую пролетку и осторожно последовали за Соломоном.
Ехали долго в направлении к Большому вокзалу. Улицы здесь в ухабах и рытвинах, газового освещения нет. Пролетка с Желябовым отстала.
Когда Андрей с Макаревичем, поторапливая извозчика, подъехали к какому-то темному проулку, куда свернул экипаж Чудновского, до них донесся крик: «Кончено!»
Андрей узнал голос Соломона. Значит, ловушка. Он и Макаревич ничем не могли помочь. Нужно было скорее убираться подальше от этого проклятого места.
Соломон Чудновский стал первым «политическим» в Одесском тюремном замке.
Но не последним…
И вот наступил этот год, это «безумное лето» 1874 года. «В народ!» — набатно призывал Лавров. «В народ!» — вторил Бакунин.
В народ, в народ!..
И шли тысячи. Из Москвы и Петербурга, Киева и Одессы, с Дона на Волгу, с Волги на Дон. Шли кружками и брели попарно, переодевались в крестьянские платья, захватывали с собой пилы, топоры, сапожные колодки. Это было движение молодежи. Как новый крестовый поход, но не с именем Христа на устах и не в Палестину к гробу господнему, а в глушь, в деревню, с открытым сердцем и верой в скорое восстание, бунт, в социалистические преобразования. Немногие успели «уйти в народ». Третье отделение большую часть пропагандистов упрятало в тюрьмы.
В Одессе тоже стало тише, кое-кого сцапали жандармы, большинство разбрелось по соседним уездам, давно облюбованным деревням и селам.
И Желябов готовился к этому походу. Братья Жебуневы, приехавшие из Киева, открыли мастерскую сначала в Одессе, а потом в селе Васильевке, в шестидесяти верстах от нее. Здесь обучались ремеслу, в основном кузнечному. Это было «сплеча» Андрею.
А из провинции между тем уже приходили драматические вести. Переодетые студенты спали на рогожах, сознательно голодали, опасаясь, что., «взявши в руки посох, нельзя есть селедку». Но крестьяне с недоверием слушали восторженные проповеди миссионеров социализма, принимали их за барчуков-помещиков, недовольных батюшкой царем за то, что он крепостным «волю» дал.
Андрей тяжело переживал первые неудачи «хождения» и появление первых трещин в здании социалистических теорий, как только эти теории соприкоснулись с крестьянами, с жизнью.
Петр Макаревич деятельно обучался сапожному ремеслу, мечтал скорее пойти в народ. Если жандармы попытаются арестовать его, он будет стрелять. Сапожная колодка и револьвер! Мечты закончились для Петра арестом. Кружок Волховского тем временем был разгромлен. Почти всех схватили по доносу предателя. Андрея не тронули.
24 сентября 1874 года арестовали и его, но по делу Макаревича.
Аресты шли по всей России. Только в течение 1874 года было привлечено к следствию 770 человек, из них 265 содержались под замком, 452 жили без права выезда, ожидая суда. А сколько сотен заподозренных в сочувствии было административно выслано!
Обыск на квартире Андрея ничего не дал жандармам. Не опознала его и доносчица.
Андрея отпустили с подпиской о не выезде. Потом снова арестовали.
Вот и он в Одесской тюрьме. «А за что? За слово, правды, за веру в будущее, в народ?» Следственные власти рассуждали иначе.
Перехвачено письмо в Петербург к жене Макаревича — Анне. Оно шифрованное, но его прочли:
«На случай вашего ареста загодя просите своих родителей взять вас на поруки или внести залог, предстоит такое чудесное предприятие, что я этому письму не хочу доверять, но для успеха нужны деньги. Я уже телеграфировал в Киев, не знаю, вышлют ли».
В письме подробно рассказывалось о показаниях, которые дал следствию Петр Макаревич, чтобы, на случай, жена знала, о чем говорить.
Письмо написано рукой Желябова, им же и зашифровано. Но суд не скоро, улики против Андрея слишком незначительны. Он зять Яхненко. Под залог в две тысячи рублей его отпустили.
Начальник жандармского управления Кнопп донес в Петербург: «Желябов ничем не уличается в принадлежности к кружку Макаревича… Участие его в деле Макаревича имеет характер, очевидно, личный, основанный на его к ней чувствах привязанности…»
А то, что Желябов никого не назвал, отказался от знакомства с Волховским, Франжоли и другими, Кнопп объяснил рыцарским увлечением «относительно понятий о чести».
Генерал Слезкин не был «рыцарем». 11 ноября из Петербурга пришла телеграмма: «Андрея Желябова следует немедленно арестовать».
Скучно тянутся зимние дни в Одесской тюрьме. Уже через неделю режим ее становится невыносимым. А время ползет, ползет. Вызывают на очные ставки, допросы, предлагают составить письменные показания. Улики шаткие. Вдова-предательница рада услужить властям, но на очных ставках несет явную чушь. Видите ли, у Петра Макаревича, поселившегося в Одессе в конце 1873 года, собирались какие-то интеллигентные люди, но с инструментами, вели себя тихо. Вдова слышала несколько раз, как называли фамилию Желябова. Она думает, что у Макаревича подделывали ассигнации.
Сложнее с этим злосчастным письмом. Всякое знакомство с революционерами он, конечно, вновь будет отрицать. Это тактика, и не им выработанная.
А с Анной они друзья еще с гимназических лет. Когда она, будучи уже в Петербурге, попросила через одного знакомого сообщить о показаниях мужа, мог ли он отказать? Ему тогда и шифр передали, показания же доставило случайно «одно лицо». Нет, фамилию он не назовет.
А какое «чудесное предприятие» намечалось?
Боже мой, ну, он хотел устроить Анне свидание с мужем, для этого нужны были деньги.
«…Повторяю, что вполне сознаю себя неправым перед законом, скрывая фамилии лиц, соприкосновенных с делом, и только сознание, что выдавать их безнравственно — причина такого умолчания. Вся вина моя: дружеские отношения к Анне Макаревич и неведение того, в чем обвиняется она совместно с мужем своим…»
В марте 1875 года под залог в три тысячи рублей Андрей вновь оказался на свободе, впредь до суда.
Между тем хождение в народ потерпело крах. У одних это вызвало отчаяние, разочарование в идеях, отход от революционной борьбы. Другим казалось, что принесенные жертвы не бесполезны, но результаты слишком мизерны по сравнению с ценой, уплаченной жандармам.
Когда прошел первый приступ уныния, уцелевшие взялись за анализ.
Каждый промах, каждая ошибка оценивались, делались выводы. В походе постарели многие юные энтузиасты. Умудренные опытом, они сожалели об идеалах молодости, о своих заблуждениях насчет крестьян, о наивной вере в быстрые и блестящие результаты. И чем больше было энтузиазма и веры, тем сильнее оказалось разочарование.
Теперь они поняли, что роковые промахи начались с того, что не было организации, не было конспиративности. Они ломились в открытую дверь с открытой душой, нарядив в крестьянские лохмотья тело. А крестьянин не верил в лохмотья, не понимал души проповедников. Пропагандисты уверяли крестьян в любви, крестьяне не знали, за что их любят, и предусмотрительно хватались за карман: мало ли что… Или выдавали полиции, били.
Кто виноват и что делать дальше? Этот вопрос волновал и тех, кто попал в тюремные застенки, и тех, кто остался на свободе.
Затихает революционное движение, исчезают товарищи в ненасытных молохах тюрем, заселяется каторжная Якутия.
Как возродить революционную борьбу? Кто должен ее продолжать? С кем быть в союзе? И много других вопросов толпилось в беспокойной голове Желябова.
Социалисты пострадали, либералы остались в стороне, украинофильские националисты активизировались.
«Старая громада», киевская, тянет к либералам, обособляется в украинском национализме. Молодые «Громады», и в том числе одесская, еще близки к революционерам. Здесь нет разницы между русскими и украинскими кружками.
Андрей понимает, как важно именно теперь слить воедино два этих потока — южных социалистов и украинофилов. Но кто это может сделать? Ответ приходит сам собой. Он.
Он близок к тем и другим.
И снова кружки, поредевшие. С новыми людьми. Социалистические, украинофильские.
Желябов считает, что объединение должно привести к полному слиянию. Но с этим не согласны украинофилы. Они отстаивают федеративные начала в организационных отношениях. Эти разногласия убеждают Андрея, что украинофилы недостаточно революционны, напуганы разгромом тех, с кем им теперь предлагают слиться.
Неудача не обескуражила Андрея, она заставила еще пристальней вглядываться в людей, прислушиваться к их мыслям, идеям.
Лето 1875 года внесло новое оживление, новые надежды. Они пришли из-за рубежа. В Герцеговине сербы подняли восстание против турецкого владычества.
И хотя в восстании не было ничего социалистического, хотя русский царизм во многом использовал его как прелюдию новой войны с Турцией, молодежь горела симпатиями к братьям славянам. Восстание-то было национально-освободительным.
Либеральная печать взывала к панславизму. Русский официоз до поры до времени скрывал истинное отношение правительства к восстанию. Социалистам казалось, что царизм боится распространения революционной заразы, а в том, что движение на Балканах революционное, они не сомневались. Это еще больше взбаламутило молодежь. Легальные, полулегальные и вовсе тайные комитеты и организации помощи далеким славянам росли день ото дня.
Шло формирование добровольческих дружин, собирали деньги. Особенно активно выступил юг: Балканы — соседи.
В Киеве комитет чисто украинский, в Одессе в него вошли и сербы, и украинцы, и русские, и поляки.
А душа его — Желябов. Он надеялся, что борьба славян всколыхнет дремлющие силы русского народа и пробьет час революции в России.
На Балканы уехали известные пропагандисты и бунтари Сергей Кравчинский, Михаил Сажин, Дмитрий Клеменц, Иннокентий Волошенко.
Желябов тоже собирался. Воображение рисовало романтические картины боевых биваков в горах, лихих набегов, горячих схваток с янычарами. Впервые в руках Андрея появился револьвер.
В это время в Одессу приехал Драгоманов. Теперь он был уже признанным главой киевской «Громады», и его очень интересовали попытки сближения с социалистами и украинофилами в Одессе.
В нелегальном славянском комитете состоялось очередное заседание. Остро выступил Желябов. Драгоманов слушал, отмечая про себя: «Энергичен, весел, увлечен, душа предприятия, чрезвычайно привлекателен».
После окончания прений Желябов подошел к представителю поляков Магеру. Завязался разговор об общеславянском революционном движении.
— Почему польская молодежь проявляет такое холодное отношение к социалистическому движению в России? — в упор спросил Андрей.
Магер не стал уклоняться от щекотливой темы.
— Для польских революционеров представляет огромную важность национально-политическая программа, то есть вопрос о независимости Польши, а русские революционеры отдаются «чисто экономическому социалистическому» направлению.
— Возьмите тогда инициативу на себя, ставьте свой национально-политический вопрос, — не унимался Желябов.
Драгоманов вмешался:
— Польские революционеры должны отказаться от требований независимости Польши в ее «исторических границах», то есть со включением Правобережной Украины, и должны признать права Украины как страны, равноправной с Польшей и Россией…
Драгоманов не договорил.
— Да! Да!.. — поддерживает Желябов.
Социалисты не знали об этой беседе. Они бы осудили призывы Андрея к решению политических вопросов в ходе революционной борьбы. Но Желябов достаточно повращался в кругах либералов и националистов, чтобы задуматься о политических проблемах.
Желябов уходил вперед, обгонял и пропагандистов и бунтарей, хотя опять-таки это была скорее стихия настроений, чувств, увлечений, чем продуманная система взглядов.
Герцеговинское восстание доставляло много хлопот. Денег собрали мало, поток добровольцев убывал по мере того, как выяснялось, что сербы ждут помощи не столько от русских революционеров-дружинников, сколько от регулярных царских войск. Мало-помалу выплывали наружу и махинации царской дипломатии.
Но если не сбылись надежды Желябова на то, что восстание славян поможет революционному воспитанию русского общества, он все же был удовлетворен: сербы и черногорцы, болгары и герцеговинцы добиваются успехов в борьбе за свободу и независимость.
Так проходил 1875 год.
Наступил 1876-й. Андрей мелькал в Одессе, уезжал в деревню и подолгу оставался там, занимаясь хозяйством. А хозяйничать он любил и умел. Ольга Семеновна акушерствовала, заботилась о сыне, которого в честь отца назвали также Андреем. Отец любил сына, но не баловал, хотя ему едва исполнилось два года. Он часто с улыбкой наблюдал, как карапуз, смешно переваливаясь с ноги на ногу, бесстрашно бродил среди сытых коней, которых заботливо выхаживал отец.
Кое-как наладились и отношения с Ольгой. После рождения сына она уже не искала шумных компаний, пьянящих аплодисментов. Андрей видел в ней доброго товарища, мать семейства, помощницу в работе. К семейным обязанностям Желябов относился серьезно, по-крестьянски.
Среди близких и добрых знакомых-односельчан Андрей не пытался пропагандировать, хотя его уважали, к мнению его прислушивались.
Желябову были ясны причины неудачи хождения в народ, провал «летучей пропаганды». И он, быть может, одним из первых, еще не осознавая того, начал новую страницу истории «народничества». «Народники», как стали именовать тех, кто ходил в народ, подумывали о длительных поселениях в деревнях для повседневной пропаганды.
Из Петербурга в Крым долетали скупые, нерадостные вести.
В революционной столице шла переоценка ценностей. Это привело к выработке новой народнической программы, к созданию фундамента первой народнической организации с элементами централизма.
В 1876 году закладывались основы общества «Земля и воля».
Главный тезис новой программы гласил, что революционная деятельность в народе должна отталкиваться не от теоретических формул, а «от присущих ему в данный момент отношений, стремлений и желаний». И на своем знамени новое общество должно написать самим народом осознанные идеалы.
Прежде всего, земля. Веками крестьянин поливал ее потом, кровью, слезами, а возросшим урожаем пользовался помещик. Он отобрал у крестьян землю и при «освобождении». А она — дар божий и должна принадлежать тем, кто трудится на ней. Земля — крестьянам, крестьянским общинам. Это осознанный народом идеал и бесспорное требование всех социалистических доктрин.
Народ должен в конце концов понять и свое бесправие, убедиться, что нечего ждать от царя, кроме плетей, штыков, ссылок, тюрем. Народ сам должен добывать себе лучшее будущее. Революционеры только способствуют пробуждению в крестьянине чувств гражданина. Для этого нужно жить в народе, пользоваться его доверием, каждый день соприкасаться с крестьянским бытом, устранять из него водку, подкуп, защищать права бедноты, оттеснять мироедов, поднимать значение мирской сходки, развивать в крестьянах дух самоуважения и протеста. Народ еще не осознал необходимости для него подлинной воли, но к ней он тянется стихийно. И ее написали на знамени. Воля — разве не к этому сведены все социалистические учения?
На знамени не написали надежд революционеров. Их обсудили на сходках в узком кругу. А надежды сводились к одному — от легального протеста народа к народной революции.
Народ не понимал, зачем нужна революционная организация, ее создавали для него, но помимо него. Не осознал он и необходимости нанести «центральный удар» в столичных городах, удар динамитом, удар кинжалом, удар по царю и его присным. И террор, на первых порах названный «дезорганизаторской деятельностью», тоже не написали на знамени, но отметили в программе.
Андрей ничего не знал об этой программе, как не знал и людей, ее составивших, — Марка Натансона, его жену Ольгу, Александра Михайлова, Георгия Плеханова, Юрия Богдановича, Боголюбова, Трощанского и некоторых других.
Долетали вести о рабочих стачках. Они ширились день ото дня. Пришло известие о демонстрации — первом открытом политическом выступлении рабочих совместно с народниками у Казанского собора 6 декабря 1876 года, о петициях студентов. Он хозяйничал, но хозяйство уже все меньше и меньше интересовало Андрея — этому во многом способствовало его более близкое знакомство с крестьянином.
Нет, в народ, в мужика Андрей верил, считал его высшим мерилом всех поступков, надежд, теорий, но он уже не верил в социалистические инстинкты крестьян, тем паче что на юге, в Крыму, не было общины — главной иконы «социалистической религии» народников.
Его с каждым новым днем все больше и больше тянуло в Одессу, ведь он только изредка бывал в ней наездом. Опять начались нелады с Ольгой. Работая на огороде, она вдруг припадала к грядкам и навзрыд плакала, вспоминая рояль, концертные залы…
Желябов, оторванный от товарищей, сомневающийся в правоте своих взглядов на революционное переустройство общества, раздражался. Его тяготило хозяйство, мучило отсутствие какой-либо практической общественной деятельности.
Нет, так дальше нельзя! Нужно уезжать из деревни.
Но об отъезде позаботились жандармы. Его арестовали в жаркий июльский день 1877 года и привезли не в Одессу, а в Дом предварительного заключения в Петербург, к новым товарищам, томящимся уже долгие месяцы в ожидании суда.
Готовился грандиозный процесс.
Дом предварительного заключения не чета Одесской тюрьме. Это гордость русских властей, выставка, которую показывают иностранцам.
Шесть этажей, окна камер выходят во внутренний квадратный двор. С улицы трудно понять назначение этого здания.
Камеры десять футов длины и семь ширины. Если ходить, то только по диагонали — четыре шага из угла в угол. Но на пути либо ввинченные в стену кровать, стол, табуретка, либо раковина умывальника, стульчак унитаза, полка для посуды.
Встав на табуретку, можно достать рукой потолок. Окно с матовым стеклом, рама на цепи и чуть-чуть приоткрывается, образуя вверху щелочку для воздуха. Чистота идеальная. Да и не удивительно: с утра и до ночи в Предварилке работает швабра — заключенные уголовники полируют асфальтовый пол коридоров, камер; асфальтовая пыль оседает на лицах, проникает в легкие.
Запахи нижних этажей скапливаются наверху, вентиляция настолько плоха, что, когда запирают двери камер, можно задохнуться.
В семь часов утра открывается форточка, прорезанная в двери. — Кипяточку!
Это звучит почти как «доброе утро». Уголовник наливает в оловянную кружку кипяток из большого чана на колесах.
На день — три фунта черного хлеба, миска щей, каша. Но если арестованный имеет деньги, то может заказать обед тюремному повару, купить заварку. У Андрея не было денег. И родных в столице не было. А это значит — ни книг, ни бумаги, ни обедов. Только четыре шага туда, четыре обратно. На следующий день надзиратель спросил у Желябова, пойдет ли он гулять. Андрей изумился: — Странный вопрос… Его вывели во двор.
В середине двора — невысокая башня, от нее по радиусам расходятся решетчатые камеры без крыш, с глухими боковыми стенками, прямо «загоны» для скота. На башне надзиратель — ему видны все камеры с гуляющими. Видны они и из окон шести этажей. Первое, что поразило Андрея, — окна камер открыты, нет железных рам, матовых стекол. На подоконниках узники. И все почему-то смотрят на него.
С третьего этажа чей-то густой бас окликнул: — Вы кто?
Андрей не понял вопроса, да и не был уверен, что он обращен к нему. Но вопрос повторили другие окна.
— Желябов.
— Политический?
— Да, по процессу.
— Зачем же вы гуляете? Мы не ходим гулять… Андрей опять удивился. Собственно, почему его прогулка вызвала такой переполох и почему не гуляют другие? Может быть, открытые окна заменяют им пребывание в «загоне»?
Там будет видно, а пока надзиратель должен немедленно отвести его обратно в камеру.
Через несколько дней Андрей освоился с порядками Дома, узнал он и причину отказа от прогулок. Но только после того, как был принят в «клуб».
О, это был удивительный «клуб»!
С шестого этажа до первого шли канализационные трубы. По обе стороны труб в каждой из двух соседних камер располагались стульчаки унитазов, соединенные с трубой коленом. Открыв крышку стульчака и промыв водой раковину, каждые двенадцать одиночных камер составляли свой «клуб» и могли беспрепятственно разговаривать. Даже не нужно было громко кричать, слышимость великолепная. Андрею сразу прочли стихи, пародию на Фета, «Шепот, робкое дыханье, трели соловья…»:
Стук по стенам… стук по трубам,
Немой разговор. Заседания по клубам…
В воздухе — топор! Жизнь без дела и движенья,
В камере мороз… И желудка несваренье…
И понос… понос…
Объяснили, как справиться с тяжелой железной рамой на окне. Ее просто отвинчивали и ставили на пол. Свежий воздух, изредка солнце, живой голос товарищей, а вечерами даже концерты.
Приобрел Андрей и «коня». Нехитрое приспособление — шнурок переброшен в окно соседа направо, налево, на верхний этаж, вниз. «Конь» доставил Желябову книги, бумагу и даже вкусные вещи, которыми делились товарищи, имевшие родственников, а значит, и передачи.
В эти июльские дни Предварилка напоминала встревоженный улей. Буквально накануне водворения в нее Желябова произошла «Боголюбовская история», переполошившая начальство и весь Петербург.
Градоначальник Трепов изволил посетить эту тюрьму-склеп. А она сидела на подоконниках, громко разговаривала в «загонах», перемахнув через решетки, прогуливалась по двору.
Трепов остолбенел. Недалеко от него стоял Боголюбов, уже осужденный и приговоренный к каторге.
Генерал подскочил к узнику.
— Ты как смеешь стоять предо мной в шапке? И не успел Боголюбов опомниться, как генерал размахнулся… Шапка слетела…
Из Окон понеслись истошные крики:
— Палач!
— Мерзавец Трепов!
— Вон, подлец!
Тюрьма загрохотала железными подоконниками. Трепов взбесился. Указывая на Боголюбова, он крикнул управляющему Домом:
— Увести его и выпороть!
Дом предварительного заключения превратился в ад. Ломали мебель, тяжелыми рамами высаживали двери камер…
Потом поступило предложение прекратить бить «неодушевленные предметы», а постараться бить «одушевленные» и начать с Трепова.
Трепов прислал городовых. Били сапогами и шашками, таскали за волосы в карцер. Узники кусались, кричали. И это творилось до тех пор, пока заключенные и опричники не выбились из сил.
В знак протеста арестованные отказались от прогулок.
Генерал больше не показывался. С воли пришло известие, что партия берет на себя дело мести градоначальнику.
Желябов искренне сокрушался: уж если арестовали, то жаль, что привезли в Петербург так поздно. С его силищей он бы показал городовым!..
Однажды в «клубе» раздался знакомый голос. Желябова приветствовал Соломон Чудновский. Его привезли из Одессы давно, держали в Петропавловской крепости, потом поместили в Предварилку.
Процесс, который готовили столько времени, приближался. Заключенным был вручен обвинительный акт. Документ наполнен домыслами и откровенной ложью.
Муравский, прозванный «Дедом», взял на себя инициативу вскрыть на суде ложь. И из всех камер к нему стекались опровержения.
Волновал и вопрос, как держать себя на суде. Решили — возможно шире ознакомить общество со взглядами и стремлениями народничества, бросить в глаза судей и правительства обвинения.
Потом каждый из кружков, представленных в Предварилке, — киевляне, одесситы, саратовцы, петербуржцы — приступил к подготовке речей.
Андрей не замечал, как летело время.
И вот наступил этот день. Желябов его ждал три месяца, некоторые узники — по два года, большинство же просидело под следствием более трех-четырех лет.
Ранним октябрьским утром 193 обвиняемых были выстроены в длинный черед. Между ними встали жандармы — очередь увеличилась вдвое. По внутреннему ходу гуськом потянулась шеренга в здание окружного суда. Здесь в XVIII веке был пушечный двор, потом его перестроили в артиллерийский музей, и, наконец, министерство юстиции открыло в этом доме «гласный», «справедливый», «равный для всех» суд.
Зал наподобие концертного, огромная аляповатая люстра. За балюстрадой длинный стол под алым сукном, девять алых кресел.
Налево от стола что-то вроде кафедры. На возвышении, за деревянной решеткой, два ряда скамей для подсудимых.
Но подсудимых так много, что они рассаживаются на места для публики, тем более «публики» человек двенадцать-пятнадцать, не больше, остальных не пустили.
В зале — гомон. Знакомые только по «клубам» обнимаются. И тщетны усилия жандармов навести «порядок». Из-за деревянной решетки, с «голгофы» тоже тянутся руки. Там наиболее отчаянные, с точки зрения властей: артиллерийский офицер Дмитрий Рогачев, мировые судьи Ковалик и Порфирий Войнаральский, там же Ипполит Мышкин — человек, уже внесенный в легенду за попытку освободить Чернышевского.
Мелькает румяное лицо Софьи Перовской. Ее не арестовали, и на суд она пришла с воли. Андрей слышал о ней как о деятельном члене кружка «чайковцев», пропагандисте. Знал он, что Перовской обязан многими книгами, прочитанными в эти месяцы. Она напоминала девочку-подростка, а ей уже исполнилось двадцать три года. И за плечами работа не только в кружках, но и в народе — оспопрививательницей по деревням Самарской губернии.
Андрей внимательно присматривался к этой необыкновенной дочери бывшего губернатора.
А вот и Николай Морозов. Ну и вид! Желтая с черной вышивкой косоворотка, сверху смокинг, вылинявший, пыльный. Морозов — поэт, его стихи не раз раздавались в трубах «клуба». В революционном движении давно, а потому знаком очень многим. Весело болтает с Перовской.
Анна Якимова, скромная учительница из Вятской губернии, пропагандистка, смотрит немного исподлобья, — видно, с характером.
Чьи-то крепкие объятия. Андрей пытается вырваться. Соломон! Улыбается, румянец во всю щеку.
— Ну, брат, и вид у тебя, будто сегодня из деревни приехал!
— Ты тоже на розовенького херувима похож!
— Дай я тебя пощупаю, вату не подложил? Рядом Франжоли, Волховский, Сергей Жебунев.
Сколько знакомых, дорогих лиц и новых, но ставших уже близкими товарищей!
Прокурор Желиховский — опытный крючкотвор, он постарался всех объединить в преступное сообщество пропаганды. А ведь многие едва знакомы друг с другом, да и то по Дому предварительного заключения.
Через некоторое время стало известно, что разбирательство дел будет вестись фактически при закрытых дверях; подсудимых разделили на семнадцать групп и изолировали каждую группу.
Тогда Муравский, «Дед», подал мысль — отказаться от признания компетенции суда Особого присутствия. К протесту присоединилось большинство.
Желябов мог и не присоединяться; товарищи освободили от участия в протесте тех, против кого почти не было обвинений.
Но Андрей подписал протест, отказался присутствовать в зале, потребовал, чтобы его немедленно вывели.
Суд выливался в глупую, но для многих трагическую насмешку над законами.
Этот гигантский процесс привлек внимание всех слоев русского общества, всколыхнул иностранную прессу. Заграничные газеты прислали в Петербург своих корреспондентов, но только некоторые из них попали в залу суда.
Внимание общества вскоре сменилось изумлением, а изумление — негодованием. Заочный суд! Из 193 человек еле-еле набрали 30, против кого можно еще было выставить хоть какие-то обвинения. Остальные «для фона». И ради «фона» их продержали по два-четыре года в тюрьмах.
Менялись роли. Подсудимые выступали как обвинители. Ипполит Мышкин называет правосудие «домом терпимости», его хватают жандармы, силой волокут из зала.
Скандал! Корреспондент «Таймс» демонстративно уехал после второго дня суда, заявив: «Я присутствую здесь вот уже два дня и слышу пока только, что один прочитал Лассаля, другой вез с собой в вагоне «Капитал» Маркса, третий просто передал какую-то книгу своему товарищу».
Противозаконность процесса не оставляла сомнений. Судьи не могут никого осудить. А осудить нужно, иначе это «процесс-монстр».
Мышкина, Ковалика, Войнаральского, Рогачева приговаривают к десятилетней каторге.
Остальных — к разным срокам с зачетом лет, проведенных в тюрьмах в период следствия.
Что же, суд имел свою положительную сторону. Он показал всему миру русское правосудие, открыл глаза сочувствующей молодежи и указал ей путь борьбы.
Для подсудимых он явился своеобразным смотром сил, конгрессом, на котором вырабатывались планы будущего русского революционного движения, знакомились, договаривались о встречах.
«Процесс-монстр» окончился. Улики против Андрея были столь ничтожны, что даже судьи не старались придраться к ним.
23 января 1878 года Желябов был оправдан.
Чудесно чувствовать себя снова свободным! Но как жалко почти семи месяцев, проведенных в заточении, хотя они и не совсем вычеркнуты из жизни! Сколько новых знакомств, да еще с какими людьми! Вряд ли он сумел бы встретиться с ними иначе.
Да, вот это люди! И прежде всего Мышкин. Пока пропагандисты вели душеспасительные беседы, а бунтари бродили по деревням, Мышкин действовал — действовал активно, дерзко. Он не побоялся вступить в единоборство и с жандармами и с лютой тундрой.
Действовал!
Желябов хорошо понимал Мышкина. Считал его настоящим революционером и тоже хотел бы действовать. Но как?
Товарищ по университету, друг по кружку Волховского — Дмитрий Желтоновский звал в деревню. Андрею хотелось побывать в настоящей, как ему казалось, деревне, не в Андреевке или Султановке, где все знакомые или родные, где нет поземельной общины, а значит, и не должно быть предпосылок к социалистическим навыкам общежития.
Андрей не был одинок в этом желании. Таких жаждущих пожить бок о бок с «истинными социалистами» — крестьянами, нашлось несколько — все друзья по Дому предварительного заключения. Они ходили в народ, но выходили только одиночную камеру. Поворот народников, оставшихся на свободе, к долговременным поселениям их не коснулся — по той простой причине, что они в это время находились в тюрьмах.
Договорившись с товарищами, Андрей поехал сначала в Крым.
Хутор «Вовчек» прилепился на холме. В ясную погоду с вершины его можно разглядеть небольшой уездный городок Брослав. Дмитрию Желтоновскому понравилась заброшенность этого уголка и в то же время близость его к городу. Рядом с хутором крохотный баштан. Он как раз подойдет Желябову.
Желтоновский очень хотел, чтобы Андрей приехал сюда. Дмитрий послал ему телеграмму. Она буквально вырвала Желябова из дому.
Андрей появился на хуторе неожиданно. Он давно не видел Дмитрия и был несказанно рад встрече. Целый день вспоминали былое. Веселый смех Андрея был слышен далеко-далеко за домом.
Баштан привел Андрея в восторг, и на следующее утро он уже сделался его хозяином.
День за днем, по шестнадцать часов в сутки, Андрей ковырялся в земле. Дыни, арбузы, огурцы, помидоры требовали неустанных забот и каторжного труда. От супруги помощь была невелика. Она откровенно скучала, неохотно прибирала убогий домишко, возилась с сыном.
А Андрей и здесь показал себя деловитым хозяином. Но даже его недюжинной силы не хватало на все, нанять же работника он не мог, вернее, не хотел: ведь баштан только предлог для пропаганды, а не самоцель. А к тому же социалист — и наемный труд? Никуда не годится!
Дыни были великолепны, огурцы один к одному. Но после целого дня работы под лучами немилосердного солнца, когда не замечаешь восхода и разгибаешь спину лишь потому, что спустившиеся сумерки мешают работать, после такого дня хочется только спать.
И не одному Андрею. Пустеют соседние баштаны, погружаются в сон поля. Редко-редко засветит огонек в хатах… Сон, только сон, тяжелый, каменный, владеет всем свободным от работы временем.
Мало-помалу Андрей воочию убеждался, что консерватизм деревни, который так огорчал товарищей, результат каторжного труда, обращающего человека в животное, изгоняющего мысли, притупляющего даже чувство голода.
Созрели дыни, арбузы. А к чему они Андрею? Но не бросать же урожай, в который вложено так много сил! Желтоновский советует свезти несколько возов в город на базар.
Украинский базар! Овощи, овощи, фрукты, фрукты! Продают возами, покупают на грош, торгуются со смаком, с шуткой, забористой бранью. Расхваливают переспелую гниль, бессовестно обвешивают, стараются недоплатить. Ревут волы, заливаются истошным визгом свиньи; поверженные на возы со связанными лапами, тревожно квохчут куры. И над всей этой яркой мозаикой стоит неумолчный гам и густое облако пыли.
Андрей любил эти наезды. Толпа его будоражила. Торгуясь, он с веселой прибауткой выспрашивал покупателя о житье-бытье, сочувственно поддакивал жалобам и незаметно начинал рассказывать, как хорошо жилось бы людям, не будь помещиков, царя.
Кто слушал, а кто тут же с оглядкой уходил восвояси. Андрей пропагандировал со вкусом, вдохновенно, но, увы, как скоро убедился, бесполезно.
Накапливались впечатления. Но так же, как и в Крыму, выводы были неутешительные. И здесь, «в настоящей деревне», крестьянина не проймешь пропагандой. Социалистических инстинктов в нем ни на грош, скопидомы. Мечтают не о равенстве, а о том, как бы под себя чужое подгрести, в кринку лишний алтын упрятать. Друг с дружкой словно волки, так и норовят один другого пожрать.
Поздней осенью Андрей уже не ездил на базар, забросил баштан. Одиноко бродил по осиротевшим полям, заглядывал на огонек к соседям и все больше и больше терял вкус к прелестям сельской жизни, пропаганде среди крестьян.
Его нервная, нетерпеливая натура требовала, чтобы результаты трудов ощущались — если и не сразу, то во всяком случае в ближайшем будущем. А тут? Сколько лет, а может быть и поколений, потребуется, чтобы просветить одурманенный невежеством и адским трудом ум крестьянина, сделать крестьянина сознательным борцом! Андрею не дожить, тем более что в любой момент его могут схватить, упрятать в Сибирь, в казематы. А во имя чего? Что будет освещать ему жизнь в вечной тьме карийской ссылки, петровских рудников?
Андрей снова в Одессе. И пыльный воздух, и прохлада моря, и крикливые улицы, и выжженные солнцем степи за городом показались такими родными, близкими.
Одесса быстро стерла в памяти деревню, и только чувство неудовлетворенности, неосознанное желание как-то ускорить ход событий, активно вмешаться в жизнь, растормошить, поломать эту мертвечину, вышвырнуть гниль, плесень с каждым днем становилось сильнее и сильнее.
Желябов жадно расспрашивал Семенюту о событиях. Семенюте не терпелось самому послушать Андрея. Разговор получился бестолковый, сумбурный, но именно в процессе обмена впечатлениями Андрей вдруг ясно сформулировал свои желания и надежды.
— Ты был прав. История движется ужасно тихо, надо ее подталкивать. Иначе вырождение нации наступит раньше, чем опомнятся либералы и возьмутся за дело.
Андрей произнес это задумчиво, с растяжкой, как бы вслушиваясь в каждое слово. Семенюта с интересом посмотрел на друга. «Ну и ну, укатала-таки деревня и этого пропагандиста!»
— А как насчет конституции?
Желябов на минуту задумался. Конституция — это дело либералов, хотя…
— И конституция пригодится.
— Что же ты предпочитаешь: веровать в конституцию или подталкивать историю?
Семенюта явно подсмеивался, да и было над чем. Социалист — и вдруг «конституция пригодится», пропагандист — и «надо подталкивать историю» — это ниспровержение всех устоев правоверного народничества.
— Не язви. Теперь больше возлагается надежд на «подталкивание».
Андрей говорил не только за себя, хотя он и оторвался от товарищей. Эти мысли приходили на ум всем, кто ходил в народ, потом пытался селиться в деревне. Все чаще и чаще раздавались возгласы, что надоело «биться о лед, о народ». Многие считали, что действительно историю нужно подталкивать, а некоторые уже стали на этот путь. Это был путь борьбы политической, и, хотя народники открещивались от политики на словах, на деле они все чаще и чаще сталкивались с необходимостью бороться не за социальное равенство и экономическое переустройство русского общества, а за право говорить вслух, собираться вместе. Это были права политические, права, узурпированные правительством.
И, прежде всего южане. Капитализм на юге делал огромные успехи, выкорчевывая феодальные пни со своей дороги. Буржуа уже громко заявлял о надеждах на конституцию. И пока пропагандисты тужились, разъясняя крестьянам смысл социального и экономического равенства, капиталисты «сгущали конституционную атмосферу». Бакунизм терпел крах, столкнувшись с «истинным социалистом» и под напором новых успехов капиталистического развития. Ныне уж нельзя пренебрегать борьбой политической, борьбой за власть, за конституционные свободы. Нужно было найти выход.
В далеком Петербурге поворот к политической борьбе вызревал в скорлупе «Земли и воли». Старое народничество изживало себя. Да и как можно было сидеть в глуши, ковыряться в навозе и по складам толковать идеи социализма темному поселянину, позевывающему, почесывающемуся в ответ на рассказ о светлом царстве справедливости и всеобщего счастья! Не усидишь!
А из городов летят пугающие и радостные, вызывающие негодование и трепетные надежды вести.
Подходит к концу русско-турецкая война. И опять, как это было в годы Севастополя и Парижского мира, обнажился развал помещичье-бюрократического аппарата власти. Она не справляется, ей не под силу. Она не может пробить дорогу новым хозяевам жизни — буржуа — к заветным «местам под солнцем», хотя война уже фактически выиграна. Но это с Турцией — «больным человеком», а ведь за ее спиной Англия, Франция.
Шевельнулись земцы: «В России составляют конституцию для Болгарского княжества».
А для России?
Земец — трус, ему не поднять руку на батюшку царя, но он уже тянет ее за подаянием, как осмелевший холоп у постели умирающего барина: «Дай! Подай! Увенчай здание!»
Шепот облетал легким дуновением богатые квартиры адвокатов — «конституция», сдувал пыль с дедовских комодов разжиревших купцов — «конституция», продувал сквознячком редакторские кабинеты — «конст…». Но редакторы не договаривали.
Ах! «Конституция»? Бунтовать?
И щедрая рука «освободителя», удлиненная, усиленная, расползшаяся, как щупальца осьминога, жандармами, прокурорами, городовыми, полицейскими, направо и налево раздавала «милостыни» — тюрьмы, каторги, ссылки, административное изгнание.
Шеф жандармов Мезенцев мстил 193 участникам процесса. «Выслать без права выезда», «приписать в провинции», «под надзор полиции».
Их высылали, они бежали, становились нелегальными, снова съезжались, но не в Глуховы, не в Погорельцы, а в Петербург, Москву, Киев, Харьков, Одессу.
Они хотели мстить. Какая уж тут мирная пропаганда! Руки сами тянулись к оружию. Револьверы, кинжалы заменили социалистические буквари.
23 января 1878 года, когда Особое присутствие освободило Желябова и он ликовал вместе с новыми друзьями, договаривался ехать в деревню, рядом, в том же Петербурге, уже был взведен курок, чтобы подать сигнал — стреляй, коли, уничтожай этих сатрапов, надругавшихся над честью, совестью, волей людей.
Сигнал прозвучал в одиннадцать часов 24 января в приемной градоначальника Трепова.
«Просительница» Вера Ивановна Засулич выстрелила в генерал-адъютанта и не убежала. Она открыто мстила за Боголюбова, наказанного двенадцатью ударами розог.
Желябов ехал домой, в Крым. А 30 января в Одессе тот самый неуклюжий, с льняными волосами кассир и буфетчик студенческой кухмистерской — Ковальский вместе с работниками тайной типографии, основанной им, — Кленовым, Виташевским, Верой Виттен, Владиславом Свитычем — открыл огонь по жандармам, пришедшим их арестовать.
Одесса посылала Желябову револьверный призыв.
Эхом откликнулся Ростов-на-Дону: там 1 февраля покончили со шпионом Никоновым.
В Крым к Желябову долетел и отзвук выстрелов Валериана Осинского. 25 февраля он стрелял в товарища прокурора Котляревского. Толстая шуба спасла этого садиста, строившего свою карьеру на обвинении невинных людей.
Потом Киев. Тихо, на улице, кинжал Григория Попко пресек жизнь жандармского полковника барона Гейкинга.
И снова Петербург. Он аплодирует Вере Засулич, качает на руках ее защитника Александрова. Суд присяжных оправдал мстительницу. Толпа отбила от жандармов, намеревавшихся вновь ее арестовать. И снова выстрелы, жертвы. В Одессе 24 июня, когда Ковальского приговорили к смерти, — демонстрация, стрельба.
Террор созревал на юге и на севере и становился предметом ожесточенных споров, яростных наскоков, запальчивых обвинений.
Андрей поселился на Гулевой улице, в старой квартире. Незадолго перед этим, 4 августа, в Петербурге ударом кинжала был убит ненавистный всем шеф жандармов Мезенцев. Репрессии усилились, усилилась и террористическая борьба с правительством.
Для Андрея настал тот решающий момент, когда он должен был или стать в ряды активных борцов, или вовсе отойти от революционной работы. Третьего пути не было. Оставаться одиночкой-пропагандистом он не мог.
Желябов слишком многое за это время передумал, взвесил, пережил, чтобы решение было внезапным.
Теперь он уже причислял и себя к революционерам. Раньше, по крайней мере, вслух, он этого не говорил. А раз так — долой лишний груз, все, что может мешать в революционной борьбе!
Семья, буржуазные родственники, родные в деревне? Это был тяжелый крест, тем более что Андрей любил сына, отца, мать, сестер. Гораздо проще с Ольгой. Она уже давно чужая. Хотя жена еще надеется, что муж возвратится в лоно умеренности и аккуратности. Напрасно! Андрей настаивал на разводе. Ему предстоят подполье, суды, быть может, виселица. Ее затаскают по канцеляриям и камерам.
Для нее он уже ничего не может сделать, но для сына… Сыну нужна мать.
Андрей считал, что революционеру необходимо запастись практическими знаниями. Гимназический курс естественных наук давно забыт, в университете он изучал историю, право, а в кружках — социалистическую и экономическую литературу.
Ему бы заняться физикой… В этом может помочь Семенюта.
— Ведь ты математик, — упрашивал Желябов, — слушал самого Петрушевского, ну-ка, тряхни стариной!
Впрочем, Желябову теоретический курс физики ни к чему. Его интересовали практические знания и особенно электричество.
Семенюта долго допытывался, для чего все это нужно Андрею. Вряд ли он сам мог ответить на этот вопрос. Но, конечно, не для того, чтобы стать монтером, как предполагал, теряясь в догадках, его незадачливый учитель.
Раньше Андрей никогда не был близок с профессурой артиллерийской академии, техниками военных судов, офицерами. Теперь он заводит и здесь обширные знакомства. В этом помог ему бывший студент университета, затем вольноопределяющийся артиллерии, товарищ по кружку Волховского и «Большому процессу» Виктор Костюрин. Он кое с кем свел Желябова.
Офицеры давали Андрею уроки по минному и артиллерийскому делу. Они не были столь бескорыстны, как Семенюта, — двадцать пять рублей занятие. Много уроков Андрей взять не мог. Но он с удовольствием вникал во все подробности устройства мин, торпед, присутствовал при испытании взрывчатых веществ и даже ухитрился получить легкое ранение. Его полюбили за веселый нрав, богатырскую силу, хотя и побаивались его «нигилизма». Лейтенант Рождественский брал на свой миноносец в экскурсии по Черному морю. Ходил Андрей и с матросами на паровом катере за десять-двенадцать верст от города к Большому фонтану. Матросы добывали «подспорье» к казенному пайку.
Катер еле слышно пыхтит, от носа бурун белой пены веером раскрывается по гладкой синеве. Вдали море сливается с блеклым небом, и нестерпимо режут глаза озорные солнечные блики. От воды веет прохладой, встречный поток воздуха забирается под рубашку, треплет длинные волосы.
Но вот катер сбавил ход. В опавшем буруне замелькали темные сигары рыб.
И в воду летит пироксилиновая шашка, Андрей замыкает ток. Взрыв! Вихрь брызг! Воронки пены!
Рыба, отборная, всплывает белым брюшком к солнцу.
Андрей, взбудораженный, еще долго не может успокоиться. Но он никогда не ел глушенной рыбы.
Однажды в такой экскурсии ему зашибло плечо, и долго еще Семенюта читал лежавшему в постели Андрею нотации.
— Ведь ты знаешь свои нервы, завяжи, милый дружок, себе на память узелок: никогда в практическую часть не вмешивайся — не твое дело. Ты не исполнитель…
Андрей не слушал, думая о своем.
Между тем правительственные репрессии коснулись «Земли и воли». Осенью были арестованы Оболешев, Ольга Натансон, Коленкина, то есть одни из первых его учредителей. Уцелели немногие. На них свалилась вся тяжесть восстановления и пополнения пострадавшего центра. Это было трудно, хотя денежные дела общества были более или менее удовлетворительны, сохранилась и тайная типография. Из деревень вызвали некоторых пропагандистов. Для вербовки новых членов «Земли и воли» наиболее энергичные организаторы двинулись по городам, где имелись прежние связи, испытанные друзья.
На юг поехал Александр Дмитриевич Михайлов. Он хорошо знал южан — сам начинал революционную деятельность в Киеве. Еще в 1875 году он познакомился с «Киевской коммуной «вспышкопускателей». Общался с народниками — Чубасовым, Осинским, Лизогубом.
Много воды утекло с тех пор… Александр Михайлов стал не только учредителем, но фактически «хозяином» в «Земле и воле».
Осинского Михайлов в общество привлек. Но Валериан остался недоволен «прозябанием северян» и уехал на юг, где развил бурную деятельность. После покушения на Котляревского ему пришла в голову идея издавать прокламации от имени Исполнительного комитета социально-революционной партии. Хотя никакого комитета не было, как не было и такой партии, но прокламации вышли. Он же изобрел и печать Исполнительного комитета с угрожающей символикой — револьвер, топор, кинжал.
Кравчинский, убивший Мезенцева, опубликовал прокламацию «Смерть за смерть», в которой говорил о правомерности и целесообразности политических убийств, как средства борьбы с правительством, упорно стремящимся к сохранению господствующей системы.
Трудящийся и эксплуататор — вот борющиеся силы в России. Правительство должно отойти в сторону и не мешать этой борьбе, прекратить политические преследования, устранить административный произвол, объявить амнистию.
В общем отойди, правительство, в сторону, и тебя оставят в покое.
Так же думал тогда и Михайлов. Но совсем по-другому рассуждал Драгоманов, брошюры-памфлеты которого, присылаемые из-за границы, читал Осинский.
Драгоманов убеждал революционеров, что хотят они того или нет, сознают или не сознают, а фактически народники уже стали на путь политической борьбы, и перед ними неизбежно должна возникнуть проблема государственной власти, государственного устройства.
Осинский был согласен с Драгомановым, он не боялся политики. Вопросы конституции, ее завоевание не были для него ересью. Его кружок вступил в переговоры с земцами о совместных действиях в этом направлении.
Но «Земля и воля» еще цеплялась за старые, народнические понятия, хотя от них мало что осталось. «Троглодиты», как в шутку прозвали руководящее ядро общества, законспирировавшееся настолько, что их местопребывание не знали многие члены «Земли и воли», пока также не идут за Осинским, хотя они идейно и близки ему.
Тогда Валериан стал собирать вокруг себя отчаянные головы из молодежи. И не было ни одного сколько-нибудь серьезного покушения, в котором бы он не участвовал, которым бы не руководил.
Андрей знал Осинского по Одессе и Киеву, но избегал сближения. Еще весной 1878 года, перед поездкой в Подольскую губернию, он неодобрительно отнесся к той программе «насильственных мер», которую пропагандировал Валериан. Желябов считал, что с деятелями, подобными Осинскому, у него не может быть ничего общего.
Но осенью того же 1878 года мнение его изменилось.
Все чаще и чаще в убогой квартирке на Гулевой появлялись друзья Валериана — Михаил Фроленко, Иннокентий Волошенко, Александр Желтоновский, двоюродный брат Дмитрия, Арон Зунделевич.
Семенюта тоже был хорошо знаком с Осинским. Несколько раз он пытался пригласить к себе Андрея в те дни, когда ожидал Валериана. Но Андрей упрямо отказывался, говоря, что именно в этот день он «очень занят и никак не может явиться».
Однажды Желябов проговорился:
— Да и к чему, брат? Я, ты знаешь, не люблю этих белоручек. У вас, пожалуй, будет Барон Икс со всеми своими хвостами и аксельбантами. Нет, уж пожалуйста, приду, когда никого не будет. Не люблю этих аристократов. Не могу их видеть, противно…
— Ну, какой же Осинский аристократ, — возражал Семенюта, — или Барон Икс? — Так величали довольно известного фельетониста в Одессе.
— О Бароне не говори: это болтун, и., ну его ко всем чертям!
Семенюта предполагал, что Желябов слишком самолюбив и честолюбив. Он готов встретиться с Осинским в толпе, на трибуне, но в обществе… Нет, там Валериану будет принадлежать пальма первенства.
Между тем Желябов попросту хотел в эти дни изолировать себя от всего, что могло напоминать о недавней жизни. А ведь Осинский был сыном генерала и помещика, получил светское воспитание, занимал одно время место секретаря городской управы в Ростове-на-Дону.
Андрей готовился стать нелегальным, чтобы разрубить окончательно гордиев узел.
И все же столкнуться с Валерианом ему пришлось. Понадобился паспорт. У Осинского были знакомства, были и специальные фонды для добывания «видов на жительство».
Михаил Фроленко пригласил Андрея на совещание в гостиницу «Одесскую» на Преображенской улице.
Здесь собрались Александр Квятковский, Иннокентий Волошенко, Александр Желтоновский, Григорий Попко.
Председательствовал Осинский. Все споры, все разговоры, все решения этого совещания были для Андрея уже пройденным этапом. Что же касается террора как универсального средства борьбы, Андрей держался особого мнения и расходился в нем с Осинским и Квятковским.
Но пока он молчал.
Осинский достал Андрею паспорт на имя Василия Андреевича Чернявского. Документ был настоящим.
Теперь уже ничто не связывало Андрея с прошлым, даже фамилия.
Он стал революционером-профессионалом.
Николаю Васильевичу Клеточникову тридцать лет. Возраст немалый, а годы прожиты как-то бестолково. Учился в Московском университете — не кончил, перешел в Петербургский — бросил по болезни, служил — надоело, побывал за границей — истратил наследство, потом определился вольнослушателем Медико-хирургической академии — ушел, отвыкнув от занятий.
Нажил чахотку, которая выгнала из родной Пензы. Думал найти приют в Крыму, но Крым оказался слишком жарким.
Николай Васильевич производил впечатление человека тихого, скромного. Так и казалось, что носит он в себе теплую мечту об уютном домике и уютной жене, ребячьем гвалте и спокойной старости под охраной чековой книжки.
Ходил сгорбившись, шаркая.
И как знать, быть может, и кончились бы дни его покойно, незаметно где-либо в провинциальной глуши, если бы не обратил на него внимания Александр Михайлов.
Михайлов умел заглядывать в душу человека. А душа у Клеточникова была кристально чистой, сердце же полно негодования на этот мир, где процветает взяточничество, где глушатся все лучшие проявления человеческой натуры.
Александру Дмитриевичу не хотелось упускать такого человека. Но каждый член тайной организации должен вести определенную революционную работу. Трудно было подыскать подходящее дело для Клеточникова. Ни склонности к литературной деятельности, ни красноречия, только аккуратность, точность, выработанные годами чиновничьей лямки.
А Клеточников загорелся. «Дельце бы мне», — не раз обращался он к Михайлову, не настаивая, робко. Но именно поэтому так трудно отказать.
Порою же бывало не до него. Правительство, Третье отделение наступали широким фронтом. Петербург наводнен «подошвами», «пауками». Шпионы пытаются пролезть в любую щель, и сколько Александр Дмитриевич ни предупреждал, как ни следил, чтобы члены «Земли и воли» соблюдали осмотрительность, нет-нет да кто-нибудь попадался или провокатор вершил свое черное дело.
Сам Михайлов был артистом конспирации, из нее он создал целую науку. Великолепно гримировался, умел с одного взгляда отличить знакомые лица в толпе. Петербург знал, «как рыба свой пруд». У него был составлен подробный список всех проходных дворов.
Один нелегальный народник любил рассказывать друзьям по сообществу, как спас его Михайлов:
— Я должен был сбежать с квартиры и скоро заметил упорное преследование. Я сел на конку, потом на извозчика. Ничего не помогло. Наконец мне удалось, бегом пробежавши рынок, вскочить в вагон с другой стороны; я потерял из виду своего преследователя, но не успел вздохнуть свободно, как вдруг входит в вагон шпион, прекрасно мне известный; он постоянно присутствовал при всех проездах царя и выследил меня на моей квартире, откуда я сбежал. Я был в полном отчаянии, но в то же мгновение совершенно неожиданно вижу: идет по улице Александр Дмитриевич Михайлов. Я выскочил из вагона с другого конца и побежал вдогонку. Догнал. Прохожу быстро мимо и говорю, не поворачивая головы: «Меня ловят». Александр Дмитриевич, не взглянувши на меня, ответил: «Иди скорее вперед». Я пошел. Он, оказалось, в это время осмотрел, что такое со мною делается. Через минуту он догоняет меня, проходит мимо и говорит: «Номер тридцать семь, во двор, через двор на Фонтанку, номер пятьдесят, опять во двор, догоню…» Я пошел, увидел скоро номер тридцать семь, иду во двор, который оказался очень темным, с какими-то закоулками, и в конце концов я неожиданно очутился на Фонтанке… Тут я в первый раз поверил в свое спасение… Торопясь, я даже не следил за собой, а только старался как можно скорее идти. Скоро на Фонтанке оказался крутой заворот, а за ним номер пятьдесят — прекрасное место, чтобы исчезнуть неожиданно. Вхожу во двор, а там уже стоит Александр Дмитриевич: оказалось, что дом также проходной в какой-то переулок.
«Земля и воля» нуждалась в «глубокой разведке». Она должна была своевременно узнавать планы и намерения врага. Но для этого необходимо проникнуть в его логово — Третье отделение.
И трудно было подобрать человека, который бы более подходил к такой роли, чем тихий, незаметный Клеточников.
Николай Васильевич пришел в ужас. Долго отпирался, доказывал Михайлову, что такое ему не под силу. Но каждый раз возражал все менее и менее горячо.
Только как попасть туда? Этим занялся Михайлов. На подозрении у подпольщиков давно находилась акушерка Кутузова, проживавшая в притоне шпионов, в доме на углу Надеждинской и Невского.
Клеточников переехал к ней на жительство.
Мадам Кутузова промышляла не столько искусством акушерки, сколько поставкой шпионов для Третьего отделения. Она содержала меблированные комнаты, сдавала их преимущественно интеллигентам, присматривалась к жильцам, некоторых рекомендовала Третьему отделению.
Тихий нрав нового постояльца привлек к нему внимание хозяйки. У Кутузовой возникли свои виды на Николая Васильевича. Хозяйка стала чаще заглядывать к жильцу и скоро обнаружила, что тот не прочь поиграть в картишки по мелочи. Потянулись вечера вдвоем за карточным столом. Клеточников играл усердно, но неизменно проигрывал: когда полтинник, а бывало, и целковый. Разговоры вел самые что ни на есть душеспасительные и часто жаловался, как трудно жить, не имея постоянного места, возмущался нигилистами и ровно в десять аккуратно собирал колоду, одергивал мундир и, приложившись к ручке «очаровательной» хозяюшки, уходил спать.
Кутузова была покорена.
С трепетом шел Николай Васильевич к зданию у Цепного моста на Фонтанке. Ему казалось, что каждый прохожий смотрит с презрением вслед.
Главный подъезд. Лестница, убранная тропическими растениями, белая с золотом мебель. Торжественно, но слишком театрально.
Первый этаж — казначейская, второй — картотека.
Через некоторое время Клеточников уже знал, что здесь в дубовых ящиках помещалась своего рода «книга живота». Если кто-то потерял паспорт и тем самым навел тень подозрения, если соприкоснулся с миром неблагонадежных, выступил публично, подписал воззвание или просто сделался общественным деятелем, рабочим, городовым, студентом, фельдшером — не избежать такому человеку пометки в «книге живота».
Третий этаж. Клеточников приписан к нему. Это самый зловредный этаж — политического сыска. Тут картотеки «сотрудников», или попросту тайных агентов. Здесь же библиотека всех текущих журналов, выходящих за границей, собрание порнографических карточек и рисунков.
На четвертом — библиотека нелегальных изданий и святая святых — отдел перлюстрации писем и иных секретных документов, кабинеты начальников канцелярий, приемная.
Немного ниже, между третьим и четвертым, — фототека. Здесь хранятся негативные копии писем, портреты.
Всюду карточная система. Любая справка — в течение минуты, бланки разных цветов.
И на каждом шагу часовые с лихо заломленными набок бескозырными жандармскими фуражками и обнаженными саблями. Снуют щеголеватые офицеры при всех регалиях: металлические эполеты, аксельбанты, портупеи, шашки, револьверы.
Все бренчит, сияет, напоминает бутафорию комических опер и возвращает мысль к жестокой действительности.
Каждый день Николай Васильевич терпел пытку пребывания в канцелярии его императорского величества. Все черное, продажное справляло здесь тризну. Здесь не было пределов человеческой подлости.
Клеточников не мог подражать, но помнил, что не должен и выделяться.
Григорий Кириллов, заведующий агентурной сетью Третьего отделения, боготворил покойного шефа жандармов Мезенцева и терпеть не может его преемника Дрентельна. Но убийство Мезенцева повысило Кириллова в должности.
Больше власти, больше денег и почти неограниченные возможности в налаживании политического шпионажа. Кириллов доволен. Он мечтает стать кумиром дворцов, огражденных его попечительством от посягательств революционеров.
Кириллов предложил Клеточникову постараться войти в знакомство с учащейся молодежью. Третье отделение хочет получить сведения, которые бы указывали на преступные действия или мысли. Тихий нрав и внешняя интеллигентность нового «шпиона» казались жандарму магическим талисманом, откроющим двери подполья.
Но агент оказался не способен к слежке. И Кириллов быстро потерял к нему интерес как к шпиону. Однако, учитывая, что человек этот болезненный, вялый, несловоохотливый, решил пристроить его по письмоводительской части. Такие, как он, рассуждал Кириллов, весьма пригодны для сохранения тайн.
Клеточников продолжал оставаться в тени, жалованье себе не выпрашивал, любопытства не проявлял, обедал в кухмистерской, компании ни с кем не водил — знал, что жандармы на первых порах проверяют его. Такая удача и не снилась подпольщикам. Теперь важно было, чтобы Клеточникова никто не разоблачил неосторожным словом, случайной встречей. Михайлов всячески его оберегал.
Для свиданий с Николаем Васильевичем была снята легальная квартира. Кроме Михайлова и на случай его провала — Баранникова, ее никто не посещал.
Революционеры могли вздохнуть спокойно — их жизнь, их свобода надежно оберегались.
Николай Васильевич стал «ангелом-хранителем», добровольно наложив на себя печать Каина.
Между тем в обществе «Земля и воля» дело шло к расколу. Редакторы не ладили между собой. Николай Морозов при поддержке Льва Тихомирова отпечатал своего рода добавление к органу народников — «листок «Земли и воли». В одном из таких листков появилась его статья «По поводу политических убийств». Морозов утверждал, что систематический террор — универсальное средство борьбы. О социализме ни слова.
В ответ на зверства правительства продолжались убийства.
9 февраля 1879 года Григорий Гольденберг выстрелом из револьвера прикончил харьковского губернатора князя Кропоткина.
Гольденберг любил таинственность. Его не считали умным, но никто не сомневался в его честности, преданности делу, храбрости. У него были обширные связи и много добрых друзей.
Он выследил губернатора, когда тот ночью в открытом экипаже возвращался с бала. Друзья укрыли убийцу. 12 марта Мирский стрелял в исполняющего обязанности начальника Третьего отделения Дрентельиа, но промахнулся.
Скоро жандармам стало известно, что в августе прошлого года была заложена мина под пароходную пристань в Николаеве, с которой должен был отправиться Александр II.
События назревали.
Клеточников почти бежал, не разбирая дороги. Кто-то толкнул его, кому-то он наступил на ногу…
Александр Михайлов терпеливо ждал и, чтобы не выдать своего волнения, расхаживал по тесной гостиной. Третий раз он приходит в обычные дни свиданий с Николаем Васильевичем, а того все нет и нет. Уж не случилось ли что?
Николай Васильевич долго не мог отдышаться, натужно кашлял, непрерывно утирал пот, струившийся по лицу. Александр Дмитриевич никогда не видел Клеточникова таким возбужденным.
— Как это произошло?
Вопрос был задан без адреса и пояснений, но Михайлов понял — речь идет о покушении Соловьева на царя 2 апреля.
Александр Дмитриевич молчал. Он не в силах был снова повторить рассказ о том, как стоял у входа на Дворцовую площадь и наблюдал за Соловьевым.
Может быть, подробности вспомнятся потом, а сейчас у него перед глазами Соловьев и царь. Царь, бегущий, как заяц, зигзагами под спасительные своды Зимнего, а за ним Соловьев с наседающими на него жандармами. И выстрелы: один, второй, третий… пятый… и все мимо, мимо… Потом толпа, крики… Его били…
Михайлов поднимает голову. Николай Васильевич долго смотрит ему в глаза, потом снимает очки и тихо говорит:
— Он сознался во всем, но никого не назвал, никого не выдал. Вот читайте…
Строчки прыгали перед глазами, фразы плохо доходили до сознания.
«Покушавшийся назвал себя Иваном Осиповым Соколовым… Бил его саблей и поймал стражник из охранной стражи Кох. Привели истерзан, и избитого к градоначаль., где он был весь вчер. день. Он отравился, лежал вчера больной…»
— Он жив?
Жив? Напрасный вопрос. Он давал показания. Значит, жив. И опять буквы набегают друг на друга.
«Зовут меня Алек. Кон. Соловьев, коллеж, секретарь из дворян Петерб. губ… Служил учителем в Торопецком уездном училище… В Петербур. прибыл в декабре, постоянной квартиры не имел; то ночевал у родных в здании Каменноостровск. дворца, то где попало, даже на улицах. Сознаюсь, что намер. был убить государя, но действовал я один — сообщников у меня не было. В субботу заходил на Дворцовую площадь, чтобы видеть, в каком направлении гуляет государь. В воскресенье совсем не приходил, а в понедельник произвел покушение. Ночь на второе гулял по Невскому, встретился с проститут. и ночевал где-то у нее на Невском…»
— Как, как?.. Ночевал… у нее… на Невском?.. Да у меня, у меня он ночевал! Вы понимаете, Николай Васильевич, что он наговорил, безумный?
— А вы хотели, чтобы он назвал вашу квартиру?
— Мы сидели с ним далеко за полночь. Это была дружеская, сердечная беседа. Он прощался со мной и с миром. Под утро он ненадолго уснул.
Дальше Михайлов не читал, подошел к окну и забарабанил пальцами по стеклу. За окном ему отвечала дробь апрельской капели.
Клеточников посмотрел на часы.
— Я скоро должен идти. Сегодня ночью будет много работы. Составлены списки на семьдесят шесть подозрительных лиц. Они у меня, с адресами…
Милый Николай, он ведь и не знает, что в Петербурге почти никого нет, все разъехались в ожидании покушения!
— Спасибо, спасибо, Николай Васильевич! Я предупрежу тех, кто еще не уехал.
— Уехали? Они знали, что их намерены арестовать? — В голосе Клеточникова послышались ревнивые ноты, но он тут же спохватился, от волнения закашлялся и долго не мог унять приступ.
Михайлов сел на диван, взял Клеточникова за руку.
— Николай Васильевич, я давно не виделся с вами, и не мудрено, что вы не знаете всех событий, которые произошли за несколько дней до покушения. С Соловьевым я знаком еще по саратовскому поселению, мы были очень близки. Вдруг он приезжает сюда и заявляет мне и Квятковскому, что намерен убить царя… Это не Каракозов, это представитель партии, и нужно было довести до сведения всех о намерении Соловьева. А тут еще и Гольденберг приспел, тот, что князя Кропоткина прикончил. И тоже готов стрелять, в царя стрелять. Вы понимаете, ведь мы только что договорились усилить дезорганизаторскую группу партии, готовились к самозащите… А они прямо в наступление.
И пошла сходка за сходкой. В трактирах. Я вас не мог пригласить. А последняя у меня дома, самая бурная. Схватились мы с пропагандистами, аж жарко стало!
Кто-то из них подлил масла, говорит, что «ввиду того вредного влияния, которое окажет на нашу деятельность новая попытка «дезорганизаторов», он предупредит ее, посоветовав письмом тому высокопоставленному лицу, на жизнь которого готовилось покушение, не выходить из дому».
Ну, вы Квятковского знаете! Сорвался с места, кулаки сжал. «Это донос, — кричит, — мы с вами будем поступать как с доносчиками!» Тут Михаил Родионович Попов на Квятковского набросился, тоже кричит. «То есть как, не хотите ли вы нас убивать? Если так, то не забывайте, что мы стреляем не хуже вас!»
Что ты будешь делать? Я Попова успокаиваю, Зунделевич — Квятковского. Куда там!.. Дворник помог. Да, да, дворник, самый настоящий.
В передней звонок, да такой сильный, нетерпеливый раздался, что все умолкли. Я к двери, говорю тихо: «Господа, полиция! Мы, конечно, будем защищаться?» И что бы вы думали? И «дезорганизаторы» и пропагандисты, не говоря лишних слов, револьверы из карманов, курками щелк. Я открыл, а там дворник…
Потом спокойно уже говорили. Решили, что Гольденбергу стрелять нельзя. Еврей, и если его схватят, репрессии падут на головы миллионов невинных евреев. Ну, а Соловьеву от общества решено было не помогать, хотя частным порядком и я, и Квятковский, и Зунделевич сказали, что поможем. Никто не возразил.
Ах, Александр, Александр! Когда я ему все, как сейчас вам, пересказал, он воскликнул: «Это мое дело! Александр Второй мой, и я его никому не уступлю!»
Вот, дорогой мой Николай Васильевич, полный отчет в делах, за исключением того, что ныне я и не знаю, как быть дальше. Чувствую, разрыв с пропагандистами неизбежен, а сердце кровью обливается. Сил и так мало, средств того меньше, а борьба разрастается.
— Да, да, борьба разрастается. А я чуть было не запамятовал, слушая вас.
Николай Васильевич поднес к близоруким глазам бумагу, день уже угасал, еле-еле просачиваясь сквозь стекла двойных рам.
Михайлов потянулся за лампой.
— Нет, нет, своими словами, некогда… Так вот, ныне Россия подразделяется на шесть генерал-губернаторств с чрезвычайными полномочиями. Гурко — в столице, Тотлебен — в Одессе, Чертков — в Киеве. Букет хоть куда! Отдан приказ дворникам дежурить ночью и днем, жильцам кормить их. Усиливается проверка паспортов, резко сокращается выдача видов на жительство. Ликвидируется продажа оружия, пороха. За каждым учащимся и извозчиком — да, да, их сравняли! — слежка. За антиправительственную деятельность — виселица. Их высокопревосходительство сенатор Валуев возглавил комиссию, которая должна выработать меры пресечения «преступной» деятельности бунтовщиков.
Клеточников замолчал, сгорбился, натянул шинель, пожал Михайлову руку и тихо вышел.
Михаил Федорович Фроленко блуждал между Киевом и Одессой, к этому его принуждали отчасти полиция, отчасти желание поближе сойтись с людьми, ведущими революционную работу на юге.
Он многих узнал, сумел оценить и переоценить.
Телеграмма из Петербурга была неожиданной, неясной, но категоричной. Его отрывали от дел на юге и немедленно вызывали в столицу.
В Петербурге обстановка прояснилась.
Приближалось время очередного съезда землевольцев. Но те споры и раздоры, которые начались после выстрела Соловьева, оказывается, не прекратились.
Морозов, Тихомиров, Александр Михайлов считают, что необходимо продолжить начатое Соловьевым, а для этого партия должна уделить больше внимания террору. Плеханов и Попов против. Одно дело Соловьев — его покушение нетрудно объяснить, в случае чего, личными мотивами. Другое, если террористической борьбой займется партия, ее члены, если выстрелы будут сделаны от ее имени.
Товарищеские, дружеские отношения не помогали прийти к соглашению. Из споров становилось ясно, что разговор идет не о единичном покушении на императора, что в партии наметилось новое направление, оно должно неизбежно перенести деятельность землевольцев из деревень в города. Борьба против помещиков, буржуазии отступала на второй план. Все силы партии «дезорганизаторы» предлагали бросить на борьбу с правительством. В связи с этим менялись и методы — террор казался действенным средством, но это уже задевало программу.
Нет, петербуржцы не вправе сами решать такой вопрос! Нужно вынести его на съезд.
Обо всем этом Фроленко узнал в первый день приезда. Ему сказали, что Попов подыскивает подходящее место в Тамбовской или Воронежской губерниях, где по деревням засело большинство народников-поселенцев. Михайлов ошеломил известием, что сторонники нового направления намерены до съезда провести тайное совещание всех, кто согласен с борьбой по методу Вильгельма Телля, как образно выразился Николай Морозов. Это уже походило на раскол, хотя Фроленко чувствовал, что о расколе думают все и все стремятся его избежать.
Михайлов не сомневался, что Фроленко будет вместе с «теллистами»». Киевский «вспышкопускатель» всегда искал для себя опасных, рискованных дел, и ему по душе были не мирные беседы с крестьянами где-нибудь на завалинке, в старообрядческой глуши, а лихие налеты на жандармов, удар кинжала, «револьверный лай».
Одно смущало Фроленко. Не нужно быть теоретиком, чтобы понять — террор ведет на стезю борьбы политической, а это отклонит движение от социальной революции. Но, с другой стороны, разве возможно без Политических свобод революционизировать народ? Нет, опыт поселений это убедительно доказал. Значит, террор, значит, централизация сил, объединение маленьких групп в сплоченную организацию.
Только что об этом писал в своем предсмертном письме Валериан Осинский. Его казнили несколько дней назад — эта мысль отдавалась болью…
Нет, Михайлов не ошибся в Фроленко! Пусть пропагандисты-«деревенщики» против, нужно собрать силы сторонников террора.
На юге их много. Фроленко вызвался сам объехать известных ему деятелей и тайно пригласить на совещание террористов. Долго спорили, в какой пункт стянуть силы, как будто готовились к сражению, прорыву фронта неприятеля. И хотя неприятеля не было, но к сражению действительно готовились. Споры прекратились, когда пришло известие, что Тамбов провалился, полиция ведет там слежку, съезд землевольцев придется открыть в Воронеже. Если съезд в Воронеже, то совещание «партизан» удобнее всего собрать в Липецке. Курорт, железистые воды, масса отдыхающей и лечащейся публики, а значит — можно прибыть и уехать незамеченными.
Съезд «Земли и воли» назначили на 20-е числа июня, у террористов оставалось очень мало времени, чтобы оповестить своих единомышленников.
Фроленко пустился в дорогу. Перед самым отъездом Александр Дмитриевич сообщил ему, что вместе с Морозовым и Квятковским набрасывает новую программу и хотел бы предварительно обсудить ее и с представителями южан. Кого бы он посоветовал?
Не задумываясь, Фроленко назвал Желябова. Михайлов запротестовал:
— Да ведь он же завзятый народник! Их целая компания после Большого процесса решила поселиться в деревнях, и он первый отправился к себе на родину.
Но Михаил Федорович не сдавался:
— Все это так. Желябов действительно жил прошлое лето в деревне, но зиму провел в Одессе. Сейчас не слышно, чтобы он собирался снова на поселение. Как хотите, но Андрей Иванович именно тот человек, которого вы ищете. Я его еще по Киеву помню. Он нас «вспышкопускателями» величал, а знакомство водил. Бывало, встретимся на его квартире, побеседуем мирно о том, о сем, только не о программе, а потом песни спиваем. Эх, как он поет!.. А рассказчик какой! Как начнет свои студенческие похождения живописать — заслушаешься! И с полицией он в драке, и с уличными забияками один на пятерых… Силушка в нем так и играет, даром, что ли, на быка с вилами ходил, да и обратил его в бегство. Ну, слушал, слушал я эти повести и решил: бунтарь ты, а не пропагандист! Хотя скажи ему такое — полезет в амбицию, и тоже из-за бунтарской своей сущности.
Михайлов задумался. Он знал Фроленко, верил его взгляду на вещи, на людей. Если Желябов действительно таков, каким обрисовал его Михаил Федорович, то было бы непростительно не попытаться привлечь его на свою сторону. Жаль, что они не успели поговорить по-настоящему тогда, в Петербурге, после процесса. И Михайлов решился, он поручил Фроленко заехать к Желябову, побеседовать с ним, и если Андрей изъявит согласие на участие в покушениях против Александра II, то пригласить его в Липецк.
Первым долгом Фроленко предстояло посетить Баранникова и Марию Николаевну Оловенникову. Они только обвенчались, поселились в деревне у матери Оловенниковой. Баранников жил по настоящему паспорту, хотя и под чужой фамилией Кошурникова. Супруги мечтали завести обширные знакомства и среди соседних помещиков и между крестьянами.
Но визиты к соседям сразу же разочаровали их. Мария Николаевна была вторично замужем, на это смотрели косо, тем более что по документам Кошурников окончил семинарию и был выгнан со второго курса Петровской сельскохозяйственной академии. Баранников в вопросах сельского хозяйства ничего не понимал, но и обнаружить своего невежества не мог. Оставшись в одиночестве, он попробовал охотиться. Однако неудачно: исправник напомнил незадачливому стрелку, что нужно знать сезоны охоты, а то его могут принять за браконьера.
Скука одолела Александра Ивановича. К пропаганде среди крестьян он был органически не способен из-за нелюбви произнести хотя бы одно лишнее слово. Его прямая натура, приученная еще в Павловском военном училище встречать врага с открытым забралом, была чужда конспиративной деятельности, обходных маневров.
Фроленко свалился на Александра Ивановича как манна небесная. Без долгих разговоров Баранников согласился принять участие в будущих боевых действиях революционеров. Казалось, можно бы отправляться и дальше, но. Михаил Федорович медлил. Он приглядывался к Марии Николаевне. Она умела собирать вокруг себя людей, привязывать их к себе, умела и командовать ими. Но как подойти к ней? Она не новичок в революционном движении, и Фроленко немного побаивался ее якобинских взглядов.
Так прошли сутки.
Вечером на второй день, когда Михаил Федорович уже собирался уезжать, вдруг к Баранниковым нагрянули гости — дальний родственник Марии Николаевны, из сочувствующих.
Май перевалил на вторую половину, но весна еще не потеряла свежести листвы. Откуда-то на балконе появилась бутылка вина. Мечтательно заглядываясь на звезды, Фроленко осторожно намекал на планы будущей деятельности партии.
Оловенникова слушала как зачарованная. Это грядущее было столь заманчиво, что Мария Николаевна не мыслила его без своего участия.
— Довольно, довольно! Хорошего понемногу!
Фроленко понял, что она будет в Липецке вместе с мужем.
На следующий день двухместная бричка доставила его на орловский вокзал. Купив билет, Михаил Федорович вышел на перрон. До поезда оставалось добрых полтора часа, но по платформе носились жандармы, прижимая левой рукой нелепо болтающиеся шашки. Несколько раз начальник станции взволнованно выглядывал из окна своего кабинета, грозил кому-то кулаком и вновь скрывался. У дверей вокзала толпилось с десяток баб, разодетых в пух и прах — сатиновые юбки, синие, красные, в горошек, цветами; расшитые петухами и замысловатыми узорами холщовые кофты, платки и даже шали.
«Что за черт?» Михаил Федорович ничего не мог понять. Спрашивать же не хотелось.
Но вот из-за поворота, прямо на красный семафор, выскочил поезд. Паровоз и четыре вагона. Машинист лихо осадил состав, и из третьего вагона на перрон вышел Александр II.
Фроленко невольно попятился. Вот так встреча! Эх, был бы у него револьвер! В этой суматохе можно пальнуть, подойдя вплотную.
Александр медленно брел вдоль платформы, ни на кого не глядя. Затем направился в город, прошелся по пыльному, залузганному семечками привокзальному садику и вернулся обратно.
У окна вагона появилась императрица. Разодетые бабы запричитали, заплакали, то ли от радости, то ли согласно собственному пониманию придворного этикета.
Фроленко видел, что императрица о чем-то спрашивает баб, силится разобрать в их дружном вое отдельные слова, но все напрасно. Александр подошел ближе. С его лица вдруг слетела маска скуки, он оживился и как любезный кавалер сделался переводчиком в разговоре императрицы с бабами.
Михаил Федорович злился на собственное бессилие, негодовал на эту комедию знакомства царя с народом, но вынужден был оставаться в толпе зрителей, сдерживаемых жандармами.
Поезд тронулся, в окне мелькнула императрица, потом короткая череда зеркальных стекол, красный фонарь на задней площадке. И пусто. Как сон…
Уже в поезде Михаил Федорович вспомнил, что в Харькове живет Софья Львовна Перовская. Фроленко задумался: приглашать ее или не стоит? Перовскую он знал как завзятую народницу, пропагандистку да к тому же «русачку». Для нее все русское — Волга, народ, Жигули, русские песни — превыше всего, все остальное, в том числе и малороссийское, — на втором плане и, бесспорно, хуже, ниже. Фроленко же был украинец. Но, с другой стороны, Соня обаятельная и в то же время твердая, волевая женщина, имеющая за плечами опыт и конспирации и даже открытого столкновения с полицией. Михаил Федорович колебался.
Такие люди, как Перовская, были бы желанными членами любой организации. Глубокий ум с редкой для женщины философской окраской, умение подойти к решению всякого вопроса, всякого дела многосторонне, железная логика и необычайная работоспособность изо дня в день, из года в год. Она была в числе первых основателей кружка «чайковцев», она была первой, кто перенес пропаганду из среды учащейся молодежи на фабричные окраины Петербурга. Уже в восемнадцать лет она пользовалась огромным влиянием на своих более взрослых и опытных товарищей.
Отвага была столь естественным проявлением ее характера, всей натуры, что она и не замечала ее. Она сама рассказывала Фроленко, как ее арестовали в Крыму и должны были препроводить в административное изгнание в Повенец под конвоем жандармов.
И вот, воспользовавшись избытком предосторожностей своих телохранителей, она бежала. А ведь как стерегли! На пересадочной станции, в отдельной комнате, один жандарм улегся у окна, другой — у двери. Оба уснули, не сообразив, что дверь открывается наружу. Софья Львовна спокойно перешагнула через спящего цербера, отсиделась в роще, а потом без билета приехала в Петербург…
Да разве только это… А попытка освободить Войнаральского? Она руководила всем предприятием и ругала, готова была побить участников покушения за неудачу.
Такую женщину хорошо было бы привлечь на сторону террористов. Но она ярая пропагандистка.
Только миновав Харьков, Михаил Федорович успокоился.
Андрей по-прежнему жил в Одессе и вел пропаганду среди портовых грузчиков. По сравнению с теми рабочими, которые сезонно работали на фабриках, а потом спешили домой, в деревню, грузчики были восприимчивый к пропаганде народ. У них не было ни кола ни двора, многие тут же в порту и коротали ночи, забравшись в укромный уголок где-либо среди мешков. Слушали жадно, часто озадачивали Андрея неожиданными вопросами о Парижской коммуне, русско-турецких отношениях и прежде всего: «А как живут рабочие там, в Петербурге?»
Теперь уж Желябова не заманишь в деревню, хватит! Слишком много времени потерял он среди крестьян. Ныне он готов поверить, что не крестьяне, а вот эти рабочие вкупе с интеллигенцией будут двигателями социального прогресса.
Фроленко нагрянул неожиданно. Он так увлекательно живописал планы «троглодитов», что Андрей, разгоряченный, изъявил согласие участвовать в покушениях на императора.
Но когда Михаил Федорович ушел, раздумье охватило Желябова.
Террористическая борьба не может ограничиться только акцией против одного царя. Практически она должна будет перерасти в борьбу за захват политической власти. И хотя Фроленко ни словом не обмолвился на этот счет, Андрей прекрасно видел логику дальнейшего развития событий. Получается ерунда какая-то! Заговорщичество, из которого выпадает народ, народная революция… Он не против борьбы за политические свободы, хотя этим должны заниматься либералы. Он не либерал, хотя и не с теми, кто тянет к заговору. Он шире понимает борьбу политическую, хотя многим кажется, что добиваться политических свобод не дело истинных революционеров.
Рассуждения заводили Андрея в тупик. Он опять начинал прясть нить мысли сначала, пытаясь направить ее в иное русло, и опять получалось, что убийство царя еще никак не решало дела революции. А если так, то ему придется участвовать в серии актов. Если будет создана единая террористическая организация и он войдет в нее, то его смогут посылать на новые и новые покушения. Тогда прощай пропаганда, рабочие!
Фроленко чувствовал, что после его ухода Желябов поостынет, начнет раздумывать — как бы не передумал вовсе. Поэтому вечером Михаил Федорович опять навестил Андрея. Казалось, Желябов целый день просидел на том же стуле, с которого встал, чтобы проводить Фроленко.
Зажгли лампу. Помолчали. Андрей задумчиво следил за ночной бабочкой, она кружилась над лампой. Стукнулась о стекло, обожглась. Отлетела и снова ударилась. Она билась в каком-то исступлении до тех пор, пока не вспорхнула неосторожно над лампой и, вмиг опалив крылья, бессильно свалилась на фитиль, загасив его.
Андрей вновь зажег лампу. Ее слабый огонек освещал небольшой круг в центре стола, углы комнаты тонули во тьме…
Наконец, не выдержав тишины, Фроленко заговорил. Округляя гласные, растягивая окончания, Михаил Федорович как бы пел, неторопливо, немного протяжно:
— …А кто, кто толкает нас на это? Правительство… Юноши, отважные, зеленые, идут вперед нас, старых, умудренных опытом дураков… прости господи!..
Сентянин желторотый, а сколько дерзости! Переоделся жандармом, подделал бумаги и ввалился в тюрьму, якобы за заключенным Медведевым-Фоминым прибыл. И на допросе себя не выгораживал, пощады не просил, на нашу мельницу воду лил. Подумать только, представился: «Сентянин, секретарь Исполнительного комитета социал-революционной партии!» А где партия-то, где Исполком? Фикция одна! Осинский придумал ради солидности, ан она в юношестве корни пустила, в голову, в душу запала!..
Андрей знал Александра Сентянина. Да разве он один! А Перовская, Михайлов, Квятковский, Баранников! Андрей завидовал Баранникову, который остановил жандармскую бричку, где сидел арестованный Войнаральский, завидовал Квятковскому, бешено мчавшемуся верхом, когда после неудачного выстрела жандармские лошади понесли. И пусть Войнаральского не освободили, но ведь это подвиг!
Отвага и мужество, проявленные в открытой схватке, всегда действовали на Андрея возбуждающе.
Отвага, мужество! А ум, умение конспирировать? Вот сидит перед ним Михаил — хохол хохлом, внешность самая заурядная, говорит с запинкой. А ума палата, хитрости на всех хватит. Ровно год назад не кто иной, как этот невзрачный дядя, устроился служителем в Киевскую тюрьму. Ну и придирался же он к заключенным! Они готовы были убить его, зато начальство души не чаяло в этом аспиде и не замедлило повысить в должности, сделало надзирателем сначала в камерах уголовных, а затем и политических. А тут что ни камера, то друг, товарищ, один неосторожный жест, слово, и, глядишь, надзиратель сам угодит в одиночку. Михаил не растерялся. Достал два солдатских костюма, обрядил в них Стефановича и Бохановского, Дейчу же переодеться было не во что — так должен был идти. Бежать решили в полночь. И надо же: дежурный сторож, как назло, расселся в коридоре — и ни с места. Тогда Стефанович швырнул в окошко камеры книгу. Фроленко услал сторожа подобрать ее и передать смотрителю.
Беглецы — в коридор, а там тьма кромешная. Кто-то споткнулся и, падая, схватился за сигнальную веревку. Ну и пошло по всей тюрьме звенеть! Михаил и тут проявил присутствие духа — спрятал беглецов, а сам в караульную — де, мол, я нечаянно зацепил. Успокоились. И новая беда: беглецов в темноте растерял. Едва нашел. Довел до проходной — двое одного конвоировали. Вышли — и словно из-под земли Валериан Осинский. Схватил за руки да к Днепру, в челнок. Так и плыли целую неделю до Кременчуга.
Тюремное начальство, поди, и сейчас Михаила оплакивает!
Осинский! Недолюбливал его Андрей. Фанфаронства много. А как умер! Ведь неделю назад, 14 мая, повесили его вместе с Брандтнером и Свириденко. А за что? В приговоре — «вооруженное сопротивление», а он даже револьвера из кармана не успел выхватить, сцапали! В последнее утро перед казнью, говорят, долго сидел у окна камеры — напротив окно Софьи Лешерн, ее тоже казнить должны были.
— Соня! — изредка восклицал Осинский.
— Валериан!.. — больше она ничего не могла сказать.
А через час он с поднятой головой взошел на эшафот. Эх!..
Поздно ночью Андрей провожал Фроленко. Он согласился принять участие в единичном покушении. И будет верен своему слову, пока покушение не свершится. После этого он считает себя свободным от всяких обязательств, может выйти из организации, конечно, при условии сохранить все в тайне.
Оговорок было много, но Фроленко их принял.
Вскоре в Одессе появился Александр Михайлов. Фроленко свел его с Желябовым и уехал в Херсон.
Михайлов привез проект новой программы, составленный им вместе с Квятковским и Морозовым.
Это были трудные дни раздумий. Андрей, не выходя из дому, читал, перечитывал, рассуждал вслух и про себя.
В программе ничего не говорилось о борьбе за социализм. «Благо народа» — такие словечки по дешевке распродают и либеральные болтуны. В программе речь шла о борьбе за политические свободы. Снова тот же неразрешимый вопрос — «социализм» или «политика», «политика» или «социализм»? Ни Андрей, ни пропагандисты-народники, ни «дезорганизаторы» не могли этого примирить, слить воедино, наметить минимум политических свобод, с помощью которых можно было бы вести борьбу за максимум — социализм. И Желябов по-прежнему противопоставлял одно другому. Но если раньше бакунистский анархизм, казалось, со всей убедительностью доказывал на примерах, как политические свободы содействуют закабалению рабочих и крестьян, теперь Желябов был уверен, что положение изменилось. Россия накануне революции, не социалистической, конечно. Но разве революционер имеет право отвернуться от возможности революционным путем демократизировать государственный строй страны? А это значит — борьба за политические свободы. С этим Андрей не может не согласиться.
А не ошибается ли он? Может быть, принимает желаемое за действительное, может быть, борьбе политической сочувствуют немногие? Но нет. Недавно из Киева приезжал Колодкевич — и он за политику, за террор. Как испугалось правительство террора! Когда в прошлом году убили шефа жандармов Мезенцева, правительство обратилось к обществу, — это небывалый акт.
«…Ныне терпение правительства исчерпано до конца… Правительство не может и не должно относиться к людям, глумящимся над законом и попирающим все, что дорого и священно русскому народу, так, как оно относится к остальным верноподданным русского государя…»
Значит, мы вне закона. Кому не известно, что в России законы — дышло и ворочают им продажные чиновники? Но правительство напугано, оно «считает ныне необходимым призвать к себе на помощь силы всех сословий русского народа для единодушного содействия ему в усилиях вырвать с корнем зло, опирающееся на учение, навязываемое народу при помощи самых превратных понятий и самых ужасных преступлений…».
Для российского самодержавия да этакие призывы! Оно в панике.
А что, если в таком состоянии паники держать правительство как можно дольше, усиливать растерянность и, конечно, использовать ее? Он не намерен выпрашивать конституцию, как это делают либералы, она должна быть добыта в сражении.
Но как их мало! И за ними ли народ? А без народа правительство легко разделается с «политиками».
Но именно ничтожность сил и заставляет начать героическое титаноборчество, и нет более действенного, более устрашающего, более «ядовитого» средства, чем террор.
Андрей не замечал, как в своих рассуждениях, выдвигая на первый план политику, невольно забывал о социализме. Потом спохватывался, старался найти правильный выход, но привычные бакунистско-народнические решения не давали ответа.
Андрей готов был объяснить свои недоумения нехваткой знаний, а дело было в недостатке теории народничества, в непонимании народниками законов развития человеческого общества, законов классовой борьбы, в отрыве их от подлинно массового, подлинно народного движения, во главе которого должен был стать не интеллигент-террорист, не мелкий собственник крестьянин, не трусливый либерал, а рабочий класс.
Но пора и в Липецк.
Голос кондуктора не сразу дошел до сознания:
— Липецк! Стоянка десять минут!
Непослушные руки путались в застежках чемодана, колеса все реже и реже вздрагивали на стыках рельсов.
Стукнули буфера, эстафетой перестуков откликнулись тормозные площадки. Липецк, Липецк!
Немного городов повидал на своем веку Андрей, но зато побывал в таких, как Петербург, Одесса, Киев. Провинциальный Липецк пленил его с первого взгляда. Не было в нем дворцов, триумфальных арок, роскошных соборов. Зато сады, парки, обрывистые кручи террас создавали очарование непередаваемое. Река Липовка извивается на дне огромного оврага, а рядом блестит Липецкий пруд. На холмах — дубовые рощи, превращенные в парки, мостики «Вздохов», «Любви». А сквозь зелень садов и парков просвечивают белые каменные дома с балконами.
Колеса пролетки дробно стучат по каменной мостовой. Город камня — это редкое явление в деревянной России, город садов, цветов и какого-то опрятного уюта, что и вовсе не походит на грязную, разлапистую, унылую уездную Русь.
На улицах масса людей, особенно на Дворянской. Нарядные дамы в белых открытых платьях, с пестрыми зонтиками от солнца, вылощенные кавалеры вперемежку с обрюзгшими и далеко не франтоватыми помещиками близлежащих усадеб.
Перед колодцем Главного источника — яркий цветник, ванный павильон продолжает открытая галерея, на хорах играют оркестры. Смех, веселье, лукавые взгляды никак не напоминают о болезнях, докторах, больнице. А ведь город — большая больница, и главный врач ее — целебные минеральные воды, открытые Петром I.
Андрей с любопытством рассматривал город, пока извозчик медленно вез его по Дворянской. Нужно решить, где остановиться. В гостинице легче затеряться среди людей, если к тебе приставлен шпион, но зато не миновать полиции. Фроленко рекомендовал поселиться в «меблирушках», как величали тут заезжие дома. Там остановятся и другие участники съезда.
В номерах тесновато, вечно толпится народ; поговорить, предварительно обсудить вопросы нет никакой возможности. Михайлов, исследовав город, убедился, что самое безопасное место — пруд за курортным садом.
Добыли лодку и группами катались по пруду. Вода была необыкновенно прозрачной и совершенно безжизненной — ни рыб, ни водяных жуков, даже лягушки не оглашали берегов своим кваканьем. Крестьянин-старообрядец, поставлявший лодку, уверял, что рыба не водится только потому, что запруду соорудил антихрист — кому под силу навалить такую длинную насыпь! Антихрист — это Петр I. В представлении раскольников все русские цари начиная с Алексея Михайловича — антихристы.
Наконец подъехала последняя партия питерцев. Нужно приступать к совещаниям, ведь время дорого, да и, не ровен час, как бы не выследили. Порасспросив номерных, узнали, что за городом, в лесу, есть ресторан, а рядом, в окрестных рощах, часто устраиваются пикники. Накупили закусок, вина и погрузились на пролетки. Извозчикам без слов было ясно, куда собралась эта веселая, шумная компания.
Дорога шла низиной, прорезанной узкими протоками, песчаными островками, затем, перевалив через реку, лошади споро затрусили по невысокому берегу.
Желябов с интересом приглядывался к новым для него людям. Особенно колоритен был Баранников. Он, видимо, обладал огромной силой. Михайлов, заметив, что Андрей любуется Баранниковым, легонько толкнул Желябова в бок локтем.
— Такой и лошадь на скаку за хвост остановит, пролетку один вытащит.
— Ну, вытащить пролетку невелика сила нужна, Александр Дмитриевич.
— Ишь ты, расхвастался! Попробуй подыми ее, окаянную.
— Подыму.
К спору стали прислушиваться. Между тем лошади миновали ресторан и, проехав еще с версту, встали. Желябов легко спрыгнул на землю. Подкатила пролетка с Квятковским. Андрей, не говоря ни слова, подбежал к ней, схватил за заднюю ось, поднял экипаж с седоком и, напрягшись в усилии, оттащил назад вместе с лошадью.
— Ну и ну!
Первым опомнился извозчик и с изумлением поглядел на далеко не атлетическую фигуру Андрея.
Михайлов подошел к Желябову, протянул ему руку, но Андрей только откланялся: от напряжения у него лопнула кожа на пальце и сочилась кровь.
Морозов с прибаутками наделял извозчиков водкой, закусками, наказав отъехать к ресторану и ждать. Когда последний экипаж исчез из виду, все молча двинулись в лес.
Квятковский уже успел найти удобное место. На поляне в группе деревьев буйно разросся кустарник. Если в нем засесть, то листья скроют их от посторонних глаз, а сами они смогут отлично видеть все, что творится вокруг.
«Пикник» не был шумным, хотя споры разгорелись сразу же. Каждый спешил высказать свое мнение, плохо слушал соседа, перебивал всех и заглушался всеми.
Андрей понимал: так дело не пойдет, нужно направить дебаты в одно русло, отсечь лишние слова, обобщить мысли, сближающие отдельные группы выступавших. Скоро все подчинились его дирижерской палочке. Он изменял формулировки, облегчая соглашение, казалось, непримиримых спорщиков, умело выпячивал главное.
Михайлов предложил избрать Андрея секретарем. Это не встретило возражений.
Теперь дело пошло куда быстрее.
Уже в первый день заседаний выяснилась основная идея — от обороны к наступлению. Чрезвычайные полномочия генерал-губернаторов, виселицы, войска, под «Камаринскую» марширующие по могилам замученных, — все требовало от революционеров немедленных ответных действий. Но что могла сделать небольшая группа «дезорганизаторов» в рамках «Земли и воли»? Ничего или почти ничего. Для борьбы решительной нужна была партия, построенная на централистских началах.
Это пугало. Во-первых, партия. Группа, даже несколько сведенных в единую организацию групп интеллигентов еще никак не составляли партию. За ними не было класса. А во-вторых, централизованное управление — оно угрожало генеральством, приводило на память «нечаевщину».
День быстро склонился к вечеру. «Пикник» подходил к концу. Все устали, проголодались и нетерпеливо посматривали на секретаря. Андрей тоже вымотался и ждал только сигнала, чтобы закрыть прения. Но каждый стеснялся его подать.
Фроленко не переставал удивляться той метаморфозе, которая произошла на его глазах с Желябовым. Ведь еще совсем недавно Андрей оговаривался, брал с него, с Фроленко, слово, что его не заставят принимать участия в новых делах, и вдруг оказался фактическим руководителем съезда, развивал стройную программу новой, боевой организации.
Целый день этот вопрос мучил Михаила Федоровича. Он искал на него ответ, чтобы еще раз проверить свои собственные мысли, укрепиться в собственных выводах. Ответ был один: Желябов — подвижная, деятельная натура. Брызжущая через край энергия, сила не находили выхода, не исчерпывались тайной пропагандой. Его увлекали большие дела. Пропаганда грозила тюрьмой, высылкой, фактически гибелью «за здорово живешь» — так не лучше ли свершить что-либо героическое, что может очистить затхлую атмосферу политической жизни России?
Дальше уже все развивалось по законам формальной логики. Чтобы совершить покушение, его нужно организовать. Чтобы лучше организовать, нужна организация. Но создавать организацию ради единичного акта нет смысла. Отдельный акт отодвигался на второй план — на первый ставилась целая серия актов, которые, ширясь, или могли закончиться переворотом, захватом власти, или, в крайнем случае, вырвали бы у правительства конституцию.
Этот последний пункт коробил многих. Конституция — мечта либералов. Революционеры должны совершить революцию.
Наконец Желябов встал, потянулся и со смехом объявил, что вечера в лесу еще прохладные, можно схватить простуду, а посему пора расходиться.
Извозчики, не дождавшись седоков, давно уехали, и пришлось идти пешком.
Ночь спустилась тихая, звездная. Из курортного парка приглушенно долетала музыка. Дорога блеклой тенью скользила меж холмиков, ныряла в овраги, взбегала на кручи. Над Липецком низко висел Марс, помигивая, как далекий, налившийся кровью, но все же лучистый глаз. Луны еще не было. Шли молча, иногда спотыкались о камни, тихо чертыхались.
Музыка доносилась отчетливей, можно было уже различить такты вальса, похожего на марш, а может быть, и марша, напоминающего вальс.
Следующие дни опять та же роща, те же кусты, те же люди и те же споры, но теперь они более целеустремленны.
Андрей внимательно вслушивается в слова программы. Ее читает Квятковский.
— «Наблюдая современную общественную жизнь в России, мы видим, что никакая деятельность, направленная к благу народа, в ней невозможна вследствие царящего в ней правительственного произвола и насилия. Ни свободного слова, ни свободной печати для действия путем убеждения в ней нет. Поэтому всякому передовому общественному деятелю необходимо прежде всего покончить с существующим у нас образом правления, но бороться с ним невозможно иначе как с оружием в руках. Поэтому мы будем бороться по способу Вильгельма Телля до тех пор, пока не достигнем таких свободных порядков, при которых можно будет беспрепятственно обсуждать в печати и на общественных собраниях все политические и социальные вопросы и решать их посредством свободных народных представителей.
До тех же пор, пока этого нет, мы будем считать за своих друзей всех тех, кто будет сочувствовать нам и помогать в этой борьбе, а за врагов всех тех, кто будет помогать против нас правительству.
Ввиду того, что правительство в своей борьбе с нами не только ссылает, заключает в тюрьмы и убивает нас, но также конфискует принадлежащее нам имущество, мы считаем себя вправе платить ему тем же и конфисковать в пользу революции принадлежащие ему средства. Имущество же частных лиц или обществ, не принимающих участия в борьбе правительства с нами, будет для нас неприкосновенным».
Это отвергало анархизм, бакунизм и в какой-то мере зачеркивало прошлое революционного движения. За прошлое будут цепляться те, кто так много вынес, выстрадал. Но борьба знает только будущее, идет вперед, отметая изжившее, неверное. Признание политической борьбы — это шаг вперед, сделанный революционерами.
Но если вести борьбу политическую, то кто же будет союзником? Либералы? Крестьяне? Рабочие?
Желябов вдумывается в коротенькие строки программы. Как много общих фраз и, как ни странно, ни одного слова о социализме! К такой программе могут присоединиться и некоторые либералы. Он пока промолчит о социализме, но о либералах молчать нельзя.
Андрей требует слова.
— Социально-революционная партия не имеет своей задачей политических реформ — это дело должно бы всецело лежать на тех, кто называет себя либералами. Но эти люди у нас совершенно бессильны и по каким бы то ни было причинам оказываются неспособны дать России свободные учреждения и гарантии личных прав. А между тем эти учреждения настолько необходимы, что при их отсутствии никакая деятельность невозможна. Поэтому русская социально-революционная партия принуждена взять на себя обязанность сломить деспотизм и дать России те политические формы, при которых возможна станет «идейная борьба».
Андрей на минуту замолчал, подыскивая выражения. Ему ясно одно: нужно включить в программу упоминание о конкретных целях, ближайших целях, которые могли бы объединить всех, кто сколько-нибудь способен к политической активности.
Его поняли. Морозов готов был протестовать — он не хочет удлинять и конкретизировать программу.
Андрей считал, что сейчас дискуссии излишни, пока можно ограничиться и компромиссом, но потом вернуться к этим вопросам. Он к ним вернется, обязательно вернется. Ведь пока «политика» заслонила «социализм». Если следовать программным требованиям «теллистов», то как бы политику ни поглотил террор, ведь Морозов готов свести к нему весь смысл борьбы. Желябов уверен, что будущее покажет правоту тех, кто не забывает о социализме.
А сейчас…
— Если партия хоть сколько-нибудь считает своей целью обеспечение прав личности, а деспотизм признает вредным, если она, наконец, верит, что только смелой борьбой народ может достигнуть своего освобождения, то тогда для партии просто немыслимо безучастно относиться к таким крайним проявлениям тирании, как тотлебенские и чертковские расправы, инициатива которых принадлежала царю. Партия должна сделать все, что может: если у нее есть силы низвергнуть деспота посредством восстания, она должна это сделать; если у нее хватает силы только наказать его лично, она должна это сделать; если бы у нее не хватило сил и на это, она обязана хоть громко протестовать… Но сил хватит, без сомнения, и силы будут расти тем скорее, чем решительнее мы станем действовать.
Все были согласны с этой программой ближайшего будущего, предложенной Желябовым, но каждый понимал ее по-своему. Морозова и Гольденберга опьяняло титаноборчество, они ратовали за террор как единственный, универсальный метод Были и якобинцы, мечтавшие о захвате власти. Желябов тоже считал, что если не удастся поднять на революцию народ, то нужно самим захватить власть. Но захватить только для того, чтобы потом передать ее народу. Террор поможет, он за террор, но он не бросит и агитации. Без народа, без трибуны он не мыслит своего места в революции. Вот это сознание необходимости всенародной борьбы с царизмом выгодно отличало Желябова от многих народников.
Террор примирял спорящих, но уводил разговоры от программы к вопросам тактики и принципам построения организации.
Это тоже старая и наболевшая проблема. Землевольцы создали великолепную организацию, законспирировали ее и… ничего не добились. А почему? Андрей пожимал плечами. «На этот вопрос ответит только история, а они слишком близки к событиям, у них нет перспективы для видения и выводов». Однако выводы из неудач «Земли и воли» делать нужно. «Земля и воля» организовалась, но рассчитывала на народную стихию и зашла в тупик. Значит, либо — либо. Если стихия народа, то тогда не нужно организации, тогда главное — слиться с народом. Но ведь мужик пока не раскачался, сливаться не с кем. За него, за народ, следует вести революционную борьбу. А это требует организации. Партия должна быть заговорщической, народ не должен вмешиваться в ее дела. Он может, должен слышать о ней, думать, раскачиваться. Ох, какие это были смутные и подчас неприемлемые мысли!
А если ошибка? Если политика подменила социализм? Террор — революцию?
Но съезд уже перешагнул через раздумья. Вырабатывается устав Исполнительного комитета.
Осинский придумал это название. А комитет ведь никто не избирал, и он представлял только нескольких друзей Валериана. Попко жив, но не на свободе, Сентянин умер до суда, Ивичевич, отстреливаясь, получил смертельную рану. Сколько смертей, сколько трагедий связано с этим названием! А сам Осинский!..
Между тем устав пополняется все новыми и новыми параграфами:
§ 1. В Исполнительный комитет может поступать только тот, кто согласится отдать в его распоряжение всю свою жизнь и все свое имущество безвозвратно, а потому и об условиях выхода из него не может быть и речи.
§ 2. Всякий новый член Исполнительного комитета предлагается под ручательством трех его членов. В случае возражений на каждый отрицательный голос должно быть не менее трех положительных.
§ 3. Каждому вступающему читается этот устав по параграфам. Если он не согласится на какой-нибудь параграф, дальнейшее чтение должно быть тотчас же прекращено, и баллотирующийся может быть отпущен только после того, как даст слово хранить в тайне все, что ему сделалось известно во время чтения, до конца своей жизни. При этом ему объявляется, что с нарушившим слово должно быть поступлено, как с предателем.
§ 4. Члену Исполнительного комитета может быть дан отпуск, срочный или на неопределенное время, по решению большинства, но с обязательством хранить в тайне все, что ему известно. В противном случае он должен считаться за изменника.
§ 5. Всякий член Исполнительного комитета, против которого существуют у правительства неопровержимые улики, обязан отказаться в случае ареста от всяких показаний и ни в каком случае не может назвать себя членом комитета. Комитет должен быть невидим и недосягаем. Если же неопровержимых улик не существует, то арестованный член может и даже должен отрицать всякую связь свою с комитетом и постараться выпутаться из дела, чтоб и далее служить целям общества.
§ 6. Член комитета имеет право с ведома организации поступать в члены посторонних тайных обществ, чтоб по возможности направлять их деятельность в духе комитета или привлекать их к нему в вассальные отношения. При этом он имеет право хранить в тайне их дела, пока они не вредят целям комитета, а в противном случае немедленно должен выйти из такого общества.
§ 7. Никто не имеет права назвать себя членом Исполнительного комитета вне его самого. В присутствии посторонних он должен называть себя лишь его агентом.
§ 8. Для заведования органом Исполнительного комитета выбирается на общем съезде редакция, число членов которой определяется каждый раз особо.
§ 9. Для заведования текущими практическими делами выбирается распорядительная комиссия из трех человек и двух кандидатов в нее на случай ареста какого-либо из трех до нового общего съезда. Комиссия должна лишь строго исполнять постановление съездов, не отступая от программы и устава.
§ 10. Для хранения документов, денежных сумм и т. д. назначается секретарь, который должен держать в тайне место, где они хранятся.
§ 11. Член Исполнительного комитета может привлекать посторонних сочувствующих лиц к себе в агенты с согласия распорядительной комиссии. Агенты эти могут быть первой степени — с меньшим доверием, и второй — с большим, а сам член Исполнительного комитета называет себя перед ними агентом третьей степени».
Партия, организованная на централистических началах, соответствовала целям борьбы, но необходимость немедленного избрания руководящих органов партии, когда члены-учредители сами-то знали друг друга плохо, имела свои неудобства.
Южане выдвинули Льва Тихомирова, зачарованные его литературной известностью и солидной внешностью, что было немаловажным обстоятельством среди людей, большинству из которых не исполнилось и тридцати лет. Петербуржцы считали Тихомирова вялым, непрактичным человеком. Морозов, часто сталкивавшийся с ним при подготовке изданий «Земли и воли», заметил, что Тихомиров никогда не отвергал своего авторства среди читающей и сочувствующей публики, хотя многие анонимные статьи были написаны другими. Не имел он, по мнению Морозова, и прочного убеждения в необходимости уничтожения самодержавного образа правления, хотя тщательно скрывал свои сомнения.
Но южане увлекли северян, и Тихомиров прошел в распорядительную комиссию.
Александра Михайлова избрали единогласно, не вызвала ни у кого возражений и кандидатура Фроленко. Его выдвинули петербуржцы и с радостью поддержали южане.
Морозов и Тихомиров по-прежнему оставались редакторами «Земли и воли», хотя всем было ясно, что «политикам» придется в скором будущем создавать свой, особый орган.
И вот последний день. Давно ли Андрей подъезжал к Липецку, с тревогой думая о том, как будет встречен новыми товарищами, к каким решениям придет съезд! Теперь все это позади. И он уже не тот Желябов, мало кому известный провинциальный пропагандист-одиночка. Хотя на съезде еще не образовалось новой организации, но ныне он один из вожаков нового направления революционной борьбы, которая развернется не в пределах юга империи, а по всей России.
Он мог быть доволен результатами совещания, хотя и пришлось пойти на уступки и компромиссы.
Довольны были и Морозов и Квятковский. Им казалось, что их программа принята единогласно, остается только ее опубликовать и проводить в жизнь.
Но у всех на уме теперь Воронеж, ведь туда уже съехались члены «Земли и воли».
Желябов не принадлежал к этой организации. Между тем «политики» боялись, что могут оказаться в меньшинстве и тогда им придется открыто заявить о выходе из «Земли и воли» и создании новой партии. А этого не хотелось не только потому, что всех народников связывали кровные узы дружбы, товарищества, но и потому, что «политиков» было очень мало, они не располагали ни отдельной кассой, ни типографией. В случае их выхода из «Земли и воли» деньги, типография, конспиративные квартиры остались бы в старой организации.
Решили попытаться провести в члены «Земли и воли» Желябова, Колодкевича и других и тем увеличить число сторонников политической борьбы.
Желябов ожидал вызова в Воронеж, волновался, еще и еще раз обдумывал, взвешивал, анализировал решения Липецкого съезда.
Но настроение было приподнятое, ощущался необыкновенный прилив сил, победа казалась близкой.
Она представлялась туманным образом чего-то очень светлого, радостного, гармоничного. А борьба конкретизировалась опытом прошлого, как титаническое напряжение, героизм схваток, единоборство умов. В этом была романтика, и она находила радостный отзвук в сердце.
В Воронеж приехали далеко не все члены «Земли и воли». Многие, опасаясь потерять места в деревнях, с таким трудом добытые, доверили товарищам свои голоса.
Террористы заставили ждать себя, хотя никто из землевольцев не догадывался о совещании в Липецке.
Катались на лодках, гуляли с гитарой и только по приезде липецких заговорщиков приступили к регулярным совещаниям.
Разногласия начались сразу же. Против борьбы политической, против террора выступил Георгий Плеханов. Это был крупнейший теоретик землевольцев, прекрасный оратор, добрый товарищ. С ним очень считались, к его слову прислушивались. Террористы понимали, что им необходимо как можно скорее провести Желябова и остальных в члены «Земли и воли». У землевольцев-«деревенщиков» тоже были люди, которых они пригласили на съезд и хотели оформить как членов организации.
Вызвали и тех и других и без труда приняли в партию.
Начались первые схватки.
Плеханов видел, как изменилось настроение большинства товарищей. Бесплодное сидение по деревням убивало веру в пропаганду, жестокие расправы правительства возбуждали негодование и месть. Георгий Валентинович понимал, что террор грозит полностью оторвать партию от народа, противопоставить заговор революции. И он был готов сражаться, бороться не только против идей новаторов, но и за тех членов «Земли и воли», которые еще не заражены этими идеями.
Его не поддержали, ведь многие уже понимали необходимость борьбы политической. Плеханов этого еще не понимал. Но тогда к чему он звал? Пропаганда в народе на основе народных требований? Это порядком надоело да и не приносило ощутимых результатов.
Плеханов ушел с первого же заседания, и не пришлось Желябову схватиться с ним в словесном поединке. Впрочем, Андрей никогда не был теоретиком.
Желябова возмущали «деревенщики». Чем больше он знакомился с ними, тем сильнее недоумевал: какие же это революционеры? Зарылись в свои берлоги, исподтишка читают сказочки, толкуют о житье-бытье с крестьянами, корпят в волостных управлениях, потчуют древних старух касторкой и чего-то ждут… А чего они дождутся? Нет, греться на завалинке он не будет!
Андрей выступал резко. Ему аплодировали, им возмущались.
— Да ведь он чистый конституционалист! — с ужасом восклицали «деревенщики». Им казалось, что нет худшего обвинения для народника-социалиста.
— Хороши ваши землевольцы! — отвечал Андрей. — И эти люди воображают себя революционерами!
Но были и прислушивающиеся — Софья Перовская, Вера Фигнер.
Особенно часто видели Желябова с Софьей Львовной. Она была стойкой народницей — ее нужно убедить. Но раз уверившись, Перовская не изменяла своим идеалам, и не было человека более твердого.
Андрей не мог похвастаться успехами. Перовская внимательно слушала, редко возражала, но и все… Над Желябовым посмеивались друзья, а Андрей разводил руками и весело сообщал:
— Нет, с этой бабой ничего невозможно сделать… Террористы ожидали, что на съезде они окажутся в меньшинстве, что им все же придется выделиться в отдельную партию. Но кроме Плеханова и Попова, никто не выступал против. Это было молчаливое согласие. Землевольцы тоже не хотели разрыва. Резкость Андрея могла осложнить положение, и друзья уговорили его больше не выступать. Желябов согласился, но никто не мог запретить ему беседовать до заседаний и после них.
Хотя бывали и срывы. Тогда дело доходило чуть ли не до схваток.
После ухода Плеханова самым ярым противником «политиков» оставался Михаил Родионович Попов. По темпераменту ему бы быть террористом, но он ратовал за пропаганду. Много дорог исколесил Попов, многим крестьянам рассказывал о социализме. Михаил Родионович не спускал Желябову ни одной реплики, особенно если Андрей заговаривал о мужике. А Желябов говорил. Среди этих интеллигентов он один был крестьянином, и ему казалось, что он знает мужика лучше, чем Попов. Андрей верил в крестьянина, но не в его революционность.
— Я знаю много очень умных, энергичных общественных мужиков, которые теперь сторонятся от мирских дел, потому что крупного общественного дела они себе не выработали, не имеют, а делаться мучениками из-за мелочей не желают: они люди рабочие, здоровые, прелесть жизни понимают и вовсе не хотят из-за пустяков лишиться всего, что имеют. Конституция дала бы им возможность действовать по этим мелочам, не делаясь мучениками, и они энергично взялись бы за дело. А потом, выработавши в себе крупный общественный идеал, не туманный, как теперь, а ясный, осязательный, и создавши великое дело, эти люди уже ни пред чем не остановятся, станут теми героями, каких нам иногда показывает сектантство. Народная партия образуется именно таким путем.
«Конституционализм» Желябова коробил Попова. Правда, он был согласен с общей для всех народников идеей — сначала герои, потом толпа, сначала профессионалы-революционеры свалят царизм, расчистят дорогу «мужикам», а уж потом они вступят в дело. Но тогда все говорит за борьбу политическую. А где предел? Где предел?!
— Свести всю деятельность нашей организации на политическую борьбу легко, но едва ли так же легко будет указать предел, дальше которого идти социалистам непозволительно. — У Попова непримиримость на лице и в голосе.
Желябов вскипел:
— Не нами мир начался — не нами и кончится!.. Фроленко не дал договорить Андрею; запал у спорщиков был слишком велик, и это могло привести к осложнениям.
Сошлись на компромиссах. Оставили без изменений программу «Земли и воли». Та же пропаганда в народе, к ней добавили допустимость аграрного террора, договорились об усилении «дезорганизаторской» деятельности «теллистов». Исполнительный комитет, фактически создавшийся в Липецке из участников совещания, принявших его устав, получил право на свой риск и страх привлекать к террористической борьбе новых людей, не вводя их в «Землю и волю». Исполком мог свободно пользоваться общей типографией для пропаганды своих взглядов. И касса осталась общей, из нее 1/3 средств теперь официально должна была тратиться на террор.
Но компромисс — плохой фундамент для здания. Оно должно было рухнуть. И оно рухнуло.
Ольга Любатович опоздала и в Липецк и в Воронеж. Пришлось дожидаться приезда товарищей в Петербург. Революционная столица была пуста. На «партийной» квартире в Лесном отсиживалась одна Софья Иванова, недавно убежавшая из Архангельской губернии, где была поселена. Она ждала ребенка.
В конце июня Лесное оживилось. Приехали Квятковский, Морозов, Желябов, Михайлов, Баранников, подъезжали и «деревенщики». Они бросали насиженные места, предчувствуя, что Воронежем съезд не окончился, что именно в Петербурге решится судьба «Земли и воли».
И опять возобновились споры, переговоры, общие и сепаратные совещания. Плеханов пытался вернуть «Землю и волю» на старый путь мирной пропаганды социализма в деревне. Его оппонентами выступали «политики», и среди них Желябов. Теоретически Плеханов на голову превосходил Желябова, но за Плехановым шли единицы, Желябов увлекал десятки, увлек он, в конце концов, и Перовскую.
И уехал, чтобы на юге, в Харькове, Киеве, Одессе, вербовать новых сторонников вновь рождающейся партии. Андрей понимал, что на юге его пропаганда идей борьбы политической найдет более благодатную почву — ведь именно там зародился терроризм как первый проблеск «политики».
Но среди «политиков» по-прежнему еще не было единомыслия. Чистый терроризм Морозова был проще, ближе, понятнее для многих, нежели демократизм Желябова.
В конце концов, по Морозову — террор приведет к конституции, по Тихомирову — заговор влечет захват власти с последующим переходом к социализму, а вот по Желябову — необходимо еще учитывать народ, народное восстание. А к чему оно приведет, не даст ли победу капитализму? Хотя Желябов и утверждает, что буржуазные свободы помогут бороться за социализм, некоторые готовы были обвинить его в либерализме.
Андрей не настаивал. В Харькове под именем Бориса он агитировал за террор, в Киеве собирал старых бунтарей, привлекал новых людей — интеллигентов, рабочих. Потом опять ехал в Харьков, строил конкретные планы покушений. А его уже ожидали в Симферополе. Вместе с Дзвонкевичем и рабочим Меркуловым, распропагандированным еще раньше, ездили за город, к перевалу, опробовали бомбы. Бомбы оказались никудышными, они были фитильные, и, пока огонь не воспламенит пороховой массы, бомба не страшнее булыжника. Чтобы кого-либо убить, нужно одновременно бросить их несколько, в надежде, что одна угодит и притом взорвется в нужное мгновение.
Желябов вернулся в Петербург.
А тем временем в Лесном произошел окончательный разрыв. Пропагандисты-«деревенщики» взяли себе «землю», политики — «волю», и фактически возникло две партии — «Черный передел» и «Народная воля».
Плеханов, Стефанович, Лев Дейч, Вера Засулич составили ядро «Черного передела». В «Народную волю» ушли Квятковский и Александр Михайлов, Морозов, Фроленко и, конечно, Желябов.
У чернопередельцев — талантливые публицисты-теоретики, у народовольцев — практики революционной борьбы. Впрочем, пока еще только подготавливаются средства и идет дележ имущества бывших соратников. Андрея при этом не было. Он вернулся в Петербург в двадцатых числах августа 1879 года, чтобы 26-го присутствовать на знаменательном заседании Исполнительного комитета в Лесном.
На повестке один вопрос: следует ли продолжать намеченные предприятия против генерал-губернаторов или же сосредоточить все силы на одном государе?
Споров почти не было. Его императорскому величеству был вынесен смертный приговор.
Теперь уже стали считать наличные силы и средства, разрабатывать планы покушения, о «Черном переделе» на время забыли. Где и как настичь царя, чем убить его, кто конкретно возьмется за дело? Сил было немного, всего каких-либо двадцать пять — тридцать человек.
А император отдыхал в Ливадии. Он имел обыкновение проводить на курорте осень и только в ноябре возвращаться в столицу.
Времени в обрез. Конечно, царя легче всего перехватить на пути в Петербург. Из Ливадии император добирается пароходом до Одессы, а там железной дорогой. Но он может поехать и через Симферополь. Императору во всех случаях не миновать Москвы. Царь любит день-два провести в первопрестольной, побывать в кремлевских соборах. Значит, под Москвой его встретить обязательно.
В Москву должны были отправиться Гартман, Перовская, Александр Михайлов, Арончик, Исаев, Баранников, Морозов.
Андрею не по душе Москва. Он никогда в ней не был, никого там не знает. Он южанин, хорошо знаком с условиями юга, людьми. Желябов выпросил себе место в южных предприятиях. И Фроленко тянет на юг. Он уже уехал в Одессу вместе с Лебедевой, Колодкевичем, Фигнер, Саблиным, Кибальчичем, направленным туда же из Харькова Меркуловым.
Чем только не приходится заниматься революционеру! Никогда раньше Андрей не интересовался схемами железных дорог Российской империи, да и ездить по ним приходилось не так часто. Теперь Колодкевич и Желябов засели за карты.
Долго не могли найти подходящего места, тихого, не «скомпрометированного» в прошлом революционной деятельностью народников. Остановились на Александровске. В-Петербург полетел запрос: можно ли рассчитывать на согласие Исполнительного комитета, какие будут выделены средства, помощь людьми?
Петербург ответил согласием — средствами Желябов не будет стеснен. Тогда окончательно решили — Александровск. Андрей пригласил участвовать в покушении Ивана Окладского и Якова Тихонова, с которым недавно познакомился. С Окладским был знаком давно, еще по рабочим кружкам Одессы. Из Петербурга приехала Якимова. Одесса, Александровск, Москва — все это пункты единого плана.
Исполнительный комитет не терял времени, не ждал, когда его ряды, как и ряды «Народной воли», пополнятся новыми людьми. Покушения начинали наличными силами. Их было немного, но каждый стоил многих.
К десяти основателям комитета — А. Михайлову, А. Желябову, А. Квятковскому, А. Баранникову, Н. Морозову, М. Оловенниковой-Ошаниной, Л. Тихомирову, М. Фроленко, С. Ширяеву, Н. Колодкевичу — примкнули новые люди, но старые революционеры.
Их не нужно было обучать революционной азбуке: Григорий Исаев и Арон Зунделевич, Софья Иванова и Татьяна Лебедева, Ольга Любатович, Екатерина Сергеева, Анна Якимова — многие из них участвовали в революционной пропаганде прошлых лет, некоторые побывали в народе, судились.
Но, конечно, руководящая роль в практических делах «Народной воли» оставалась за Михайловым, Квятковским, Желябовым.
Александр Дмитриевич так же, как и в «Земле и воле», наблюдал за безопасностью членов Исполнительного комитета, подбирал новых людей в «Народную волю», организовывал новые ячейки и группы, добывал средства.
Квятковский как бы координировал всю деятельность террористов, готовивших покушения, налаживал связи с рабочими кружками.
Недолгими были колебания Софьи Перовской, она выбрала не «Черный передел», а «Народную волю» и сделалась решительной централисткой, стражем дисциплины в рядах новой организации. Ее хватало и на пропаганду среди рабочих, студентов и на участие в покушениях. Не хватало у нее времени только на отдых.
Вошла в Исполнительный комитет и Вера Фигнер. Рассудительная, хладнокровная, умеющая убеждать и приказывать, быстро сходиться с людьми и располагать их к себе, она была незаменима как хозяйка конспиративных квартир, представитель Исполкома на местах, создатель периферийных кружков «Народной воли».
А рядом с ними немного флегматичный Николай Кибальчич. Он не был членом Исполнительного комитета, не был и агитатором, пропагандистом, хотя обладал большими знаниями в области социальных наук. Еще в тюрьме, куда он попал за агитацию и где после «процесса 193-х» отсиживал два месяца, Кибальчич приветствовал слухи о намерении революционеров взорвать царя на воздух. «Это хорошо, это великолепно! Почему они не займутся этим серьезно? Если меня не сошлют в Сибирь, я займусь нитроглицерином».
И теперь он занимался им усердно, заведовал динамитной лабораторией, направляя практическую работу своих помощников на изготовление взрывчатки и дешевых, безотказно действующих бомб.
Исполнительный комитет был готов к первому приступу, к первой попытке одним ударом внести в ряды противника замешательство и панику.
После второго звонка шум на перроне превратился в бестолковый гомон. Причитания, напутственные выкрики, плач — все слилось в сплошной гул. В Одессе не могли не кричать.
В сумятящейся толпе никто не обратил внимания на прилично одетого мужчину с небольшим, но, видимо, тяжелым чемоданом. У багажного вагона мужчина поставил ношу, вытер платком вспотевший лоб и обернулся к провожавшему его железнодорожному сторожу.
— Спасибо! Из Москвы буду телеграфировать. А вам, Семен, советую сегодня же покинуть свою сторожку.
Семен что-то буркнул в ответ, нехотя пожал протянутую руку и стал пробираться сквозь толпу к выходу.
Поезд медленно отошел от платформы.
На четырнадцатой версте в небольшом окошке сторожевой будки мелькнуло женское лицо, оголенная до локтя рука успела махнуть платком.
Тяжелый чемоданчик показался железнодорожному служителю подозрительным. В Елисаветграде жандармы предложили открыть чемодан. Господин отказался, сославшись на то, что это чужая вещь и у него нет ключей. Его обыскали, ключи нашлись. Вырвавшись, господин выхватил револьвер. Жандармы одолели быстро. В чемодане оказался динамит.
Полковник Добржинский был достаточно умным и опытным следователем. Конечно, можно сразу запугать арестованного, пригрозить ему пыткой, казнью. Но это крайние средства. Чего доброго, узник от ужаса все перепутает, начнет нести чушь. А потом полковник гуманен, он сторонник психологических методов. Пусть на это уйдет время, зато результаты!..
Первые беседы с арестованным принесли немного, хотя полковнику теперь известно его имя — Григорий Гольденберг.
В камеру к узнику подсадили шпиона. Григорий в одну из ночей выболтал все. Теперь у Добржинского есть факты. Гольденберга можно прижать к стене. Но тот продолжает отказываться. Гольденберга доставили в Петербург, призвали на помощь его мать.
Гольденберг сбит с толку, но у него уйма самомнения, и притом желание порисоваться. Ведь он все равно проговорился. А что, если убедить правительство, открыть ему глаза на истинные цели революционеров? Стать посредником между двумя лагерями?
Добржинский хорошо уловил настроение Гольденберга. Он, бесспорно, неврастеник, психопат, идеи, овладевшие им, становятся манией. Ну что же, тем лучше!
Полковник намекает: если арестованный будет откровенен, то… Какие возможности! Полковник ему завидует, потомки будут благословлять, современники встретят как героя!
И в России мир, тишина, благоденствие!..
Узник колебался, но недолго. Честолюбие, психическая неуравновешенность да плюс к тому и обида на тех, кто не дает ему первых ролей в революционной борьбе, пересиливают долг.
Да, он террорист, он и только он убил князя Кропоткина, он же должен был стрелять в царя, если бы не этот Соловьев. Ах да, он принимал деятельное участие в работе Липецкого съезда… Как, полковнику неизвестно об этом историческом совещании? Ай, ай, это так важно, так интересно! Он может рассказать в подробностях. Но его беспокоит, как бы правительство не воспользовалось его рассказом, так сказать, раньше времени. Ведь тогда пострадают те, о ком он будет говорить…
Добржинский тронут. Ну как можно! Право, господин Гольденберг его оскорбляет. Он никогда бы не предложил ему высказаться с полной откровенностью, если бы не был уверен, что правительство правильно поймет те благие цели, которые преследует господин Гольденберг. А потом он видит, с кем имеет дело…
Нет, нет, никаких комплиментов. Пусть господин Гольденберг примет его скромный совет, и тогда…
Гольденберг рассказывал. Гольденберг писал. Мелькали имена, клички, фамилии: Желябов и Михайлов, Баранников, Тихомиров, Ошанина. Листы заполнялись характеристиками, описанием фактов. Жандармские ищейки жадно принюхивались к свежим следам. А Гольденберг выдавал, пока из него не выкачали все, что он знал. А если и не знал, то выдумывал. Ведь он не мог не знать.
И нет больше любезного полковника. Прокурор холоден, иногда вежлив. Гольденберг в ужасе. Что он наделал!.. Он заклинает, грозит жандармам, что если хоть один волос упадет с голов его товарищей… Прокурор откровенно смеется, он ничего не может сказать о волосах, что же касается голов… о, он уверен, их скатится с плеч много!
Зунделевичу удалось посетить Гольденберга, раскрыть ему глаза на то, что он наделал.
Арестант повесился на спинке кровати.
Семен ничего этого не знал и не спешил выполнить совет Гольденберга. В сторожевой будке уютно, незамысловатая мебель придает ей вид жилого помещения.
Соседи тоже милые люди, и им нравится Семен Александров. Не пьет, жену не бьет, в обращении обходителен. И жена его, Таня, приятная с виду. Гости к ним заходят. Все люди приличные. Один раз приехал какой-то с бородкой — интеллигент, привез чемодан, вслед за ним другой — увез чемодан…
А потом вдруг ни с того ни с сего Семен и его жена уехали — и след простыл.
Уехать уехали, да к соседям жандармы повадились: «кто» да «что», «не замечали ли чего»? А что замечать, нешто жулик какой? Говорят, его рекомендовал барон Унгерн-Штернберг, зять одесского генерал-губернатора графа Тотлебена.
Барон с трудом вспомнил. Да, он писал записку начальнику дистанции, одна его знакомая просила об этом. Как ее фамилия? Право, он не помнит, но женщина очень приятная, чертовски красива.
Сторож катил с женой на север, сокрушаясь, что дожди и бури помешали царю ехать морем в Одессу и не пришлось ему, Фроленко, своей рукой соединить провода да и поднять на воздух его императорское величество. Жена тоже горевала, и ей, Татьяне Лебедевой, хотелось, чтобы на них «остановился зрачок мира».
Первый подкоп, первая мина, первая неудача. Но Желябов советовал: «Делайте, как я… Я поставил себе за правило, если со мною случается личное огорчение, больше трех дней не предаваться ему». Трех дней? Значит, в Петербург они приедут готовые взяться за новые дела.
Квятковский ликовал. Халтурин! Степан Халтурин! Степана знали все подпольщики. Его боготворили рабочие столицы. Кравчинский, не жалея красок, всем и каждому, кому только доверял, твердил об этом «изумительном», «неподражаемом», «удивительном» человеке. Но Квятковский привык составлять мнение сам. Нужно дать ясный отчет, отделить впечатления от выводов холодного рассудка. Халтурин не враг интеллигентам. Этого мало, он друг, единомышленник. Он интеллигент среди самых рафинированных, homo sapiens. Но он рабочий. Рабочий, который не смотрит в рот студентам, когда те взахлеб ратуют за Лассаля, Прудона, Бакунина, Лаврова. Он смеется. Не открыто, нет. Его усмешка не злобная, но после этого веселого оскала не хочется спрашивать традиционное: «Вопросы есть?» У него они всегда имеются.
Как-то Плеханов сослался на Халтурина, полемизируя по поводу террора. Как он говорил? Что-то вроде: «Не успеешь окрепнуть, хлоп, — интеллигенты кого-то прикончили, и опять аресты, ссылки. Не дают встать на ноги». Слова не те, но мысль верная. И вот сегодня Халтурин предложил свои услуги. Услуги? Нет, свою жизнь, себя. Он предлагает — ни более, ни менее — взорвать царя в Зимнем дворце. Ну и размах!.. Рабочие, взявшись за террор, обогнали интеллигентов в фантазии. Если царя не убьют раньше… Даже пусть он останется невредим при взрыве во дворце… Но рвануть Зимний? Какое эхо!..
Квятковский готов одобрить все планы Степана. Но есть маленькое «но». Халтурин требует, чтобы в листовке по поводу будущего взрыва дворца было сказано, что его рванул рабочий. Спорили долго. Халтурин на уступки не шел. Квятковский инстинктивно чувствовал, что Степан колеблется — ведь он противник террора, и только чрезвычайные обстоятельства толкнули его на этот путь. А вдруг Халтурин откажется? Квятковский сдается. Пусть будет сказано о рабочем! Лишь бы царя на воздух, а тогда!.. Что тогда? Об этом они не говорили.
Члены Исполкома были удовлетворены. Им казалось, что тактика террора находит новых приверженцев, как только с ней знакомятся широкие массы угнетенных, обездоленных тружеников. Не кто иной, а Халтурин предложил дерзкий, фантастический по своей смелости план покушения на царя. Халтурин — это символ, это воплощение заводского люда. И они с ними! Вместе с бомбами и револьверами против царя, царизма! Есть от чего возликовать!
Кто-то предложил кооптировать Халтурина в члены Исполнительного комитета, чтобы тем самым привлечь лучшую часть пролетариата столицы на свою сторону.
Большинство народников возражало. И только потому, что Морозов в очень нелестных тонах рассказал об отношении Халтурина к террористическим актам. У Морозова были основания — в Нижнем Халтурин отверг его «фантастический, авантюрный» план освобождения Брешковской.
Но Халтурин — в Зимнем.
Он взялся взорвать его.
— Сколько пудов динамита потребуется для взрыва?
— Одну минуту!
Григорий Исаев, искуснейший техник по изготовлению динамита, покусывая карандаш, стал что-то подсчитывать на кусочке бумаги. В комнате воцарилась тишина. Каждый мысленно представил себе Зимний, подвал. Кирпичные своды, стены толщиной в аршин. Залы — Кавалерская, Георгиевская, Золотая, наконец, столовая. Это святая святых династии, но ведь именно под ней темный, тесный склеп подвала, в котором живут придворные столяры.
— Пятнадцать пудов — менее никак нельзя!
Вздох разочарования. Прежде всего, где достать такое количество динамита? Как пронести его во дворец? Где хранить? Динамитом займутся техники. На остальные вопросы ответ может дать только Халтурин. Квятковский должен переговорить с ним, прежде чем принять его «услуги». У многих пыл успел остыть. Опять фантазия!
Связь с Халтуриным поручили поддерживать Квятковскому. Было решено, что взрыв Зимнего — запасной вариант на случай, если произойдет неудача с покушениями на железной дороге.
Шли дни. Квятковский, встречаясь с Халтуриным, каждый раз ловил себя на том, что любуется этим замечательным рабочим. Встречи день ото дня становились теплее, беседы откровеннее. Халтурин рассказывал о роскоши царских хором, добродушно посмеивался над нравами монарших холопов. Квятковский расспрашивал о работе среди пролетариев столицы.
Сначала Степан отмалчивался. Было больно вспоминать о товарищах, попавших в тюрьмы, на каторги. Погиб и «Северный союз русских рабочих».
Народовольцы заблуждались, видя в Халтурине террориста. И может быть, только Квятковский понимал, что для Степана террор — просто временное отступление. Он свято верил, что смерть царя откроет новые пути для политической работы, расчистится затхлая атмосфера абсолютизма и можно будет, не таясь, создавать свои газеты, союзы, открыто агитировать и готовить, готовить новую, рабочую революцию.
Квятковский не спорил со Степаном, боясь отпугнуть его. Подготавливая взрыв, Халтурин продолжал колебаться и болезненно переживал свою оторванность от привычной заводской среды. Но Исполнительный комитет поставил условие — строгая конспирация, никаких связей с рабочими, чтобы не произошло провала.
Дело подвигалось медленно. Исаев готовил динамит, Халтурин проносил его во дворец маленькими фунтиками, храня в наволочке подушки под головой. Ядовитые испарения вызывали нестерпимую головную боль, грудь рвал сухой кашель. Столяры в общежитии ругались, разбуженные ночью. Степан отговаривался простудой.
Народовольческое подполье Петербурга опустело. Царь со дня на день должен был покинуть Ливадию. Во дворце и в подполье готовились к встрече.
Как всякий город Российской империи, Александровск имел свою городскую думу. В ней заседали самые именитые граждане. Положение гласных было не из завидных. Одно название — город, а промышленности в нем почти нет, бойкой торговли тоже. Обыватели бедные, налоги приходится с полицией собирать.
И только в дни ярмарок, да еще в канун каких-либо празднеств город оживает, с обывателей слетает сонная одурь. Для них ярмарка — клуб. Из сундуков извлекаются пропахшие табаком и нафталином пышные платья чуть ли не подвенечной давности, сюртуки, пиджачные тройки. С оханьем надеваются корсеты, шнуруются высокие ботинки. И плывет многоголосая пестрая толпа на базарную площадь. Шум, гам, выкрики торговцев, продавцов сбитня, кваса, бесконечное хлопанье по рукам заключивших сделку и непременные пьяные песни, драки, перебранка. Веселое оживление каруселей никак не гармонирует с унылым однообразием шарманки. Обязательные цыгане, гадалки, плясуньи и более всего попрошаек.
Здесь весь город от мала до велика. Городовые сбиваются с ног, кутузки полны.
Николай Сагайдачный три часа уныло стоял у железнодорожной станции в ожидании седока. Все остальные извозчики уехали на ярмарку, а он решил подработать у вокзала. Два поезда миновало, а седоков нет. Все больше крестьяне с узлами, тоже на ярмарку, да своим ходом. А на дворе октябрь, ветер, моросит противный дождик.
Подошел еще один поезд. Сагайдачный тронул застоявшегося коня. Если и на этот раз никого не будет, то он уедет.
— Эй, извозчик!
Высокий и с виду шустрый человек с окладистой бородкой лопатой, в черном бурнусе и таком же картузе вскочил в пролетку.
— На ярмарку прикажете?
— Нет, прикажу в объезд, вон вдоль железки.
Извозчикам не полагалось удивляться. Сагайдачный тронул Ваньку. Дорога была скверной, непрестанные дожди размыли ее так, что лошадь с трудом выдергивала ноги из зловонной жижи. Извозчик ругал «клячу» вслух, седока про себя. Седок ухал, когда пролетка кособочилась слишком уж опасно, задорно смеялся баском.
«Ишь, купчишка, небось перепил, а теперь гуляет. Нет чтобы ехать, как все православные, по улицам».
Но «купчишка» не был пьян. Когда они отъехали на порядочное расстояние от станции, седок, внимательно вглядываясь в местность, перестал смеяться.
— Послушай, дядя, брось ругаться. Скажи лучше, у вас тут кожевенный завод имеется?
— Кой там кожевенный! Окромя складочных магазинов да мельницы и питейных, никаких иных заведений не имеется.
— Вот и хорошо. Устрою кожевенное заведение, а кожи найдем.
«Ишь ты, устрою… Ты поди раньше в управе подряд получи». Но вслух извозчик ничего не сказал. Ездили дотемна. Несколько раз купец вылезал из пролетки, что-то осматривал, взбирался на полотно.
Потом исчез из города.
Через неделю он вновь появился. Снял квартиру в доме Бовенко. Вместе с ним приехала жена. На следующий день в городскую управу поступило прошение:
«Желая устроить в г. Александровске кожевенный завод (сыромятного, дубильного и иного кожевенного производства), честь имею просить городскую управу: 1. Дозволить мне устройство вышеозначенного завода и 2. Отвести для сего около крепости 1200 кв. сажен, на условиях продажи при продолжении аренды.
Тимофей Черемисов».
Городская управа всполошилась. Но переполох был радостный. Как же, и городок на Мокрой Московке не миновали веяния времени. Сначала кожевенный завод, а там, глядишь, обувная фабрика, да мало ли какие заведения появятся в городе. Потекут денежки, не минуют они и гласных думы.
Вот только участок купец запросил неподходящий — у самого полотна железной дороги. Гласные тешили себя надеждой, что Лозово-Севастопольская дорога будет расширяться, потянут еще одну нитку и железную дорогу проложат именно в том месте, на которое претендует Черемисов. А ведь земличка принадлежит городу, ее можно будет выгодно продать. Порешили отвести иной участок, через полотно, близ села Вознесенки.
Черемисов устраивался прочно. Жена его, Маша, крутилась по хозяйству, готовила обед. Черемисов же купил у Бовенко повозку, сторговал у барышника лошадь, связался с землемером, ездил измерять полученный в аренду участок, деятельно обсуждал планы строительства.
Бовенко был страшно заинтересован. У него имелись кое-какие сбережения, и он не прочь вложить их в предприятие. Купец не отказывался, но ничего и не обещал. Прошел октябрь. Все оставалось по-прежнему. У Черемисова жили какие-то люди, с виду мастеровые. Они часто исчезали вместе с купцом и возвращались поздно ночью, а то и под утро.
Когда Бовенко поинтересовался, как продвигаются дела, Черемисов предложил, пока суть да дело, открыть в доме Бовенко шорню. Тот согласился с радостью, видя в этом первый шаг к сближению. Но опять проходили дни, а Черемисов как будто забыл свое предложение. Бовенко заподозрил, что его постоялец пьет и ночами водит невесть где пьяные компании. Частенько Черемисов являлся весь выпачканный в грязи, мокрый и оправдывался тем, что страдает куриной слепотой, а потому не может миновать луж и ям.
Ночи становились холодней, дожди непрерывней. Черемисов потерял облик франтоватого купца, ходил небритый, с красными глазами, не выспавшийся.
Каждую ночь, перемешивая грязь, к полотну дороги пробирались три темные фигуры. Там, где насыпь круто уходила вверх, люди замирали, прислушивались. Шумел дождь, слышно было, как ветер переворачивал в роще груды прелых листьев, сталкивал голые ветви деревьев. У основания насыпи, там, где ее прорезала водосточная труба, бурлил поток все прибывающей воды. Уровень ее повышался с каждым днем, трубу засоряло всяким мусором. Вода пропитывала песок насыпи и стекала в овраг мутными струйками. Иногда с шумом обрывалась глинистая глыба, гулко плюхаясь в воду. Каждые пятнадцать-двадцать минут на насыпи светился фонарь, слышались встревоженные голоса обходчиков. Трубу прочищали, но вскоре она опять забивалась. Обходчики, чертыхаясь, уходили греться, и вновь на светлом фоне насыпи появлялись распластанные серые тени.
В ночной тьме никто не узнал бы в Черемисове Желябова.
Царь не поедет через Одессу. Значит, мина, заложенная Фроленко, — напрасная трата динамита. Но императору не миновать Александровска. Насыпь высокая — одиннадцать саженей, поезд непременно свалится под откос. Только бы успеть! А тут мешают дожди, обходчики и сторожа.
«Жена» Желябова, Анна Васильевна Якимова, тревожно прислушивается к ночным звукам. В квартире два медных цилиндра с динамитом, проволока. Не приведи господи обыск!..
Приезжал Кибальчич, привез спираль Румкорфа и говорил, что по дороге повстречал Гольденберга, а вот теперь Тихонов, который под видом мастерового поселился у Черемисова, рассказал об аресте Григория.
В соседней комнате беспокойно ворочается Пресняков. У него болит голова от вечной возни с динамитом.
Желябов выбивается из сил. Якимова это давно заметила. Иногда ночами он вдруг начинает бредить. Кричит: «Прячь провода!», «Прячь провода!» Чудак! Собственными руками хочет все сделать: и насыпь просверлить, и мины заложить, и провода к грунтовой дороге, что рядом с железной, протянуть. Тихонов и Окладский не столько помогают, сколько охраняют.
Ох, не нравится Якимовой этот Иван Окладский! Желябов его еще по рабочим кружкам Одессы знает, а она? Как первый раз увидела, так и невзлюбила. И Тихонова и Окладского Желябов на свой риск и страх привлек. Исполнительный комитет только потом узнал.
Заложить мины в насыпь дороги не такое уж хитрое дело, если бы не поезда, обходчики, охрана. Три ночи под дождем Андрей, Яков Тихонов и Окладский сидели в придорожных кустах, выбирая подходящий момент. Трижды возвращались домой, так и не поставив мины. Желябов по ночам ничего не видел, Тихонову приходилось все время вести его под руку. А ночи темные, не раз блуждали, чуть ли не ощупью отыскивая дорогу. Холод пронизывал до костей.
От вечного нервного напряжения стало казаться, что за ними кто-то следит. Андрей старался отогнать эти галлюцинации — и не мог. Вот в темноте маячит какая-то тень. Если бы он видел лучше! Щелкнул курок револьвера. Андрей притаился. В руках цилиндры с динамитом. Он не успеет их бросить, чтобы вытащить револьвер! Где Яков?
— Андрей!
— Я!
— Фу ты пропасть! А я чуть не пальнул.
К Желябову торопливо подошел Окладский. Нет, так больше нельзя, чего доброго, они друг друга перестреляют. Мины должны быть заложены сегодня же.
Первую поставили быстро. Засыпали песком, провод опустили в овраг.
В двадцати трех саженях от первой стали сверлить яму для второй. Андрей запутался в проводах и, чертыхаясь, старался выдернуть ногу из проволочной петли.
— Сторож!
Тихонов схватил Андрея за руку и потянул вниз. Желябов выхватил цилиндр из ямы. Репейник вцепился в бороду.
Сторож не заметил притаившихся под насыпью людей. Дождь слепил ему глаза. Фонарь задувало ветром.
Только к утру удалось протянуть провода к оврагу, соединить их с цинковыми листами, вкопанными в землю, и незаметно добраться до дому.
Якимова встретила Андрея встревожено. Приехал Исаев — царь отправляется из Симферополя в назначенное время. Завтра он будет под Александровском.
Желябов так устал, что даже известие, означающее конец всем мучениям, не взволновало его.
Если завтра нужно рвать, то Анне Васильевне нечего больше делать в Александровске. Сегодня же вечером она уедет.
Якимова медлила. Она должна рассказать Андрею о своих сомнениях насчет Окладского. Но у нее нет фактов, только интуитивное недоверие. Желябов не слушал — у Анны Васильевны галлюцинации, он тоже страдает ими. Это все нервы…
18 ноября дождь прекратился, выглянуло солнце, но на улице было свежо, ветер гнал разорванные тучи, рябил гладь огромных луж.
Андрей лежал в телеге выспавшийся, бодрый, хотя и осунувшийся, как после тяжелой болезни. Тихонов правил лошадью. Окладский бережно придерживал на коленях спираль Румкорфа.
Подъехали к оврагу. Окладский вытащил лопатой из-под камня концы проводов, подключил их к батарее, проверил, как действует спираль. Желябову оставалось только соединить провода, и тогда…
Царский поезд выскочил из-за поворота неожиданно. Окладский привел в действие спираль Румкорфа:
— Жарь!..
Андрей соединил провода и невольно зажмурился…
По-прежнему стучат колеса вагонов, лязгают буфера, звуки отдаляются. И опять слышны посвисты ветра. Жужжит спираль.
Андрей открыл глаза. Последний вагон поезда уже втягивался за деревья соседней рощи.
Почему не было взрыва? Окладский отворачивается. Тихонов удивленно смотрит на спираль Румкорфа, она все еще работает…
На минуту закрадывается сомнение: может, права Якимова? Почему Иван не смотрит в глаза? Нет, Андрей гонит от себя подозрения. Наверное, он сам неправильно соединил провода. Теперь уже поздно задавать вопросы — поезд ушел.
Опять попытка. Опять неудача.
Удрученный, Желябов не слушал Окладского. Тот предлагал остаться в Александровске, выяснить причину, почему не произошел взрыв. Андрею больше нечего делать в этом городе.
— Здесь взрыв не удался, так удастся в другом месте. Сегодня же я уезжаю.
Его императорское величество прибыло на симферопольский вокзал двадцатью минутами раньше, чем его ожидали, и не захотел ждать. Расписание движения царских поездов ломалось. Состав, в котором следовали царь и его министры, должен был отправиться за свитским поездом. К свитскому еще не прицепили паровоза. Царский уже стоял под парами.
Граф Адлерберг — министр двора, видя, как хмурится император, приказал отправить царский поезд вперед, по расписанию свитского, свитский же пойдет получасом позже.
Два дня пути были для графа пыткой. Слава богу, он наслышан о крушениях… И еще эта депеша от полковника Добржинского. Полковник, а хуже бабы. Поймал какого-то молодчика с динамитом, ничего еще толком от него не выведал, а уже спешит предупредить о возможных покушениях на дороге.
Вздор! Граф гонит от себя страхи, но они не дают ему покоя, особенно ночью. Граф никогда не спит в вагоне, мешает грохот колес.
Скорее бы!
Ну, вот и Москва! На перроне сильнейшее «ура», гремят оркестры. Император с дороги устал и сразу же отбыл во дворец. Теперь и министр может отдохнуть.
Князь Оболенский, предводитель дворянства Епифанского уезда Тульской губернии, зябко ежился в придворной шинели на перроне тульского вокзала. Только что пожалованному в должность шталмейстера, ему надлежало присутствовать при царском выходе в Москве.
Когда же подойдет поезд со свитой, царский уже отошел с полчаса назад? В другое время можно было бы добраться до Москвы на любом, но во время царских проездов пассажирские обычно очень запаздывали.
Губернский предводитель Самарин пошел греться в буфет, Оболенский остался в обществе тульского полицмейстера. Блюститель уже успел хватить лишку и словоохотливо изъяснял князю свое удовольствие по поводу благополучного проезда царского поезда через Тулу. Князь недовольно морщился — винищем несет от его превосходительства, да и чепуху какую-то мелет, рельсы у него динамитом набиты, торпеды, как галки, летают… Отправлялся бы домой.
Наконец и свитский. Половина вагонов багажные. Комендант поезда любезно предоставил князю купе рядом с инженерами Курской дороги. За чтением князь не заметил, как показалась Москва; и очень удивился, когда кондуктор сообщил, что «прошли уже товарную», и подал шинель.
Сильный толчок… Князя выбросило из купе, потом до сознания дошел какой-то странный треск. Вагон запрыгал…
«Крушение!..»
Оболенский рванулся к двери и выкатился в снег. Рядом, придавив сторожа, лежал опрокинутый телеграфный столб, недалеко чернела яма, над которой вился легкий дымок. Пахло динамитом….
Князь поднялся. Кругом бегали люди. Обер-кондуктор докладывал, что провалился мост. Полицейский офицер, выросший как из-под земли, уверял, что лопнул локомотив.
Четвертый вагон с фруктами перевернулся вверх колесами…
Князь не стал вдаваться в подробности. Скорее во дворец, пока какой-нибудь прыткий офицеришка не опомнился и не дал знать. Конечно, прибыть с таким сообщением не бог весть какой почет, но кто знает, а не бросят ли террористы еще где-либо бомбу и не станет ли он, князь Оболенский, спасителем священной особы императора. А тогда!..
Граф Адлерберг был несказанно удивлен, когда дверь его спальни отворилась и в покои без доклада ввалился перепачканный, встрепанный Оболенский.
Адлерберг не верил своим ушам. Князь спятил с ума, в Белокаменной, на пороге вокзала, под носом у полиции…
— Вы знаете, при крушениях нервы бывают очень расстроены. Вы ложитесь спать, и, когда выспитесь, все иначе покажется.
Оболенского взорвало. Он не тульский полицмейстер! «Выспитесь»! Да он пьян, что ли! Видимо, этот непочтительный взрыв чувств шталмейстера по отношению к своему начальнику — министру двора — был самым убедительным аргументом.
Теперь наступила очередь испуга. Граф побледнел, затрясся. Ведь он ехал в одном вагоне с государем, да, да, именно в четвертом, а князь уверяет, что от этого вагона мармелад какой-то остался.
Александр II принял известие равнодушно. Он уже поверил в свою счастливую звезду. Но почему небесные архангелы, спасая священную особу императора, равнодушно допускают убиение его холопов?
Нет, нужен благодарственный молебен.
Над Москвой небо потемнело от встревоженных галок. Их пронзительное карканье зловеще вплеталось в благолепие торжественного звона по поводу чудесного спасения императора.
Михайлов долго не отпускал руку Андрея. Желябов приехал вовремя. На дороге неудача за неудачей. Одна надежда на Халтурина.
Как, Желябов не знает Халтурина? Теперь они познакомятся.
Но почему Александр Дмитриевич считает, что покушения на железной дороге только лишь сплошная цепь неудач?
А как же иначе? У Желябова по неизвестным причинам не произошло взрыва. Под Москвой взорвали поезд, да не тот. Нет, нет, неудачи преследуют террористов с первых же шагов.
Андрей тоже вначале был удручен — фортуна явно не на стороне революционеров. Теперь он относится к происшедшему иначе. Александр Дмитриевич главный участник московского взрыва, Андрею очень интересно узнать подробности — газеты врут.
Михайлов отнекивается, к чему сейчас ворошить не слишком приятные воспоминания. Если Андрею так хочется знать детали, пусть порасспросит Перовскую, Исаева или Баранникова.
Как Александр Дмитриевич не понимает: детали нужны, чтобы потом не повторять ошибок. Нет, он должен рассказать. Андрей знает, что Гартман под именем Сухорукова снял дом в двадцати саженях от железной дороги, на третьей версте от Москвы. Заколотил нижний этаж. Из него вели трехгранную галерею, обшитую досками. Мина лежала под рельсами на глубине двух саженей. Вот и все, что ему известно.
— Работа производилась со свечой, — начал Михайлов, чуть заикаясь. — Влезавший внутрь рыл и отправлял землю наружу на железном листе, который вытаскивали толстой веревкой. Двигаться по галерее можно было, только лежа на животе или приподнявшись немного на четвереньки. Приходилось просиживать за своей очередной работой внутри галереи от полутора до трех часов. В день при работе от семи часов утра до девяти часов вечера успевали вырывать от двух до трех аршин… К ноябрю выпал значительный снег и лежал несколько дней. Но настала оттепель, пошел дождь, и вода, образовавшаяся из снега, покрыла землю. Однажды утром приходим мы к подполью — и не верим своим глазам: на дне его почти на пол-аршина воды и далее по всей галерее такое же море. Перед тем всю ночь лил дождь. Стали мы выкачивать воду ведрами, днем выливали на пол в противоположном углу нижнего этажа, а ночью выносили на двор. Ведер триста или четыреста вылили мы, а все-таки пол галереи представлял лужу, вершка на два покрытую водой и грязью.
В конце галереи, несколько более низком, чем начало, невозможно было выкачать скопившейся жидкой, как вода, грязи, делавшей земляную работу чрезвычайно трудной. Грунт конца галереи, подошедший уже под насыпь полотна, стал чрезвычайно рыхл, так что нельзя было рыть даже на полчетверти вперед без обвалов сверху и с боков, чему еще более способствовало сильное сотрясение почвы при проходе поезда. Даже крепленные уже досками своды дрожали, как при землетрясении. Сидя в этом месте галереи, издали по отчетливому гулу слышишь приближение поезда. Все трепещет вокруг тебя, сидящего прислонясь к доскам, из щелей сыплется земля на голову, в уши, в глаза, пламя свечи колеблется, а между тем приятно бывало встречать эту грозную пролетающую силу. Мы придумали углублять минную галерею далее земляным буравом вершка в три в диаметре и через образовавшиеся отверстия продвинуть цилиндрическую мину под рельсы. Для работы им мы влезали в образовавшийся в конце склеп и, лежа по грудь в воде, сверлили, упираясь спиной и шеей в плотину, а ногами в грязь. Работа была медленная, неудобная и… для полной характеристики я не могу приискать слов. Положение работающего там походило на заживо зарытого, употребляющего нечеловеческие усилия в борьбе со смертью. Здесь я в первый раз в жизни заглянул ей в холодные очи и, к удивлению и удовольствию моему, остался спокоен…
— А я нет, не спокоен, хотя и не обескуражен. Намерены мы выпустить листовку об этом взрыве?
— Конечно!
— Так в ней и нужно будет отметить: «Мы уверены, что наши агенты и вся наша партия не будут обескуражены неудачей и почерпнут из настоящего случая только новую опытность, урок осмотрительности, а вместе с тем новую уверенность в свои силы и в возможности успешной борьбы», — или что-нибудь в этом роде.
— Не-ет, это хо-рошо! — Михайлов заикался более обычного, когда волновался.
В Зимнем переполох. В общежитии подвала столяры окружили жандарма, приставленного для наблюдения за ними. Жандарм, возбужденно махая руками, рассказывал о поимке террористов. Он многого не знал, как и дворцовая полиция, не догадывался о значении сделанного открытия, но смело домысливал. Халтурин прислушался. «Так и есть, не иначе, кого-то из террористов арестовали… Ужели Квятковского? Ведь он не явился последний раз на условленную встречу, а у него план Зимнего, царская столовая крестом помечена. Что-то теперь будет?»
На другой день Халтурину стали известны подробности.
Квятковский попался обидно глупо, арестом своим еще раз подтвердив справедливость требований конспирации и конспирации, о которых неустанно напоминал Михайлов.
Виновата была сестра Веры Фигнер — Евгения. Она доверила хранение нелегальной литературы своей приятельнице — Богословской, та, опасаясь обыска, передала ее отставному солдату Алмазову, своему соседу по квартире, а Алмазов, алчный до денег человек, донес в участок. Богословскую схватили, пригрозили казнью — ну, она и выдала Евгению.
24 ноября полиция нагрянула на квартиру Евгении Павловны Побережской — под этой фамилией проживала Евгения Фигнер вместе с Александром Александровичем Чернышевым-Квятковским. Трофеи были велики: банка с девятнадцатью фунтами динамита, капсюли для взрывателей, нелегальные издания и, наконец, смятый листок бумаги с чертежом Зимнего.
В ловушку, устроенную на квартире Фигнер, попалась Ольга Любатович, спешившая предупредить Евгению и Квятковского об опасности. Но ей удалось провести полицию. Целый день она блуждала с жандармами по городу, затем завела их к себе домой в надежде, что ее муж, Николай Морозов, поставленный в известность товарищами, успел очистить квартиру и скрыться. Но Морозов, зная о несчастье, поступил иначе. Он дождался Любатович, разыграл перед жандармами важного барина, а когда они ушли для проверки документов, оставив в кухне только одного городового, сумел ускользнуть с Ольгой, предварительно сняв ботинки, чтобы они не скрипели по паркету передней.
Известие тяжелое, но оно не сломило решимости Халтурина.
Ему нужен динамит и новый связной.
Связным был выделен Желябов.
Халтурин и Желябов внимательно вглядывались один в другого. Многое сближало их. Халтурин пришел в «Народную волю» из рабочих окраин, Желябова тянуло на окраины. Они быстро нашли общий язык.
После всех неудач «Народная воля» сделала ставку на Халтурина.
Григорий Исаев день и ночь готовил динамит, Кибальчич сооружал запалы.
Желябов должен всюду побывать, познакомиться со всеми мероприятиями партии, конспиративными квартирами, «техниками».
Кибальчича он видел мельком, когда тот приезжал в Александровск.
Занятная личность, прямая противоположность Михайлову. Сухой, сдержанный, очень молчаливый, поэтому может показаться даже равнодушным. Блестящий знаток математики, физики, человек с удивительными способностями к языкам.
Нет, положительно у Александра Михайлова дар находить людей и привлекать их к революционной работе! Кибальчич не новичок, пропагандировал в народе, потом три года сидел в тюрьме.
Он как будто предвидел, что вскоре борьба примет открытые формы, и всецело посвятил себя изучению взрывчатых веществ. Он и сам говорит, что прочел все об этом предмете — все, что пишут и у нас и за границей.
Трудно отыскать динамитную мастерскую Кибальчича.
Желябов поднимается по неопрятной, грязной лестнице на четвертый этаж. Маленькая квартирка из четырех крохотных комнатушек. Окна трех комнат смотрят во двор, а четвертой — во внутренний колодец, в просвет между домами.
За окнами квартиры невозможно установить наблюдение. Такая уединенная обитель под стать хозяину. Он не любит сборищ, споров, среди заговорщиков чувствует себя неловко и спешит домой, чтобы засесть за научные изыскания.
Андрей поразился: несколько колб, какие-то жестянки, мензурки, спиртовки — вот и все. Хотя Кибальчич только устраивается…
Разговор сдержанный. Андрей побаивается пускаться в научные рассуждения.
Но во взрывчатых веществах он понимает. Кибальчич оживляется. Это просто великолепно! Пока он мог вести специальные разговоры только с Григорием Исаевым.
Да, они, что называется, вручную приготовили шесть пудов. Это мало, конечно. Потому-то Гольденберг и ездил в Одессу. Оставшийся неиспользованным динамит нужно было перебросить под Москву.
Желябов ожидал встретить фанатика взрывов. Но нет, Кибальчич считает, что лишать людей жизни безнравственно. Он ведет свои расчеты так, чтобы жертв было возможно меньше.
Стояли последние дни осени. После октябрьских ливней, ноябрьских снегопадов немного потеплело, выглянуло солнце. Но по утрам лужи затягивал ледок. С моря всегда тянуло сырым ветром. Андрей никак не мог привыкнуть к Балтике. Разве это море? Вода какая-то жирная, грязь плавает зловонными шлейфами в целую версту, вечная дымка, туман, даже солнце не желает заигрывать с этой мрачной стихией. То ли дело Черное…
Но к морю тянуло. Сегодня его спутник — моряк, лейтенант. Андрей познакомился с ним недавно. Вот ведь встречаются такие люди — красивыми их не назовешь, симпатичные? Это слово к ним тоже не подходит, а глаз не оторвешь.
Лейтенант пристально смотрит куда-то вдаль. Там Кронштадт. Ветер шевелит белокурые волосы, выбивающиеся из-под щегольской фуражки на широкий лоб. Большие серые глаза то вспыхивают от какой-то мелькнувшей мысли, то обращаются в щелочки, и тогда на юношески розовых щеках играют желваки. В этом человеке угадывается огромная энергия. Он чем-то напоминал и Рождественского, бравшего Андрея на миноносец, и Ашенбреннера, пехотного офицера, с которым встречался еще весной в Одессе. Ах да, Михаил Ашенбреннер, ведь он тогда собирался уходить из армии, двинуться в народ. Андрей отсоветовал, они даже поспорили.
— В вашем чине в полку вы принесете больше пользы делу…
Понял ли он, о чем думал Желябов? Наверное, понял. Революционерам необходимо опереться на армию! Собственно, сегодняшняя «бездумная» поездка за город тоже имеет определенную цель.
— Идемте, Суханов, здесь слишком ветрено. — Желябов двинулся в глубь леса.
Суханов пошел за ним. Он недавно сумел перевестись с Дальнего Востока в Петербург, где жила его сестра. Служба на Востоке принесла много неприятностей. В Сибирской флотилии Суханов служил ревизором на паровой шхуне. Он и раньше слышал о казнокрадстве в армии и на флоте, но столкнулся с ним воочию только здесь. Командиры судов крали сами при помощи русских консулов в Китае и совместно с поставщиками угля и продовольствия. Действительные и справочные цены на уголь разнились, эту разницу командиры судов клали в карман, консулы заверяли «подлинность» счетов.
Суханов ринулся в бой против казнокрадов. Их судили, осудили — и «высочайше простили». Суханова же стали бойкотировать на кораблях, списали в береговую службу и отделались от него, сплавив в Петербург. Желябов свернул на едва заметную дорожку, прошел несколько шагов и оглянулся.
— Николай Евгеньевич, я очень благодарен вам за чудесную прогулку. Признаться, не часто удается выбраться к морю. Лес я не люблю, вырос в степях. Но в лесу лучше разговаривать о делах. Надеюсь, вы пригласили меня не только для того, чтобы любоваться природой.
— Да, да, я давно собираюсь сказать вам, что группа морских офицеров сочувственно относится к той борьбе, которую вы начали. И я уверен, что многие готовы принять в ней деятельное участие, но не знают, как и где применить свои силы. Помогите им.
Желябов отозвался не сразу. Уж очень откровенно Суханов обращался к нему. Откуда он знает, что Андрей состоит в партии, является одним из ее руководителей?
Андрей Иванович припомнил несколько встреч с Сухановым. Познакомились у его сестры — Ольги Зотовой. С ее мужем Желябов давно знаком еще по Одессе. Но потом потерял его из виду. Оказалось, Зотова выслали в Сибирь. Ольга оставалась в Петербурге, всегда радушно встречала знакомых мужа, догадываясь, что они живут под чужими фамилиями. Никогда не выспрашивала, кормила, оставляла в случае необходимости ночевать. Много рассказывала о брате, его злоключениях. Судя по ее словам, Николай Суханов глубоко честный и бескорыстный человек, прямодушен, правдив до удивления.
Если все это так, то просто непонятно, как такая личность, чистая, подобно прозрачному кристаллу, могла сложиться среди окружающей лжи, обмана, лицемерия?
Наблюдая за Сухановым, Желябов убеждался, что лейтенант мягок, добр и имеет большую склонность к научному творчеству.
Андрей колебался. Суханов притягивал к себе. Но какое место может занять этот лейтенант в партийном подполье?
— Николай Евгеньевич, мне кажется, вы преувеличиваете мои возможности и мои связи с революционерами. Рассуждая отвлеченно, я, конечно, понимаю, сколь ценным приобретением для их партии были бы морские офицеры, хорошо знающие военное дело, влияющие на матросов и тому подобное… Но вряд ли нужно сводить их со мной, я, право, не окажу им желаемой помощи.
Суханов чувствовал недоговоренность в словах Желябова. Неспособный на компромиссы, чуждый тонкостям дипломатии, Николай Евгеньевич понял недосказанное как недоверие, хотя на деле это была просто осторожность.
Всю дорогу молчали. Суханов сидел мрачный, делал вид, что заинтересован сменой пейзажа за окном вагона. Желябов думал, изредка поглядывая на своего спутника.
Зачем торопить события? Такие люди, как этот лейтенант, должны прийти в партию, стряхнув с себя личину мирных иллюзий. Они просто добрые, а партии нужны озлобившиеся в своей доброте; они чувствительные, партия нуждается только в чутких, отзывчивых к ее делам. Впрочем, он преувеличивает и, пожалуй, злится на самого себя. Сколько раз давал себе слово привлекать людей после тщательной проверки, а по-прежнему строит свои отношения на интуиции. Интуиция подсказывает: Суханов — наш, опыт диктует: проверь.
Градоначальство и Третье отделение жили в вечном соперничестве. В распоряжении градоначальства имелась своя сеть тайных шпионов, у Третьего отделения — своя. Но усилия их были направлены к достижению одной цели — выследить и обезвредить. И они следили, неутомимо, неумело, но с добросовестностью холопов, страшащихся как своих хозяев, так и тех, кого выслеживали.
В конце октября 1879 года в кабинете градоначальника необычное сборище: тайные осведомители, штатные агенты, приставы полиции. Никто из них не знает, почему их пригласили, с опаской поглядывают друг на друга, волнуются, вспоминают все свои явные и скрытые прегрешения. «Пауки» выделяются даже и без гороховых пальто — темные костюмы сидят на них, как мундиры, без единой складочки, но страшно неуклюже, щеки выбриты до синевы, усы у всех подстрижены по ранжиру, как будто над ними потрудился один и тот же цирюльник.
Градоначальник входит хмурый. Он зол на подчиненных, зол и на Третье отделение. В руках у него газета. Нетерпеливым движением он похлопывает ею по ладони, потом отбрасывает. Агенты, выпучив глаза от удивления, читают: «Народная воля».
Вот оно что! Без слов ясно, зачем их собрали сегодня: бунтовщики и нигилисты успели-таки выпустить свою газету — значит, начальство прикажет разыскать типографию.
А может быть, они издают ее за границей? Градоначальник тоже так думал, но новый шеф жандармов Дрентельн сообщил, что комиссия экспертов, изучавшая первый номер «Народной воли», пришла к выводу, что газета издается здесь, в Петербурге, только бумага заграничная. Градоначальник и в этом не уверен, он беседовал уже со специалистами, и один из них твердо заявил, что бумага отечественная, та, которую продают большими листами на почте, только смутьяны ее зачем-то смачивают в воде.
— Господа! Вы не находите, что зря получаете жалованье?
Обращение столь необычно, что в зале невольно прокатывается неясный гул возмущения.
— Да, да, вам напрасно платят деньги! Посмотрите, сколько вас! Весь город вами заселен, а террористы у нас под носом основали типографию и выпустили вот этакую мерзость. Я сейчас еду с докладом к министру. Как мне глядеть ему в глаза? Наш святой долг немедля выследить и уничтожить типографию. Предупреждаю, если подпольная типография будет открыта без вашего участия, то те, у кого в участке ее обнаружат, пускай пеняют на себя… Церемониться я не буду. Отныне город разбивается на квадраты, в каждом свой агент. Мой помощник сообщит, кто в каком квадрате. Остальные денно и нощно должны обходить дома. Не забудьте, что печатный станок издает характерный шум, прислушивайтесь, глядите в оба, дворников предупредите. Спрошу с каждого. Ясно? Можете быть свободными. Поиски начались.
А она была рядом, по Саперному переулку, в доме № 10. Трудно было отыскать этот дом, еще труднее найти в нем квартиру № 9. Если даже войти во двор и стать у самого забора, то невозможно разглядеть окна этой квартиры, они видны только с крыши какого-то строения, примостившегося напротив.
Это учел Александр Михайлов, когда нанимал помещение для своего доброго знакомого, «отставного канцелярского служителя» Луки Афанасьевича Лысенко.
Лысенко и его жена переехали сюда 22 августа 1879 года. Их багаж едва уместился на двух ломовых телегах. Старший дворник радовался прибытию новых жильцов. Они производили впечатление людей солидных, тихих, с достатком.
Желябову не терпелось побывать здесь. После ареста Квятковского и типографские связи отчасти ложились на Андрея Ивановича.
Четыре просторные комнаты, два выхода, стенные шкафы. Мебель самая необходимая — стол, стулья, кровати, диваны. Комнаты тщательно выметены, легкий сквозняк гуляет от окна к окну.
Здесь всегда готовы к неожиданному визиту дворника или домохозяина.
Но если в стенные шкафы легко припрятать типографские принадлежности, то куда девать Цукермана и Лубкина? Они живут без прописки. Лейзер Цукерман в прошлом типографский рабочий, человек необычайно живой, балагур. «Птаха», как прозвали Сергея Лубкина за его высокий, как бы птичий, голос, был наследственным типографщиком революционного подполья, раньше он вместе с Грязновой, игравшей теперь роль прислуги, работал в типографии «Земли и воли».
Хозяин квартиры Николай Бух и его «жена» Софья Иванова в противоположность типографской молодежи были молчаливы и даже немного грустны.
Жили как в монастыре, по неделям не выходя из комнат. Никакой переписки, никаких театров, концертов, собраний.
Станок, наборная касса были так хорошо замаскированы, что в квартиру еженедельно приглашали полотеров.
Станок работал бесшумно. Типография служила и «карантином» для тех членов партии, которым необходимо было отсидеться неделю-другую, не показываясь на улицах города.
Здесь поместили и Морозова с Ольгой Любатович после их удачного ухода от полиции. Как были рады типографщики приезду гостей! Пошли споры, разговоры, заметно улучшились обеды — Любатович была большой кулинаркой.
Суханов не вспоминал о поездке на взморье. Андрей убеждался, что привлечь Николая Евгеньевича в партию необходимо. За ним потянутся и другие. Но Суханова отпугивал террор, он надеялся на мирные средства искоренения зла.
Желябов убеждал, доказывал неизбежность решительной борьбы с оружием в руках. У Андрея уже не было сомнений в преданности Суханова, и он первый напомнил ему разговор в лесу. И как-то поздней-поздней осенью предложил организовать встречу с кружком офицеров.
Обрадованный возможностью свести своих товарищей с членами таинственного Исполнительного комитета, Суханов [растерялся — кого пригласить? Хотелось всех друзей. Но прежде всего Штромберга, Серебрякова, Завалишина. Суханов ручался за них тем более, что Штромберг, видимо, еще ранее познакомился с народовольцами, хотя и скрывал это от товарищей. Придут, конечно, и другие: Разумов, Юнг, Гласко.
Свидание назначили на ближайшее воскресенье.
Эспер Серебряков проснулся в это утро раньше обычного, хотя хорошо спалось в отчем доме. Отец, действительный статский советник, правительственный инженер при Санкт-Петербургско-Варшавской железной дороге, жил на широкую ногу. Дом чопорный, но хлебосольный. Обставлен по последней моде, с претензией, но не всегда со вкусом. Эспер сладко потянулся и хотел, как всегда, составить план проведения свободного дня, как вдруг вспомнил: сегодня он обедает у Суханова. Будут, как любит выражаться Николай, «интересные люди». Может быть, Суханов именно сегодня выполнит свое обещание и сведет его с членами «Народной воли». Серебряков быстро оделся. Китель, фуражка, шинель — лишнее, скромная пара штатского костюма, в правый карман брюк — револьвер. Нет, это мальчишество.
Время до обеда тянулось медленно. Эспер пытался чем-либо заняться, но сосредоточиться не мог. Едва стрелки подобрались к четырем, он выскочил из дому и торопливо пошел, стараясь немного проветрить возбужденную голову, успокоиться.
Вестовой-татарин открыл дверь, принял пальто, и все это с доброжелательно-глупой улыбкой. Квартира Суханова была тесной или таковой показалась. Серебряков не ожидал встретить стольких товарищей сразу и, пожимая каждому руку, с удивлением отмечал про себя: «Ужели и этот?..»
Николай Евгеньевич представил Серебрякова двум штатским, назвав одного Андреем, другого Глебом. Оба молча поклонились и тотчас продолжили разговор на какую-то общую тему. В комнате чувствовалось напряжение и ощущалось неудобство. Суханов ничего не замечал и сияющий переходил от одного гостя к другому, прислушивался, кивал головой и шел дальше.
Серебряков забился в угол, не принимая участия в разговоре, но не сводил глаз со штатских, силясь отгадать, кто из двух член Исполнительного комитета. На меньшее он не был согласен. Да и вряд ли Суханов собрал бы этот цвет флотской молодежи для встречи с какими-либо третьестепенными народовольцами.
Андрей был очень красив. Серебряков мог хорошо его представить на сцене или в адвокатском кресле, но воображение отказывалось поместить Андрея в полусвет подполья. Хотя Эспер невольно улыбнулся: что он знает о подполье и почему в нем царит мрак? Ведь сейчас квартира Суханова обрела значение конспиративной явки, а в ней светло, хотя и не слишком-то уютно.
Глеб был значительно ниже своего товарища и так зарос черной бородищей, что на лице едва различался кончик носа, но зато сквозь поросль волос светились проницательные и еще более черные, с влажным блеском глаза. Вот этот скорее подходит к традиционному облику «злодея», с ним столкнешься в темном переулке — помянешь всех угодничков.
— Господа, эта комната имеет две капитальные стены, две другие ведут в мою же квартиру; мой вестовой — татарин, почти ни слова не понимает по-русски, а потому нескромных ушей нам бояться нечего, и мы можем приступить к делу. — Суханов озабоченно повернулся к Андрею и с задушевностью старого знакомого попросил: — Ну, Андрей, начинай!
Андрей встал, привычным жестом откинул со лба волосы и очень просто, но с внутренним напряжением бросил в кружок собравшихся:
— Так как Николай Евгеньевич передал мне, что вы, господа, интересуетесь программой и деятельностью нашей партии, борющейся с правительством, то я постараюсь познакомить вас с той и другой как умею; мы, террористы-революционеры, требуем следующего…
В комнате ощутилось легкое движение. Эспер почувствовал, как вздрогнул его сосед. По тому, как многие недоуменно посмотрели друг на друга, Серебряков понял, что они не были подготовлены услышать подобную смелую речь. И в этом Эспер узнал Суханова — кроме него да еще двух-трех близких друзей, Николай сообщил остальным только: «Приходите ко мне, у меня хороший человек будет», — и никаких объяснений. Значит, они и не подозревают, с кем имеют дело, привыкли в своем кругу фрондировать, патетически рассуждать о революции, но все в известных рамках, в корректной форме, а тут «мы, террористы-революционеры»…
Это не была заранее подготовленная речь. Блестящий экспромт, захвативший и слушателей и говорившего. Логика мыслей подкреплялась образами, неожиданным выпадом острых сравнений. Убежденность оратора в правоте сказанного была столь велика, что она парализовала аудиторию, ее способность к критическому восприятию, воздействовала не на мысли, а на эмоции.
Желябов чувствовал, как его самого подхватил бурный поток вдохновения, и стало легко, радостно, слова обретали плоть.
Он говорит о партии и критикует правительство, рисует картину неизбежной революции и зовет в ряды бойцов, объясняет программу и отстаивает необходимость централизованного террора.
Серебряков весь подался вперед, он не чувствовал боли сжатых кулаков, тело напряглось, как перед прыжком. Кто-то сжимал ему плечо, на своем затылке он ощущал горячее дыхание соседа. Войди сейчас посторонний человек, он бы не поверил, что всего час назад эти люди не думали о политике, революции, а некоторые даже отрицательно относились к ней.
Желябов угадывал: позови он всех на любое предприятие, и все пойдут сейчас за ним. Но знал, что делать этого нельзя. Завтра наступит тяжелое похмелье, и большинство офицеров с ужасом вспомнит о сегодняшнем вечере. Обещания, которые они могут дать сегодня, только оттолкнут их от партии завтра, и вообще обещания в заговорщическом деле играют ничтожную, формальную роль.
Желябов кончил. Несколько минут продолжала стоять тишина. Потом заговорили все разом, в беспорядочных страстных выкриках слышались смелые предложения, любой архиреволюционный план тут же находил убежденных сторонников и тут же опровергался новым, еще более архиреволюционным.
Андрей Иванович с удовлетворением отметил, что даже Суханов, пусть только на этот вечер, но забыл свои вечные колебания, страх перед политическим террором и горячо ратует за него, может сам того еще не сознавая.
Андрей понял, что для первого раза он сделал достаточно. Кивнув Глебу, Желябов тихонько вышел в переднюю, натянул пальто и исчез. За ним незамеченным ушел и Глеб — под этой кличкой скрывался Колодкевич.
Набирался третий номер «Народной воли». В нем публиковалась программа Исполнительного комитета.
Споры о программе начались давно, когда еще террористы седлали железную дорогу. Они возобновились после ареста Квятковского, но были непродолжительны, так как большинство членов Исполнительного комитета не могли принять в спорах участия. Этим воспользовался Тихомиров. Вместе с Оловенниковой-Ошаниной он составил текст новой программы. Учитывая, что многие члены Исполнительного комитета, ранее почти не скомпрометированные в глазах правительства, теперь оговорены Гольденбергом и вынуждены менять паспорта, квартиры, заметать следы, он не стал созывать собраний, а обходил каждого и уговаривал подать свой голос за новую программу. Одни, как Анна Корба и Михаил Грачевский, недавно принятые в Исполнительный комитет, очень смутно представляли Липецкую программу, другие, занятые текущей работой, из чувства товарищества подписывали тихомировский проект. Так он заручился большинством голосов.
Поведение Тихомирова прежде всего возмутило Ольгу Любатович и Николая Морозова — одного из авторов Липецкой программы. Направив письмо в Исполнительный комитет с резким протестом, они поспешили покинуть свой «типографский плен», обзавестись новыми паспортами и новой квартирой, чтобы добиться обсуждения программы, а также поведения Тихомирова.
Обсуждали несколько раз и не столько программу, сколько действия Тихомирова. Решили пополнить распорядительную комиссию женщиной, чтобы «смягчить нравы». Единогласно избрали Перовскую. Желябов особенно активно отстаивал эту кандидатуру.
А программу уже набирали, спешили к Новому году.
ПРОГРАММА ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
А
По основным своим убеждениям мы — социалисты и народники… Народное благо и народная воля — два наших священнейших и неразрывно связанных принципа…
Б
Над закованным в цепи народом мы замечаем облегающие его слои эксплуататоров, создаваемых и защищаемых государством.
Мы замечаем, что это государство составляет крупнейшую в стране капиталистическую силу, что оно же составляет единственного политического притеснителя народа, что благодаря ему только могут существовать мелкие хищники.
Мы видим, что этот государственно-буржуазный нарост держится исключительно насилием…
Мы видим совершенное отсутствие народной санкции этой произвольной и насильственной власти…
В самом народе мы видим еще живыми, хотя всячески подавленными, его старые, традиционные принципы: право народа на землю, общинное и местное самоуправление, зачатки федерального устройства, свобода совести, слова…»
В разделе «В» говорилось, что необходимо передать власть народу, что «народная воля была бы достаточно хорошо высказана и проведена Учредительным собранием, избранным свободно всеобщей подачей голосов, при инструкции от избирателей…»
Г
Подчиняясь вполне народной воле, мы тем не менее, как партия, сочтем долгом явиться перед народом со своей программой.
Эта программа следующая:
1. Постоянное народное представительство, составленное свободно, всеобщей подачей голосов, имеющее полную власть во всех общегосударственных вопросах.
2. Широкое областное самоуправление, обеспеченное выборностью всех должностей, самостоятельностью меры и экономическою независимостью народа.
3. Самостоятельность мер как экономической, так и административной единицы.
4. Принадлежность земли народу.
5. Система мер, имеющих передать в руки рабочих все заводы и фабрики.
6. Полная свобода совести, слова, печати, сходок, ассоциаций и избирательной агитации.
7. Всеобщее избирательное право без сословных и имущественных ограничений.
8. Замена постоянной армии территориальной».
Раздел «Д» говорил о необходимости широкой пропаганды целей партии во всех слоях населения; причем идея демократического и политического переворота мыслилась как средство для достижения «социальной реформы».
Говорилось здесь и о терроре, который направлен против «наиболее вредных лиц из правительства, итионов» и «имеет своей целью подорвать обаяние правительственной силы, давать непрерывное доказательство возможности борьбы против правительства, поднимать таким образом революционный дух народа и веру в успех дела и, наконец, формировать годные и привычные к бою силы».
Сказали и о народе, его участии в революционной борьбе: «Главная задача партии в народе — подготовить его содействие перевороту и возможности успешной борьбы на выборах после переворота».
Но в народ верили плохо: «Ввиду придавленности народа, ввиду того, что правительство частыми усмирениями может очень надолго сдерживать общее революционное движение, партия должна взять на себя почин самого переворота, а не дожидаться того момента, когда народ будет в состоянии обойтись без нее».
Эта программа начисто отвергала старые бакунистские принципы анархизма, безгосударственности, отрицала она и программу Липецкого съезда.
В Липецке никто открыто не говорил о необходимости захвата власти заговорщиками. Тогда надеялись, что террористическая борьба дезорганизует правительство, заставит его предоставить народу право свободно выразить свою волю и переустроить расшатавшуюся экономическую и политическую жизнь на новых, самим народом выношенных началах «справедливости, равенства и свободы».
Новая программа делала ставку на политический заговор, захват власти Исполнительным комитетом, декларирование народу конституции, а затем уже созыв Учредительного собрания и передача власти в руки народа.
Программа исправила ошибки старых народнических документов, замазав такую брешь, как отказ от политической борьбы. Но, исправляя старые ошибки, новая программа создавала и новые огрехи. Это было неизбежно, так как основой ее были все те же теории не научного, а утопического социализма.
Бланкизм, который усердно пропагандировал редактор «Набата» Ткачев еще в начале 70-х годов, нашел свое воплощение в программе «Народной воли» в начале 80-х. Он сужал рамки революционной борьбы, и авторы программы это чувствовали. Они старались успокоить себя тем, что провозгласили Учредительное собрание, и выразили уверенность, что девяносто процентов депутатов этого собрания явятся сторонниками социальной революции.
Это была старая догма «народной самобытности», возведенная в абсолют.
Действительно, старые народники, веря в самобытность «истинного социалиста» — крестьянина, все же находили, что с ним еще нужно поработать, просветить его «социалистическую душу».
Новая программа народовольцев отрицала необходимость такой работы — ведь девяносто процентов депутатов будут сочувствовать социальной революции. А этого более чем достаточно.
Значит, главное — захватить власть. Ну, а вдруг?
Это «вдруг» не выходило из головы Желябова и других членов Исполнительного комитета. Что, если задуманный захват власти не удастся, если заговор будет открыт или даже Исполнительный комитет сумеет взять власть, но не удержит ее и будет свергнут какой-либо либеральный партией? Что выиграет от этого русский народ? Он только проиграет, и много проиграет. Либералы создадут сильное буржуазное правительство, с которым бороться будет куда труднее, чем с «нелепо абсолютной» монархией. И пока революционеры будут с ними воевать, капиталистическое развитие, поддержанное политически сверху, сделает свое дело, разрушит общину, и не останется фундамента для «социалистического преобразования».
Желябова пытались уверить, что захват власти временным революционным правительством — это только крайняя мера на тот случай, если народ не подымется на революцию. И хотя в программе не было об этом сказано прямо, все же захват власти «Народной волей» грозил подменить диктатуру класса диктатурой группы революционеров-интеллигентов.
Опять всплывал тот же наболевший вопрос о партии.
«Народную волю» называли партией, народовольцы верили, что они являются передовым отрядом класса крестьян. Но на деле это было не так.
«Народная воля» только выражала интересы крестьянства, но не была передовым отрядом этого класса. Поэтому «Народная воля» в своей программе не уделила классу крестьян должного внимания.
Развивая идеи программы в передовых статьях своего органа, в специально изданном в 1880 году документе «Подготовительная работа партии», «Народная воля» утверждала, что организация крестьянских масс, по крайней мере в настоящее время, — фантазия, что партия должна опираться на городских рабочих, войско, и не на солдат, а на офицеров. Учитывались и либералы, надеялись, что их интересы и интересы партии в борьбе с абсолютизмом совпадают.
Все кто угодно, но не крестьяне. А почему? Народовольцы чувствовали, что крестьянин не может быть центральной фигурой, двигателем революционной борьбы. Но и за пролетариатом они эту роль не признавали, по инерции продолжая говорить о крестьянском социализме.
Народничество, в том числе и народовольчество, являлось прогрессивной теорией «массовой мелкобуржуазной борьбы капитализма демократического против капитализма либерально-помещичьего, капитализма «американского» против капитализма «прусского» [В. И. Л е н и н, Соч., т. 16, стр. 102].
Не понимали народовольцы, авторы программы, и классовой сущности государства. Идея захвата власти группой заговорщиков была «пожеланием или фразой горсточки интеллигентов, а не неизбежным дальнейшим шагом развивающегося уже массового движения» [В. И. Л е н и н, Соч., т. 10, стр. 257].
Это были фикции. Ни грана научного социализма.
Но в них верили, и вера поддерживала героизм одиночек.
А он был беспримерный.
Клубок разматывался медленно. Нити путались, обрывались или сплетались в такой узелок, что трудно приходилось тем, кто пытался его развязать.
На сей раз ниточка, зацепившись за Квятковского, привела на Гончарную улицу, 7, где поблизости от Николаевского вокзала расположились меблированные комнаты.
В ночь на 4 декабря 1879 года в меблированной квартире из двух комнат, занимаемой Голубиновым (Сергеем Мартыновским), произвели обыск.
И вот теперь полицейский полковник разбирает трофеи. Ого, да в подведомственном ему паспортном отделе вряд ли сыщешь такое богатство: плакатные паспорта, открытый лист, свидетельства, аттестаты, указы, формулярные списки, вырезки из подлинных документов с подписями и печатями, печати, переведенные на кальку.
Вот проект указа об отставке бывшего учителя Чернышева, он написан карандашом. Точно такой же указ, только честь честью оформленный, нашли у Квятковского.
Паспортное бюро террористов. Это удача! Каждый документ — новая ниточка, новый распутанный узелок.
Среди груды бумаг черновой проект метрической выписки о бракосочетании отставного канцелярского служителя Луки Афанасьевича Лысенко с дворянкою Софией Михайловой-Рогатиной.
Интересно, может быть, они проживают в Петербурге?
Адресный стол подтвердил догадку. Да, Санкт-Петербург, Саперный переулок, дом № 10, кв. 9.
Исполняющему должность пристава 3-го участка Литейной части Миллеру было предложено нанести визит супругам Лысенко.
Утро 18 января 1880 года выдалось морозное. Сучья деревьев оделись белоснежной бахромой инея. Над городом стоял студеный туман.
Окно разрисовано причудливым узором, укрывающим комнату от непрошеных взоров.
Андрей уже четверть часа переступает с ноги на ногу, кружит по двору, подходит к окошку, вслушивается, кашляет, торопливо отбегает к деревянному сараю.
В окне никаких признаков жизни, а за морозными вышивками не видно, в каком углу стоит горшочек с геранью. Если в левом, то Андрею незачем мерзнуть в этакую стужу на дворе.
Но вот открылась форточка. Желябов с облегчением вздыхает, оглядывается и входит в дом.
Ольга Любатович только встала, а Морозов, не успев надеть пиджак, приткнулся к косяку двери:
— Как это произошло?
— Пока я не знаю. Кто-то навел полицию на след. Явились часов в двенадцать. Мне удалось поговорить с дворником, он в понятых был.
— Зачем ты рисковал так?
— А что делать? Нужно же было знать, какие бумаги попали в лапы полицейских.
— Ну?
А что говорить!.. Когда полиция позвонила, дворник слышал, как женский голос — это, вероятно, Иванова — крикнул: «Полиция! Жгите бумаги!» Потом из передней стали стрелять, поднялась стрельба и на черном ходу. Охранники пытались ворваться сразу с двух сторон. Пристав, его фамилия Миллер, нужно запомнить, сразу же струхнув, побежал в жандармские казармы за подкреплением. Дворник тоже спрятался и говорит, что слышал только звон бьющегося стекла. Ну, мне ясно стало — друзья о нас позаботились. Потом в окнах огонь было видно. Пожарных вызвали. Значит, они прямо на полу бумаги жгли. Когда из казарм прибежали жандармы, а из Литейной части пожарные, опять стрельба поднялась, хотя Иванова кричала, что они сдаются. Ворвалась свора, связали всех, избили, а в маленькой комнате нашли мертвого. Судя по описанию — Птаха. Дворник утверждает, что он дважды себе в висок стрелял: видно, первая пуля его не свалила…
Любатович плакала, не стыдясь слез. Сколько дней она вместе с Морозовым скрывалась в типографии, как сдружилась с ее замечательными, беззаветными работниками! Нет Птахи. А что ждет остальных?..
Морозов был обеспокоен безрассудной смелостью Андрея. Зачем тот расспрашивал дворника, а потом сразу побежал сюда, ведь могли проследить. Желябов успокоил Николая Александровича: дворник принял его за репортера, тем более что Андрей не забыл «позолотить» ему руку.
Нужно было устраивать новую типографию, нужно было торопить Халтурина.
В конце января из Зимнего дворца пришла тревожная весть: столяров собираются переводить из подвала в другое помещение. На Степана было страшно смотреть: он осунулся, сгорбился, глаза запали — динамит делал свое страшное дело.
Нужно немедленно рвать. Желябов и Исполнительный комитет не хотят больше слышать ни о каких отсрочках. Этак все пойдет насмарку, и все муки, которые претерпел Степан, будут напрасны.
Халтурин упорствовал. Если рвать, так наверняка. Все равно без жертв не обойдется, но динамита мало.
Теперь они встречались ежедневно. То на ходу, не разжимая губ, Халтурин бросал:
— Сегодня нельзя было…
То в трактире, у стойки, чокаясь стаканами:
— Сегодня не вышло…
Нервы были натянуты до предела. Исполнительный комитет замер, прислушиваясь, когда же, когда грянет взрыв.
Император всероссийский, божьей милостью повелитель одной шестой части мира, с удовольствием вспоминал о часах, проведенных у ног юной Катеньки Долгорукой. О, эти «глаза газели», они так много сулят!..
Карета подпрыгивала на ухабах. Царь любит быструю езду, но это уж слишком, а кучер гонит и гонит! Ах да, сегодня приезжает шурин — принц Александр Гессенский. Черт! Одно воспоминание о царице может испортить настроение на целую неделю. Врачи ее давно приговорили, придворные покинули, а она все живет и живет.
Карету качнуло. Царь схватился руками за бархатный подлокотник, за окном мелькнуло чье-то лицо, перекошенное гримасой испуга.
Какая скверная рожа! Нужно напомнить полицмейстеру Дворжицкому навести справки.
Вообще у доброй половины верноподданных «скверные рожи», а он-то для них старался. Рабство отменил, земства учредил, суды открыл. Они же стреляют в него! В Париже стрелял какой-то Безовский — поляк, а тут, в Петербурге, — Каракозов, Соловьев.
Александр дергает сонетку звонка. Кучер огревает кнутом и без того бешено скачущих лошадей.
В углу кареты жмется наперсник императорских забав князь Вяземский. У него тоже «скверная рожа». Александр начинает издеваться над ним. Вяземский молчит. Это приводит императора в бешенство. «Кроткое и мечтательное» лицо венценосца искажается злобой. Глубокий вздох, и «помазанник» смачно харкает в «скверную рожу» князя. Вяземский утирается. На глазах у Александра слезы. Еще минута, толчок кареты, и император лобызает верного холопа, молит о прощении.
Лошади стали.
Зимний сияет огнями. Принца еще нет. Это зли Александра. Он не привык опаздывать к обеду. Мария Александровна едва держится на ногах, но силится выдавить улыбку.
Наконец прибыл принц. Придворный этикет требует долгих церемоний, а императору не терпится сесть за стол. Принц тоже проголодался.
Караульные финляндцы салютуют по-ефрейторски.
Царь берет шурина под руку и делает широкий приглашающий жест. Следует страшный грохот, звон разбиваемой посуды, истошные крики обезумевших от боли людей, гаснут газовые бра… Придворные дамы от страха вопят, как базарные торговки, кто-то громко читает «Отче наш» вперемежку с проклятиями…
Часы показывали двадцать минут седьмого. Желябов уже собирался уйти с Дворцовой площади. Сегодня, 5 февраля, ждут принца, вокруг Зимнего свора «пауков», наряды полиции, жандармы. Не ровен час…
Халтурин вынырнул из толпы внезапно.
— Ну как?
— Готово!
Взрыв был приглушен толстыми стенами дворца. Сразу стало темно, тихо. Потом крики.
Желябов потащил Халтурина прочь. Степан упирался: он не может уйти, не узнав результатов. Андрею пришлось применить силу.
На Подьячевской, 37, Вера Фигнер уже поджидала их.
Халтурина знобило. Он беспокойно озирался по сторонам, прислушивался.
— Достаточно ли у вас оружия? Живой я не дамся!
Фигнер уложила Степана, у него был жар. Желябов ушел.
Через час стало известно, что убито восемь финляндцев, сорок восемь человек ранено.
Царь уцелел.
«Неудача, опять неудача!»
Даже в самых исключительных случаях Александр II соблюдал придворный этикет. Тем более были поражены его флигель-адъютанты, когда, прибыв во дворец на чрезвычайное совещание, обнаружили императора на пороге кабинета. Ему надлежало входить последним.
Как встревоженный призрак, маячил он в дверях, осипшим голосом осведомлялся о прибывших, каждого встречал, как раздраженный швейцар. Адъютанты растерялись. Министры оробели. И только генерал-губернаторы, зная, что наступил их час, величаво занимали места.
Советники исподтишка вытирают липкую испарину страха: они ничего не могут подсказать царю. Но молчать тоже нельзя. Лучше нападать на соседей, корить их за ошибки. Особенно достается министру двора. Адлерберг, отбиваясь, клеймит полицмейстера и градоначальника — в их распоряжении целые ведомства, а какой-то столяр у них под носом рванул царский дворец.
Граф Лорис-Меликов недавно допущен в это святилище. Граф может быть доволен. Кто-кто, а уж он никогда не попустительствовал революционерам, ни в Терской области, ни на посту генерал-губернатора. Эти «вершители судеб» империи слишком твердолобы и прямолинейны. Додумались: штатных шпионов одевают в гороховые пальто; так, видите ли, положено — в мундире нельзя, а без формы не годится. Нет, чтобы всех штатных повыгонять, а взять добровольных — кое-кого из литераторов, потом попов. Нельзя и кнутом все время стегать. Нужно иногда показать кусочек пряничка, да порумяней, ну, хотя бы намекнуть о совещательной комиссии выборных от земств.
Либералы растают, земцы такой торжествующий вой поднимут, что заглушат и взрывы и предсмертные стоны революционеров. А пока не утихнут крики и не воцарится минута благоговейного ожидания, всех террористов к ногтю. Вешать, вешать и поменьше ссылать… Но и тут нужна осмотрительность. Одного-двух помиловать, одному заменить плаху на каторгу, а семье — подачку. Газеты захлебнутся в славословии, и к голосу тех, кто зовет на борьбу с таким гуманным правительством, попросту не будут прислушиваться.
Лорис-Меликов говорил последним. Он ни на кого не нападал, даже не намекнул на печальные обстоятельства взрыва. И свой план облек в такие неуловимые формы, что никто не мог придраться — не к чему, ничего не сказано. Но всех убаюкивало. Царь смотрел просветленным взором. Под конец граф приберег основное требование — единство распорядительной власти. Нужен сильный человек с самыми обширными полномочиями и пользующийся полным доверием его императорского величества…
Александр перебил оратора:
— Этим человеком будете вы! — И указал на графа пальцем.
Новую типографию взялся основать Кибальчич. Вместе с Ивановской они сняли квартиру на тихой Подольской улице. Осторожно перетащили стальную раму с цинковым дном — она вполне заменяла станок. Неказисто, а пятьдесят-шестьдесят экземпляров листовок в час оттиснуть можно. Партия очень нуждалась в печатном слове, но только к концу мая все наладилось. Типография заработала.
Печатали, заткнув за пояс кинжалы, с револьверами в карманах, на подоконнике стояли метательные снаряды, изготовленные Кибальчичем. Здесь разместилась и его динамитная мастерская.
Желябов и Перовская иногда урывали время, чтобы заглянуть к типографским затворникам.
Каждый приход — праздник для типографистов. Особенно радовалась Лила Терентьева. Людмила знала Желябова еще по Одессе, была тайно влюблена в Андрея и каждый раз просила его дать ей место среди «действующих».
Перовская добровольно исполняла обязанность информатора. Не вылезая по неделям из типографии, Терентьева, Ивановская, Кибальчич только урывками читали газеты, а слухи и вовсе не проникали в это подпольное «святилище».
Андрей любил «поразмяться» на станке. Сбросив пиджак, он усердно накатывал валиком листок за листком, успевая за вечер отпечатать сотни экземпляров.
Но Андрей Иванович не частый гость. Его ждут и другие дела. Нужно создавать рабочие кружки, налаживать связь со студентами.
Кончилась зима. Предательство Гольденберга влекло за собой все новые и новые аресты. «Народной воле» не хватало людей, Желябов метался между террористическими предприятиями и организационной работой. Встречи с Сухановым были редкими, но по-прежнему теплыми. Андрей познакомил лейтенанта с Софьей Перовской.
Суханов переучивался в минных классах и был для Желябова живым справочником по всем вопросам, касающимся способов приготовления динамита, конструирования запалов для мин.
Часто в убогой квартирке Ольги Зотовой сходились моряки и народовольцы. Симпатии офицеров понемногу склонялись на сторону революционеров. Под влиянием бесед Желябова, Колодкевича, Перовской они убеждались в правоте идеалов «Народной воли», и прежде всего Суханов и барон Штромберг. Весельчак, умница, барон, перед которым были открыты все великосветские гостиные, потянулся в подполье. Российская действительность перевоспитала барона в революционера. Он быстро сошелся с Сухановым, расположил к себе Желябова, очаровал Колодкевича, пленил Перовскую. Андрей понял, что в лице Штромберга «Народная воля» обрела среди морских офицеров надежную опору.
Весной кронштадтский рейд оглашается гудками кораблей, уходящих в дальние плавания. Торопливые пожатия рук, последние напутствия, и вот уже лента серой морской воды разделяет корабли и берег. Ушел в море Суханов, где-то штормовал Штромберг, плавал Серебряков. Опустела квартира Зотовой. Желябов, Перовская строили новые планы покушений и ждали осени. Осенью они предпримут генеральный штурм.
Суханов, Штромберг, Серебряков, Завалишин должны быть среди революционеров.
Халтурин уезжал в Москву. Чахотка уже наложила на его лицо свои страшные отметки. Степан осунулся, пожелтел. Глаза лихорадочно блестели. Настроение было подавленное.
Желябов проводил Халтурина на вокзал, крепко обнял на прощание.
«Он еще вернется. Не нужно прощаться с ним навсегда». Но будет ли Андрей в этот день среди встречающих?
Каждая длительная разлука у таких людей может оказаться вечной. Халтурину не хотелось уезжать. Ведь он так и не довел начатое до конца. Царь жив!..
— А что было бы, если бы пятого февраля взрыв достиг цели?
Вопрос застает Желябова врасплох. Он только что думал о превратности судеб революционеров.
Халтурин и не ждет ответа. Просто сказал вслух то, что занимает его последнее время. На квартире Фигнер он научился говорить сам с собой.
…Желябов полусидит в постели, устало откинув голову на подушку. На одеяле раскрытая книга. А перед глазами — Халтурин, такой, каким Андрей видел его в последний раз.
Степан стоит на площадке вагона, машет рукой, и с каждым мгновением его лицо, фигура удаляются. Сверкнул лихорадочный блеск больных глаз, и Степан исчез, как будто его увез не поезд… унесла чахотка.
Вчера Андрей поздно явился с заседания кружка, устал. А сегодня опять к рабочим. Да, на рабочих большая надежда в грядущей революции. В день цареубийства они объявят забастовку, выйдут на улицы, закрепят успех террористов. Вчера он долго говорил об этом в кружке на Чугунном. Сам увлекся, стал рисовать картины будущего устройства общества на федеральных началах… И как слушали! Вот только один вопрос смутил его. Кто-то заметил, что рабочий должен делать революцию во имя крестьянского социализма. Он тогда посмеялся — ведь разночинцы, интеллигенты делают же!
А вот сейчас не смешно, и недаром он вспомнил Халтурина. Степан тоже революционер-социалист. А социализм понимает в духе западных социал-демократических партий. Так и записал в программе Северного союза. И организацию создавал исключительно рабочую, берег ее от народников. Вот только не уберег и сам не уберегся. А нужна ли рабочим своя партия? На Западе — да, необходима. А в России? Готовые формулы народовольческой программы подсказывали отношение к классам, учреждениям. Если в корне пресечь абсолютизм, то и буржуазии не станет, не станет крупной капиталистической промышленности, не будет расти и пролетариат. Тогда к чему создавать свою партию? Неправильные посылки приводили к ошибочному заключению: рабочие, конечно лучшие из них, должны войти в «Народную волю», организовать в ней свою группу и под руководством Исполнительного комитета включиться в борьбу интеллигентов.
Они могут пополнить ряды боевиков. Об этом сказано и в документах «Народной воли». Но как мало подходят эти люди труда к роли заговорщиков! Интеллигенты-революционеры действуют как профессионалы, живут нелегально и на средства организации, укрываются по конспиративным квартирам. А рабочие? Ну, положим, десяток-другой из них может перейти на нелегальное положение, как Халтурин; но тогда они уже перестанут быть рабочими, не будут все время вариться в фабричном котле. А ведь рабочие тем и хороши, что их много, что они все время общаются друг с другом. Значит, они должны по-прежнему трудиться по двенадцать-четырнадцать часов, жить в своих бараках, у всех на виду. Но тогда как организовать эту массу, подготовить ее?
Постепенно вырабатывался грандиозный план. И раньше народники вели работу с пролетариями, хотели создать себе посредников для общения с крестьянской массой, пропагандистов. Но теперь Желябову это кажется уже кустарщиной, какие-то там кружки!.. И даже не боевые отряды. Он мечтает о централизованной, хорошо законспирированной и широко разветвленной организации. Она ему мыслится в образе могучего дуба. Корни его глубоко ушли в землю — серую, еле грамотную массу рабочих. Им не нужно прятаться, жить нелегально. Для них — кружки элементарного обучения, читки, беседы вслух. Ствол — кружки социалистической пропаганды, это для более грамотных и проверенных на стойкость. Над всеми — верхушка исполина — руководители, они отбирают созревших для пропаганды рабочих, формируют отряды боевиков-террористов. У них своя газета, своя типография.
Исполнительный комитет одобрил план Желябова, но смог выделить для пропаганды только двадцать человек. Это очень мало, хотя люди энергичные — Перовская, Франжоли, Вера Фигнер.
Особенно Андрея обрадовало появление Франжоли. Последний раз они виделись после «процесса 193-х», когда собирались совместно обзавестись хутором в Крыму. Но Желябов уехал на баштан, а Франжоли схватила полиция и административно выслала на жительство в Сольвычегодск.
Там он женился на бывшей цюрихской медичке, участнице, как и он, «процесса 193-х» Евгении Завадской. И когда грянул взрыв в Зимнем дворце, они бежали из ссылки. Сначала в Казань, чтобы замести следы. Но в Казани кончились деньги, ни знакомых, ни адресов.
Франжоли пошел на риск. Явившись к зданию Казанского университета, он остановил первого показавшегося ему симпатичным студента и без утайки рассказал все. Студент не обманул доверия. Скоро Франжоли и Завадская ехали уже в Москву, а потом объявились в Петербурге. Но силы Франжоли были подорваны. Сказались прежде всего ушибы, полученные при его фантастическом побеге еще в канун «Большого процесса». Не многие бы решились выпрыгнуть на всем ходу поезда из окна уборной! Сначала его бросило на шпалы, потом ударился спиной о какой-то столбик, потерял сознание… Теперь Франжоли едва ходил.
Его влияние на людей было настолько заметно, что Желябов и не желал лучшего пропагандиста. Правда, пока еще не наладилась работа кружков на заводах, Исполнительный комитет послал Франжоли в Москву для восстановления ослабевшей организации. Но он вернется.
Пропаганду среди рабочих вели прежде всего студенты. Петербургский университет, Технологический и Горный институты поставляли основные кадры для столицы.
А на местах, где не было высших учебных заведений, к пропаганде привлекали учителей школ и гимназий, мелких чиновников из сочувствующих. Провинциальные группы «Народной воли», не имевшие сил вести сколько-нибудь успешную террористическую борьбу, всецело отдались пропаганде на фабриках и заводах.
Среди молодежи повсюду шли толки о революции. Многие студенты, не имея каких-либо связей с народовольцами, по собственному почину организовали рабочие кружки. Андрей считал, что это полезно и для рабочих и для студентов, ведь не все должны заниматься борьбой террористической. Да и террор весной 1880 года уже отступал на второй план. Организационная работа партии, подготовка народа к революционному перевороту — вот что сделалось главным объектом, на который были направлены усилия.
Нашлись новые помощники. Еще в прошлом году Александр Михайлов познакомился в Киеве со студентом университета Валентином Коковским и посоветовал ему перебраться в Петербург.
Теперь Коковский в столице. Михайлов порекомендовал его Желябову.
— Из этого мальчика может выработаться крупнейший деятель.
Присмотревшись, Андрей убедился, что Михайлов не ошибался. Это был умный организатор и пропагандист. Он свято верил в идеи партии, не знал компромиссов и был просто влюблен в рабочих. Но этот юноша при случае мог быть резким, и именно потому, что его почти никогда не видели таким, эта резкость действовала убеждающе.
Скоро Валентин сделался тенью Желябова.
Рабочий Петербург переживал тяжелую пору. Кончился весенний расцвет русского капитализма, на смену пришел кризис. Лопались акционерные общества, закрывались промышленные предприятия, десятки тысяч пролетариев оставались не у дел, бездомные, голодные, унылые и озлобленные.
Озлобленность и бездомность в любой момент могли вылиться в стихийный бунт; голод и уныние порождали страх у тех, кто еще работал. И некому было организовать эту стихию, направить дремлющие силы на борьбу политическую, борьбу за свои классовые интересы. Народовольческий террор отпугивал слабых и восхищал темпераментных, им казалось, что это преддверие революции.
Казалось это и Желябову. Неудачи только подхлестывали, а вера удесятеряла силы. Андрей нащупывал старые, затаившиеся кружки, до которых не добралась полиция, — на Обуховском, у Леснера. Желябова рабочие принимали как счастливую находку. Он всегда готов делиться с ними мыслями, книгами, последним куском хлеба. Рабочие знали его под кличкой «Тарас» и любили. Андрей тоже любил этих сильных, умных, рассудительных людей.
Так налаживалась рабочая организация. А Желябов уже мечтал о специальной типографии, которая будет выпускать газету для рабочих. Но были и другие заботы.
В начале апреля в Одессу уехали Саблин, Перовская, Исаев, Якимова, чтобы попытаться организовать там новое покушение на царя. Потом на юг направился Михайлов. Он должен был заехать и в Москву. С московской организацией по-прежнему не ладилось.
А тут еще из-за рубежа шли нерадостные вести. За границей среди народников, оторвавшихся от России, от практики революционной борьбы, шли нескончаемые потасовки. Обвинения на народовольцев, и в частности на Желябова, сыпались градом. Чего только им не приписывали: и либерализм и отказ от классовой борьбы! На этот счет особенно старались чернопередельцы, противопоставляя классовую борьбу борьбе политической.
Только «аграрный террор» — вот предел политики, все остальные требования — отказ от классовой борьбы.
За границей был и Драгоманов. Желябов не переставал следить за его литературной деятельностью. Исполнительному комитету казалось, что Драгоманов очень близко по своим взглядам стоит к идеям программы «Народной воли».
С другой стороны, и чернопередельцы считают его своим единомышленником. Лавров готов совместно с ним издавать сборники социалистического содержания.
Было бы неплохо, если бы Драгоманов взял на себя защиту за границей идей революционного движения в России.
За рубежом и Кравчинский и Морозов, много бакунистов, но остановились пока на Драгоманове. Андрей должен написать ему письмо, ведь он знаком с ним давно.
Андрей охотно выполнил поручение, хотя изложил в письме идеи «Народной воли» немного по-своему, по-желябовски.
В этом письме были и обзор главнейших программных пунктов, и доза лирических воспоминаний о «славном времени» их встреч в Киеве и Одессе, и деловые предложения участвовать в изданиях «Народной воли», взять на себя представительство ее интересов за рубежом, а также хранение архива.
Драгоманов согласился только на хранение архива и литературное сотрудничество, но от представительства отказался наотрез. Политические убийства? Центризм в национальном вопросе? Он решительно против! Драгоманов был и остается украинофилом, и не к лицу ему представлять общерусское движение. Бывший глава «Громады» окончательно превращался в украинского националистического мещанина.
Представительство за границей поручили Льву Гартману.
Покушение, которое подготавливали в Одессе, сорвалось. Между тем Исаеву при опытах с динамитом оторвало несколько пальцев, задело и Якимову. Подкоп зарыли, Исаев и Якимова вернулись в столицу.
Неудачи следовали одна за другой.
Неудачи могли подкосить слабых, сильным же придавали силы и решимость довести задуманное до конца. Желябов оставался атаманом, но он не только умел командовать — умел и подчиняться. Смелая мысль товарища превращала Андрея из командира в рядового воина, он ценил инициативу соратников и охотно выполнял черновую работу.
Так было и на этот раз. Александра Михайлова еще до отъезда в Москву привлекал Каменный мост через Екатерининский канал. Блуждая по городу, отыскивая проходные дворы, укромные норы, удобные для конспиративных собраний квартиры, Михайлов несколько раз сталкивался с императорским экипажем, бешеным аллюром следующим с Царскосельского вокзала в Зимний дворец. И каждый раз самодержец проносился по Каменному мосту. Да и миновать его было невозможно. Сначала Михайлов не придавал этим наблюдениям особого значения, потом они стали его тревожить как навязчивая, но не сформировавшаяся идея. Поделился мыслями с товарищами. Возник план минировать мост и взорвать его при проезде царя.
Осуществление плана поручили Желябову. Андрей Иванович готов был сам усесться под аркой моста на ящике с динамитом и взорвать его вместе с собой. Исполнительный комитет отверг романтику и предложил внимательно изучить «поле боя».
С Невы тянет свежим ветерком, он приятно ласкает лицо, шаловливо похлопывает парусиновыми пузырями рубах по спине. В узком ущелье Екатерининского канала ветер не имеет силы, чтобы поднять волну, — так, барашки какие-то… С каждым ударом весла у борта лодки всхлипывает рассеченная рябь. Немного покачивает, Желябов гребет по-морски.
Андрей Пресняков, блаженно улыбаясь, щурится на теплое солнце. Баранников никак не может примоститься на узком сиденье и спрятать длинные ноги — он то и дело упирается коленями в спину Грачевского; тот беззлобно чертыхается.
Макар Тетерка сидит на руле. Лодка перегружена, неосторожное движение — и через борт переваливаются белые гребешки. Но вот показались угол Гороховой улицы и горбатый профиль моста. Желябов сушит весла. Медленно наплывает массивная арка. Пресняков привстал на сиденье и разглядывает добротную кладку покрытия. Желябов с сомнением чешет затылок. Грачевский свесился через борт и, заслонившись ладонью от солнца, силится разглядеть дно. Когда лодка вошла под свод моста, Грачевский выхватывает весло из уключины и резко опускает в воду. Весло не достает дна.
Вторая попытка в другом месте, и, наконец, дно… Но лодка уже миновала мост и тихо плывет мимо плота. На плоту прачечная. Несколько баб, подобрав подолы юбок, остервенело колотят белье. Лодка проходит дальше, потом описывает полукруг и снова ныряет под арку моста. Бабам показалось, что непрошеные кавалеры специально крейсируют мимо плота, чтобы полюбоваться их не совсем скромным видом. Слышится задорный смех, доносятся соленые словечки.
Вечером Желябов теребил Исаева, требуя от него точного подсчета пудов динамита.
— Считай, считай, Григорий, чтобы без ошибки, а то повторится история с Зимним.
— Не приставай, сосчитаю, дело нехитрое, если точно укажешь, куда будет заложен динамит, толщину арки моста, прочность камня, из которого он сложен.
К удивлению Исаева, Желябов быстро называет цифры.
— Куда динамит-то закладывать будем? Неожиданно отвечает Грачевский:
— На дно.
— На дно?
— А куда же еще? Я хотел бы посмотреть, как кто-либо возьмется заложить его в мост… Там камень к камню, не вытащишь, не продолбишь. А подвешивать нельзя: враз заметят, снимут…
Исаев считает, пересчитывает, разводит руками, снова покрывает бумагу полосками цифр.
Кибальчич молча протягивает Желябову листок. На нем написано: «Семь пудов».
Через несколько дней Желябов предупредил Тетерку, что тот должен зайти на квартиру по Троицкой улице и спросить «подушку». Тетерка явился по адресу, и Исаев вручил ему корзинку с чем-то завернутым в рогожу, очень тяжелым.
Корзинка весила не менее двух пудов, а то и с гаком. Тетерка свез ее в Петровский парк. Там его уже дожидались Желябов и Пресняков. Взяли лодку и отправились на взморье.
На дне лодки Тетерка разглядел какую-то странную подушку из черной гуттаперчи. Тем временем Пресняков извлек из корзины точно такую же.
Лодка вышла на взморье. Желябов связал подушки между собой веревками, Пресняков приладил проволоку. Затем вошли в Фонтанку и по Крюкову каналу выплыли в Екатерининский.
Около Каменного моста Желябов быстро сбросил подушки в воду. Тетерка чуть было не прыгнул за ними, думая, что Андрей Иванович нечаянно выронил этот странный груз. Но Пресняков оттащил Макара от борта. В руках Желябова Тетерка разглядел провода и конец веревки.
Лодка причалила к плоту с прачечной. Пусто, прачки ушли обедать. Желябов подвязал провода к нижней части плота, а концы загнул, чтобы они скрылись в воде. Тетерка успел заметить, что там был еще один провод, видимо подведенный раньше, возможно ночью.
Пресняков внимательно наблюдал за городовым. Тот лениво прохаживался в тени углового здания. Стражу было душно, глаза слипались. Какое ему дело до лодочников на канале! Вот Гороховая — тут держи ухо востро, гляди в оба — поди, царская улица!
Лодка отчалила. На середине реки Тетерка узнал, что в гуттаперчевых подушках, а их всего четыре, семь пудов динамита. Они соединены проволокой. И если подключить электрическую батарею, то мост взлетит к черту.
Здорово!
Желябов предложил: в день и час, когда царь из Царского Села поедет через Петербург в Ливадию, они встретятся с Макаром у Чернышева моста и пойдут на плот. Тетерка принесет с собой корзину с картофелем, Желябов тоже захватит кошелку — в ней будет батарея. Хотя вид у него не совсем подходящий для того, чтобы сидеть на плоту и мыть картошку.
Несколько раз в ночь на 17 августа Тетерка вскакивал и проверял, цела ли корзина. Она спокойно стояла в углу, драная, доверху наполненная грязной-прегрязной картошкой. Отдельные клубни даже проросли.
Спавший беспокойно всю ночь Макар под утро утихомирился. А когда проснулся, с ужасом вспомнил, что часов-то у него нет! Забыл попросить у Андрея Ивановича!
Тетерка выглянул в окно. Как на грех, день выдался пасмурный, солнца не разглядеть, но на улице почти не видно народу. Хотя это может означать, что уже слишком поздно.
«Который час? Который час?»
Спросить не у кого, разве что у городового. Нет, заберет еще, ведь сегодня вся полиция, все шпики с утра приглядываются к «верноподданным».
Идти сразу к Чернышеву мосту? А вдруг еще рано, вот и околачивайся около. Наверняка загребут…
Тетерка не спеша, но встревоженный до предела, выбрался из дому.
А когда дошел до банка и глянул на часы, у него похолодело внутри: опоздал!
…Царь проскакал, и не догнать его теперь. Ужели Макара схватили?
Вид у Тетерки виноватый, взмыленный. Часы, обыкновенные, карманные, пусть дедовская луковица! Их не было у рабочего Тетерки! Это спасло царя.
Через несколько дней Василий Меркулов, уехавший из Одессы вместе с Исаевым и Перовской, явился на явку близ Михайловского сада. Вскоре подъехали на лодке Желябов, Тетерка и Баранников. Тетерка шепнул, что они только что ездили извлекать динамит со дна канала, но не нашли.
Меркулов ничего не ответил. В последнее время его начали страшить народовольцы, и он проклинал тот день, когда встретился с Желябовым. Но положение безвыходное. Чтобы донести властям, нужно знать побольше, иначе в два счета вздернут, но и «эти» ничего не должны заподозрить — убьют.
Лучше подождать, посмотреть, чья возьмет. А если арестуют? Нет, тогда он не будет молчать, расскажет все, поможет выловить крамольников и тем самым «выкупит» веревку.
А ведь он раньше слышал об этом предприятии под мостом. При нем говорят многое, ему доверяют. Болтали, что неплохо было бы метальщиков с бомбами у моста поставить, а у Михайлова бомба должна быть вделана в высокую шляпу. Бросит ее вверх, как бы приветствуя государя императора, а царь и бывай таков!..
Может, шутили? Кто их знает…
Голод, голод, голод! Вот кто сейчас правит страной!
Об этом молчат газеты. Желябов отбрасывает одну, хватает другую.
Голод, эпидемии умерщвляют сотни тысяч людей при полном молчании образованного общества. В газетах пишут о пирах великосветских кутил, курят фимиам новым хозяевам жизни — денежным мешкам, сплетничают о похождениях актрис, а деревня умирает. Да разве они могут написать, что при освидетельствовании новобранцев пятая часть крестьянских сынов признается «негодной к службе в армии по состоянию здоровья»? Разве напишут в газете о том, что из крестьянских изб уползают клопы, — хозяева так отощали, что насекомые недоедают. Разве осмелится кто рассказать о деревенских хатах, стоящих без соломенных крыш, скормленных скоту, и о скотине, не имеющей силы встать на ноги от такой кормежки!
Кто поможет сельчанину, кто спасет от смерти его детей, которые забыли все слова, кроме одного, раздирающего сердце: «Хлеба!»?
Молчит правительство, молчат земцы, молчит и «Народная воля».
Желябов сжимает до боли в суставах кулаки, скрипит зубами. Он страшен в эту минуту. В родной Султановке крестьяне, чтобы не умереть с голоду, идут на преступления. Когда им грозят тюрьмой, они отвечают односложно: «Там кормят!»
Правительство и земцы не хотят оказать помощи. Если голодающему протянуть кусок хлеба, он не насытится этой подачкой, но поймет: у него нет хлеба, а у кого-то есть…
У партии нет хлеба, но она должна подсказать крестьянам, где он лежит, кто его ест и равнодушно взирает на кладбища умерших с голоду.
Голод — лучший пропагандист революции. Анна Павловна Прибылева-Корба, хозяйка комитетской квартиры, видела, как мучительны для Желябова новые и новые вести о народных страданиях. Он собирает их всюду: на улицах и базарах, по знакомым, и даже пытается достать официальные, но строго засекреченные отчеты.
Андрей ходил мрачный, неразговорчивый. Корба не знала, чем ему помочь.
В августе молчание газет было нарушено. Андрей понял, что если уж на страницы прессы прорвались сухие строки о голоде, значит деревенскую Русь охватил всеобщий мор.
Желябов попросил Корбу известить членов Исполнительного комитета, что он требует экстренного совещания.
Собрались на следующий день. Баранников, Колодкевич, Перовская, Фигнер догадывались, о чем пойдет речь. Остальные недоумевали.
Желябов пришел последним.
Андрей знал, что никто не произнесет ни слова, пока он не объяснит, зачем их созвал.
И он волновался — это было удивительно. Блестящий полемист и импровизатор, Андрей вдруг потерял дар слова. А ведь перед ним сидели друзья. Стоячий воротничок косоворотки оказался тесным, пальцы путались в петлях. Желябов с раздражением дернул воротник.
Глухим голосом, с паузами Андрей сказал:
— Если мы останемся в стороне в теперешнее время и не поможем народу свергнуть власть, которая его душит и не дает ему даже возможности жить, то мы потеряем всякое значение в глазах народа и никогда вновь его не приобретем. Крестьянство должно понять, что тот, кто самодержавно правит страной, ответствен за жизнь и за благосостояние населения, а отсюда вытекает право народа на восстание, если правительство, не будучи в состоянии его предохранить от голода, еще вдобавок отказывается помочь народу средствами государственной казны. Я сам отправлюсь в приволжские губернии и встану во главе крестьянского движения, Я чувствую в себе достаточно сил для такой задачи и надеюсь достигнуть того, что права народа на безбедное существование будут признаны правительством.
Я знаю, что вы поставите мне вопрос: а как быть с новым покушением, отказаться ли от него? И я вам отвечу: нет, ни в коем случае! Я только прошу у вас отсрочки.
Желябов сел, внимательно и тревожно всматриваясь в лица. Наступила минута гнетущего молчания. Никогда раньше Андрей так прямо и решительно не показывал товарищам живущую в нем тягу к народу, никогда раньше они не догадывались, как узок круг заговорщической деятельности для этого подлинного сына народа. Вскормленный крепостной деревней, он не забыл ее, уйдя в героический террор. И многие вспомнили слова, так часто повторяемые Андреем на диспутах в узком кругу: «Я покажу, что «Народная воля», занятая борьбой с правительством, будет работать и в народе».
Теперь настало время, и Желябов высказал свои сокровенные мысли — мечту стать народным предводителем. И у него для этого были все данные — данные крупного политического деятеля.
— Я против отсрочки!
Фигнер не стала объяснять почему, но высказала общую мысль. Только Перовская еще колебалась, ее увлекала перспектива народного восстания, так щедро, широким мазком нарисованная Андреем. Она будет с ним.
— Мы должны или воспользоваться благоприятными обстоятельствами теперешнего момента, или расстаться с мыслью о возможности снять голову с монархии, существующей только для угнетения и устрашения народа. — Баранников не любил и не умел говорить, но всегда остро чувствовал и улавливал общее настроение.
— Андрей, Андрей! — Исаев подошел к Желябову. — Мы не можем уже остановиться, сделать передышку. Отсрочка — это наша смерть. Ты ручаешься, что через полгода все здесь собравшиеся будут целы и невредимы? Нет. Следовательно, мы не можем быть уверены, что наш план будет выполнен.
Желябов опустил голову. Он умел подчиняться, но ему было невыразимо больно. Перовская предложила баллотировать вопрос, поставленный Желябовым. Но Андрей воспротивился. К чему, ведь всем ясен исход голосования.
Собрание кончилось, оставив в сердцах неизгладимую грусть. Все чувствовали, что сегодня были подрезаны крылья одному из самых выдающихся членов партии. Успокаивало только одно: Желябов с ними, а с ним ничего не страшно.
Его никто не выдвигал на руководящие должности. Все равны, все члены Исполкома, а если попались в лапы полиции, если ведется дознание — то просто агенты третьей степени.
Но как-то само собой получилось, что Желябов стал первым среди равных. Он не добивался этого первенства, да и не замечал его. И не потому, что был лишен честолюбия. Но все, что делал Андрей, все, о чем думал, посвящалось борьбе. Вне ее у него не было жизни. А делать он умел, умел и думать, думать логично, делать дерзко.
Его голос, его энергию знала вся подпольная Россия.
Но никогда он не подавлял товарищей, оставаясь единомышленником в большом и малом. Желябов умел убеждать, доказывать, вдохновлять. Некоторые называли его «чародеем», но верили безусловно, шли за ним, готовые на все.
В нем не было жертвенности. Жизнь он любил самозабвенно, хотя и знал, что обречен. Восхищение друзей было наградой за муки, ненависть врагов — гордостью бойца.
В часы величайших испытаний он никогда не терял мужества, в минуты неудач был молчалив, но не подавлен. «Что же делать? Примемся за исполнение следующей задачи». Эту следующую он решал с удвоенной энергией.
Он не знал усталости, никогда не отдыхал, а просто падал в обморок, хотя обладал могучим организмом.
Для него не существовало мелочей в революционной работе.
«Далеко не все мелочи, что порою кажутся мелочами. Из них-то часто и комбинируется то, что потом оказывается крупным».
И он вникал во все детали. Многим это казалось несобранностью, отсутствием целеустремленности, склонностью «разбрасываться».
Но Желябов был целеустремлен, собран. Когда его упрекали, он очень серьезно возражал: «Натура у меня такая: меня тянет всюду и везде, и я более всего полагаюсь на свои собственные впечатления».
Исполнительный комитет не выносил постановлений об избрании Желябова главой партии, не освободил его от мелочей для повседневного руководства, он молчаливо и с радостью признал в Желябове вожака и шел за ним.
Такие люди должны быть, не могут не быть руководителями.
Перовская никогда не обманывала ни себя, ни других. И не признавала оговорок. Да, она любит Желябова! Любит! А имеет ли право революционер на любовь? Образ Рахметова стоял перед глазами немым укором. А сам Желябов! Разве он не оставил жену, ребенка, дом, все, что мешало ему, отвлекало от подвижнического, фанатического служения революции?
Соня готова была презирать себя, холодным рассудком заморозить сердце. Но жизнь подсказывала другие решения. Морозов и Любатович, разве они перестали служить революции, сделавшись мужем и женой? У них ребенок. Сколько счастья принесет им это крошечное существо в подполье, где свирепствует смерть! Правда, сейчас они в Швейцарии, но вернутся, и никто не может отнять у них права на любовь. А почему же она мучается? Может быть, источник этих терзаний не столь возвышен? Может быть, просто это уязвленная гордость первой любви, оставшейся без ответа? Перовская гонит от себя эти мысли. Как хочется иметь сейчас рядом друга, которому можно доварить эту тайну, эту слабость!
Да, да, слабость. Софья Львовна нашла определение своему чувству. Но если это слабость, если она уже кинулась в объятия мечты, то зачем мечтать о друге, она хочет, чтобы рядом был Андрей. Какая ирония — ведь она должна была исполнять роль фиктивной жены Желябова. Теперь, когда ей хочется быть настоящей, жизнь подсовывает фикцию.
Каждый вечер, ночь эти мысли не дают покоя. Но почему нет отчаяния? Перовская не способна хитрить. Где-то в уголке сознания теплится надежда: ведь она видит, чувствует, что и Андрея тянет к ней.
Мечты, имея слабую поддержку в надеждах, уносят в область фантазии, где все возможно, где нет препятствий. Ее личное неотделимо от жизни всех людей. Этот мир нельзя охватить взором, и он мерещится радужным, золотистым сиянием солнца, улыбок, смеха. Из ореола счастливой иллюзии вдруг выступают образы. Чаще всего Андрей. И как реально, близко он от нее, он с ней. Они с хохотом бегут по берегу моря. Да, да, моря, ведь он вырос на море, а она была счастлива у его берегов, в доме матери. Как много кругом детей, цветов, и не видно зданий! Люди тянутся к небу, и каждому оно протягивает свои объятия. В голубизне такая ширь, такая даль, такая свобода!..
Смена мечты на действительность особенно тяжела. Голые стены комнаты, железная кровать, грубый стол, конфетные банки с динамитом.
Холодно. Неуютно.
Кто-то подымается по лестнице. Шаги замерли у двери. Легкий стук. И сердце забилось, забилось. Софья Львовна бросилась навстречу…
Потом она никак не могла вспомнить, почему Желябов подхватил ее на руки. Почему не было слов? Наверное, глаза, улыбка счастья сказали ему все. Он что-то говорил о трудной любви… Наверное, он всегда прав, но ей так хочется петь. И солнце светит по-иному. Оно мешает мечтать, но теперь это не обязательно, жизнь всегда лучше мечты, а вместе с Андреем жизнь станет, обязательно станет воплощенной мечтой. Какие у него сильные руки, как радостно, нежно, откуда-то из глубины звучит его голос!..
Начинается новый день, от него она поведет счет дней своей жизни.
Осенняя штормовая волна прибивает к родным берегам корабли. Каждый день Кронштадтский рейд встречает вернувшихся из дальних плаваний. Оживают матросские экипажи. В офицерских квартирах далеко за полночь горят огни жженки.
Вернулись в Кронштадт Штромберг, Завалишин, Серебряков, Юнг.
Суханов прибыл раньше. Его прикомандировали к Гвардейскому экипажу, офицеры которого имеют право слушать лекции в университете. И он не только слушатель, но и ассистент профессора по кафедре физики.
Возобновились и встречи с народовольцами. Собирались, как бывало, у сестры. И снова Желябов и Перовская. Они привели Веру Фигнер. Суханов буквально очаровал ее.
«Суханова нужно завоевать во что бы то ни стало», — теперь это твердое мнение. Вера Фигнер только укрепила в нем Желябова и Перовскую.
Тем временем Штромберг теребил кронштадтских приятелей. Им пора в конце концов определить свое отношение к «Народной воле». Штромберг самый решительный, а кое-кто колебался, некоторые отказывались. И все же согласились. Но настояли, чтобы их партийные обязательства не ограничивали свободу выбора деятельности.
Тотчас сообщили об этом Суханову.
Тот не стал медлить, он был военный и понимал значение фактора времени в мобилизации сил.
На общую квартиру Завалишина, Серебрякова, Штромберга и Юнга Суханов нагрянул вместе с Андреем.
И снова, уже в знакомой аудитории, выступает Желябов.
Но теперь он воздействует не на эмоции слушателей, а на их логику: необходимость чисто военной организации «Народной воли», некоторые предварительные соображения о ее структуре.
В споры Андрей вступать не стал. Раз решили, что окончательный ответ кружок даст к его следующему приезду — значит, он должен вскоре опять побывать в Кронштадте.
Но в следующий раз встретились уже в Петербурге у Суханова. К этому времени кронштадтский кружок успел выработать свою конституцию, Исполнительный комитет обсудил ее и принял кружковцев в ряды партии.
Император присвоил им лейтенантские звания. «Народная воля» удостоила их чести стать плечом к плечу с борцами против царя.
Осенью 1880 года окончательно сложились те принципы, на которых должна была строиться военно-революционная организация.
Военная организация — централистская. Во главе ее Центральный комитет из офицеров, подобранных Исполнительным комитетом «Народной воли» и подчиненных ему.
Все кружки подчиняются Центральному военно-революционному комитету.
Главная цель — восстание с оружием в руках в момент, когда Исполнительный комитет «Народной воли» сочтет это нужным.
Офицеры сами не должны вести пропаганду в своих частях, для этого «Народной волей» выделяются специальные пропагандисты, преимущественно из рабочих.
Офицеры обязаны нащупывать связи с другими частями, расширять военную организацию. Но военные группы и кружки не входят в сношения друг с другом. Их объединяет Исполнительный комитет.
Членами будущего военного центра от Исполкома были намечены Желябов и Колодкевич, от офицеров — моряки Суханов, Штромберг и артиллерист Рогачев — он представлял кружок артиллеристов.
На юге создавались революционные группы в пехотных частях Киева, Тифлиса, Одессы, Николаева. Связь с ними поддерживала Вера Фигнер.
Но Кронштадт и Петербург были под рукой. Андрей часто встречался с офицерами. Он берег их, до поры до времени не допускал к рискованным предприятиям партии и особенно к охоте за царем.
Армия, вставшая в момент восстания на сторону революции, — вот о чем должны думать, чем неустанно заниматься военные.
А сколько смелых планов рождалось в кружках: арестовать или убить во время смотра царя, наследника, виднейших сановников! Открыть огонь из корабельных орудий по казармам частей, не пожелавших примкнуть к восставшим!
Да мало ли!.. И все же восстание прежде всего.
Но думы, надежды расходились с практикой. Он готовил армию, готовил рабочих к восстанию, а сам вынужден был следить за поездками царя, торопить «техников» с изготовлением метательных снарядов, искать помещения для подкопов. В этом, как в фокусе, ярко отразилась непоследовательность и Желябова и народовольцев вообще.
Террор продолжал засасывать, он был ненасытен, и от него нельзя уже отказаться — не поймет мыслящая Россия, отказ равносилен бессилию.
И силу свою «Народная воля» старалась доказать, обескровливая себя вконец.
А «образованное общество» и так уже недоумевало. В чем дело? Почему «Народная воля» напоминает о себе только листовками, теоретическими статьями, а не покушениями, взрывами, которые так щекочут нервы, дают повод для фрондерских разглагольствований в салонах и гостиных проверенных друзей? Ужели выдохлись, ужели это только кучка безумцев, сумевших вселить веру в «безумные надежды» на конституцию? В революцию «образованное общество» верить не хотело: что-что, но только не революция с ее кровавыми тризнами разгулявшейся «черни». Пусть себе болтают о революции те, кто живет нелегально, пусть пугают ее призраками правительство и царя. Хотя, надо признаться, делают это террористы артистически. Лорис-Меликов виляет хвостом, намекает на конституцию.
Дай-то бог! Ну, а с бунтовщиками Лорис как-нибудь справится сам.
«Народная воля» ждала окончания процесса Квятковского и Преснякова, арестованного 24 июля 1880 года. После суда над 193 пропагандистами это самый крупный процесс. Он должен иметь значение пробного шара. Правда, пробный шар — это жизнь товарищей. Но борьба не бывает без жертв.
Если их казнят, значит царизм бросает вызов партии. А если помилуют?..
Но разве может рассчитывать на помилование Квятковский? Организатор Липецкого съезда, один из руководителей террористической борьбы, инициатор взрыва Зимнего? Или Пресняков, террорист, оказавший вооруженное сопротивление при аресте? А Ширяев и остальные тринадцать участников процесса?
4 ноября 1880 года Квятковский и Пресняков были повешены.
Значит, вызов. Правительство само разжигает чувство мести.
Общество затаилось — чем ответит Исполнительный комитет? Ужели промолчит? Тогда, значит, он фикция, а интеллигент уже приучен к террору, исподтишка аплодирует революционерам, «верит в террор как в бога».
Никто так остро не переживал гибель товарищей, как Александр Михайлов. И особенно Квятковского. Они давно стали неразлучны, понимали друг друга с полуслова.
Как огонь, прожигали сердце последние строки письма Степана Ширяева, который тоже ожидал, что его приговорят к смерти:
«Прощайте, милые друзья, — не поминайте лихом! Хотелось бы подольше поработать рука об руку с вами, да не пришлось…»
И последнее «прости» Андрея Преснякова: «Прощайте, друзья, до встречи в будущей жизни».
Михайлов за несколько дней до казни ответил им. Хотелось скрасить последние минуты, чтобы на эшафоте они знали, что их дело в верных руках:
«…Знайте, что ваша гибель не пройдет даром правительству, и если вы совершили удивительные факты, то суждено еще совершиться ужасным.
Последний поцелуй горячий, как огонь, пусть долго-долго горит на ваших устах, наши дорогие братья.
Пишу это письмо от всех ваших и моих товарищей».
И вот уже нет Квятковского, Преснякова… Ширяева упрятали в вечную каторгу.
Но любовь к друзьям, память о них, забота о том, чтобы потомки знали, кому они обязаны счастьем, живет и должна жить вечно. Об этом позаботится Михайлов. Карточки, фотографические карточки Квятковского и Преснякова. Они должны найти свое место в архиве «Народной воли». Этот архив хранится в надежных руках Зотова, и после отъезда Николая Морозова за границу только один Михайлов знает, как найти портфели архива, ему одному Зотов вынесет их из передней своей квартиры-библиотеки.
27 ноября Александр Дмитриевич зашел в фотографию Таубе на Невском, чтобы получить заказанные фотопортреты Квятковского и Преснякова. Фотограф долго рылся в ящике, не поднимая глаз на отставного офицера с лихо торчащими усами. Форма сидела на Михайлове идеально, выправка безупречная, паспорт на имя поручика в отставке Поливанова надежный. Но почему жена фотографа ведет себя так странно? За спиной мужа она делает ему какие-то знаки. Что это — она провела рукой по шее? Фотограф все еще копается? Ничего, он зайдет завтра.
Желябов и Корба, выслушав рассказ Александра Дмитриевича, возмутились. Не он ли требовал от них осторожности, не он ли учил конспирации, ругал за безрассудство? А сам? Нет, Александр Дмитриевич должен дать слово, что больше в фотографию не пойдет. Но 28 ноября Михайлов опять на Невском. Вот и фотография. Вчера он просто струсил. Наверное, жена Таубе намекала на что-то другое или ему просто померещилось. Если он не заберет карточки, они могут пропасть. Этого он себе никогда не простит.
Ну, конечно, напрасные страхи. Теперь домой, в гостиницу «Москва».
Михайлов не спеша направился к Владимирской улице. Из-за угла выползала конка, он вскочил на нее. С другой стороны на площадку вагона прыгнул какой-то мужчина в штатском. Но какая выправка!
Вагон переполнен. Михайлов присматривается к господину; тот тоже не спускает с него глаз. «Нет, это неспроста!»
Угол Загородного проспекта. А вон и извозчик…
Михайлов выскользнул из вагона, вскочил в пролетку.
Но господин уже держал его за руку, с поста бежал дежурный городовой, спешили дворники…
Удар за ударом! Желябов не мыслил Исполнительный комитет без Михайлова. Невольно суеверный страх заползал в душу. Уж если Михайлова…
Но нет, прочь страхи, никакой растерянности!
Андрей буквально сбивался с ног. Он считал своим долгом брать на себя поручения самые важные и самые тяжелые, все делать своими руками. Это был недостаток, которого Желябов не замечал.
Нужно немедля готовить новое покушение, "все остальное должно отойти на второй план. А как же организация рабочих? Она была любимым детищем Желябова, ей отдавал он свое сердце.
Ведь сделано уже немало. Подобрались люди. Студенты — учителя рабочих — собираются на особые учительские кружки. Их наставники — Желябов, Перовская, Франжоли.
Нашлись и помощники. В августе 1880 года в Петербург вернулся некогда исключенный из столичного университета Коган-Бернштейн. Он быстро свел знакомство с агентом Исполнительного комитета и охотно стал пропагандистом среди рабочих.
Другой бывший студент — Подбельский, принявший звучную кличку «Паний», подыскал квартиру. На ней происходили сходки, здесь же занимались и рабочие кружки. А кроме этих двух, Энгельгардт, Дубровин, Попович, Ивановский, Лебедев, Беляев — студенты, мещане, дворяне, — пропагандисты, террористы, даже чернопередельцы.
На Троицкой улице, в доме № 17, основали типографию «Рабочей газеты». Хозяином квартиры Желябов хотел видеть только рабочего. Эта роль пришлась по душе Макару Тетерке. А хозяйкой стала незаметная, но и незаменимая Геся Гельфман. Она судилась по «процессу 50-ти», была потом заключена в Работный дом вместе с проститутками, но в марте 1879 года ее освободили, сослав в Старую Руссу. В июне того же года Геся перешла на нелегальное положение и стала хозяйкой конспиративной квартиры. У нее собирались на совещания члены Исполнительного комитета, а она, убедившись, что никто их не выследил, надевала пальто и уходила. У нее так шумно, весело встречали 1880 год, варили жженку, пели.
Андрей любил бывать в новой, как ее называли, «летучей» типографии. Когда все было подготовлено к началу издания газеты, Желябов решил попробовать себя в роли литератора. В другое время заставить его написать статейку, письмо было почти невозможно. Журналистский талант у него отсутствовал. Но для рабочих!.. И Андрей кряхтел. Правда, получалось неказисто, да и стилизация какая-то нарочитая…
Рядом сопит Коковский. Улыбается про себя, пальцы в чернилах.
Он тоже набрасывает статью?
Нет, проект «Программы рабочих членов партии «Народная воля». Желябов забыл о своей статье. Молодец Валентин, именно с программы и нужно начинать!
Они трудились над ней долго. Помогал до ареста Михайлов, приложили руку Фигнер, Колодкевич, Франжоли. Но, конечно, главное авторство оставалось за Желябовым и Коковским.
Валентин предложил, прежде чем печатать программу, показать ее студентам-кружковцам, некоторым чернопередельцам, готовым встать в ряды партии, почитать рабочим, из образованных. Желябов согласился.
Чернопередельцы распушили проект программы, они не столько вникали в смысл ее требований, сколько искали какие-то «уступки», которые, по их мнению, должны были сделать народовольцы чернопередельцам.
Студенты обсуждали бурно и бестолково. Андрей опоздал на их главную сходку. Он вымотался за день, хотел есть и спать. Но нужно было выступать. Желябов долго собирался с мыслями, даже подыскивал заранее слова, но речь получилась бледной. Коковский с удивлением следил за «Тарасом».
— Не в ударе он сегодня, провалился ныне наш Тарас, придется устраивать ему другую сходку: фонды подымать, — шепнул Коковский приятельнице, сидевшей рядом, и бросился в бой.
Защищал программу яростно. Страсти накалились. Всегда молчаливый, очень собранный, четкий Игнатий Гриневицкий — студент, член центрального рабочего кружка, пропагандист, каких мало, и тот что-то кричит. Но шум такой, что отдельные слова пропадают.
И вдруг сразу тишина. Только Коковский по-прежнему, не обращая ни на кого внимания, читает пункт за пунктом программу. Перед ним зеркало. В нем отражаются открытая дверь и мрачная, нахмуренная фигура дворника. Валентин моментально обрывает чтение и как ни в чем не бывало начинает со смехом рассказывать фельетон из последнего номера «Голоса».
Желябов побледнел. Он единственный нелегальный…
— Господа, что это у вас за собрание?
— Именины, — нетвердым голосом буркнул хозяин квартиры.
Дворник недоверчиво покачал головой.
— Как вам будет угодно, а я должен донести… Нынче это не дозволяется. Я должен пойти в участок… Как вам угодно.
И ушел.
Все лица повернулись к Желябову. Ему нужно немедленно уходить. Андрей и сам знал, что необходимо исчезнуть, не теряя ни минуты. Но какое-то злобное чувство азарта изгнало апатию, усталость.
Желябов повеселел, стал рассказывать анекдоты. Коковский опомнился первым. Схватив пальто Желябова, он накинул его Андрею на плечи.
— Да уходите же, пожалуйста. Будет вам!..
Желябов благополучно выбрался из дома. А вечером Валентин, уже смеясь, рассказывал, как через несколько минут после ухода Андрея ввалился околоточный надзиратель. Но за это время комнату успели превратить в «залу пиршества». И откуда только нашлись и водка и закуска.
Околоточный сначала переписал собравшихся, потом смилостивился, присел закусить. И так нализался, что начал рассказывать анекдоты, от которых женщины вынуждены были спасаться бегством.
— А за спиной у блюстителя полка с книгами стояла, — смеялся потом Валентин, — загляни он туда — ну, и крышка. Там и «Капитал» Маркса и издания «Народной воли». Проект программы прямо на столе остался: я его впопыхах забыл.
…Программу рабочих членов партии «Народная воля» напечатали в ноябре 1880 года.
Так же как и программа Исполнительного комитета, она распадалась на несколько частей.
В первой части — «А» — излагались теоретические основы народовольческого социализма.
«Исторический опыт человечества, а также изучение и наблюдение жизни народов убедительно и ясно доказывает, что народы только тогда достигнут наибольшего счастья и силы, что люди тогда только станут братьями, будут свободны и равны, когда устроят свою жизнь согласно социалистическому учению, то есть следующим образом:
1) Земля и орудия труда должны принадлежать всему народу, и всякий работник вправе ими пользоваться.
2) Работа производится не в одиночку, а сообща (общинами, артелями, ассоциациями).
3) Продукты общего труда должны делиться, по решению, между всеми работниками, по потребностям каждого.
4) Государственное устройство должно быть основано на союзном договоре всех общин.
5) Каждая община в своих внутренних делах вполне независима и свободна.
6) Каждый член общины вполне свободен в своих убеждениях и личной жизни; его свобода ограничивается только в тех случаях, где она переходит в насилие над другими членами своей или чужой общины…»
«…Свобода общины, то есть права ее, вместе со всеми общинами и союзами, вмешиваться в государственные дела и направлять их по общему желанию всех общин, — не даст возникнуть государственному гнету, не допустит того, чтобы безнравственные люди забрали в свои руки страну, разоряли ее в качестве разных правителей и чиновников и подавляли свободу народа, как это делается теперь».
Вторая часть — «Б» — доказывала, почему до сего времени в России господствует кучка тунеядцев.
«Мы глубоко убеждены, что такой общественный государственный порядок обеспечил бы народное благо, но мы знаем также по опыту других народов, что сразу и в самом близком будущем невозможно добиться полной свободы и прочного счастья народа. Нам предстоит долгая и упорная борьба с правителями и расточителями народного богатства — постепенное завоевание гражданских прав. Слишком долго, целые века, правительство и все прихвостни его, которым теперь хорошо и тепло живется, из сил выбивались, чтобы держать русский народ в послушании и забитости. Им это почти всегда удавалось. Действительно, темные люди, в большинстве случаев, не сознают и не чувствуют, что они граждане своей родной страны и не должны дозволять, чтобы страною распоряжались коронованные проходимцы и всякие охотники до чужого труда и кармана; бедным, голодным людям слишком часто приходилось дрожать и унижаться перед сильными и богатыми, даже мошенничать и продаваться, и все из-за насущного куска хлеба…»
«…Поглядите: в деревнях крестьянская земля постепенно переходит в руки кулаков и спекуляторов; в городах фабричные и заводские рабочие попадают все в большую кабалу к фабриканту; капиталисты становятся силой, с которой разъединенным рабочим бороться трудно; государство и правительство стягивают к себе все богатство и силу страны при содействии целой армии чиновников, вполне независимых от народа и вполне покорных воле правительства; весь народ отдан под надзор жадной и невежественной полиции (урядников и других полицейских чинов)…»
В разделе «В» разрешался вопрос о союзнике рабочих.
«…Все, кто живет теперь на счет народа, т. е. правительство, помещики, фабриканты, заводчики и кулаки, никогда по доброй воле не откажутся от выгод своего положения, потому что им гораздо приятнее взваливать всю работу на спину рабочего, чем самим приняться за нее…»
«…Но народ всегда может рассчитывать на верного союзника — социально-революционную партию. Люди этой партии набираются из всех сословий русского царства, но жизнь свою отдают народному делу и думают, что все станут равны и свободны, добьются справедливых порядков только тогда, когда делами страны будет заправлять рабочее сословие, т. е. крестьянство и городские рабочие, потому что все другие сословия если и добивались свободы и равенства, то лишь для себя, а не для всего народа…
…Кроме нее, у народа нет верных союзников; однако во многих случаях он найдет поддержку в отдельных лицах из других сословий, в людях образованных, которым также хотелось бы, чтобы в России жилось свободнее и лучше…»
«…Нужно только, чтобы рабочие не забывали, что их дело на этом не останавливается, что вскоре придется расстаться с этим временным другом и идти далее в союзе с одной социально-революционной партией…»
Раздел «Г» посвящался тем преобразованиям, которые необходимо произвести «в государственном строе и народной жизни»:
«Принимая все это во внимание, мы признаем, что в ближайшее время мы можем добиваться следующих перемен в государственном строе и народной жизни:
1) Царская власть в России заменяется народоправлением, т. е. правительство составляется из народных представителей (депутатов); сам народ их назначает и сменяет: выбирая, подробно указывает, чего они должны добиваться, и требует отчета в их деятельности.
2) Русское государство по характеру и условиям жизни населения делится на области, самостоятельные во внутренних своих делах, но связанные в один общерусский союз. Внутренние дела области ведаются Областным управлением; дела же общегосударственные — Союзным правительством.
3) Народы, насильственно присоединенные к русскому царству, вольны отделиться или остаться в общерусском союзе.
4) Общины (села, деревни, пригороды, заводские артели и пр.) решают свои дела на сходах и приводят их в исполнение через своих выборных должностных лиц: старост, сотских, писарей, управляющих, мастеров, конторщиков и пр.
5) Вся земля переходит в руки рабочего народа и считается народной собственностью.
Каждая отдельная область отдает землю в пользование общинам или отдельным лицам, но только тем, кто сам занимается обработкой ее. Никто не вправе получить больше того количества, которое он сам в силах обработать. По требованию общины устанавливаются переделы земель.
6) Заводы и фабрики считаются народной собственностью и отдаются в пользование заводских и фабричных общин, доходы принадлежат этим общинам.
7) Народные представители издают законы и правила, указывая, как должны быть устроены фабрики и заводы, чтобы не вредить здоровью и жизни рабочих, определяя количество рабочих часов для мужчин, женщин и пр.
8) Право избирать представителей (делегатов), как в Союзное правительство, так и в Областное управление, принадлежит всякому совершеннолетнему: точно так же всякий совершеннолетний может быть избран в Союзное правительство и Областное управление.
9) Все русские люди вправе держаться и переходить в какое угодно вероучение (религиозная свобода); вправе распространять устно или печатно какие угодно мысли или учения (свобода слова и печати); вправе собираться для обсуждения своих дел (свобода собраний); вправе составлять общества (общины, артели, союзы, ассоциации) для преследования каких угодно целей; вправе предлагать народу свои советы при избрании представителей и при всяком общественном деле (свобода избирательной агитации).
10) Образование народа во всех низших и высших школах даровое и доступное всем.
11) Теперешняя армия и вообще все войска заменяются местным народным ополчением. Все обязаны военной службой, обучаются военному делу, не отрываясь от работы и семьи, и созываются только в случае определенной законом надобности.
12) Учреждается Государственный Русский Банк с отделениями в разных местах России для поддержки и устройства фабричных, заводских, земледельческих и вообще всяких промышленных и ученых общин, артелей, союзов.
Вот какие, по нашему мнению, перемены в народной жизни могут быть совершены в ближайшее время; мы думаем, что весь народ — городские рабочие и крестьянство — поймет всю их полезность и готов будет их отстаивать. Городским рабочим следует только помнить, что отдельно от крестьянства они всегда будут подавлены правительством, фабрикантами и кулаками, потому что главная народная сила не в них, а в крестьянстве. Если же они будут постоянно ставить себя рядом с крестьянством, склонять его к себе и доказывать, что вести дело следует заодно, общими усилиями, тогда весь рабочий народ станет несокрушимой силой».
Разделы «Д» и «Е» разрабатывали организационные вопросы, в них же говорилось о предстоящей кровавой борьбе, о том, что в социально-революционную партию рабочие организации должны входить как часть и рабочие обязаны принять деятельное участие в боевом союзе, который партия выделит для нападения на правительство. И, наконец, давались указания, как поступать рабочим в случае открытого восстания.
Как оживилась работа кружков после опубликования программы! Теперь у них в руках был план деятельности, намечена конечная цель ее. И хотя для многих оставалось неясным общинное устройство, Учредительное собрание, зато ясно было, что капиталистов, директоров, полицию и прочих царских приспешников вместе с царем нужно гнать в шею.
Самым рьяным пропагандистом новой программы и правой рукой Желябова по связям с рабочими сделался Тимофей Михайлов. Рабочие знали его под кличками «Тимоша», «Захар Тимофеевич», «Папаша». «Тимоша» работал на многих петербургских заводах, жил среди рабочих, увлекался «экономическим террором». С его помощью и при активном участии избивали и даже убивали ненавистных мастеров. В мастерских Варшавской железной дороги мастеру Задингу «за молебны и грубость маленько потревожили скулу». Тимофей был грозой шпионов, наушников. И не было более прилежного корреспондента «Рабочей газеты», нежели этот неугомонный котельщик.
Текст программы направили Марксу вместе с письмом Исполнительного комитета:
«Гражданин!
Интеллигентный и прогрессивный класс в России, всегда внимательный к развитию идей в Европе и всегда готовый откликнуться на них, принял с восторгом появление ваших научных работ.
В них именем науки признаны лучшие принципы русской жизни. «Капитал» стал ежедневным чтением интеллигентных людей. Но в царстве византийского мрака и азиатского деспотизма всякий прогресс социальных идей рассматривается как революционное движение. Само собой разумеется, что ваше имя связано с политической борьбой в России. В одних оно вызвало глубокое уважение и горячую симпатию, в других — преследования. Ваши сочинения были запрещены, а самый факт их изучения рассматривается теперь как признак политической неблагонадежности.
Что касается нас, многоуважаемый гражданин, мы знаем, с каким интересом вы следите за всеми проявлениями деятельности русских революционеров, и мы счастливы, что можем заявить теперь, что эта деятельность дошла до самой высокой степени напряженности. Предыдущая революционная борьба закалила борцов и не только установила для революционеров их теоретическую программу, но в то же время и вывела их практическую революционную борьбу на верную дорогу для ее осуществления.
Различные революционные фракции, неизбежные в движении столь новом, сходятся, сливаются и общими усилиями стараются соединиться с желаниями и надеждами народа, которые так же древни у нас, как и само рабство.
При таких обстоятельствах приближается момент победы. Наша задача была бы для нас значительно легче, если бы определенно высказанные симпатии свободных народов были бы на нашей стороне. А для этого требуется только одно — знакомство с истинным положением дел в России.
С этой целью мы и поручаем нашему товарищу, Льву Гартману, организовать в Англии и Америке доставку сведений относительно настоящего развития нашей общественной жизни.
Мы обращаемся к вам, многоуважаемый гражданин, прося вас помочь ему в осуществлении этой задачи.
Твердо решившись разбить цепи рабства, мы убеждены, что недалеко то время, когда наше несчастное отечество займет в Европе место, достойное свободного народа.
Мы считаем себя счастливыми, выражая вам, многоуважаемый гражданин, чувства глубокого уважения всей русской социально-революционной партии».
К концу ноября, наконец, сверстали и первый номер «Рабочей газеты».
Маркс внимательно изучал «Программу рабочих членов партии». Он, видимо, собирался вернуть ее со своими поправками и замечаниями авторам. Первый раздел программы, где излагались народовольческие принципы социализма, Маркс перечеркнул. Путаная смесь лассальянства, анархизма была данью общенародническим воззрениям и, конечно, не заслуживала серьезной критики с позиций научного социализма.
Но остальные пункты программы, ее организационные и практические рецепции Маркс почти не изменил, но очень многое подчеркнул, выделил. Маркс предложил, чтобы рабочие кружки, помимо связи с центральной организацией, сносились бы и друг с другом. Таким образом, Маркс был противником заговорщического характера рабочей организации, как она представлялась программой.
Не возражал Маркс и против того, что рабочие кружки входят в общую социально-революционную партию и выступают во временном союзе с либералами.
И если Маркс не прощал Желябову и его соратникам теоретическую путаницу, то все же считал их «своими людьми»; во всяком случае, они были ближе к марксизму, нежели чистые анархисты-народники.
Практическая же деятельность народовольцев восхищала Маркса. Готовя к переизданию «Манифест Коммунистической партии», Маркс и Энгельс записали в предисловии: «Теперь Россия представляет собой передовой отряд революционного движения в Европе».
А отряд готовился перейти в новое наступление.
Кончается осень. Побурела, опала листва. Хмурое небо. Дожди. И в прошлом году была осень, падали листья, моросили дожди.
Только год прошел с тех пор, когда все казалось близким, достижимым, все рисовалось в радужных, светлых тонах. Но уже выбыли лучшие.
И с каждым днем сужается круг.
Желябов и некоторая часть Исполнительного комитета по-прежнему считают, что венец всему — народное восстание. Другие же надеются на убийство царя и захват власти.
Надвигается зима, голодная, свирепая. И снова тысячи, десятки тысяч смертей в деревне, эпидемии. И снова аресты в городах, виселицы, суды…
Осенью подводят итоги года. Финал — безрадостный.
Если сейчас все силы партии не будут собраны в один кулак, если Исполнительный комитет в последнем поединке окажется побежденным, то больше не будет сил, не будет надежд на восстание народа, не будет и такого Исполнительного комитета, такого энтузиазма. Вывод напрашивается сам — на карту должно быть поставлено все.
Исполнительный комитет подсчитал свои возможности. На его стороне в Петербурге, Москве — пятьсот человек, активных, готовых выступить с оружием в руках.
Да, это далеко не «всенародное восстание» — пятьсот человек!
Они умрут с готовностью, не дрогнув, но сумеют ли они соорудить хотя бы баррикады?
Мало, очень мало людей. Партия должна совершить такое, чтобы пятьсот выросли в пятьсот тысяч в Петербурге, Москве, Киеве, на окраинах.
Но что совершить?
Самое большое, потрясающее, что могут сделать несколько десятков, — это убить царя. Убийство как сигнал к восстанию или захвату власти. Не много было таких, как Желябов, которые сомневались. Да и то сомневались только в том, будет ли это буря, огненная, все сжигающая на своем пути, или «конституционная метель». Покружится и уляжется белым саваном на землю…
Скорей, скорей, пока осталось хоть немного сил!
Скорей!
Восстание нужно готовить!..
Скорей!
Скорей «Народная воля» должна расправиться с царем.
Скорей!
И снова отступают другие дела и заботы. Пока есть силы, пока Исполнительный комитет еще не растерял тех, кто его основал. Нет Квятковского, нет Преснякова, выбыли из борьбы Ширяев, Бух, Иванова, нет и Михайлова…
Желябов еще раз перечитывает клочок бумаги, на котором рукой Александра Дмитриевича записаны данные двух паспортов.
«Кобозев Евдоким Ермолаев сын, крестьянин-Кобозева Елена Федоровна, крестьянка.
Занимаются торговлей, в деревне не живут».
Михайлов привез эти выписки из Москвы. Паспортное бюро «Народной воли» сделает нужные документы.
Кобозевы — это последняя услуга Михайлова партии. Желябов вручит паспорта самым верным, самым стойким.
Но прежде чем намечать план нового покушения, нужно хорошенько осмотреться. На сей раз не должно быть никаких случайностей.
Зимой император, как сыч, сидит в своем дворце и до лета никуда не выедет из столицы. Значит, отпадает железная дорога. А до лета нельзя ждать.
В Зимний теперь уже не пробраться. Остается нападение на улице. Ох, как это ненадежно! Стрелять из револьвера? Стрелял Каракозов, стрелял Соловьев — все равно, что стреляли в самих себя. Револьвер не годится, к царю не подойдешь, ныне он стал осторожен, окружен со всех сторон телохранителями, пешком не ходит.
Опять динамит. Сколько уже было неудач с ним! В Александровске он не взорвался, в Зимнем его не хватило. Динамит — это прежде всего новый подкоп. Но куда, подо что? Под дворец? Смешно и думать!.. Улица, только под ее панель. Улица, по которой чаще всего ездит царь.
Но одна мина не может гарантировать успеха, нужно комбинированное нападение.
Кибальчич изготовил метательные снаряды. Ими он пока охранял типографию и мастерскую.
Не сработает мина, тогда в царскую карету полетит снаряд, один, а если нужно — второй, третий, пятый!..
Желябов сам встанет на пути царя со снарядом. В конце концов, может случиться и так, что развязка наступит после удара кинжалом…
Исполнительный комитет создал комиссию «техников». Она должна дать рекомендации. «Техники» высказались за подкоп. Метальщики — про запас. Исполнительный комитет придирчиво обсуждал план покушения, тогда еще и Михайлов был среди них. Трудно придумать что-либо лучшее. А спешить необходимо.
Желябов должен осуществить свой план, и Исполнительный комитет целиком поступает в его распоряжение.
Андрей понимал, что ни в коем случае нельзя занимать всех членов комитета подготовкой нового покушения на царя, и не потому, что это страшный риск. К риску привыкли. Нужно, чтобы после убийства императора осталось ядро, способное поднять восстание или захватить власть. Может погибнуть он, но должны сохраниться другие. Он должен взять на себя все заботы по осуществлению цареубийства. Нельзя, чтобы бомбы бросали Тихомиров или Кибальчич, нельзя, чтобы Корба, Перовская рыли подкоп.
Но Исполнительный комитет настоял на том, чтобы подкоп был произведен руками его членов и самых доверенных лиц. Никто, даже бомбисты, не занятые в подкопе, не должны о нем знать. Бомбистов Желябов может подобрать из добровольцев рабочих дружин.
Но сначала нужно выследить царя. Установить, в какое время и по каким улицам, насколько регулярно и с какими изменениями маршрутов совершает свои поездки по Петербургу император.
Отряд наблюдателей сформировали быстро. Лев Тихомиров предложил студента Тыркова, его хорошо знала и Перовская, знал и Желябов. Тот же Тихомиров настоял, чтобы в отряде наблюдателей были Елизавета Оловенникова и Тычинин.
Исполнительный комитет согласился. Желябов назвал имена Рысакова, Гриневицкого и Перовской как руководительницы.
Сомнение вызвал Николай Рысаков. Ему только исполнилось девятнадцать лет. Хватит ли у него стойкости? Желябов напомнил, что Рысаков уже раньше просился в «дело». Будучи студентом Горного института, он предложил свои услуги партии для совершения террористического акта. И его проверяли.
Эту проверку помнили все. В октябре в Петербург были доставлены новые принадлежности для типографии: большой вал, шрифт, станина. Получение груза и его доставка на место были сопряжены с известным риском. Но Рысаков превосходно справился с заданием.
Исполнительный комитет уступил Желябову. Рысакова зачислили в наблюдательный отряд.
Собрались на квартире Елизаветы Николаевны Оловенниковой. Ее все любили. Заботливая, ласковая, она давно связала свою судьбу с революционерами. Ее старшая сестра Мария была замужем за Баранниковым и, живя нелегально, часто пользовалась услугами и помощью сестры. Та охотно выполняла любое поручение.
Сначала состоялось знакомство — называли свои конспиративные клички. «Николай», — представился Рысаков. «Котик», — буркнул Игнатий Гриневицкий. «Аркадий», — крепко пожал всем руки Тырков.
Рысаков нервничал, смеялся совершенно некстати. Остальные внимательно слушали «Воинову», под этой кличкой представилась Перовская, хотя и Тырков, и Оловенникова, и Гриневицкий знали ее настоящее имя.
Перовская с Желябовым детально разработали программу слежки за царем. Наблюдения должны вестись ежедневно двумя лицами по расписанию.
До определенного часа один, потом ему на смену выходит другой товарищ. «Патрулирующие» пары чередуются каждый день — так легче маскироваться. Все результаты стекаются к Перовской, она их записывает и обобщает. Раз в неделю члены наблюдательного отряда собираются и еще раз уточняют полученные сведения.
На улицах промозгло, сеет неторопливый дождь, туманная дымка закрывает очертания далеких зданий. В такие дни государь император предпочитал отсиживаться во дворце. Он похоронил супругу и был счастлив. Теперь Катенька Долгорукая, уже не таясь, хозяйничает в Зимнем.
В июле 1880 года он сочетался с ней морганатическим браком. Император решил присвоить княжне Долгорукой титул светлейшей. Ну что же, все в его руках. Катенька все равно должна изменить фамилию. Он присвоит ей титул светлейшей княгини Юрьевской — ведь основателем города Юрьева-Польского был Юрий Владимирович Долгорукий, основатель Москвы, патриарх княжеского рода.
Во дворце пустынно, прохладно и очень скучно в эти унылые осенние дни. Зато в будуаре Долгорукой тепло и уютно. Наследник престола Александр Александрович не кажет сюда носа. У него при дворе своя партия. Впрочем, почти все наследники имели свои партии и частенько вступали в оппозицию к государю императору. Царь не любит этих раздоров и не выходит из апартаментов жены.
Наблюдатели мерзнут день, другой. Им приходится жаться к Зимнему — ведь прежде всего необходимо установить часы выездов царя из дворца. А тут дождь…
Прошла неделя, за ней вторая. Немного распогодилось.
И каждый день около половины второго к главному подъезду дворца стал лихо подкатывать экипаж — царь направлялся на прогулку в Летний сад. Шесть человек конвоя, бешеный аллюр.
Из Летнего император редко возвращался прямо во дворец. Обычно куда-либо заезжал, и предугадать его посещения было трудно.
Зато в воскресные дни, моросит ли дождик, светит ли солнце, падает ли первая снежная крупа, — его императорское величество мчится к Михайловскому манежу на развод. Тут можно проверять часы — ни минуты опоздания. Лошади выносят карету на Невский, потом резкий поворот на Малую Садовую и — к Манежу. Обратно царь едет другим путем, мимо Михайловского театра и дальше по набережной Екатерининского канала.
Перовская обратила внимание, что только на одном, очень крутом повороте, у театра, кучер придерживает лошадей, карета едет почти шагом. Вот удобное место — здесь должны встать метальщики. Набережная Екатерининского канала обычно пустынна. Это и хорошо и плохо. При взрыве не пострадают прохожие, но и бомбисту трудно будет убежать, затеряться в толпе. А подкопа здесь не сделаешь — неоткуда.
Желябов изредка заходил на еженедельные встречи наблюдателей. Его интересовал маршрут царя. Нужно найти на пути следования императора подходящее помещение для ведения минной галереи.
На Невском это почти невозможно. Остается Малая Садовая.
В угловом доме графа Менгдена, там, где на Невский выходит кондитерская, сдается полуподвал. Это как раз то, что нужно. Подвал полуразрушен, требует ремонта. Но подо что же его приспособить? Андрею очень хотелось открыть тут магазин осветительных товаров — так легче маскировать динамит, запалы.
Но кто будет хозяином? От этого зависит и назначение лавки. Честь быть хозяином лавки оспаривали многие и особенно Перовская.
Но дело решили паспорта. Кобозевы, муж и жена, никогда не прописывались в Петербурге, по паспорту они крестьяне. Софья Львовна могла удачно играть роль служанки, гувернантки, но не крестьянки, ее «интеллигентность» сразу бросалась в глаза. Зато Анна Васильевна Якимова — типичная крестьянка.
Желябову тоже хотелось стать хозяином, но это значит, что он должен забросить на все время, пока ведется подкоп, иные дела. Не годится. Исполнительный комитет против.
Юрий Николаевич Богданович — лучшего хозяина и не сыскать, одна борода чего стоит. Да и в народе он пожил, походил, крестьянские обычаи, речь знает прекрасно.
Лавка с осветительными материалами отпадает. Крестьянам Кобозевым сподручнее продавать мясо или сыры. Именно сыры, с мясом возни много.
Кончался 1880 год.
«Народная воля» стояла на пороге своего последнего свершения.
Желябов вновь ожил. Он всюду поспевал — выступал в рабочих кружках, на сходках военных, в студенческих землячествах.
Его очень заботит будущее. Седьмое покушение на царя, средь бела дня, в центре Петербурга, — это может дорого стоить партии. Нужно собрать силы, нужно готовить на случай замену.
Москва — вот та ячейка, из которой может развиться новый Исполнительный комитет, в случае если покушение в столице приведет к гибели ныне действующего.
Значит, нужно побывать в первопрестольной. И Желябов уехал в Москву.
Канун Нового года часто рождает суеверия даже у людей, далеких от всякой мистики, неясных предчувствий и прочей чертовщины. На пороге 1881-го число суеверных резко возросло за счет тех, кто привык наслаждаться жизнью, чинов полиции, жандармерии, сыщиков и их многочисленных пособников из великосветских салонов. В фиолетово-огненном закате чудились грядущие грозы, разрушительные бури, зловещие предзнаменования.
Кто верил — гадали. Но духи бормотали что-то неясное, тревожившее своей невнятностью, иногда плели откровенную чушь. Пить стали больше обычного, чтобы заглушить тревогу. 1880-й кончался. Когда пришло время провожать год, все единодушно пожелали ему катиться ко всем чертям.
Но в это время в окна дворцов и хат, убогих лачужек зловонных окраин столицы и пустующих барских усадеб застучался ветер.
Сначала осторожно, с перерывами, как бы прислушиваясь — а не будет ли ответа; а потом настойчивее, злее, резкими дробными ударами. По окнам хлестнуло сухими пригоршнями снега, с крыш заструились саваны… Потом завыло, закрутилось, понеслось…
В блеклом мареве снежной кисеи сквозь завывания бурана вдруг отчетливо прорывались и вновь глохли тревожные удары набатного колокола, темный горизонт прорезали отсветы далеких пожаров, затем все меркло и кружилось в дикой пляске неба и земли.
В тесных комнатах табачный дым сероватыми ватными тампонами тянется к потолку. Жестяные абажуры пышут жаром, углы скрыты в полумраке. На ломаном ломберном столике догорает последний отблеск жженки.
Торжественная тишина. И вдруг высокий чистый голос медленно и старательно выводит:
Быстры, как волны,
Дни нашей жизни…
Голос так же внезапно смолкает. Но торжественность тишины нарушена, люди зашевелились, задвигали стульями, послышался перезвон стаканов, в комнате как будто стало светлей.
— Гей, хлопцы, чего приуныли, буйны головы к долу свесили, аль кручина на сердце камнем легла? — безбожно перевирая русские и украинские слова, задорно крикнул Фроленко.
— А ты сантименты не разводи, а наливай-ка жженку да дам к столу приглашай, Новый год уже в двери постукивает! — И только Баранников успел сделать широкий жест, как в дверь застучали.
Стук был настойчивый, требовательный. Опять воцарилась тишина. Блеснула вороненая сталь револьверов.
— Кто там?
— Новый год!
— Тьфу, пропасть! Тарас! Ну и напугал!..
В комнату влетел Желябов. От мороза, метели он раскраснелся, шуба напоминала снежный ком. Борода, усы, брови — сосульки. Дед Мороз без всяких переодеваний, тем паче в руках у Андрея Ивановича громадный сверток, в котором угадываются бутылки.
— Ура, ура, ура!..
— Опять сталь блестит? Новый год — это наш вечер, вечер без дел, а вы опять взялись за револьверы.
К Желябову подошла Перовская. Ласково положив руку на его занесенное снегом пальто, она улыбнулась, отобрала свертки и стала расстегивать крючки. Желябов вдруг засмеялся:
— Ну, разве я не говорил, что это упрямая баба и я ничего не могу с ней поделать!
Все заговорили разом.
Желябова вмиг освободили от шубы, шапки и потащили в комнаты.
— Друзья, друзья, Новый год уже наступил. Мы пропустили этот священный миг. Посему поднимаю тост за тех, кто был с нами ровно год назад, а сегодня взывает к мщению из-под безвестных могильных холмов!
Его тост застал собравшихся врасплох. Но все поспешили взять бокалы и в тишине осушили их, мысленно давая клятву.
— Грустный тост… Я не хотел бы подымать подобный в будущем году! А потому предлагаю наложить кару на Желябова.
— Верно, пусть рассказывает, как в Москве побывал.
Андрей не упрямился, но рассказывать-то было не о чем.
— В Москве мне всего раз пришлось столкнуться, и то с чернопередельцами. Человек сорок собралось. Ну и, конечно, сразу в словесную драку бросились. Насели на меня со всякими теоретическими вопросами. Теоретизировать-то легко, а я возьми да и спроси их: «Мы вот все теоретизируем, а мне хотелось поставить несколько практических вопросов; но для того чтобы рассуждать о практических делах, я хотел бы сначала знать, кто из вас, здесь присутствующих, жил в народе?» Представьте себе, из сорока участников сходки не нашлось ни одного! Что ты будешь делать! Тогда я им сказал, что мне не о чем с ними разговаривать.
Вмешался Саблин:
— Ты непоследователен, Андрей. Только что ругал нас за револьверы, объявил вечер без дел, а сам рассказываешь про дела. Штраф с него! Пускай поет.
Все рассмеялись.
— Какой я рассказчик! Ты лучше сам припомни, как Фроленко в тюрьме доверие начальства зарабатывал, у тебя это здорово получается.
— Нет, нет, господа, песню, давайте песню!
Звучит труба призывная, С радостью в бой мы идем.
Голос Желябова звенел. Пел он, запрокинув голову, пристукивая в такт правой ногой, и ничего, кроме песни, для него уже не существовало. Геся Гельфман опасливо прислушивалась к шумам на лестнице, но с разных этажей из-за закрытых дверей глухо доносились разухабистые напевы, протяжные страдания, взрывы хохота. Петербург справлял Новый год.
У хозяйки полно забот: она следит, чтобы все ели, пили, подносит закуски, подливает. Но столы в сторону, Кибальчич ударяет по клавишам пианино, и на середину комнаты выплывает Желябов. Грациозные поклоны дамам, уморительные ужимки.
— Дамы и кавалеры, танцуем кадриль… Закружились, переплелись пары. Желябов не пропускает ни одной дамы: вот он склонился к плечу Перовской и что-то ласково нашептывает ей, а через минуту в его объятиях Ошанина, великосветская непринужденность, утонченная галантность и холодный реверанс бросают Андрея к Гесе. Геся хохочет, отбивается, что-то смущенно бормочет и плывет по воздуху, поднятая сильными руками.
— Дамы и кавалеры, лансье!
— К черту! — Кибальчич устал играть, ему тоже хочется пройтись в паре, и он уже подставил руку Якимовой, задорно прищелкивая каблуками, как вдруг на середину комнаты с лихими выкриками выскакивают Желябов и Саблин. Пиджаки долой, в русских косоворотках, расстегнув ворот, они начинают отламывать трепака, да какого! Сначала «дамы» и «кавалеры» подхлопывают в такт, но сбиваются; танцоры ускоряют ритм. Звенит на столе посуда, мигают свечи, коптит лампа. Трепак заразителен. Якимова уже присоединилась, за ней сорвался Кибальчич… И скоро полтора десятка людей, ухая, взвизгивая, ухарски вскрикивая, носились в узком кругу. Жалобно потрескивают половицы. Трепак ужасающий. И, наверное, он не закончился бы до тех пор, пока изможденные танцоры не повалились без сил, но страшный стук в дверь прервал пляску.
— Кто там? — Опять у Геси встревоженный голос.
— Господа, нельзя же так! Мы сами веселимся, но вы превзошли всех. У нас свалилась лампа, упало на пол блюдо с пирогами, опрокинулись рюмки… Это же убытки, господа!
Голос за дверью жалобный, язык говорящего заплетается. Дружный хохот был ему ответом.
— Ужинать, ужинать, ведь скоро утро! Шумно сдвигаются столы, стирается испарина с раскрасневшихся, довольных лиц. Тихие песни и задушевные беседы затянутся здесь до утра. А ночь плыла над Россией.
Утро 1 января искрилось мириадами кристаллических фонариков, свет далекого солнца был нестерпимо ярок, а мороз жесток. Улицы Петербурга пусты, редкий прохожий нетвердой походкой спешит домой, досадуя на «лодырей извозчиков», да городовые, упрятав носы в башлыки, неторопливо приплясывают в будках. Из труб колоннами поднимается в блеклую лазурь неба дым, над ним вьются галки — им тоже холодно.
Полицейский пристав 1-го участка Спасской части Теглев не спешил с обходом — так не хотелось вылезать из теплой постели на мороз, да и голова разрывалась, во рту помойка — неизбежные последствия новогоднего пиршества. Но служба есть служба, а Теглева никто не мог упрекнуть, что он плохой служака.
Манежная, Малая Садовая… Но что это? На углу Малой Садовой и Невского, у дома графа Мегдена, суетятся двое. Одного Теглев признал сразу — графский дворник Никифор Самойлов. Рядом с ним какой-то странный господин: на нем не то тулуп, не то поддевка с претензией на деревенское щегольство; тщательно подстриженная, но густая, с рыжим отливом борода, из-под мерлушковой шапки выбиваются белокурые волосы. Дворник приколачивает к стене дома вывеску как раз над лестницей, ведущей в полуподвальное помещение.
Теглев подошел. Господин в поддевке снял шапку и, прижимая ее чуть ли не к животу, низко поклонился, как это делают крестьяне, завидев барина.
Самойлов оглянулся.
— Здравия желаем, ваше благородие. С Новым годиком вас, с новым счастьицем!
— Здоров, здоров, Никифор, и тебя с Новым годом! А что-то вы бога гневите и в праздник работаете? Иль заведение какое открываете?
Так точно-с, ваш благородь, гневим бога. Да вот господину Кобозеву невмоготу, спешит сырами своими побаловать обывателей, непременно-с сегодня лавочку открыть захотели, а без вывески торговлю вести не положено-с.
Теглев взглянул на вывеску: «Склад русских сыров Е. Кобозева».
— Ваше благородие, — проговорил вдруг густым басом хозяин склада, — не откажите, осчастливьте для начала торговли-с. Мы без денег… с Новым годом, милости прошу… спуститесь в заведение.
Теглев поморщился, но мороз уже давно забрался под шинель, пощипывал нос и пальцы ног, поэтому, немного помедлив, пристав стал спускаться в полуподвал.
Сырная лавка была тесна, два ее окна выходили на Малую Садовую, напротив окон — прилавок, за ним дверь в жилую комнату. Теглев огляделся и заметил: у окна на небольшом диванчике примостилась женщина. Она растерянно взглянула на пристава, встала с дивана и прошла за прилавок. Хозяйка была довольно полной блондинкой, небольшого роста, с неправильными чертами лица. На ней странная смесь костюмов, которые носят полукрестьянки-полумещанки.
Хозяин широким жестом указал приставу на прилавок и заговорил, немного окая.
— Премного вам благодарен, господин пристав, чем богаты, как говорится…
Теглеву ничего не оставалось, как только отблагодарить.
— Спасибо, спасибо, господин Кобозев. Кажется, так?
Много чести, ваше благородие. Мы не господа, как вы изволили величать. Я, к слову, крестьянин Евдоким сын Ермолаев из Тверской губернии, а супруга моя, Алена Федоровна, ажио из Московской происходит. Вы уж не обессудьте, ежели чего не так, мы ведь сырами-то до сей поры не торговали, только зачинаем. У себя в деревне я работал на Латошинском сыроваренном заводе его милости князя Мещерского, так ведь там только русско-швейцарский сыр и делали. Отменнейший, я вам доложу. А вот, извольте заметить, другие сыры только по названиям и знаем-то, эдемского, бакштейна, лимбургского или, к примеру, бри, иль вовсе камамбер, невшталь какой — эти не производились.
Теглев с удивлением посмотрел на говорившего. Его правильное произношение французских названий сыров никак не вязалось с крестьянскими оборотами речи.
Пристав явно тяготился присутствием в душной, пропитанной острыми запахами лавке, ругая себя за то, что поддался на уговоры хозяина и не мог отказаться от роли отца-благодетеля и привычки участкового взяточника. Наступило неловкое молчание. У пристава кружилась голова, руки были заняты большим свертком, поднесенным ему женой Кобозева. Неуклюже приложив два пальца к папахе, Теглев пробормотал не то «до свидания», не то «благодарю» и поспешно стал подниматься по лестнице.
Когда дверь за полицейским захлопнулась, хозяйка грузно опустилась на диван и с вопрошающим недоумением уставилась на Кобозева. Тот упорно хранил молчание, озорно улыбаясь.
— Юрий Николаевич, что все это означает?
— А что, Анна Васильевна, сердечко, поди, екнуло?
— Екнуло, особенно когда вы заговорили. Но, право, я не ожидала, что вам так ловко удается имитировать крестьянскую речь.
— В народ, в народ походил-с, дорогая моя хозяюшка, понаслышался, да и сам люблю.
По лестнице спускался встревоженный Желябов.
— Что случилось? Почему из подвала вышел пристав?
Андрей Иванович запыхался. Богданович только ухмыльнулся. Якимова откровенно смеялась.
— Ты посмотри на себя: борода в сосульках, шапка на затылке, душа нараспашку и не пьян — ведь подозрительно.
— Идите вы к черту! Что тут произошло?
— Ничего особенного. Их благородие захотело сырку для опохмелки, господин Кобозев прочел ему лекцию о сырах, а я что-то отвесила, вот и все.
— Фу!.. А я иду вас проведать, ведь вы раненько от Геси сбежали, настроение самое что ни на есть новогоднее, напеваю в усы — и вдруг нос к носу… Я было руку в карман. Смотрю, пристав сыр нюхает и морщится, вот-вот чихнет. Он ничего не заподозрил?
— А что подозревать-то: окромя лавки, бородатого мужика да нерасторопной бабы, ничего сумнительного нет.
Желябов с удивлением поглядел на Богдановича. Ай да Юрка, шпарит с этаким московским присказом, вот только борода не крестьянская. Якимова хохотала — это была нервная разрядка.
— Сегодня вечером сделаем наметку и начнем копать?
— Вы уже переехали?
— Нет еще.
— Не годится, нужно скорей. Пока вы приходящие хозяева, и нам в лавку нельзя сунуться.
— Да ведь в жилой комнате не закончили ремонт, там вода, да и асфальтовый пол весь в трещинах.
7 января Кобозевы переехали на жительство в лавку. Ночью в тесной комнатке собрались почти все члены Исполнительного комитета. Осмотрели помещение и решили вести подкоп из жилой части магазина.
Трактир как трактир. Их сотни, если не тысячи, разбросаны по столице Российской империи. Безвкусная вывеска с обязательным муляжом водочной бутылки, спертый воздух, пропитанный винными парами, гам, пьяные выкрики и бесшумные половые в русских рубахах навыпуск. В глубине отдельные кабинеты с претензией на дешевую роскошь. Они хороши только тем, что закрытые двери не пропускают звуков, половые предварительно стучат.
Двери хлопают, как по часам, каждые десять минут. Вместе с входящим в тесную каморку кабинета врываются острые запахи кухни и гомон веселых посетителей. В кабинете тишина. Желябов внимательно всматривается в лица собравшихся. Перовская о чем-то сосредоточенно думает, остановившись взглядом на ножке стола. Входит Рысаков, он последний. Молча кивает головой — слежки нет, можно начинать. Желябов встает и вдруг внезапно, без всяких предисловий:
— Кто из вас готов убить царя и, может быть, погибнуть?
Желябов на минуту замолчал, как бы ожидая ответа. Никто не шевельнулся, все ждали продолжения речи, чувствуя по ее началу, что конец будет ошеломляющий.
— Они пока неотделимы друг от друга. Убийство и гибель. Бросая клич, мы знаем, что убивший узурпатора-царя, наверное, будет замучен его опричниками и примет венец, но освобожденный народ воздаст ему должное, и в памяти народной он всегда останется в ореоле героя. Круг сузился, занесен карающий меч, его нужно вложить в достойные, надежные, могучие руки.
Сколько самоотвержения звучало в этих словах. Каждый задал себе вопрос: а хватит ли у него силы, веры, стойкости, чтобы встать на эту тропу? И, как бы отвечая на сомнения, кто-то тихо произнес знаменитые слова Герцена:
— Поймут ли, оценят ли грядущие люди?.. Желябов встрепенулся, на лету подхватил реплику:
— Террор? Он пугает слабых. Для сильных это средство исключительное, героическое. Но зато и самое действенное, лишь бы борьба велась последовательно, без перерывов. Все значение этого орудия борьбы и все шансы на успех заключаются именно в последовательности и непрерывности действий, направлять которые необходимо на определенный намеченный пункт. Под ударами систематического террора самодержавие дает уже трещины. У правительства вне его самого нет опоры; долго выдерживать подобное напряженное состояние оно не в силах и пойдет на действительные, а не призрачные уступки; лишь бы только борьба велась неуклонно. Замедление для нас гибельно, мы должны идти форсированным маршем, напрягая все силы; а за нами пусть идут другие по проторенному и испытанному уже пути, и они возьмут свое…
И как эхо: «И они возьмут свое…»
И снова тот же тихий голос, тревожа, настораживая:
— А они?.. Не подумают ли они о нас так же, как ныне пишут: «…де террор — это средство мести людей, обессиленных в пропаганде своих бредовых теорий»?
Настороженные лица смотрят на Желябова, но из угла раздается спокойный, ровный голос Перовской:
— Месть есть дело личное. Объяснять ею можно было бы, да и то с некоторою натяжкою, лишь террористические акты, совершаемые по своему собственному побуждению и инициативе отдельными лицами, а не организованной партией. Около знамени мести невозможно было бы собрать политическую партию и тем более привлечь к ней те общественные симпатии, которыми она, несомненно, пользуется. Формулой возмездия невозможно объяснить цели и мотивы русского политического террора. Возводя его в систематический прием борьбы, партия «Народная воля» пользуется им как могучим средством агитации, как наиболее действенным и выполнимым способом дезорганизовать правительство и, держа его под дамокловым мечом, принудить к действенным уступкам. Все иные пути нам заказаны самим правительством.
Клич был брошен. И не оказалось колеблющихся, прячущихся в тень. Каждый стремился быть первым. Желябов никого не хотел обидеть отказом, но право отбора было за ним.
И он отобрал тех, кого знал лично, в ком был уверен. Прежде всего молодежь. Она не имеет закалки опытных революционеров, но зато обладает и большим преимуществом — для нее нет преград, теней прошлого, все героическое — трофей молодости, и она его не уступит.
Николай Рысаков, ему девятнадцать лет, мещанин, студент. Его стойкость проверена дважды. Но слишком уж молод, его про запас.
Тимофей Михайлов. В этом рабочем-котельщике Желябов не сомневался. Уже много месяцев идут они рука об руку — Тимофей главный помощник Андрея по работе среди пролетариев, и они за ним пойдут в огонь, в воду.
Игнатий Гриневицкий — студент, ему уже двадцать четыре. Да, этому играть первую скрипку: он хладнокровен, четок, умен. Среди молодых он самый старший, самый умный. Первый снаряд ему в руки.
Иван Емельянов.
Его предложила Корба. Желябова очень тогда волновали метальщики снарядов. «Если мы не наберем нужного количества людей, мы не сможем организовать нападения в должных размерах», — вечно твердил Андрей, приставая к членам Исполкома, чтобы они сделали свои рекомендации.
Корбу смущала молодость Емельянова — всего двадцать лет.
У Емельянова «двойной» человеческий рост. Познакомившись с ним, Андрей тотчас прозвал его «Сугубым». Желябову юноша понравился.
— Годен в метальщики.
Не забыть бы себя, да и Соня рвется. Ей бы не следовало, но мало ли что может случиться с ним? Если его арестуют раньше, чем будет убит царь, ранят, никто, кроме нее, не сумеет довести начатое до конца. Она следила за выездами царя, она в курсе всех приготовлений, связей с рабочими, наконец, она — это он, как он — это она…
Вечером тихий, но напряженный разговор дома. Софья Львовна против участия Желябова в деле. Он не имеет права рисковать. Его никто не заменит в партии — ведь и так осталось мало людей.
Случайность повела за собой страшные провалы. Агенты градоначальства выследили и арестовали Баранникова и Колодкевича. Клеточников, служивший в департаменте полиции, не мог этого знать и попался в засаду.
Все лучшее, опытное брошено на цареубийство: Богданович и Якимова сидят в сырной лавке, Суханов, Фроленко делают снаряды, Кибальчич добывает динамит.
Она возглавит боевую группу!
Андрей ласково глядит на расходившуюся жену. Сколько деловитости и упорства, требовательности и женской заботливости! Она безупречна. Желябов привлекает к себе Перовскую. Голос его звучит мягко:
— Ты сосчитала всех, забыла лишь меня. Мне не оказалось места ни среди копающих, ни среди тех, кто готовит снаряды, — значит, я должен быть с теми, кто их будет метать. Да, да, а если не взорвется мина на Садовой, если снаряды дадут осечку, у меня есть кинжал, он доберется до царя.
Перовская понимает, что спорить бесполезно. Слезы сдавили горло. Сколько трагизма в этих ласковых словах!.. Они обречены, он это давно знает и не скрывает.
А Желябов уже смеется, кружит ее по комнате, отгоняя от жены страшные тени смерти. «Чего нам бояться? Не станет нас, найдутся на наше место другие. Мы не бессмертны, но партия, ее дела — они не умрут».
И Перовская не может не улыбнуться. Она отдает партии мужа, товарища, но берет себе любовь.
Длинные тени скрещивались, переплетались, ползали по стене, переламывались на низкий потолок, потом внезапно исчезали. Лампа едва чадила, вздрагивая от глухих ударов, из стекла вылетал язычок копоти.
Земля была мерзлой, ее били киркой. В тишине огромные комья падали в сырные бочки с пушечным грохотом. Никто не говорил ни слова, только сипловатое дыхание свидетельствовало о присутствии людей, занятых тяжелым трудом.
Подкоп продвигался медленно. Копали по ночам. Одновременно могли работать только двое, остальные ссыпали землю в бочки и откатывали их к стене.
Когда траншея углубилась и из помещения копать стало невозможно, забирались в пробитую нору, долбили землю лежа, на ощупь. На пути подкопа наткнулись на деревянную водосточную трубу сечением аршин на аршин. Подкопать снизу нельзя — подпочвенные воды затопят раскоп, сверху — близко к мостовой, может случиться обвал. Труба наполнена только наполовину. Решили пробить.
Зловоние было столь сильным, что работать стало возможно только в респираторах с ватой.
Желябов копал с остервенением. Скорей, скорей, да сей раз царь не уйдет от своей судьбы! Он вкладывал в каждый удар всю свою силу, все нетерпение, срывая на кирке неудовлетворенность всем ходом дел в партии. Под ритм работы хорошо думалось, мысль отбивалась в четкие выводы. Изредка в подземелье доносились цоканье копыт и шелест запоздавшего экипажа. Тогда сыпались комья земли, руки невольно задерживались, уши прислушивались. Ломовые битюги угрожали обвалом.
24 февраля ночь была наполнена тревогой. В дворницкой долго не гасили свет. Когда все стихло и Желябов забрался в траншею, на улице появился Никифор Самойлов. Он долго курил, кряхтел на морозе, зачем-то обошел вокруг дома, постоял у подвала. Потом ушел, но появился городовой. Андрея Ивановича предупредили, и он, не шелохнувшись, лежал в подкопе. Было жутковато сознавать, что ты замер в сыром саркофаге, отделенный от мира толщей мерзлой земли. Где-то там, наверху, — дома, люди. Спят, веселятся, думают. Там, наверху, Россия занесенных снегом хат, вонючих фабричных бараков, ярко освещенных дворцов. Андрей содрогнулся:
«Как далеко этот мир, как глубоко мы закопались от него в землю!»…
Андрея несколько раз окликали, предлагая сменить, но ответом были только тупые удары кирки. Когда он вышел — вернее, выполз, то у него не хватило сил распрямиться, лицо побледнело. И Желябов, силач Желябов свалился в обморок. Это не было физическим бессилием — сказалось нервное напряжение последних месяцев.
Круг сужался.
Обморок прошел, сменившись редким для Андрея сном. Но и во сне его преследовали кошмары. Из щели траншеи в комнату заглядывали безобразные лики в котелках и гороховых пальто. Потом его куда-то приподняло, и он отчетливо увидел патрон подкопа, а в нем, как пуля, — он сам. Кругом же вихрь, мелькают фабричные трубы, овины. Андрей рвется к Андрею, чтобы помочь ему. Но лежащий в подкопе бессилен, его руки заняты: в одной револьвер, в другой кинжал. Он стреляет в землю, а звук выстрела разлетается эхом слов: «Докопались! Докопались!» Он с ненавистью всаживает кинжал, клинок скребется о камень — «закопались».
«Докопались, закопались», вихрь пролетающей мимо жизни, и снова, как голгофа: «Закопались!», «Докопались!»
Андрей вскочил.
Та же комната, тот же светлячок лампы, тени и лицо Тригони, склонившегося над ним.
— Докопались, даже Андрея свалило. На сегодня хватит.
Февраль 1881 года подходил к концу. Пристав Теглев успел уже забыть о сырной лавке и ее хозяевах, да, признаться, и не до сыров было ему в эти тревожные зимние дни. Самые разноречивые, но неизменно грозные даже в своей нелепости слухи наполняли столицу, переползали из дома в дом, проникая сквозь закрытые ставни обывательских квартир, отравляя атмосферу беспечного веселья литературных салонов и великосветских клубов, заставляя жадно прислушиваться тех, кто жил в фабричных бараках или таился в революционном подполье. Как ни пыталось правительство скрыть правду даже от чинов своей полиции, но Теглеву было известно, что тридцать четыре губернии Европейской России охвачены крестьянскими волнениями. В городах стачки рабочих следуют одна за другой, студенты волнуются, а террористы пугающе молчат. Их арестовывают, гноят в сырых казематах, а кажется, что число их не убывает. Они проникли к рабочим, студенты почти поголовно с ними. Полиция с ног сбилась. Прямо как в канун «Великой реформы». Да нет, куда там — хуже!
Несколько раз встречался Теглеву графский дворник Никифор Самойлов, и каждый раз, здороваясь с приставом, он делал какое-то загадочное лицо и исчезал, как будто боялся расспросов.
Но вот однажды в конце февраля, возвращаясь домой, Теглев опять встретил Самойлова. На сей раз дворник подошел к приставу и почтительно попросил разрешения поговорить с ним «по секретному делу». Теглев пообещал зайти «назавтра».
Дворницкая графского дома находилась во дворе, напоминая собой не то сторожку, не то большую собачью конуру.
Самойлова на месте не оказалось, но его жена, суетливо обметая полотенцем лавку, заверила Теглева, что «сам» сейчас будет. И для того чтобы поторопить дворника, послала за ним вислоухого парнишку, выскочившего на мороз в картузе и босиком.
— Куда босой? — успела крикнуть мать. Но сына и след простыл.
— Вот уж истина, ваш благородь, у каждого свои душегубы есть, а у меня их пятеро — и никакого сладу с ними! Отец же дома не сидит, все вокруг сырной лавки бродит, крамолу какую-то ищет.
Заметив, что Теглев стянул с себя шинель и папаху, дворничиха заговорщически оглянулась на ситцевую занавеску, разделявшую пополам комнату, и, понизив голос, спросила:
— Ваш благородь, не откажите в милости, поясните мне, дуре неграмотной, что это за «крамола» за такая. Я намедни своего спрашивала об энтом, так он на меня с кулачищами полез. «Цыц!» — заорал, как на собаку какую паршивую.
Теглев удивленно посмотрел на нее. Дворничиха всхлипнула.
— Ваш благородь, боюсь я, как бы мой-то недоглядел и к антихристам в лапы не попался. Вы уж не оставьте его своим присмотром — ан и мы в долгу не останемся, отслужим чем бог послал.
Теглев сердито сопел, слушая разглагольствования дворничихи. «Что получается, — думал Теглев, — ведь вот у таких дур, как она, если не крестьяне, так уж все и бары. Не дай бог в случае чего, так крестьяне вместо нигилистов своих же помещиков и порешат. А виноватыми кто будет?»
В это время в комнату не вошел, а прямо вбежал Самойлов. Даже не скинув с себя тулупа, почтительно присел на кончик скамьи, зашептал:
— Ваш благородие, лавку-то сырную в нашем доме помните?
— Ну, помню, — буркнул Теглев.
— Так она подпольная, эта лавка, — выпалил дворник, выпучив глаза и ожидая, что его открытие ошеломит пристава.
Но Теглев вдруг обозлился.
— Болван! У меня глаз, что ли, нету, что я, сам не вижу каждый день, что твоя вонючая лавка в подвале находится? Тоже мне, секрет открыл называется.
Самойлов вскочил, и на лице его было написано изумление.
— Ва… ш… ш… благоро… ди… е, — залепетал он. — Да подпольная она не в смысле того, что в полуподвальчике, а как бы нелегальная, ну и всякое там душегубство, — окончательно растерявшись, бормотал дворник, подыскивая подходящие слова.
Пристав насторожился: только теперь он понял, что имеет в виду Самойлов.
— Эх, темнота! «Подпольная», — передразнил Теглев дворника. — Не «подпольная», а «конспиративная», — стал он поучать повеселевшего Самойлова модному тогда в России словечку. Теперь и Теглев заговорил вполголоса:
— А почему ты думаешь, что она конспиративная?
— А как же, ваше благородие, об энтом все жильцы нашего дома промеж себя говорят. Да и кто из обывателей с Садовой в нее заходит, тоже так думают.
— Ну, ну, ты не завирайся! Я на Садовой всех знаю, а такого про лавку от них не слыхал. Улица-то царская!
— Тык они, ваш благородь, вам сказывать боятся. А лавка и впрямь нечистая сила…
Теглева передернуло. Какой-то дворник, видите ли, знает о том, что говорят жители вверенной ему улицы, а он, пристав, об этом не слыхал.
— Ну, ты про нечистую попу рассказывай, а мне выкладывай все начистоту, все, что знаешь, что приметил недозволенного.
Самойлов заторопился:
— Все, как на духу, ваше благородие, все обскажу. Я за энтой лавкой, почитай, цельный месяц приглядываю, дрова им подносить нанялся. Вот и приглядел я, что дрова-то мне велят в сенях сбрасывать на заднем ходу, а в комнаты или в переднюю не пускают, сами их апосля переносят. «С чего бы это?» — думаю. И с того дня стал примечать, что и торгуют-то они не по-настоящему. Ну, разве ж это торговля? Какой торговец настоящий, так тот норовит открыться пораньше да запереть заведение ажио с петухами, а эти? Почитай, три дня в неделе лавку под замком держат. Особливо странно, ваш благородь, что к ним чуть не каждый день какие-то господа приходят, а ночью ломовик приезжает с бочками. Сбросит их на заднем дворе да и давай из лавки другие вытаскивать. Я это пригляделся раз, вижу — те бочки, что возчик привозит, пустые. Он их запросто бросает, а те вон, что из лавки берет, дык они с хозяином во двоих еле тащат. Вот и сдается мне, ваш благородь, что сыры-то как бы для отводу глаз, только ума не приложу, к чему бы это?..
Теглев весь обратился в слух. Теперь и он припомнил странных хозяев лавки, сделавших ему в новогоднее утро презент сыром. Дворник же доверительно продолжал:
— Судите сами, ваше благородие, за полуподвальчик энтот господа Кобозевы его милости графу нашему тысячу двести рублев уплатили. Да разве ж у крестьян такие деньги водятся? А уж ежели к слову сказать, то никоим обличьем господа Кобозевы на сельчан не походят. Да и живут не по обычаю::жена-то хозяйская иной раз как уйдет на ночь со двора, так только утром и заявится, уж я-то об энтом доподлинно знаю. Я, ваше благородие господин пристав, до поры и не смел вас тревожить, а вчерась не утерпел: избави бог, какая оказия приключится, время — оно ныне вишь какое…
Заметив, что дворник собирается начать разговор «вообще», Теглев встал и начал одеваться. Самойлов засуетился, подал приставу шинель, папаху, искательно заглядывая ему в лицо и стараясь угадать, какое впечатление произвел на полицейского его рассказ.
— Ты, того, помалкивай, да знай смотри в оба, а за царем служба не пропадет, отблагодарят…
— Рад стараться, ваш благородие, — чуть не прокричал обрадованный дворник и распахнул перед приставом двери.
Теглев поспешил в Спасскую часть и доложил по начальству все, что узнал от Самойлова, не преминув подчеркнуть свои заслуги и распорядительность.
На Симбирскую улицу, где жил Гриневицкий, добирались долго и в кромешной тьме. Выборгская сторона не освещалась — ведь здесь обитал рабочий люд.
Тимофей Михайлов сжег целый коробок спичек, пока обнаружил дом № 59. Перовская устала.
Комната Игнатия была почти без мебели. Жарко натоплена. Гриневицкий суетливо собирал на стол, но запасы его были скудные.
Желябов нетерпеливо переминался с ноги на ногу, досадуя на хозяина. До чая ли сейчас? Но чай — обычная уловка конспираторов на случай появления непрошеных гостей. А они могли нагрянуть в любую минуту. Последние дни Андрей жил под гнетом недобрых предчувствий. Это мстили нервы за непосильную ношу, которую он взвалил на них.
Говорили скупо. Гриневицкий и Рысаков изложили маршруты поездок царя. Император стал осторожен и редко выбирается из дворца. Но каждое воскресенье он непременно присутствует на разводе караула у Михайловского замка. Это вошло в привычку российских самодержцев и стало частью дворцового этикета.
Желябов подвел итог и набросал план нападения. Если император минует Малую Садовую, то у него один путь — по набережной Екатерининского канала. Здесь нет мин, здесь должны быть метальщики. «Здесь должен быть и я, — подумал Андрей, — с бомбой или кинжалом, все равно».
Перовская сообщила, что вечером 28-го на квартире Веры Фигнер состоится заседание Исполнительного комитета. Рысаков и Михайлов приглашаются тоже. Но до этого им предстоит встретиться с «техником» и провести еще одно испытание метательного снаряда. Имени Кибальчича Перовская не упомянула: он был в эти дни «самой засекреченной фигурой» в партии.
Ночь свежая, но не морозная. Дышится легко-легко.
Андрей бережно вел Софью Львовну под руку, чутьем угадывая дорогу; он по-прежнему ничего не видел во тьме.
Говорить не хотелось. Да и о чем? Все продумано, все подготовлено. В это предприятие вложена жизнь. И сегодня подведена черта. Рассуждать же о том, что будет завтра, значит заглядывать через край могилы.
Когда подходили к дому, в воздухе закружились тихие снежинки. Они долго блуждали в отсветах тусклых фонарей, как бы стараясь увернуться от холодных, темных объятий земли.
Развязка приближалась, исполнительный комитет бросил все свои наличные силы на убийство царя. Но Желябов помнил, что есть рабочие, есть студенты, военные. Он надеялся, что после убийства Александра II они-то и совершат революцию, помогут захватить власть, будут первыми глашатаями новых, социалистических преобразований. Он всегда верил в силу слова, в пропаганду.
И эту веру неожиданно подкрепило письмо Нечаева из Петропавловской крепости.
Совсем недавно Желябов, как и большинство народников, боялся «нечаевщины», «генеральства». Централизованная организация, жесткая дисциплина Морозову, например, казались «чиновничеством», а не «товариществом». Ольга Любатович считала, что в организации должна быть полная свобода и равенство членов.
Но «Народная воля» давно стала централизованной организацией. И теперь Нечаев уже не был пугалом.
А Нечаев совершил удивительное. Узник петропавловской одиночки, он умудрился распропагандировать своих стражей. Это они передали письмо Нечаева Исполнительному комитету. Нечаев был уверен, что в любой момент он сможет выйти из крепости и привести с собой еще человек сорок на все готовых людей. Желябова это известие взволновало. Побег Нечаева был бы наглядной иллюстрацией действенности пропаганды.
Андрей бродит вокруг Петропавловки. Строит смелые планы — попасть в крепость, повидаться с Нечаевым. Исполнительный комитет считает, что Нечаев должен повременить с побегом, пока не будет убит царь. Ведь если Нечаеву удастся уйти из крепости, его будут искать. Начнутся новые аресты, это помешает убийству царя.
Нечаев согласен. Но Желябов не перестает думать о нем. Письмо Нечаева всегда в кармане, как напоминание, а может быть, и как упрек.
Михаил Тригони несколько раз давал себе слово перейти на нелегальное положение, особенно после того, как осенью 1880 года получил известие, что его разыскивает полиция. Но обещания обещаниями, а пост присяжного поверенного одесского окружного суда — прекрасная ширма для конспиративной деятельности. Тригони не спешил.
Приезжая в чужой город, присяжный поверенный не может жить где-нибудь и как-нибудь. Он не купчишка и не провинциальный актеришка, а адвокат. Респектабельные меблированные комнаты вроде Мессюро на углу Невского и Караванной — это подходит.
Тригони въехал к Мессюро в конце января. Прибытие нового жильца всегда вызывает любопытство, но очень скоро забывается. Постоянным жильцам примелькались лица приезжающих и отъезжающих, временные постояльцы слишком заняты делами, чтобы долго заниматься адвокатом из Одессы.
Тригони и не стремился привлекать к себе внимание, целиком уйдя в дела партии. Днем бесконечные встречи, переговоры. Дела! Дела!..
И так весь февраль. А последние две ночи он копает на Малой Садовой.
Уже скоро два часа. Невский пустынен. Поземка засыпает сухим снегом глаза, больно пощипывает щеки. Тригони устал. Целый вечер он то копал, то таскал бочки с землей. А тут еще обморок с Желябовым. Нервы сдают у всех. Тригони оборачивается и внимательно оглядывает улицу. Никого.
Хлопает парадная дверь. Сонный швейцар только сильнее всхрапывает. Квартира № 12. Тригони входит и, с трудом сбросив на стул заснеженное пальто и шапку, в изнеможении валится на постель.
Утро — так же сеет снег, на улицах царствует ветер.
Нужно внести хозяйке деньги за постой, а наличных нет. Зато имеется кольцо. Тригони натягивает сырое пальто и, позевывая, выходит в коридор. Дверь напротив открыта. Жилец, какой-то флотский капитан в отставке, чертыхаясь, старается расстегнуть застежки дорожного баула.
В меняльной лавке сидят откровенные жулики. За кольцо с дорогим камнем предложили сто рублей, тогда как самое меньшее оно стоит все пятьсот. Но деньги нужны.
20 рублей отданы г-же Мессюро.
В коридоре все тот же капитан. Он тоже куда-то выходил и теперь тщательно стряхивает снег с шинели. Завидев Тригони, капитан улыбнулся:
— Здравия желаю. Ну и погодка!..
— Здравствуйте. — Тригони зол, и приветствие вышло не слишком-то любезное. Чувствуя неловкость, Михаил Николаевич пояснил: — Расстроили меня ироды торгаши, на целых четыре сотенных обжулили.
Капитан сочувственно крякнул, но, узнав обстоятельство обмена, стал укорять Тригони, что тот не обратился к нему. Человек он состоятельный, одинокий, любит красивые вещи и вообще предпочитает иметь капитал не в наличности, а в ценностях. Ныне наличность очень ненадежна. Почем знать! Тригони тронут участием и решимостью капитана прийти на помощь.
Но ему некогда, днем масса встреч, и прежде всего с Желябовым. И опять день наполнен хлопотами, беготней, мимолетными свиданиями, и так до ночи.
В одиннадцать часов в коридоре капитан снова очищает шинель от снега. Тригони быстро разделся и лег. Но сон не шел. Какое-то гнетущее чувство не давало покоя. Он силился сосредоточиться, чтобы понять, что его тревожит.
В коридоре хлопнула дверь, шаркнули ночные туфли. «Капитан! Да, да, я его сегодня два раза замечал на улицах в разных концах города… Ужели слежка? Нужно незаметно съехать с квартиры».
Снова хлопнула дверь напротив. «Придется-таки уходить на нелегальное, а жаль…» С этой мыслью Михаил Николаевич уснул.
За ним следили. 26 февраля Тригони в этом уже больше не сомневался и твердо решил 27-го исчезнуть.
Часов в пять вечера 27 февраля Тригони зашел к Суханову и попросил его помочь тихонько вынести из квартиры чемодан с двумястами экземплярами «Народной воли» и нанять рысака.
В половине седьмого вещи собраны. Суханов запаздывает. Тригони настороженно прислушивается. Чьи-то твердые шаги. В комнату входит Желябов.
— Здравствуй! У тебя в коридоре, кажется, полиция!
— Беги, это за мной!
— Теперь не убежишь.
— Подожди.
Михаил Николаевич выходит в коридор.
— Катя, принесите самовар!
До Желябова доносится шум борьбы. Хлопает дверь, и все стихает. Теперь очередь за ним. Сопротивляться? В кармане «смит-вессон». Но их много. Желябов метнулся к окну. Во дворе усиленный наряд полицейских.
В номер входят.
— Ваши документы!
Андрей не торопясь лезет в карман за паспортом. Рука натыкается на запечатанный конверт. Желябов холодеет. Там шифровка, письмо Нечаева из крепости. Хотя шифр трудный, но еще нет такого ключа, который не смогли бы разгадать специалисты. Минутная слабость овладевает Андреем. «Выхватить револьвер, последнюю пулю в висок». Нет! Он еще будет бороться, бороться не пулями и бомбами, а словами, на суде, на эшафоте, где угодно, но его еще услышат!
— Прошу вас. — Желябов протягивает приставу паспорт.
— Дворянин Слатвинский Николай Иванович?
— Да, это я. А в чем, собственно, дело? — Голос у Желябова надменный, вид солидный.
Пристав растерян.
— Прошу прощения, но вынужден вас задержать. Следуйте за мной.
Желябов медлит. Всего несколько шагов до двери. Двое полицейских не помеха. Их можно застрелить, наконец, просто сбить с ног. Но дверь наверняка заперта, и одним ударом ее не высадить.
Через час две закрытые полицейские кареты доставили Тригони и Желябова в канцелярию градоначальника. Там же присутствовал товарищ прокурора судебной палаты Добржинский.
28 февраля, часов в десять утра, Кобозев открыл сырную лавку. Сняв тяжелый замок на дверях, он не спешил вернуться в подвал и с наслаждением вдыхал морозный воздух, отворачиваясь от солнечного света. Глаза его ввалились, давно не бритая борода разрослась чуть ли не до ушей. Немного постояв на улице, Кобозев спустился вниз. В лавке грязно, на полу, подметенном, как видно, наспех, виднелись землистые отпечатки ног, диван у окна исчез, и обнажились рваные обои. Кобозев молча прошел в комнату за прилавком и бросился на деревянный диван. Ему нестерпимо хотелось спать. Глаза закрывались сами, по телу разливалась сладостная истома, отодвигая окружающие предметы, затуманивая сознание.
В это время в лавке хлопнула дверь, послышались тяжелые шаги нескольких человек, спускающихся в подвал. Кобозев, сделав над собой усилие, проснулся. Открыв дверь комнаты, он остановился на пороге.
Заполняя все свободное помещение тесного полуподвальчика, в лавке находились трое.
Двоих Кобозев узнал сразу — дворника Самойлова и участкового пристава Теглева. Но третий господин в тяжелой шубе на меху и каракулевой шапке выглядел как-то странно, казалось, он привык к другой одежде, а эта его стесняла.
Всмотревшись, Кобозев вдруг почувствовал слабость в коленях: господин в шубе был не кто иной, как известный в Петербурге техник — генерал-майор Мровинский.
«Вот и конец! — мелькнуло в голове. — Сейчас они все обнаружат». Рука невольно потянулась к правому карману сюртука, где всегда лежал заряженный револьвер.
— Господин Кобозев, — выступив вперед, сказал Теглев, — по распоряжению его превосходительства градоначальника в вашей лавке надлежит произвести технический и санитарный осмотр. Потрудитесь отвечать на все вопросы господина инспектора.
«Бежать, бежать! — лихорадочно соображал Кобозев. — Но как? Застрелить Самойлова, загораживающего выход, — схватит пристав. Выбить окно? Нет, не годится, рамы двойные, полуподвал…»
Между тем переодетый генерал тщательно осмотрел прилавок с сырами, подошел к окну и постучал по обивке стен.
— Зачем эта обшивка? — резко спросил он.
— От сырости.
Попробовав прочность половиц, инспектор приказал Самойлову заглянуть под лестницу.
— Где у вас хранятся сыры?
Кобозев посторонился, пропуская инспектора в комнату за прилавком. В комнате лежала большими кучами земля, сверху ее прикрывали солома, кожа, рогожи и драный половик. Бочки из-под сыра также были заполнены землей, под одной из них расплывалось пятно сырости.
— Это что?
— Сметану на масленой пролили, ваше благородие.
— Но ведь это жилое помещение, а не склад? Дрожащим от волнения голосом Кобозев пояснил:
— Мы, ваше превосходительство господин инспектор, тутотки и спим и сыры хороним. Оно, конечно, пахнет, так мы привычные, в деревнях вместях со скотиной в избе проживали. А так сподручнее, и товар завсегда на глазах, да и за склад платить не надобно.
Осмотр комнаты ничего не дал. Присев к столу и брезгливо отодвинув в сторону грязную посуду, «инспектор» быстро написал акт и дал его прочесть немного оправившемуся от испуга Кобозеву.
Хозяин лавки читал не спеша, шевеля губами и косматой бородой, потом, взяв карандаш, неуверенно, печатными буквами вывел свою фамилию.
Через час раздался звонок. Кобозев глянул в окно и бегом бросился открывать. Вошла «жена». Якимова остолбенела. «Муж» приплясывал, подпрыгивал и чуть не во весь голос кричал:
— У нас был обыск! У нас был обыск!
— Если бы это был обыск, ты бы теперь не плясал тут…
— Да нет же, говорю тебе — обыск! Богданович подробно живописал налет полиции.
Якимова побледнела, опустилась на диван.
— Анна Васильевна, не узнаю я тебя. Ведь не впервой же ты подкопы делаешь, вспомни Одессу. Ну что это ты, голубушка, так разволновалась?
— Ничего, ничего, Юрий, сейчас пройдет. Видно, даром подкопы не даются. Нервы совсем расшатались.
— Да ты приляг, успокойся, а я побегу предупрежу наших. За лавкой определенно следят.
В тот же день, к вечеру, в Смольном монастыре рано отслужили службу, и немногочисленные богомольцы разбрелись по домам.
Монастырь своими стенами выходит к берегу Невы. На противоположном берегу тянется огромный пустырь. Он то понижается, переходя в неглубокий овраг, то вспухает небольшими холмиками, поросшими редким кустарником. Домов поблизости не видно, так как в дни наводнений пустырь заливает вода, поднимаясь на шесть-девять футов выше своего нормального уровня. Зимой тут всегда свирепствуют колючие ветры, сдувая снег с вершин холмов и засыпая им овраги.
Когда короткий зимний день начал клониться в туманные сумерки, стирающие очертания далеких строений, на пустыре, проваливаясь в глубоком снегу овражков и скользя по обледенелому насту холмов, появились четыре человека. Впереди товарищей, прокладывая дорогу, шел Тимофей Михайлов. На нем была длинная шуба с волчьим воротником и шапка-ушанка. За ним, засунув руки в карманы теплого пальто, еле поспевал Николай Кибальчич. Шествие замыкали Рысаков и Гриневицкий.
Рысаков шел последним, часто останавливался, осматривал пустырь и потом бегом нагонял ушедших. Стены Смольного монастыря растворились в предвечерней мгле, высокий холм скрывал берег Невы. Михайлов остановился и уступил место Кибальчичу. Подождав, когда отставшие подошли и окружили его, Николай Иванович вытащил из кармана пальто белый сверток, развернул материю и, взяв в руки жестяную коробку, тихо, но отчетливо, как на лекции, проговорил:
— Перед вами взрывчатый аппарат, с устройством которого вы уже знакомы. Объясняю еще раз. Внутри жестянки заключены четыре сообщающихся друг с другом посредством запала из стопина снаряда. Первый снаряд заполнен серной кислотой. Во втором находится смесь бертолетовой соли, сахара и сернистой сурьмы, в третьем — студень гремучей ртути, а в четвертом заложен пироксилин, пропитанный нитроглицерином. Аппарат этот должен взорваться от удара или даже от сильного сотрясения. Взрыв его будет в шесть раз сильнее, нежели бы мы имели дело с обыкновенным порохом.
«Техник» кивнул Михайлову. Тот быстро сбросил шубу и взял жестянку, остальные легли на снег. Брошенный сильной рукою аппарат скрылся в темноте, но через мгновение раздался резкий взрыв, яркое пламя на секунду выхватило из темноты взволнованные лица людей, лежащих на снегу. Просвистели осколки, комья мерзлой земли, и вновь стало тихо. Теперь темнота казалась еще гуще. Первым вскочил и побежал к месту взрыва Кибальчич, остальные бросились за ним. На белом полотне снега видна была темная воронка, по краям которой проступали островки копоти, вокруг снег был очищен, точно по нему прошлись гигантской метлой.
Рысаков нарушил молчание:
— Скажите, а на каком расстоянии от места падения бомбы ее взрыв сохраняет убойную силу?
— Не знаю, — ответил «техник». — Это первое испытание аппарата подобного устройства, но, судя по тому образцу, который мы испытали две недели назад, все живое должно быть уничтожено саженей на пятнадцать-восемнадцать, так как взрыв этой конструкции гораздо сильнее.
Обратно — чуть ли не бегом. Миновали монастырь и, убедившись, что за ними никто не следит, разошлись в разные стороны, чтобы потом сойтись у Вознесенского моста.
Вечером 28 февраля на квартире Веры Фигнер и Исаева собрались члены Исполнительного комитета. Последними подошли приглашенные Кибальчич, Рысаков, Гриневицкий, Михайлов. Не было Желябова и Тригони. Но их не ждали. Перовская очистила свою квартиру. Исполнительный комитет уже почти не сомневался, что они арестованы.
Сообщение Кобозева встревожило не на шутку. Полиция подобралась к подкопу. Сегодня обошлось, а завтра могут обнаружить. Завтра царь едет на развод караула. Значит, завтра и нужно действовать, без промедлений, решительно.
Договорились собраться утром 1 марта на квартире у Геси Гельфман и там окончательно распределить роли. Перовская взяла на себя руководство нападением.
Оставшись один в своей неуютной, запущенной комнате, Рысаков увял, заметался. Сомнения и страх перед неизбежным охватили его. Он то ложился на постель, то вскакивал и бегал, именно бегал из угла в угол пустой комнаты. Смотрел на часы и каждый раз, заметив, что стрелка подвинулась еще на полчаса, еще на час, глухо стонал, бросался на кровать, натягивал на голову одеяло, но сон не шел. Голова пылала, а по телу пробегал озноб, мысли были путаные, бессвязные, и над ними господствовал страх: «Ведь схватят, все равно схватят, не сегодня, так завтра, через неделю, а там виселица». Воспаленное воображение рисовало разъяренную толпу, обломки царской кареты, трупы, и он в лапах полиции. Сердце обрывалось. Липкий пот заливал глаза. «Нет, нет, только не смерть! Пусть Шлиссельбург, каторга, но жить, жить любой ценой! А что, если?.. Завтра Тихвин, дом, а там за границу?» И опять глухой стон: «Но они не простят, у них за границей своя агентура, убьют из мести или из опасения, что проболтаюсь». Выхода нет. В ночной тишине из каждого угла смотрит смерть. Рысаков затихает. Сон, спасительный сон побеждает кошмары.
Гриневицкий спешил: скоро утро, а ведь нужно еще поспать, чтобы днем быть бодрым. Голова ясная, мысли четко сменяют одна другую и ложатся на бумагу ровными, убористыми строками. «Может быть, написать родным? После стольких лет молчания и конспирации с мамой попрощаться? Нет, времени не хватит, если умру, то в «Михаиле Ивановиче», «Котике» никто не узнает Игнатия Гриневицкого, живым же я в руки не дамся. Пусть мама думает обо мне, что я жив».
Минута раздумья, и опять заскрипело перо, потекли последние строки «завещания»:
«Александр II должен умереть. Дни его сочтены.
Мне, или другому кому, придется нанести страшный последний удар, который гулко раздастся по всей России и эхом откликнется в отдаленнейших уголках ее, — это покажет недалекое будущее.
Он умрет, а вместе с ним умрем и мы, его враги, его убийцы.
Это необходимо для дела свободы, так как тем самым значительно пошатнется то, что хитрые люди зовут правлением — монархическим, неограниченным, а мы — деспотизмом…
Что будет дальше?
Много ли еще жертв потребует наша несчастная, но дорогая родина от своих сынов для своего освобождения? Я боюсь… меня, обреченного, стоящего одной ногой в могиле, пугает мысль, что впереди много еще дорогих жертв унесет борьба, а еще больше последняя смертельная схватка с деспотизмом, которая, я убежден в том, не особенно далека и которая зальет кровью поля и нивы нашей родины, так как — увы! — история показывает, что роскошное дерево свободы требует человеческих жертв.
Мне не придется участвовать в последней борьбе. Судьба обрекла меня на раннюю гибель, и я не увижу победы, не буду жить ни одного дня, ни часа в светлое время торжества, но считаю, что своею смертью сделаю все, что должен был сделать, и большего от меня никто, никто на свете, требовать не может…»
Вот и все. Уже занимается утро. Нужно спать.
Поздним вечером Вера Фигнер изгнала из конспиративной квартиры у Вознесенского моста всех, кто мешал работе. Остались Софья Перовская и «техники», изготовляющие бомбы.
Перовская была вконец измучена событиями этого дня, руки у нее дрожали. В таком состоянии она не только не могла ничем помочь, а, наоборот, нужно было опасаться, что усталая женщина одним неосторожным движением взорвет квартиру. Софью Львовну уговорили прилечь, и она сразу уснула.
Всю ночь горел свет в окнах дома у Вознесенского моста. Четыре человека молча трудились, и со стороны могло показаться, что они заняты мирным изготовлением срочного заказа.
Вера Фигнер и Суханов большими ножницами кромсали жестянки из-под керосина. В углу комнаты, где пылал камин, Николай Кибальчич отливал свинцовые грузики и заполнял жестянки темной массой, похожей на студень.
В два часа ночи Вера Фигнер уснула, а когда в восемь часов утра Перовская разбудила ее, то в комнате все еще горели лампы и тлел камин. Перовская уходила, положив в свою сумку два готовых снаряда.
Следом ушел Суханов. Его место заняла Фигнер, помогая Кибальчичу и Грачевскому доделать оставшиеся два снаряда. Когда и они были окончены, Кибальчич унес бомбы. Было около девяти часов утра 1 марта 1881 года.
К девяти часам в квартире на Тележной улице собрались все, кто должен был принять участие в нападении на царя. Не было Желябова и Перовской.
Прошел еще час. Никто не разговаривал, прислушивались к хрусту снега под ногами прохожих. Хозяйка квартиры не отходила от окна, готовая подать сигнал. Вдруг она радостно бросилась к двери. Вошла Софья Львовна.
— Желябов арестован, теперь это известно достоверно, — тихо проговорила она и устало опустилась на стул.
Все замерли. Рысаков побледнел. Михайлов так сжал кулаки, что в тишине нестерпимо громко прозвучал хруст костей. На диване тихо всхлипнула Геся Гельфман. Перовская встала и подошла к ней.
— Не нужно, Геся, не нужно плакать, сегодня нам необходимы все наши силы. — У Перовской подергивались губы и подбородок, но, сделав усилие, она глухим голосом продолжала: — Позавчера вечером он пошел на свидание с Тригони. Я его проводила — и больше не видела. Домой он не вернулся. Я прождала его вчера весь день, а к вечеру ушла из нашей квартиры и ночевала у товарищей в динамитной мастерской. Сегодня утром узнала, что Тригони арестован, значит, и Желябов.
В это время в комнату вошел Кибальчич и положил на стол сверток.
— Желябова нет, но мы не можем откладывать начатое.
Перовская взяла свою объемистую сумку и, подойдя к столу, вынула из нее бомбы.
— Вот метательные снаряды. Их мало, но нужно довольствоваться малым и действовать так, чтобы хоть один из них достиг цели. Идите сюда!
Схватив попавшийся под руку конверт, она быстро нарисовала на его чистой стороне план, обозначив на нем Михайловский дворец, Манежную площадь, набережную Екатерининского канала, Малую Садовую, Невский проспект, Б. Итальянскую.
— Царь сегодня едет на развод к Михайловскому замку. Если он направится туда по Малой Садовой, то его там уже ждут. — Перовская поставила крест на углу Малой Садовой и Невского. — Но если он минует ее, то мы должны перекрыть все возможные пути подъезда к замку и из него. Рысаков! Вы станете у Екатерининского сквера. Ваше место, «Михаил», на углу Малой Садовой и Невского. Только смотрите, не подходите близко к кондитерской Исаева, вы ее знаете, мы там не раз собирались. Как бы царь ни поехал, но миновать угла Итальянской и Манежной площади он не может, поэтому здесь встанут двое, вы, Тимофей, и вы, «Михаил Иванович», — голос Перовской потеплел, — надеемся на вас и уверены в вашей стойкости, дорогие мои друзья. Я буду на Михайловской улице следить за царским кортежем. Если услышите взрыв на Садовой, спешите туда и действуйте по обстоятельствам. Если царь благополучно проедет в замок, я дам знать, и тогда сходимся на Михайловской, чтобы встретить его на обратном пути. Все понятно?
Перовская замолчала и взяла снаряд. Кибальчич подошел к ней и отобрал бомбу.
— Вам ее не бросить, а снарядов мало, — это было сказано резко, но все поняли, что дело не в количестве снарядов, а в том, чтобы оградить эту женщину и руководителя «Народной воли» от опасности.
Перовская увидела, что спорить бесполезно, ее не поддержат.
Разобрав бомбы, все присели по русскому обычаю. Перовская опустилась на диван рядом с Гесей и ласково проговорила:
— Я верю, Гесенька, что твой малыш, когда вырастет, не будет бросать бомб для того, чтобы жить счастливо.
Его императорское величество давно не был в таком радужном настроении. С нетерпением император ожидает окончания ужина. Приглашенный к царскому столу обер-прокурор Святейшего синода Победоносцев старательно пережевывает каждый кусок, наследник Александр Александрович не подымает глаз от блюда и тоже жует, жует. «Вот уж поистине «Мопс» — весь в прадеда Павла Петровича». Император сдергивает салфетку, встает и, не обращая внимания на сотрапезников, быстро выходит из столовой. Он почти ничего не ел, но впереди ужин в тесном семейном кругу с княгиней Юрьевской. В ее покои даже нахал Победоносцев не решится подняться, а цесаревич Александр избегает их, как зачумленное место. Император улыбается. Победоносцев… Как этот святоша отговаривал его вступать в морганатический брак с Катенькой Долгорукой! Как бы не так!.. Ныне она пока еще Юрьевская, но он добьется для нее титула императрицы, вопреки всяким там Победоносцевым.
А ведь граф Лорис-Меликов терпеть не может этого обер-прокурора. Нужно их столкнуть — то-то будет потеха! Но граф молодец! Император осторожно стучит в двери гостиной своей молодой жены. Входит.
— Ваше величество, — говорит царь, с удовольствием отмечая, как зарделись щеки юной супруги, — граф Меликов доставил нам чрезвычайно отрадные известия. Я поспешил к вам, прервав ужин.
— Ах, ваше величество, я, право, не знаю, как и благодарить вас за внимание.
Император молча склоняется к руке.
— Ваше величество, я сгораю от любопытства, чем мог так порадовать вас этот противный граф? Вы ведь знаете — я не состою в свите его поклонников.
— И напрасно, княгиня. — Александр нарочно подчеркнул титул, напомнив молодой жене ее положение. — Граф Меликов не только слуга, исполнитель моей и вашей воли, но и ангел-хранитель нашего престола. Но давайте сядем, и велите подать ужин. Право, я умираю с голоду.
Легкий ужин уместился на четырех переносных столиках. Александр с аппетитом отведал рябчика, выпил полбутылки «Анжуйского» и взялся за стерлядь. Юрьевская молчала. Она дулась на мужа и не могла простить императору его выходку с титулом.
Но она была прежде всего женщиной, избалованной, вздорной. Любопытство перебороло негодование.
— Ваше величество, не мучайте меня и перестаньте, наконец, жевать.
Александр смеялся, хотя рот его был набит до отказа.
— Ах, вы очаровательны, Кэт! Но вы так долго мучили меня, что я вправе вам немного отомстить. Ну-ну, не буду! Граф только что сообщил нам об аресте самого страшного террориста.
— А-а-а!.. А я думала!..
— Что вы думали, моя дорогая? Я вижу, вы разочарованы.
Юрьевская действительно была обманута в своих ожиданиях. Опять террористы. С какой стати она будет о них вспоминать? И вообще какое дело императору до какого-то там нигилиста? В царя стреляли, его взрывали, но все обошлось благополучно. Зачем же напоминать о неприятных вещах? Положительно, император стареет и впадает в моветон.
— Alecsandre, выбросьте из головы этих разбойников хотя бы в моем присутствии.
— Нет, Кэт, вы просто не все знаете. Я плохой рассказчик, но повесть их преступлений страшнее и занимательнее похождений Лихтенштейна и Аммадиса Галльского.
В гостиную тихо постучались. Юрьевская легко вскочила. Александр поморщился. На пороге стоял граф Меликов.
— Ваше императорское величество, я совершаю, быть может, величайшую бестактность, но, зная ваше многотерпение ко мне, и на сей раз надеюсь на монаршье прощение.
Александр любил лесть. Он быстро подошел к графу.
— Что случилось, граф?
— Новые сведения о злоумышленниках, ваше императорское величество.
— Разве они столь важны, что нужно мое решение?
Нет, нет, ваше величество, но вы приказали мне лично сообщать всякую новость о злодеях, и я поспешил во дворец.
— Кэт, — Александр обернулся к Юрьевской, — случай помог мне: если я плохой рассказчик, то граф — великолепный. Пусть граф расскажет о поимке террористов.
— О, я с удовольствием послушаю графа, но, ваше величество, быть может, это приятнее сделать за картами?
— К вашим услугам. Прошу вас, граф, распорядитесь.
Винт удобен тем, что игру можно всегда быстро закончить. Но их трое. Лучше рамс.
— Рассказывайте, граф, мы слушаем.
— Вашему величеству, вероятно, хорошо известны показания некоего Гольденберга. Они сослужили нам хорошую службу. В этих оговорах Гольденберг обратил особое внимание на Желябова. И хотя два года назад Желябов только-только вошел в состав партии злоумышленников, Гольденберг уже прочил ему руководящую роль. О, это незаурядная личность! Воля, ораторский дар, трезвый ум, великолепная память, талант организатора.
Мы тщетно искали, но находили только следы его деятельности. Уверяю вас, что дух Желябова царил и под Москвой и в страшный день взрыва Зимнего. Желябов многолик. Это страшный человек, ваше величество. Два года поисков, неустанных трудов полиции, жандармов, и, наконец, сегодня я могу с удовлетворением сказать: он в наших руках. Мы схватили его, хотя он готов был стрелять, рвать зубами.
В канцелярии градоначальника он продолжал разыгрывать из себя Слатвинского, по чьему паспорту жил. Но, на беду, первый, кто встретил его, был товарищ прокурора Добржинский. Поверьте, ваше величество, Добржинский не мог скрыть своей радости: «Желябов, да это вы!» — воскликнул он.
— О граф, товарищи прокурора состоят в личном знакомстве с такими преступниками? — Юрьевская или действительно была наивна, или очень искусно разыгрывала недоумение.
— О нет, конечно, просто Добржинский знал Желябова еще по «процессу 193-х».
Александр не слушал. Куда исчезло его радужное настроение, с которым он встал из-за стола? Казалось, ничто не изменилось. Юрьевская по-прежнему наивна и мила, Меликов строг, собран, услужлив.
Но дело не в них!
А!.. Желябов! И нужно же было графу вспомнить о нем сегодня. Поймали — ну, туда ему и дорога. Не он первый и, к сожалению, не последний! Их много! Этот попался случайно. Да, да! И пусть граф бахвалится, что полиция знала, кого арестовывает. Желябов — случайность.
Александр делает над собой усилие, чтобы не думать о Желябове, но это плохо удается.
— Ваше величество, устали? — голос Лорис-Меликова вкрадчив, жест робок.
— О нет, граф, но княгиня привыкла рано ложиться спать…
Юрьевская капризно оттопырила нижнюю губу. Она ни капельки не хочет спать, но граф действительно ей наскучил, да и Alecsandre тоже.
— Разрешите откланяться, ваше величество. Но прежде чем пожелать вам спокойной ночи, ваша светлость, умоляю — внушите императору, что он не должен завтра ехать на развод.
Юрьевская встревожена. Лорис-Меликов не умеет шутить, да сейчас ему не до забав и салонной великосветскости.
Лорис-Меликов, потирая руки и улыбаясь про себя, перебирал ступени лестницы Зимнего. Он был доволен. Еще бы! Интимный вечер в кругу царской семьи и это ловкое под занавес: «Умоляю… внушите…» Сегодня его величество не скоро заснет. Завтра проект должен быть подписан, а тогда Меликов будет править Россией, ну, а заодно и царем.
Завтра, завтра!..
Удел царей — одиночество. И даже в толпе, окружающей трон, император одинок, он не может смешаться со своими придворными. Они масса, они безлики, их много, а он один. Александр завидовал последнему смертному его царства: в эти минуты миллионы забрались на жаркую печь, потеснив под овчинами жену, детей; завидовал своему камердинеру, который, раздев его величество, торжественно удалится и до утра будет чередовать сон с игрой в дурака, дежурный офицер составит ему партию.
А царь один. И пусть пылают газовые бра, в камине трещат поленья сухих дров… Он один.
Пышная спальня населена страхами.
Александр встает и, не оборачиваясь, подбегает к поставцу. Гулко булькает вино. Еще бокал. Теперь можно и оглянуться.
Царь в ночной пижаме, широко расставив ноги, грозит кулаком окну. Бакенбарды взъерошены, редкие волосы встали дыбом на лысеющем черепе. Нетвердой походкой Александр добирается до ложа. Под грузным телом скрипит матрац. Долго лежит, уткнувшись головой в подушку. Но вот вздрогнули плечи, руки судорожно ощупывают кровать.
И опять спасительный поставец. Вино? Нет, настоящая смирновская. Чтобы исчезло одиночество, чтобы сквозь тишину дворца в сердце ворвались звуки. Александр не держится на ногах, падает. Ковер заглушает удар. Как страшно закрыть глаза, но веки наваливаются на зрачки. Все кружится, вертится…
Из тьмы выплывают лица. Вон тот — Желябов. Он опять на свободе, рядом. Царь кричит. Камердинер не спеша идет в спальню. За последний год он привык и не к этому. Когда император разойдется, то горе служителям. Его величество выскакивает из покоев, ползает на четвереньках, кусает за ноги. В спальне тишина. Кровать пуста. Рядом, на ковре, откинувшись на спину, храпит помазанник. Швейцар помогает поднять тушу царя. Камердинер гасит свет. Теперь до утра пьяное забытье ничем не нарушить.
Царь перелистывал свой дневник. Вот вчерашняя запись: «В 11 часов доклады Милютина, Гирса, Лориса. Три важных ареста: в том числе и Желябов». А, черт! Сегодня, когда в окна льется сероватый сумрак зимнего дня, ночной кошмар напоминает о себе только тупой болью в голове и похмельной тошнотой. Но настроение испорчено на целый день.
Граф Лорис вчера был задумчив и встревожен. А сегодня с утра царь подписал «Проект извещения о созыве депутатов от губерний». Граф сияет, хотя напоминает царю, что Желябов в своих первых показаниях выразил уверенность в том, что и без него покушение состоится.
Александр пытается улыбнуться. Собственно, чего он тревожится? Главные заговорщики в руках полиции. Она идет по следу еще остающихся на воле. Они, конечно, узнали об аресте. Растеряны! Сражены!
Император самодовольно потирает руки. Граф Лорис, кажется, отговаривал его ехать сегодня на развод караула. Юрьевская также… «Жалкие трусишки, пропустить такое зрелище из-за каких-то безумцев, отравленных парами динамита?»
Царь подошел к зеркалу, горделиво выпятил грудь. Что же, он еще, пожалуй, может помериться силами с медведем. Александр с удовольствием вспоминает тот случай на охоте, когда после его неудачного выстрела раненый зверь бросился на царского подручного, сломал рогатину. У царя хватило смелости подойти и в упор пристрелить чудовище.
Эти воспоминания как бокал вина. Разве можно признаться даже самому себе, что он боится, боится не медведей, а «крамольников»? Александр смахивает навернувшуюся слезу. Ему вдруг стало жалко самого себя. Такие скачки настроений в последние годы бывают у него ежедневно.
Скорей к жене, детям — там забвение, покой!
Юрьевская с утра не может найти себе места, «Глаза газели» напоминают хищные щелочки рыси. Этот Alecsandre невозможен — парады, разводы, смотры! Взрослый человек! Ужели его забавляет вся эта мишура!
А может быть? Княгиня кусает перчатку. Да, да, все это предлоги для отлучек. Ведь царь любит женщин. Она хорошо помнит его наезды в Смольный. В институте только и жили пересудами о новых любовных приключениях императора. И она, Катя Долгорукая, не избегла внимания монарха. Ну нет, с нее достаточно вежливого фрондерства придворных, ее Alecsandre за глаза величают «старым селадоном».
Александр входит без стука. Юрьевская не скрывает своего неудовольствия. Старикан действительно противен, но ведь под ним трон, стоит потерпеть.
— Что с вами, Alecsandre? На вас лица нет. Царь уязвлен: он очень заботится о своей внешности. Особенно после женитьбы на Долгорукой.
— Вы чем-то встревожены, и я знаю чем! Умоляю вас отказаться от этой поездки на развод.
— Но, Кэт, я никогда не пропускаю развода. И если не поеду сегодня, то террористы решат, что я испугался, а их либеральные подпевалы будут трубить победу над императором.
— Вы преувеличиваете значение этой поездки! Прошу вас, сделайте уступку мне и детям.
Александр легко раздражался. Не отвечая жене, резко повернулся на каблуках и вышел из будуара.
Через час камердинер доложил, что экипаж подан. Как всегда, императора сопровождали полицмейстер Дворжицкий, капитан Кох, ротмистр Кулебякин и конвойная казачья сотня. Александр любил быструю езду. Сытые кони взяли с места в галоп, и за окнами кареты замелькали улицы, прохожие, сыщики, полиция, жандармы — вехи, отмечавшие фарватер царского пути.
У Манежа застыл караул. Казалось, столетия, реформы, паровозы ничего не изменили здесь со времен Екатерины и Павла. Не шелохнутся ряды под свинцовым взглядом императора. Разводящий — как каменное изваяние. А затем гром оркестра, «ура»… Гусиный шаг. Лающие команды!
Александр доволен. Ритм военного марша не вызывает раздумий, но бередит кровь. Ряды движутся, как колеса заведенных часов. Порядок, беспрекословное подчинение и сила! На секунду царь забывается, за забором штыков ему нечего страшиться каких-то сумасшедших мальчишек, играющих в анархизм.
В империи все в порядке.
— В Михайловский дворец!
Александр не забывает о рыцарском долге. Навестить сестру, Екатерину Михайловну, а затем в Зимний. Не стоило сердиться на жену, теперь трудно будет заслужить ее прощение.
Перовскую знобило, дрожь была мелкой, противной. В голове назойливо стучала мысль: «Андрей, я отомщу за тебя! Андрей, мы вызволим тебя из темницы!»
Царь благополучно проехал в Михайловский дворец. Теперь он в ловушке — бомба или мина. А ведь Андрей должен был сегодня занимать место Перовской и в случае чего прикончить царя ударом кинжала. Да, он всегда брал на себя самое трудное, и все ему было по плечу. Как глупо, как непоправимо нелепо он попался!..
Перовская очнулась от тяжелого раздумья. С минуты на минуту царь покинет Михайловский дворец. Перовская вынимает платок и, повстречавшись с Гриневицким, Рысаковым, Михайловым, три раза сморкается. Метальщики торопятся на набережную канала.
Царская карета вылетела из-за угла Инженерной улицы. В двадцати метрах от поворота уже стоял Михайлов, немного далее — Рысаков, за ним — «Котик». Перовская успела перейти Казанский мост и встала на другом берегу, у Конюшенного дворца.
В ее руках опять мелькнул платок. Навстречу карете метнулся Рысаков. В уши ударила волна взрыва. Затем в наступившей тишине было слышно, как сыпались стекла в придворном Манеже на Театральной улице. Царскую карету окутывало темное облако дыма. Слышались крики, кто-то стонал.
Дым немного рассеялся. Стало видно, что взрыв разбил задок царской кареты. Быстро собиралась толпа. Солдаты, жандармы осаживали народ.
У Перовской все похолодело. Царь, он опять невредим. Дьявольское наваждение, царя не брали ни пули, ни динамит! Какой-то демон охранял монарха.
Софья Львовна вцепилась в решетку ограды. Где же Тимофей, где «Котик»?..
Перовская отрывается от решетки. Все кончено!..
Новый взрыв! Летят клочья дыма, комья снега, обрывки платья…
Рысаков видел, как Перовская, прижавшись к ограде канала, торопливо махнула платком. Почти в ту же минуту из-за угла Инженерной улицы выехал царский экипаж. Настал решительный миг. Рысаков медлил, в душе жила надежда, что Михайлов его опередит. Но Михайлова не было видно. Рысаков выхватил бомбу, зажатую под локтем левой руки. Когда лошади поравнялись с ним, сделал несколько быстрых шагов и метнул снаряд.
Раздавшийся взрыв был для бомбиста нервной разрядкой. Рысаков как бы забылся в шоке, он едва расслышал грохот, до его сознания не дошло, что это он бросил бомбу. Очнулся, когда почувствовал, что кто-то схватил его за кисти, какие-то торопливые руки обыскали карманы, извлекли из них револьвер и кинжал.
Рысаков оглянулся. Кругом сбегался народ. В первую минуту, когда к нему вернулась способность рассуждать, горделивая волна тщеславия опахнула его жаром. Рысаков высоко поднял голову и вдруг увидел приближающихся к нему Александра и полицмейстера. Рысаков съежился: «Не убит!», «Надежды нет», «Сейчас меня расстреляют на месте!» Животный страх сковал язык. На вопрос Дворжицкого Рысаков едва смог пролепетать, что его зовут Глазовым, мещанином Глазовым, и что снаряд бросил он.
Царь старался держаться спокойно, но было заметно, как его трясет нервная лихорадка. В этой толпе могли быть и другие террористы… Царь оглядывается с опаской, но разве узнаешь убийц? А охранители тоже хороши!.. Лорис невнятно уговаривал не ехать, хотя ему, наверное, было известно о подготовке покушения. Да и Дворжицкий тоже — схватили злодея, потом доложили, что злодей пойман. А сколько их!..
— Покажи мне место взрыва!
Царь старается говорить спокойно, но получается зло. Дворжицкий устремляется к разбитой карете. Александр делает несколько шагов за ним. Новый оглушительный удар, фонтаны снега вперемежку с дымом…
На сей раз все было кончено. Когда дым осел, люди, разбросанные взрывом, боялись подступиться к тому месту, где мгновение назад стоял император. Даже мертвым царь обрекался на одиночество. Никто не знал, убит ли он или еще дышит. Александр лежал на панели, шинель обуглилась, фуражку унесло, ноги были обнажены, и ручьем лилась кровь. Вокруг валялось два десятка полицейских, казаков из свиты, просто случайные прохожие. Одни были ранены, другие контужены взрывом или убиты.
Вечером стало известно, что царь скончался в 3 часа 55 минут дня. Молодой человек, бросивший вторую бомбу, умер пятью часами позже в придворном госпитале. Перед смертью он пришел в сознание. На вопрос, как его фамилия, ответил: «Не знаю».
Во дворце паника. Все распоряжаются, и никто никого не слушает. Юрьевская не выходит из спальни. Лорис-Меликов в состоянии апатии. Он даже следует советам своего врага Валуева.
По улицам движутся конные жандармы, усиленные наряды войск. Верхи ждут беспорядков — может быть, революции. Обыватели в страхе попрятались.
2 марта на заборах, столбах красовался манифест, бойкие газетчики распродавали его оптом возбужденным кучкам людей.
Манифест начинался словами: «Воля всевышнего свершилась».
В революционном подполье — торжество, откровенно хохочут над манифестом. Вот уж действительно сравнили карающую руку революционеров с «волей всевышнего»!
Бюрократический мир встревожен, но не кончиной царя. Умер один — будет другой, это их мало задевает. В деловых клубах вечером та же игра в карты. Об усопшем императоре никто не сожалеет. Более того: может, и к лучшему, что его в конце концов убили. У императора ореол мученика, а при жизни незавидная репутация развратника, сидящего под каблуком Юрьевской.
Провинция была непосредственней. Купеческая Москва зашепталась, заохала, пустилась в пересуды и сплетни. «Саратовская глушь» местами вдарила в колокола, сразу не разобрав, в чем дело. В далеком сибирском каторжном крае люди, которым уже нечего было терять, открыто поздравляли друг друга, узнав о кончине «злодея-освободителя».
И слухи, слухи… Они шуршат газетными листами, пахнут типографской краской.
— Слыхали? Читайте «Страну».
«Недели две тому назад государь стал замечать каждое утро убитых голубей на своем окне; оказалось, что огромная хищная птица, одни говорят — коршун, другие — орел, поместилась на крыше Зимнего дворца, и все усилия ее убить оказывались тщетными в течение нескольких дней. Это обстоятельство встревожило государя, и он говорил, что это дурное предзнаменование. Наконец был поставлен капкан, и птица попала в него ногой, но имела силу улететь, таща его за собой, и упала на Дворцовой площади, где была взята. Это оказался коршун таких небывалых размеров, что чучело его будет помещено в кунсткамере».
— А «Улей» пишет, что накануне первого марта на небе была видна «звезда необыкновенно яркая, с двумя хвостами: одним вверх, другим вниз».
— А злоумышленники-то каковы, вот, извольте, «Московский телеграф»: «В квартире преступника, взятого двадцать седьмого февраля, во Второй роте Измайловского полка, как говорят, была найдена громадная (миллионная) сумма денег, принадлежащая террористам».
— Да, да. И как они их тратили — вот, смотрите, газета «Порядок» сообщает: «Полиция нашла в квартире одного из «вожаков» стол с кувертами, винами и закусками, приготовленный на сорок человек».
— А вы были на Невском?
— Избави боже, там хватают людей, бьют…
— Сходите. Или нет, не стоит, на вас очки. Лучше прочтите «Земство»: «В настоящее время езда по Невскому и проход близ Аничкова дворца, где остается жить Александр Третий, не допускается; кругом всех строений дворца вырывается широкая и глубокая канава. По словам одних, в этой канаве будет заложена каменная стена, проникающая в землю гораздо глубже фундамента; по словам других, в этом месте будет устроена галерея, по которой караулу можно будет обходить кругом всего дворца».
Начитавшись, обыватель терял голову, но его рассуждения просты, с присущей им логикой видимых явлений: если революционеры ухитрились средь бела дня на улице убить императора, если они забрались в Зимний, убили шефа жандармов, взорвали царский поезд, то есть ли невозможное для этих людей? Следом вставал новый пугающий вопрос: сколько их? Не принадлежат ли к их когорте рабочие с Обводного канала, так упорно бастовавшие в 78-м году? А быть может, все студенты, рабочие, да и сельские поденщики — террористы? Ведь их миллионы. От таких мыслей холодный пот пробивал обывателя, и он жаждал сильной власти, он готов был ратовать за самые страшные казни, виселицы, которые могли, как частоколом, оградить его от грядущей революции.
Во дворце также ждали восстания и, стараясь предупредить его, торопили полицию. Сыщики сбились с ног, дворники не вылезали из департамента полиции, опознавая все новых и новых задержанных.
Март открывался тихим серым утром. Ни ветра, ни снега, слегка подмораживает, а в воздухе неясная истома первого весеннего дня. Вьюги и заморозки, звонкая капель и пронизывающая сырость еще впереди. А сегодня тянет на улицу.
Желябов прекрасно выспался; сказалась усталость последних месяцев, напряжение вчерашней ночи и дня, проведенных в допросах, состязаниях со следователем. В первый момент Андрей никак не мог понять, почему на маленькой щелочке окна паутиной раскинулась железная решетка. Он в тюрьме! Сегодня 1 марта, когда должно завершиться дело последних лет жизни! Отчаяние охватило этого железного человека.
Так глупо попасться! Желябов кидается к двери, заносит кулаки. Стучать, грызть железо, нечеловеческим усилием высадить эту дверь. В бессилии опускается он на кровать и долго сидит, закрыв лицо руками.
Постепенно стихает бешеный ритм крови, ослабло напряжение мышц. Желябов встает и начинает быстро ходить по камере. Он думает. Потом подходит к двери и корректно стучит три раза. Открывается шторка глазка, в нее видны кончик красного носа и порыжевшие от табака усы.
Желябов вежлив, он осведомляется, дают ли прогулки, и если да, то он хотел бы воспользоваться этим правом. Шторка задернулась. Желябов подошел к окну. Со стороны было бы странно наблюдать, как человек вдруг отвернулся к стене, подставив ухо к окну. Да, Желябов не любовался краешком серого неба, не искал взглядом случайного блика солнца, а слушал, слушал…
Загремели дверные засовы. Желябов отпрянул от окна.
— Выходи!
Андрей с наслаждением вдыхал терпкий воздух марта. Дворик был маленький, со всех сторон окруженный сундуками корпусов Дома предварительного заключения. Андрей не мог точно сориентироваться во времени, но был уже день. Желябов не переставал прислушиваться. А вдруг?..
Но Петербург молчал.
Надзиратель не отрывал глаз от Желябова. Он отвечал за него головой. Но проходили часы, а заключенный продолжал лежать ничком на жесткой койке и не шевелился. Неподвижное тело давало свободу уму. Желябов думал. Может быть, впервые после двух лет титанического напряжения нервов он мог остаться наедине со своими мыслями. Рассортировать их, трезво оценить каждую по достоинству, отбросить лишнее, подвести итог. Поток мыслей стремительный, мозг не успевает фиксировать обрывки, собирать их в целое. Это была инерция той жизни, которая еще неслась за стенами тюрьмы. Личное мало заботило Андрея, о нем будет еще время подумать. Сейчас партия, ее дела. Весь февраль спорили, а на деле варились в своем соку. Террор поглотил силы, людей — всю жизнь. Тот же Исаев. Неуемный, живой Исаев, подававший такие большие надежды стать крупным теоретиком революции, ведь ныне он пропах порохом. Ничто не волнует его до тех пор, пока речь не заходит о динамите, бомбах, взрывах. Желябов еще жаловался, что ему не хватает времени почитать книжку, другие уже не жаловались. Как сузился круг их взглядов!
Когда московская группа делала отчет о положении в Белокаменной, их слушали вяло. А ведь в случае провала Петербургского центра единственно Москва может оказать поддержку. Как жаль, что он тогда мало выспросил Теллалова и Оловенникову-Ошанину о намечаемых кандидатах в Исполнительный комитет. Они предлагали Халтурина. Что же, он всегда за него. Халтурин близок ему по духу.
А кто еще? Желябов повернулся на другой бок. И вдруг увидел камеру. Опять! Забыл о тюрьме…
Теперь он не в силах повлиять на дела.
Андрей встал, И снова начинается бесконечное хождение по камере от окна к двери, от двери к окну…
Если покушение и состоится и даже будет удачным, то все равно нельзя рассчитывать на какие-либо серьезные перемены в политическом строе. А если так, то самое большее, чего можно ожидать, некоторого облегчения в деятельности партии. Значит, нужно во что бы то ни стало сохранить партию. А как? Как это сделать? Покушение будет — значит, будут провалы и жертвы. Сумеют ли оставшиеся на свободе продолжить свою деятельность?
Ответа нет. И вновь Желябов убеждался в пагубности террора, затягивающего людей помимо их воли. Какой-то прожорливый Молох!
Как сохранить партию, инсценировать хотя бы видимость ее мощи?
Что может сделать для этого он, узник?
Дверь камеры открылась внезапно, застав Желябова врасплох. Надзиратель приказал одеваться и следовать за ним.
Подполковник Никольский и прокурор Добржинский уже поджидали «злодея». У них был такой официальный вид, такие надутые лица, что Андрей Иванович забыл о своих невеселых думах. В нем проснулось озорство. «Опять начнут допрос. Ну что же, я им отвечу, а потом посмотрим, не изменятся ли самодовольные рожи этих «блюстителей».
Вопросы обычные, повторяющие предыдущий допрос. Имя. Отчество. Фамилия. Сословная принадлежность. Род занятий.
И когда им надоест? Хотя смех смехом, но его взяли по паспорту Николая Ивановича Слатвинского. Может пострадать ни в чем не повинный человек. Желябов уверяет следователей, что паспорт у него фиктивный, фамилия выдумана не им, ее придумали по известному всем конспираторам принципу — плохо запоминается.
И вновь вопросы, вопросы… Ужели они ожидают, что он проговорится? Их интересует его отношение к «Народной воле» и намерениям убить царя? Извольте.
— Дни его сочтены. Хотя время цареубийства не было заранее намечено с точностью, так как обусловливалось образом жизни «объекта» нападения. Место действия находится еще в большей зависимости от привычек «объекта»…
Добржинский возмущен. Никольский даже подпрыгнул в кресле. Это уж слишком, какой-то крепостной выродок, «злодей» смеет именовать священную особу помазанника божьего «объектом»! Немедленно увести его!
1 марта клонилось к вечеру. Желябов опять лежит на койке. Что-то в поведении следователей его насторожило. Но что? Желябов еще и еще раз перебирает в уме вопросы и ответы.
Желябову показалось, что он задумался. И когда загремели засовы, он с удивлением отметил, что уже ночь и что он проспал несколько часов. Эти внезапные пробуждения в камере будут пыткой.
Жандармы торопили. Андрею хотелось спать, он не спешил. В канцелярии ярко горел свет, раздражая глаза. Часы на стене показывали два. За столом сидел какой-то генерал. Он не поднял головы на Желябова. Андрей ждал нового допроса, но генерал молчал.
В коридоре забряцали шпоры, дверь открылась, и в комнату вошел Рысаков. Он сразу же прикрыл глаза рукой, ослепленный ярким светом.
— Вы знаете этого человека? — Голос у генерала усталый, неприятный.
Андрей подошел к Рысакову и крепко пожал руку.
— Как фамилия этого человека?
Андрей молча посмотрел на Рысакова, тот слегка наклонил голову. Ну что ж, если он считает, что скрывать его фамилию нечего…
— Нелегальная Глазов, а легальная Рысаков.
В канцелярию торопливо вошел прокурор судебной палаты Плеве. Желябова поразил его вид: волосы растрепались, воротник мундира расстегнут, лицо злое и тусклое. Что-то произошло, но что? Что?..
— Господин прокурор, позволю спросить, что случилось такое, что меня разбудили в два часа ночи, сонного привезли в канцелярию? Или вами руководили высокие чувства, и вы торопились доставить мне удовольствие повидаться с товарищем?
Прокурор побагровел, что-то хотел сказать, но спазма сдавила горло. Он махнул рукой, как бы приглашая генерала вступить в разговор. Генерал проскрипел:
— Вчера в результате покушения на священную жизнь его императорского величества государь был тяжело ранен и скончался.
Буйная радость охватила Желябова. Хотелось броситься на шею этому противному генералу, расцеловаться с Рысаковым. Глаза затуманили непрошеные слезы. Дорогие, милые друзья, товарищи, вы сдержали слово!..
А он? Он не был в эту великую минуту с ними.
Желябов вдруг похолодел. А что, если вот эти считают его непричастным к свершившемуся? Что, если они будут судить одного Рысакова, юношу, новичка, а его, закаленного террором и только случайно оказавшегося не у дел, отстранят и, не дай бог, оправдают? Как он тогда оправдается перед народом, во имя которого это было сделано, на алтарь которого принесены такие жертвы, такие усилия? Нет, пусть знают! Желябов гордо вскинул голову. Голос звучал ликующе:
— Теперь на стороне революционной партии большой праздник. Свершилось величайшее благодеяние для освобождения народа. Цель партии осуществилась. Вспомните казнь героев, вспомните Квятковского и Преснякова! С этого времени дни покойного императора были сочтены. Мы знали его каждый шаг, каждую поездку, каждое, даже тайное, посещение институтов. Я горжусь юным героем и скорблю, что, случайно лишенный свободы, не принял действенного участия в покушении. Нравственно я с теми, кто совершил этот подвиг.
Плеве был сражен. Он не мог понять, почему этот человек не защищается, а наговаривает на себя. Ведь прямых улик, подтверждающих его участие, хоть и косвенное, в деле 1 марта нет. А после этих слов у судей нет выбора — виселица. Что это — сумасшествие? Игра, в которой под влиянием минуты актер зашел слишком далеко? Или героизм?
Прокурор молчит. Генерал тоже. Желябов откровенно любуется произведенным эффектом.
Плеве лихорадочным движением застегивает крючки мундира. Этот генерал Комаров просто тупица! Он ничего не понял. Не понимает, что молчание подтверждает правоту злодея. Но что сказать?
— Какова форма и состав метательного снаряда, примененного для злодейского умысла?
Лучше бы он не спрашивал. Трудно придумать более неудачный в данную минуту вопрос! Желябов с трудом сдержался, чтобы не расхохотаться, и только желание позабавиться, поиздеваться над этими чинушами заставляло крепче сжимать губы. Какие у них низкие, подлые душонки! Они не могут представить жизнь, выходящую за рамки их шкурных интересов. При чем тут форма снаряда?
Впрочем, извольте!
— Форма? Форм несколько, есть овальные, есть и четырехугольные… — Андрей откровенно смеялся. И надо же, забыл, какие еще на свете бывают формы, вот пропасть! Да… — Шестигранники, ромбы.
Плеве опомнился, он понял, что Желябов издевается над следствием. Генерал Комаров старательно писал протокол.
— Достаточно. Каков состав, коим начинен снаряд?
— Не могу сказать, господин прокурор, я не техник. Конструированием снарядов занимается специальный технический комитет партии. Но состав достаточно действенный, как вы изволили убедиться. Уверяю вас, что если с восшествием на престол нового царя, Александра Александровича, ожидания партии не исполнятся и она встретит такое же противодействие, то и против нового императора будут применены…
— Уведите его!
Плеве взбешен. Не прощаясь с Комаровым, прокурор почти выбежал из канцелярии.
Ему предстоит разобраться во всех фактах покушения, сообщить свои выводы графу Лорис-Меликову и новому императору. Что ж, теперь его карьера в его собственных руках, не следует торопиться и делать промахи. Сейчас ему ясно одно: Желябов — центральная фигура партии, главный вдохновитель и организатор покушения. Рысаков — мальчишка, исполнитель.
Прокурор работал всю ночь.
Желябову уже не хотелось спать. Нужно все хорошенько обдумать. Своим признанием он поставил следствие перед необходимостью судить его вместе с Рысаковым. Хорошо, он проведет процесс, и как бы ни врали продажные борзописцы, но отчеты из зала суда прочтут десятки тысяч, до них дойдет слово партии. Но, с другой стороны, власти ныне будут вынуждены произвести дополнительные расследования. Это может навести на след тех, кто остался на свободе. Плохо, очень плохо!..
«Но как это предотвратить? Что, если попытаться убедить следователей в том, что я, Рысаков, «Котик», ну… ну и хватит, были единственными исполнителями покушения? Нет, не годится! Ведь тогда в газетах напишут о нас как о шайке, не имеющей никаких корней, без последователей, без поддержки. Мстительные безумцы! Нет, нет, эту мысль отбросить! Лучше замести следы товарищей так, как это делают звери. Заметая свой след, они оставляют десятки ложных отпечатков. Верно, пусть думают, что нас много, тысячи, что мы всюду, мы всесильны, пусть мечутся шпионы по ложным следам, выдавая себя! Пусть крепнет вера в партию у тех, кто сегодня ей только сочувствует!»
Ох, не нравится ему эта прокурорская рожа! Он, видимо, умен, хотя не умеет владеть собой1. Как бы эта бестия не пошла на хитрость. Судить Рысакова и Андрея как уголовников, простых убийц, сказать два-три слова о партии и о том, что в ней все такие выродки и их мало. Потом повесить — и делу конец. А ущерб партии в глазах народа непоправимый.
Андрей торопливо натянул на себя арестантскую одежду и постучал в дверь. Она открылась мгновенно.
— Прошу бумагу и чернил!
— Заключенным не дозволена переписка.
— Да я не письма писать собираюсь, а показания следственным властям.
— Сейчас доложу-с по начальству. Надзиратель долго не возвращался. Желябов от нетерпения покусывал бороду, ходил, пробовал крепость стола, вделанного в стену.
Наконец дверь открылась. Андрей схватил принесенную бумагу, перо, чернила и уселся к столу. Он не обратил даже внимания на то, что его страж остался в камере, видимо опасаясь, как бы узник не вскрыл вену острием пера.
Андрей писал набело:
«Если новый государь, получив скипетр из рук революции, намерен держаться в отношении цареубийц старой системы; если Рысакова намерены казнить, было бы вопиющей несправедливостью сохранять жизнь мне, многократно покушавшемуся на жизнь Александра II и не принявшего физического участия в умерщвлении его лишь по глупой случайности. Я требую приобщения себя к делу 1 марта и, если нужно, сделаю уличающие меня разоблачения. Прошу дать ход моему заявлению.
Андрей Желябов.
2 марта 1881 г. Д. пр. Закл.
P. S. Меня беспокоит опасение, что правительство поставит внешнюю законность выше внутренней справедливости, украся корону нового монарха трупом юного героя лишь по недостатку формальных улик против меня, ветерана революции. Я протестую против такого исхода всеми силами души моей и требую для себя справедливости. Только трусостью правительства можно было бы объяснить одну виселицу, а не две.
Андрей Желябов».
Еще раз перечитал написанное. Как будто все на месте. «Теперь пусть попробуют утаить процесс! Я буду разоблачать себя и возвеличивать партию».
Можно и поспать.
Надзиратель принял заявление, спешно прибрал со стола бумагу, перо, чернила. Когда он выходил, Андрей уже засыпал спокойным сном.
Рысакова трясло от ужаса. Только что ему и Желябову предъявили труп «Котика». Он признал его. Желябов молчал.
Сейчас поворот коридора, а за ним его камера. А что, если надзиратель, днем находившийся при нем для присмотра, уйдет?
Дверь захлопнулась. Страж уселся на свое место. Рысаков с благодарностью посмотрел на него. Вдвоем не так страшно. Последние дни и ночи — часы страхов. Страх может ослабеть, но он никогда не исчезает совсем. За крепкими стенами тюрьмы ему не грозит месть народовольцев, да и мстить ему не за что. Как приветлив был сегодня Желябов, сколько чувства вложил в рукопожатие! В их глазах он герой. А в глазах властей? Висельник? Новый прибой страха заливает душу.
Живой тюремщик напоминает о жизни.
Эти мысли неотступной чередой роятся в голове уже несколько часов кряду. И с новым накатом волны ужаса слабеет голос рассудка. Вначале он еще гордо вещал: «Герой! Мученик свободы!»
Сейчас голос молчит. Проходят часы. Надзиратель похрапывает в своем углу. Рысаков лежит с открытыми глазами. Сегодня он давал свои первые показания. Его заставляли вспомнить имена соучастников, назвать явки. Он путал, выдумывал, его поправляли, ловили на слове, но он никого не выдал. Почему же вн не гордится своей твердостью, почему она не дает ему успокоения? Потому что она ведет на эшафот. В ней нет жизни. Значит, нужно выдавать всех и все — в этом жизнь? Тут начинались мучения. Честность, самолюбие, долг перед соратниками боролись против призрака смерти. Призрак побеждал. Он заполнил сердце, вполз в мозг и давил, давил… А ведь спасение так близко, так легко достижимо! Назови имена, выдай квартиры, вспомни, припомни, оговори…
Так кончалась ночь. Наступил день, затем снова ночь. Блеклый рассвет не приносит умиротворения, но придает решимость.
Через несколько дней совесть уже молчала, самолюбие умерло, призрак задушил сознание долга.
Рысаков потребовал бумагу и перо.
Но ему не дали писать. Каждый день, дважды в день, ночью, утром, его вызывали на допрос, и он «вспоминал».
2 марта он вспомнил, что «предварительные сходки происходили на Симбирской улице в квартире «Котика» и на Тележной улице в доме № 5, откуда в воскресенье утром и были получены метательные снаряды…».
«Воспоминания» проверили ночью 3 марта.
Тележная спала. В доме № 5 темно. Неприятно вскрипывает под сапогами лестница. Квартира № 5. За дверью тишина. Гулкие удары скатываются по лестнице на улицу. Никто не отвечает. Опять удар. За дверью шаги.
— Кто там?
— Открывайте! Тишина.
Выстрелы были внезапные и неточные. Дверь пробили три пули. Выстрелов было шесть…
Дверь открыла женщина и стала просить о помощи. Жандармы ворвались в комнату. На полу труп. По виску, медленно застывая, сползала кровь.
В комнате два метательных снаряда, скомканный конверт, на обороте которого безмасштабный план с отметками: Зимний, Михайловский, Караванная улица, Инженерная, круги около Малой Садовой.
«Воспоминания» были точными. В квартире осталась засада.
В одиннадцать часов утра опять громыхнула лестница. Послышался голос дворника:
— Куда вы идете?
— К кучеру, в двенадцатую квартиру! Двенадцатой квартиры в доме не было. Засада стала в стойку. Открылась дверь. В нее вошел какой-то молодой человек.
Человека схватили и начали обыскивать. Резким движением стряхнув ищеек, молодой человек выхватил из кармана револьвер. Городовой вцепился в дуло. Выстрел. Городовой, скрючившись, забился на полу. Еще выстрел — помощник пристава схватился за грудь и упал на сундук. Еще четыре выстрела. Потом его связали.
Рысаков «не помнил» фамилий. Их узнали: Геся Гельфман, Николай Саблин и Тимофей Михайлов. Саблину было уже все равно…
Рысаков опять готов напрячь память. Ему помогали. Образ виселицы стал тускнеть, впереди мерещилась жизнь. И чем меньше в ней будет тех, кто знал его прошлое, тем лучше для него. Нужно только напрячь память. Да, Малая Садовая! Почему на плане она обведена кругами? Он не знает, но помнит, что утром его предупреждали не подходить близко к дому графа Мегдена…
У кондитерской Исаева стоял дворник Самойлов. Исчезли Кобозевы, склад русских сыров на замке. Дверь взломали. Местная полиция боялась спуститься в подвал. Вызвали экспертов гальванической роты. Прохожих зевак никто не вызывал.
В толпе шепот:
— Клад нашли, нигилисты зарыли…
— Какой там клад! Говорят, мина здоровущая, того и гляди ахнет…
— А чего ты стоишь, ежели мина?
— А может, брешут. Как заложить-то ее под мостовую?
— А вон из лавки ее и положили, под землей кротиный ход вырыли.
В лавке бочки из-под сыров, записка о передаче рубля мяснику. В бочках, кадке, под рогожей — земля. Девять деревянных ящиков тоже заполнены землей. Шесть мокрых мешков, в них недавно еще носили землю.
В беспорядке валяются буравы, ручной фонарь, лом, гальванические элементы Грене. В отверстие стены уходят провода. В подкопе мина — два пуда динамита, капсюли с гремучей ртутью, пироксилиновые шашки, пропитанные нитроглицерином.
В толпе шепот:
— Генерал, Федоровым зовется, говорит, что если бы грохнула, то средь улицы дыра бы была… Сажани две аль три… Окна бы повышибало, да печи рухнули бы в домах окрест…
— Ишь ты, сила! А нигилистов-то словили?
— Не… говорят, ушли!
— А-а-а!..
Лорис-Меликов еще раз перечитал заявление Желябова. Простая бумажка, но сколько восхищения она вызывает! Хотя восхищаться графу не положено. Но он восхищен возможностью оттянуть процесс. В этом он заинтересован. Еще вчера решили судить Рысакова военным судом. А это значит: сутки — и быстрая расправа. Для дела Рысакова и сутки достаточный срок — он пешка. А для Желябова? Как его охарактеризовал Гольденберг? Меликов листает протоколы допроса. Ага, личность «в высшей степени развитая и гениальная». Для Желябова нужен процесс, тем более что в руках «правосудия» Геся Гельфман, Тимофей Михайлов. Пока будет тянуться следствие, Рысаков «вспомнит» еще, а потом есть Окладский. Этот знает многих и укажет, поможет, опознает. Можно немного и попугать нового императора. Он глуп, недаром же его ласково обзывают «Мопсом», он трусоват и запуган.
Если и новый царь с перепугу подпишет проект его «конституции», то Победоносцеву несдобровать, а он, граф, диктатор. Быстрая расправа — победа Победоносцева; тогда нужно уходить в отставку.
Меликов тщательно обдумывает каждую фразу доклада царю. Главная мысль — казнь цареубийц может повлечь за собой новые покушения на драгоценную жизнь…
Царя запугать нетрудно, и не только он, Меликов, но и Победоносцев воздействует на него таким же образом. Но для прокурора Святейшего синода нужно подобрать веские юридические основания необходимости отложить процесс. Ведь прокурор еще к тому же и профессор права. Черт бы его побрал!
Меликов задумался. Нет, в процессуальном кодексе не найдешь соответствующих статей. Ага! Пожалуй, это будет убедительно: «…По заявлению прокурора судебной палаты и производящих дознание, ввиду задержания женщины, а затем и преступника, поранившего трех полицейских, является потребность отсрочить открытие суда на некоторое время (2–3 дня); по мнению моему, это тем более необходимо, что в пятницу, 6-го числа, назначено перенесение тела в Бозе почившего государя-императора в Петропавловскую крепость, а потому казнь в этот день была бы неуместна, и, сверх того, ни суд, ни исполнение приговора не были бы возможны, так как необходимые для сего части войск должны будут участвовать в печальной церемонии…»
Александр согласился. Лорис-Меликов деятельно готовился к заседанию совета министров 8 марта, прокуратура выясняла имена, строчила обвинительный акт. Рысаков «припоминал». Желябов обдумывал свою речь на процессе.
Вторые сутки томятся полицейские в маленькой двухкомнатной квартирке по 1-й роте Измайловского полка, дом № 18.
Ждут посетителей, готовые сразу же превратить их в пленников. Вздрагивают при каждом звуке на лестнице. Потом часами изнывают от скуки. Комнаты и обстановка в них изучены до мелочей. Ничего особенного, все просто, бедно, невзрачно. На окнах дешевенькие кисейные занавески. Стол под грубой холщовой скатертью, кровать с подушками, набитыми сеном, и плохонькими, старыми байковыми одеялами. Вот и вся мебель, разве что самовар без ручки в углу сияет слишком празднично. Книг немного. От нечего делать пробовали читать: ничего предосудительного — роман Жорж Занд на французском языке, опять роман, только английский, какого-то Бредона, — «Любовь погубила», «Отечественные записки», старые, за май 1879 года, и совсем дикая книга, соч. Лукьянова, «Самоохранительные вздохи». Отдельно стоит и, видимо, часто читалась книга Антоновича «Исследование о гайдамачестве».
На полу большие банки из-под монпансье, на дне их какой-то черноватый налет. Здесь жил Желябов — Слатвинский с женой Воиновой. Но где эта Воинова? Сыщики ожидают ее. Тщетно!..
Перовская не находила себе места. Взрыв 1 марта разрубил гордиев узел. Главная цель достигнута. Теперь нужно сделать все, чтобы вырвать из застенка Андрея. Но как?
Ее больше не беспокоила собственная безопасность. Вести о новых арестах не заставляли насторожиться. Исполнительный комитет настаивает на ее отъезде. Безумцы! Неужели они думают, что она может уехать из города, в котором томится Андрей! Каждый день она на Пантелеймоновской улице, там рядом — бывшее Третье отделение, туда должны привозить для допросов Желябова. Перовская ищет квартиру, чтобы из нее следить за этим зловещим зданием.
Напасть на тюремную карету, перебить конвой, увезти Андрея! Для этого нужны верные, смелые люди, много людей. Перовская теребит Суханова, ездит, по квартирам офицеров — членов «Народной коли». Они готовы, но их мало. Софья Львовна бросается в рабочие кварталы, в кружки, где выступал Андрей. Рабочие тоже согласны, их много, человек триста. Надежда светит слабым лучиком, но удесятеряет силы.
Да, что и говорить, убийство царя не вызвало революционного резонанса в народе. Нужно продолжать борьбу, а силы иссякают. Ищейки правительства уже наступают на пятки. Провал за провалом! Кто-то выдает, кто-то, кто знает их в лицо, бродит зловещим призраком по улицам столицы и указывает пальцем.
Исполнительный комитет не готов ответить новым ударом: пчела укусила, жало выпущено. Но ужели она теперь обречена на гибель? Ведь за ее полетом следят миллионы глаз. Они не знают, что у нее нет жала. Но если она не укусит тех, кто потревожил ее улей, об этом догадаются. Нельзя укусить, так пусть жужжание станет ревом, пусть оно вселяет ужас, предсмертную тоску в сердца тех, кто склонен уже считать себя победителем.
Исполнительный комитет совещался почти ежедневно.
Конспиративная квартира у Вознесенского моста не пустовала ни минуты.
1 марта все были страшно взволнованы случившимся и долго не могли сосредоточиться на предстоящих еще более важных делах партии. Тихомиров не выходил из отдельной маленькой комнаты. Он представлял главную литературную силу Исполнительного комитета.
К пяти часам вечера была составлена прокламация об убийстве Александра II.
Потом долго обсуждали воззвание к народу. Много спорили. Перовская, Исаев, Богданович взялись за перо.
2 и 3 марта воззвание обсудили, дали ему заголовок «Ко всему народу русскому», пометили 2 марта и отправили в типографию.
Воззвания были необходимы, они и только они служили шаткими мостиками, соединявшими партию с обществом, народом. Но воззваний было недостаточно. Они объясняли мотивы поступков партии в прошлом, а народ ждал их теперь, в настоящем, жил будущим. На поступки не было сил. Тогда-то и родилась мысль обратится с письмом к новому царю, к правительству.
Письмо должно было подвести итог борьбы, предупредить правительство о готовности партии продолжать эту борьбу до конца, до победы, дать ясное представление всему русскому обществу об ошибочности политики, практиковавшейся в царствование Александра II. На этом хотели кончить, но незавершенность такой концовки бросалась в глаза. Нужны были выводы и предложения. Их подсказывали дела партии. Если нет сил для борьбы, то правительство не должно об этом догадываться, его нужно держать в страхе и в то же время предложить ему почетный выход — заменить прежний образ действия иным, мирным и светлым, результатом которого были бы народовластие и свобода России.
Перовская сомневалась. Стоит ли обращаться к правительству? Ведь нет ни малейшей надежды на то, что предложения Исполнительного комитета будут приняты. Эти сомнения разделяли Якимова, Суханов, Фроленко, Исаев. Отречение от византийства у правительства можно вырвать только силой.
Тихомиров и Грачевский возражали. Им казалось, что письмо к Александру III даст обществу, быть может, единственный случай стать судьей обеих борющихся сторон. Это было не столь убедительно, сколь желаемо, а потому поручили Тихомирову и Грачевскому составить два варианта письма.
Следующий раз собрались уже в Коломне 8 марта. Корба и Златопольский нашли уютную квартиру недалеко от Технологического института.
Было принято письмо Тихомирова, хотя Суханов протестовал. Ему поначалу не нравилась та его часть, где говорилось о причинах, вызвавших события 1 марта. Поручили Тихомирову прочесть письмо Михайловскому и после его поправок печатать. Поправок не было, и на Подольской улице в типографии день и ночь кипела работа.
Один экземпляр письма был особенно тщательно отпечатан на веленевой бумаге, вложен в конверт с титулами Александра III и опущен в почтовый ящик у здания Думы на Невском.
«…Мы не ставим Вам условий. Пусть не шокирует Вас наше предложение. Условия, которые необходимы для того, чтобы революционное движение заменилось мирной работой, созданы не нами, а историей. Мы не ставим, а только напоминаем их. Этих условий, по нашему мнению, два:
1) Общая амнистия по всем политическим преступлениям прошлого времени, так как это были не преступления, но исполнение гражданского долга.
2) Созыв представителей от всего русского народа для пересмотра существующих форм государственной и общественной жизни и переделки их сообразно с народными желаниями.
Считаем необходимым напомнить, однако, что легализация Верховной Власти народным представительством может быть достигнута лишь тогда, если выборы будут произведены совершенно свободно. Поэтому выборы должны быть произведены при следующей обстановке:
1. Депутаты посылаются от всех классов и сословий безразлично и пропорционально числу жителей.
2. Никаких ограничений ни для избирателей, ни для депутатов не должно быть.
3. Избирательная агитация и самые выборы должны быть произведены совершенно свободно, а потому правительство должно в виде временной меры, впредь до решения народного собрания, допустить:
а) полную свободу печати,
б) полную свободу слова,
в) полную свободу сходок,
г) полную свободу избирательных программ.
Вот единственное средство к возвращению России на путь правильного и мирного развития. Заявляем торжественно, пред лицом родной страны и всего мира, что наша партия, с своей стороны, безусловно подчинится решению Народного собрания, избранного при соблюдении вышеизложенных условий, и не позволит себе впредь никакого насильственного противодействия правительству, санкционированному Народным собранием.
Итак, Ваше Величество, — решайте. Перед Вами два пути. От Вас зависит выбор. Мы же затем можем только просить судьбу, чтобы Ваш разум и совесть подсказали Вам решение, единственно сообразное с благом России, с Вашим собственным достоинством и обязанностями перед родной страной.
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 10 марта 1881 г.»
«…Революционеры исчерпали себя 1-ым марта…»[В. И. Л е н и н, Соч., т. 5, стр. 40. 294]
Ни одной минуты слабости. Днем поиски на Пантелеймоновской, встречи, рождение и гибель новых и новых планов освобождения, вечера на совещаниях в Исполнительном комитете. Ночи… Ночами было тяжелей. Каждую ночь новый приют, торопливый сон, беспокойство за хозяев, предоставивших ночлег. Иногда от дневной суеты усталость столь велика, что сон не идет, тогда в голову лезут безответные вопросы. Чаще других звучит один: повесят или не повесят?
Она проводила на эшафот многих товарищей. Тени Квятковского, Преснякова, Осинского подсказывали — повесят, он голова партии, он ее сердце и душа. Но ведь, кроме теней мертвецов и голоса холодного рассудка, был голос сердца. Оно надеялось, оно протестовало. Учащенные стуки звучали надеждой. Нет! Нет! Нет!..
Такие ночи выматывали вконец. Софья Львовна не могла больше жить в безвестности. Знать наверняка, какую участь готовят судьи ее Андрею. Но как узнать?
В Петербурге были старые знакомые из тех, кто вхож в великосветские салоны, близок к самым высоким сферам. Но все эти годы она незримо боролась против них. Нужно ли, возможно ли обращаться к ним теперь? Нет, не за помощью, а только за сведениями? Перовская колебалась недолго. На войне необходима разведка. Клеточников работал же чиновником Третьего отделения. А потом ведь она любит, любит его! И если нет надежд, то его эшафот будет и ее виселицей.
Она не мечтала просто о жизни для Желябова. Жизнь в тюрьме. Как Нечаев. Или медленное умирание на Каре — нет, лучше гордая смерть! Но если его пожизненно приговорят к крепости, к каторге, а она останется на свободе… О! Она освободит его! В этом Софья Львовна не сомневалась. Только бы узнать! Есть подруга детства. Она встречается с одним из крупнейших генералов. Он может узнать.
Уютный будуар, мягкие пуфы, вычурные козетки, окно пропускает только бледно-оранжевые лучи.
Перовская сидит на пуфе и дрожит всем телом. До нее не доходят слова. Голос подруги печальный.
Да, она была у генерала. Желябова и Рысакова повесят.
— Генерал удивлен, зачем Желябову понадобилось подавать заявление.
Перовской не хочется говорить, голос ее выдаст. Собеседница понимает ее состояние и молчит. Перовская встает, ей нужно уходить, а она ничего не слышала, кроме виселицы.
— Иначе нельзя было. Процесс против одного Рысакова вышел бы слишком бледным.
Сказала и поняла, что в этих словах смертный приговор и Желябову и ей самой.
10 марта. Софье Львовне все время казалось, что кто-то следует за ней по пятам. Она заставила себя зайти в кухмистерскую и что-то съесть, потолкалась среди праздных зевак Гостиного двора, вспомнила проходные парадные, которые ей показывал Михайлов.
И снова на Пантелеймоновскую. Она напоминала птицу, которая вилась над гнездом коршуна, похитившего ее птенца. Сегодня будет выпущено письмо Исполнительного комитета, несколько смельчаков взялись расклеить его на Невском. Перовская на извозчике снова на проспекте, внимательно вглядывается в афишные доски. И опять то же ощущение преследования, слежки. Перовская выпрыгивает из пролетки. Лицом к лицу, чуть не сбив Софью Львовну, перед ней хозяйка молочной, где она часто закупала продукты. Ее зовут Луиза Сандберг. Перовская выдавливает на лице улыбку, молочница смотрит испуганными глазами. Софья Львовна все поняла, метнулась к панели, чьи-то сильные руки отбросили ее на тротуар.
Вечером Рысаков «припомнил» Воинову. Она принесла снаряды, она начертила на конверте план, она подавала знаки носовым платком.
Теперь процесс Желябова должен стать и процессом Перовской.
Перовская подтверждала то, что уже было известно следователям. Да, она проживала на квартире вместе с Желябовым, да, в жестяных банках был динамит. На все остальные вопросы: «Не желаю объяснять», «Не помню», «Не знаю».
Следователи выходили из себя. Один Рысаков внял их уговорам и выдавал все новых и новых деятелей партии, «припоминал» квартиры, клички, события. Желябов иногда подтверждал показания Рысакова, большей частью отмалчивался, откровенно игнорируя следователей. Но никогда не пропускал случая дать объяснения общего характера.
Партия, ее благородные цели, ее тактика, ее видение прекрасного будущего. И пусть бесятся следователи, пусть его перебивают — ведется протокол, и что-то из этих слов перешагнет тюремные застенки, разлетится эхом по России.
Жандармы умели вылавливать нужные им сведения, проверяли их у Рысакова и пускали по следу Окладского.
14 марта арестован Тырков.
17 марта — Кибальчич, Фроленко, Арончик.
14 марта следователи последний раз потревожили Желябова. Он, собственно, не нужен им, от него ничего не добьешься, это не Рысаков. Но в Петербург доставлены супруги Бовенко, формальность требует, чтобы они опознали его.
Супруги ни живы ни мертвы. Им ничего не объяснили, зато долго расспрашивали о Черемисове, интересовались деталями, что-то записывали и глядели исподлобья. Потом отвезли в этот огромный дом и оставили одних. Где-то хлопают двери, слышатся шаги, затем гнетущая тишина, и ни одной живой души. Супруга дрожит, супруг сдерживает дрожь, но изредка лязгает зубами. Они так заняты собой, так прислушиваются, что пропускают то мгновение, когда в комнате появляется человек в арестантской одежде. Это так страшно! Супруги вздрагивают одновременно. В ответ арестант смеется. Нет, он не потешается над ними — это добродушный смех старого знакомого, которого не узнают.
Бовенко вглядывается. Так и есть, Черемисов, провалиться ему на этом месте, обманщик Черемисов!
Следователю все ясно, супруги могут уйти. В руках у следователя снаряд, найденный на Тележной улице. Что может Желябов по этому поводу сказать? Желябов пожимает плечами. Дались же им эти снаряды! Да, по внешнему виду они принадлежат к одной из известных ему систем метательных снарядов, изготовленных для нападения 1 марта.
— Видели ли вы эти снаряды в руках кого-либо из членов революционной партии?
Наивная уловка! Желябов смеется: встреча с супругами его развеселила.
— Да, конечно, видел! Вы хотите знать, в чьих руках? Вот на этот счет я не желаю давать объяснений!
Узнику, сдавленному четырьмя стенами камеры, остаются в удел только его мысли и его мечты. Мысли горькие, хотя в них нет сожаления. Кончаются последние дни жизни, еще неделя, немного больше — и все… Эшафот и безвестная могила. После тебя ничего не останется — ни жены, ни детей. Всю жизнь поглотила борьба. А ведь он не был создан для нее. Его влекло научное поприще. Но революция требовала практики. Пришлось засесть за изготовление динамита, конструировать мины, готовить метательные снаряды. Ни минуты отдыха, ни на секунду нельзя ослабить нервы. Нелегальный, гонимый!..
А мечты? Как хочется помечтать о жизни! Но это бесплодно. Ее осталось уже так мало, что можно считать не дни, не часы, а минуты.
Мучает одно, неотступное, режущее — сознание разгрома партии. И не потому она потерпела крах, что враг могуч, а потому, что была слаба. Но почему, в чем просчет? Одному трудно найти ответ. Узник с тоской оглядывает камеру: забранное крепкой решеткой окно, стол, стул и кровать.
А в окне краешек луны. Даже ее холодный свет кажется теплым приветом воли, жизни. Недолгий гость этот далекий спутник. Пять-шесть минут, и она отвернется от окна, медленно поплывет в необозримые шири. Сколько пространства! Вечность! Узник приветливо кивает луне головой. До завтра! А ведь скоро наступит день, когда не будет завтра. А луна будет светить… другим, всем, кроме него.
Лучше не думать об этом! Слишком мало времени, чтобы растрачивать его на такие мысли.
Вчера, прежде чем забыться тяжелым сном, у него мелькнула идея. Утром не мог вспомнить. Потом целый день допросы. О чем он думал вчера? Опять о луне? Нет, о людях. Он много читал о тех, кто, подобно Икару, хотел взвиться ввысь. Проходили века, Леонардо да Винчи, братья Монгольфье… Люди парят на воздушных шарах без руля и без ветрил. Аппарат тяжелее воздуха — вот о чем он думал вчера перед сном!
Николай Кибальчич нетерпеливо усаживается за стол. Перед мечтой рухнули стены крепости, нет ночи, исчез призрак смерти. Ясный солнечный день озаряет большую поляну. Небо опрокинулось синью над травами. Люди, много, много людей, смех, цветы, гремят оркестры. На поляне какой-то невиданный аппарат сверкает стальными частями, чей-то властный голос, перекрывая шум, музыку, отдает команду. Аппарат отрывается от земли и легко повисает в воздухе, будто его подтянули на тросе к облаку. Крики «ура». У всех запрокинуты головы, блестят глаза.
Кибальчич устало качает головой. Так он мечтал только в детстве. Потом мечты уступили место действительности, и он уже не подпускал их близко к сердцу.
Но почему бы и нет?..
Узник думает долго, напряженно, что-то считает на клочке бумаги, потом чертит на стене. Невидящим взором смотрит в провал окна.
Надзиратель заинтересован. Вот уже два часа этот странный смертник что-то пишет. Завещание?
Вряд ли нигилисту есть что завещать, а потом все равно власти конфискуют. Письмо кому-нибудь? Но он явно что-то считает.
Кибальчич увлечен. Еще бы, ведь летательный аппарат тяжелее воздуха — это не мечта, это реальность! Теперь он убежден. Лишь бы хватило времени все продумать, рассчитать. Главный вопрос: какая сила должна быть употреблена, чтобы привести в движение такую машину? Пар? Нет, пар отпадает. Полезный коэффициент паровой машины очень невелик, хотя и забылись точные цифры, но это так, если даже отбросить громоздкость паровой установки, вес угля и т. д. Не годится и электроэнергия, ее опять-таки не получишь без пара, паровой машины.
Кибальчич только сейчас заметил надзирателя. «Что, опять на допрос? Но мне некогда, как они не понимают!»
От стены к двери, от двери к стене, не считая шагов, чуть замедляя их на повороте, чтобы не закружилась голова. Какая сила, какая сила? Кибальчич замирает на полушаге.
А взрыв, взрыв пороха, пироксилина! Вот она, сила! Один фунт пороха, будучи взорван в земле; может выбросить глыбу, весящую сорок пудов. Это теория, а он практик, и никто в России лучше его не знает силы динамита. Он снаряжал мину, которую заложили под рельсы и которой сбросили под откос царский поезд. Увы, царя в нем не было. Он готовил мину и для подкопа из сырной лавки Кобозева на Малой Садовой. Если эту мину взорвать, то в мостовой образуется воронка, куда провалится карета. Метательный снаряд, сконструированный им, убил 1 марта Александра II.
Да, порох, и ничто, иное, должен двигать аппарат. И опять перед глазами поляна, солнце, аппарат, висящий в воздухе. Но теперь все звуки заглушаются взрывами: один, другой, серия, сплошной гул…
Как, каким образом применить энергию газов, образующихся при воспламенении взрывчатых веществ, к какой-нибудь продолжительной работе? Теоретически на этот вопрос ответить просто. Нужно, чтобы эта огромная энергия образовывалась не сразу, а в течение более или менее продолжительного промежутка времени. А как на практике?
В камере погасили свет, пришлось лечь. Но разве уснешь! Голова устала, трудно сосредоточиться. Мелькают обрывки воспоминаний. Одесса! Как ласково твое солнце, как игриво море! Оно нескончаемо шумит прибоем, перемигивается миллионами искрящихся фонариков. Он был в Одессе в те дни, когда там ждали императора, он тоже ждал, чтобы убить его. Готовил мину. А Одесса волновалась: украшались парки, скверы, прихорашивались ресторации. Каждый вечер гулянья. На берегу фейерверк. Как дружно взлетали ракеты, лопаясь в вышине… Ракеты. Наплывающий сон как холодной водой смыло.
Ракеты! В ракетах используется прессованный порох. Под большим давлением прессуется пороховой цилиндр. Если зажечь один конец этого цилиндра, то горение не сразу охватит его, а будет распространяться сравнительно медленно от одного конца к другому. Если такой цилиндр поместить в твердую оболочку, ну, скажем, тоже в цилиндр из стали без одного дна, проделать в пороховой массе сквозной канал, то образующиеся при сгорании газы будут давить на стенки, давление на боковые стенки взаимоуравновесится, на одно основание цилиндра газы будут давить, другого нет, они могут свободно вытекать. Ракета летит.
Ракета, управляемая. С людьми. Вспомнился Жюль Берн «Из пушки на Луну». Нет, не пушка, только ракета унесет человека в неизмеримые просторы космоса, выше, выше, к Луне, Марсу, Солнцу!
Как тесен мир камеры, как темно в нем! Кибальчич, усталый, радостно возбужденный, засыпает.
Раннее утро застает Кибальчича за работой. Теперь он спокоен, внутренне собран. Прочь мечты — точный анализ, схема, расчет. Нет таблиц, придется ограничиться описанием общей идеи. Если она верна, то найдутся люди, которым посчастливится жить завтра, они рассчитают, построят и, быть может, помянут добрым словом узника-изобретателя.
Дверь камеры широко распахивается. На пороге какой-то господин. Что ему еще нужно?
— Я пришел познакомиться с вами. Мне предстоит быть вашим адвокатом на процессе.
Кибальчич понимает, что господин выполняет служебный долг. Как его зовут? Ведь вчера на допросе называли его фамилию. А, вспомнил.
— Милости прошу, господин Герард, извините за непрезентабельность, но в сем я не повинен.
Герард с удивлением смотрит на этого худощавого, скорее суховатого, человека с тонкими и правильными чертами лица. Даже улыбка не может стереть некоторую безжизненность, апатию. Но глаза, глаза! Их освещает внутренний огонь.
— Я помешал, вы были чем-то заняты?
— Да, господин адвокат.
— Разрешите полюбопытствовать?
— Пока нет, господин адвокат.
Потянулась скучная, обязательная беседа. Она раздражала Кибальчича. Когда он родился, вероисповедание, род занятий, образование… «Какое это имеет значение теперь, когда впереди смерть и так мало времени? Защитник хочет выяснить мотивы, побудившие меня встать на путь революционной борьбы?» Кибальчич подробно рассказывает, как он, сын священника, сочувствуя социалистической пропаганде, хотел идти в народ, слиться с ним, поднять его нравственный и умственный уровень, но был остановлен на полпути арестом. Аресты, ссылки, а потом и казни бросили мирного пропагандиста в объятия террора. Ему он отдал свои знания техника.
Герард ушел. Кибальчич не слышал, как захлопнулась за ним дверь. На бумаге появился чертеж. Несколько минут узник раздумывает над ним, потом быстро проставляет на плане буквы, отодвигает от себя и начинает его описание.
В описании главное — идея. Техники поймут, усовершенствуют, придумают регуляторы, быть может, крылья. Но это все уже эксперимент.
Кибальчич вспоминает свою динамитную мастерскую — ведь там, в небольшой комнатке, он мог бы поставить опыт. Не было времени. Теперь Николай Иванович уверен, что идея аппарата незримо вынашивалась им где-то в тайниках мозга и только сейчас обрела плоть. Будь он на свободе!.. Да что об этом говорить!
23 марта Кибальчич, наконец, познакомил Герарда со своим изобретением и передал ему на хранение.
26 марта Константин Маковский входил в залу суда со смешанным чувством любопытства и негодования.
Нигилисты, цареубийцы!
Перед глазами убитый император. Он помнит его живым в Ливадии. Маковский писал портрет княгини Юрьевской и детей. Много бродили вдвоем по ливадийскому парку, спускались к морю и подолгу любовались веселыми барашками. Император был мил, любезен, весел и буквально очаровал художника.
Маковский оглядывает залу. Народу еще немного, лица знакомые. Художник раскланивается направо и налево. Сановники вперемежку с дамами: мундиры и декольте. На каждом шагу полицейские. И погоны, погоны… Пока судьи и прокурор не заняли своих мест, в зале порхает оживленная беседа вполголоса. Дамы лорнируют, мило улыбаются. Офицеры щелкают каблуками. Но за всем этим светским маскарадом ощущается напряженное ожидание, затаенный страх, нервное возбуждение.
До начала заседания оставалось еще полчаса. Зал постепенно заполнялся тщательно просеянными сквозь жандармское сито посетителями.
Маковский раскрыл альбом.
Между тем в комнате совещаний процесс уже начался. Первоприсутствующий сенатор Эдуард Яковлевич Фукс, заметно волнуясь и поминутно подергивая себя за длинные седые баки, читает членам суда Биппену, Писареву, Орлову, Синицыну, Белостоцкому и сословным представителям дворянства графу Бобринскому, барону Корфу, московскому городскому голове Третьякову и волостному старшине Гелькеру определение Особого присутствия сената на заявление Желябова. Члены суда равнодушно кивают головами, Бобринский и Корф о чем-то оживленно беседуют, нимало не смущаясь тем, что мешают Фуксу.
Первоприсутствующий с трудом сдерживается. Им-то что, будут сидеть болванами на процессе, сплетничать в кулуарах и в случае какого-либо инцидента все свалят на него. А ему и так досталась нелегкая миссия. И кто мог предполагать в тот чудесный день нового 1881 года, когда граф Лорис-Меликов поздравлял его с назначением на председательское место в политическом отделе сената, что ему придется председательствовать в Особом присутствии на этом процессе! Министр юстиции Набоков — грязная свинья. Недели две тому назад он пригласил к себе сенатора, и между ними произошел неприятный разговор.
— Вы догадываетесь, зачем я вас призвал?
— Да! Но неужели вы думаете предать их суду сената? Позвольте, позвольте, ведь по закону для этого должен быть созван Верховный уголовный суд. Если для покушения Соловьева был такой суд, то как же, когда совершилось цареубийство, предать преступников обыкновенному суду сената? Русское общество переживает большое возбуждение. На такой суд посыплются нарекания.
Набоков нахмурился. Фукс был прав, но, если созывать Верховный уголовный суд, ему, Набокову, придется выступать в качестве прокурора, сажать министров как членов суда. А тут нужны опытные юристы-крючкотворы. Нет уж, он и так истратил много сил, доказывая Лорис-Меликову необходимость суда сената.
Фуксу можно и приказать.
— Ну, уж об этом нечего говорить. Это дело решенное, и вам предстоит взять его на себя!
Фуксу ничего не оставалось: отказаться он не мог.
— Учтите: государь желает закончить процесс как можно скорее. Придется пойти на некоторые уступки.
— Какие еще уступки?
Фукс встрепенулся. Уж если его заставили взять на себя такое «высокое назначение», то он не позволит командовать. Набоков хочет сократить срок между выдачей обвинительного акта подсудимым и началом процесса. Не будет этого!
Фукс сам отвез обвинительный акт подсудимым в крепость.
Желябов вчера переслал записку. И вот сегодня Фуксу пришлось собрать состав суда не в одиннадцать часов, как было назначено, а в десять.
Фукс возмущен тем, что его плохо слушают. Эти «усердные верноподданные» не понимают, что заявление Желябова составлено дьявольски убедительно. О да, первоприсутствующий должен признать, что на процессе Желябов будет грозным противником, да к тому же хорошо знающим тонкости юриспруденции.
Желябов писал:
«Принимая во внимание:
во-первых, что действия наши, отданные царским указом на рассмотрение Особого присутствия сената, направлены исключительно против правительства и лишь одному ему в ущерб; что правительство, как сторона пострадавшая, должно быть признано заинтересованной в этом деле стороной и не может быть судьей в своем собственном деле; что Особое присутствие, как состоящее из правительственных чиновников, обязано действовать в интересах своего правительства, руководясь при этом не указаниями совести, а правительственными распоряжениями, произвольно именуемыми законами, — дело наше неподсудно Особому присутствию сената; во-вторых, действия наши должны быть рассматриваемы как одно из проявлений той открытой, всеми признанной борьбы, которую русская социально-революционная партия много лет ведет за права народа и права человека против русского правительства, насильственно завладевшего властью и насильственно удерживающего ее в своих руках по сей день; единственным судьей в деле этой борьбы между социально-революционной партией и правительством может быть лишь весь русский народ через непосредственное голосование, или, что ближе, в лице своих законных представителей в Учредительном собрании, правильно избранном; и в-третьих, т. к. эта форма суда (Учредительное собрание) в отношении нас лично неосуществима; т. к. суд присяжных в значительной степени представляет собой общественную совесть и не связан в действиях своих присягой на верную службу одной из заинтересованных сторон; на основаниях вышеизложенных я заявляю о неподсудности нашего дела Особому присутствию правительствующего сената и требую суда присяжных в глубокой уверенности, что суд общественной совести не только вынесет нам оправдательный приговор, как Вере Засулич, но и выразит нам признательность отечества за деятельность, особенно полезную.
Андрей Желябов, 1881 г., 25 марта. Петропавловская крепость».
— Господа! — Фукс повысил голос. Корф и Бобринский замолчали. — Господа, я уверен, вы согласны, что отвод подсудимого Желябова не заслуживает уважения и к тому же в своих требованиях нарушает высочайшее распоряжение, исключающее возможность передачи дел политических на рассмотрение суда присяжных.
Господа единодушны: оставить это наглое заявление без последствия.
Фукс хитрее и опытнее их. Оставить без последствия — это само собой разумеется, но ужели эти тупицы не понимают, что Желябов уже перешел в наступление и нанес чувствительнейший удар? Через тридцать минут Фукс должен будет публично читать заявление Желябова. А это означает, что оно немедленно попадет в газеты. Ну нет, слишком рискованно. Ведь, по сути закона, этот мерзавец прав, тысячу раз прав, и к тому же он еще издевается над Особым присутствием: «и выразит нам признательность отечества…»
— Господа, я уверен, что прокурор Плеве не откажется подписать определение Особого присутствия и немедленно передать его подсудимому, что избавит нас от необходимости оглашать заявление преступника.
Бобринский и Корф аплодируют. Фукс — хитрая лиса, что ж, тем лучше, тем лучше!
Но пора и начинать!
Первоприсутствующий последний раз глянул на себя в зеркало, расчесал бакенбарды, одернул мундир и… замер в изумлении. К нему приближался жандармский полковник. Святотатство! Никто, кроме судей, не имеет права входить в совещательную комнату. Жандарм остановился за спиной сенатора, немного постоял, ожидая, что тот повернется к нему, потом лихо вскинул руку в фуражке и отрапортовал отображению в зеркале:
— Прошу прощения, господин сенатор, но по настоянию министра внутренних дел я обязан осмотреть помещение. У нас имеются сведения, что под здание Особого присутствия террористы подложили мину.
Фукса точно взрывом отшвырнуло от зеркала. Страх сделал его немым. Полковник еще раз козырнул и, больше не обращая внимания на сенатора, стал внимательно рассматривать стены.
— Суд идет! Суд идет!
Дородный пристав приглашает присутствующих встать.
Одновременно открылись две двери. Случайно ли это произошло или перепутали что распорядители, осталось неизвестно. Но в боковую дверь, вплетенные между жандармами, входили арестованные, а из комнаты совещания торжественно шествовали царские чиновники. Кто же судьи?
Маковский приглядывается к подсудимым. Они держатся с достоинством. Ни тени раскаяния.
Карандаш быстро зашуршал по листу альбома.
Объявлен состав суда. Идет поименный опрос обвиняемых. Красавец с окладистой бородой и каштановыми прядями — Желябов, рядом дочь губернатора — Перовская, около нее — Кибальчич. Взор художника на минуту задерживается на нем. Немного отсутствующее выражение глаз, но детали потом, потом. Еще одна женщина — Геся Гельфман. Маковский не любит некрасивые лица. Там какой-то юноша. А! Рысаков.
Опытный глаз художника подмечает все. Лицо Рысакова опухло, покрылось желтизной. Его нужно изображать в красках и в гробу… Михайлов слишком прост, да к тому же он как будто спит.
Право, спит. Ну и ну!..
И опять в поле зрения Желябов. Маковский рисует его в профиль. Завтра он будет набрасывать анфас. Можно теперь заняться судьями. Но кто-то заглядывает в альбом. Художник терпеть не может, когда подсматривают его наброски. Альбом захлопнут. Маковский оборачивается. Перед глазами золото флигель-адъютантских эполет. Да это Насветевич! Жуир, рисовальщик не из бездарных, фотограф.
Насветевич любезно протягивает свой альбом.
Так, так, он уже успел зарисовать судей. Фукс похож. Вот именно, растерянное выражение лица, губы скривило. Рядышком генерал Федоров — типичный расейский генерал, зарос до ушей, нос картошкой, брюшко… Хотя нет, Насветевич пародирует, Федоров все же умница и хороший артиллерийский специалист. Да, но это не мешает ему пить водку, носище-то какой лиловый. Типично! Типично! И Муравьев неплох: аскет, вурдалак!
Сзади зашикали. Насветевич откланялся и откинулся в кресле.
Маковский снова рисует Желябова. Что-то не дается ему в этом прекрасном лице.
А зал молчит.
Читается обвинительное заключение:
«Обвиняются: во-первых, в том, что вступили в тайное сообщество, именующее себя «Русской социально-революционной партией» и имеющее целью ниспровергнуть, посредством насильственного переворота, существующий в империи государственный и общественный строй…»
Желябов сосредоточенно слушает. Он отказался от защитника, и не потому, что надеется на свои знания юриста. Но защитник никогда не станет отстаивать честь партии, в лучшем случае он по мере сил своих будет стараться выгородить подзащитного. А это-то как раз и неважно. Главное — с этой трибуны изложить программу и тактику «Народной воли». И не для этих, сидящих тут, в зале, как в партере театра на представлении, а для тех, кто ищет выхода из тупика, кто захочет бороться.
Желябову уготовлена виселица вне зависимости от того, что покажут свидетели, как он сам поведет защиту. Но есть такие, как Тимофей Михайлов, Геся, их еще можно попытаться спасти. Они пригодятся партии.
Как там сформулировал судейский крючок? А! «Тайное сообщество, именующее себя…» Хитрите, господа, хитрите, да и мы не лыком шиты! Не удастся вам представить шестерых подсудимых как полный состав сообщества, тем паче партию. Нужно запомнить это место и показать судьям, что их козыри биты. Но послушаем дальше.
«Во-вторых, в том, что, принадлежа к означенному сообществу и действуя для достижения его целей, согласились между собой и с другими лицами лишить жизни его императорское величество государя императора…»
И снова Андрей Иванович нетерпеливо вертит головой. Наклоняется к Перовской, что-то шепчет.
Судейские чинуши выхолостили из обвинительного заключения все, что могло хотя бы косвенно касаться целей и программы партии. Сделано это умышленно: не дай бог газеты перепечатают — начнутся толки.
Ведь в программе говорится о светлом будущем России. Но тогда за что же судить людей, его добивающихся?
Желябов улыбается и оглядывает товарищей. Понимают ли они, как можно использовать судейский документ? Кибальчич понимает. Он весь собрался, на лице умная усмешка.
Перовская? Она занята Андреем. Судьба подарила ей несколько часов, и не хочется упустить ни минуты.
Описание убийства слушать неинтересно, весь хитрый прием суда как на ладони.
Одесса, Липецк, Воронеж!
Забылись статьи «Уложения о наказаниях уголовных и исправительных». Желябов напрягает память.
Пожалуй, по статьям 241, 242, 243 и еще какой-то…
Секретарь добавляет: 249. Значит, по обвинительному заключению они уголовники, убийцы. Никакой партии и в помине нет.
Желябову ясно, как вести свою защиту.
Но пока нужно воспользоваться опросом свидетелей, чтобы разоблачить комедию суда, заодно сбить с толку Фукса и получить возможность изложить партийную программу. Чем больше будут путать свидетели, тем лучше. Они запутают судей. Те растеряются — вот тогда и настанет черед подсудимых.
Фукс ерзал на председательском кресле. Внимание его раздваивалось. Подсудимые с достоинством, убийственно вежливо загоняли судей в дебри споров о вещественных доказательствах преступления. И пока суд плутал в показаниях свидетелей, преступники успевали сказать несколько слов о партии.
Фукс немедленно обрывал.
Но тогда прерывался ход доказательства. Начинались прения. Суд топтался на месте. Публика негодовала. Генералы и дамы шикали, громко проявляя свое верноподданническое усердие, подсказывали, как вести председательствующему процесс. В другое время Фукс приказал бы очистить зал. Но попробуй это сделать, когда в зале сидит министр юстиции Набоков, когда градоначальник Баранов рыскает, доносит государю.
Обвинение отводит ряд свидетелей. Они нежелательны, так как принадлежат к частной публике. Черт их знает, чего еще наговорят. Другое дело казенные: дворники, городовые, офицеры.
Желябов требует слова?
Что же, Фукс не может ему отказать. Но… Что это за тон?!
— Я не ожидал такого заявления… Весьма возможно, что, отвечая на такую новую комбинацию, я просмотрю некоторых свидетелей, которых раньше находил нужным спросить.
Фукс даже вспотел. Кто кого судит?
Набоков что-то шепчет.
Этот министр — наглец. У всех на виду подавать советы первоприсутствующему, сидеть за его спиной!.. Да ведь над российскими порядками будет потешаться вся Европа. Но Набоков произносит имя государя императора. Фукс настораживается.
— У государя появилась мысль прервать этот процесс и передать его в военный суд.
Фукс зеленеет. Если это случится, он должен немедленно подать в отставку.
Но чем недоволен государь? Ах, тем, что подсудимые могут разговаривать между собой, когда суд уходит… Но, позвольте, ведь закон этого не запрещает, тем паче что следствие закончено и разговоры не могут причинить вреда, если, конечно, они ведутся в рамках и не позволяется чего-либо неприличного.
Фукс посылает к подсудимым пристава предупредить, чтобы они не разговаривали. Пристав возвращается и передает просьбу: позволить подсудимым разговаривать, когда уходит суд.
И опять Желябов.
Фукс готов возненавидеть его. Он попросту издевается над судом.
Только свидетель обвинения рассказывал о последних минутах в бозе почившего государя императора, да так проникновенно, со слезой…
— Я видел, как государь, забыв обо всем, сострадательно наклонился над раненым…
Фукс спешит: нужно, чтобы свидетель дорисовал картину святой кротости императора.
— Вы видели, что государь император наклонился над раненым?
— Да, видел, и потом он поднялся и пошел… Фукс готов прослезиться, дамы вытирают платочками глаза, и вот, извольте, Желябов…
— Я просил бы объяснить мне маленькую формальность: должен ли я стоять или сидеть, делая заявления?
У первоприсутствующего даже бакенбарды вздыбились от негодования. Еще минута, и он запустит в подсудимого колокольчиком. А они еще говорят, что он потворствует убийцам!..
Фукс торопится изменить ход заседания. Со свидетелями Желябов расправляется просто. Нужно пригласить экспертов. Теперь Желябов должен замолчать, слово за Кибальчичем.
Эксперты длинно и нудно толкуют о качестве динамита.
Фукс облегченно вздыхает.
Но только на минуту. Председательствующему кажется, что все посходили с ума. Эксперты хвалят Кибальчича!.. Они никогда не видели метательных снарядов такого типа. Устроены они превосходно, неплохо было бы иметь такие на вооружении русской армии! Эксперт по минному делу и подкопам архитектор Рылло заявил, что подкоп под Малую Садовую велся «со знанием дела».
Генерал Мровинский порадовал Фукса: он не хвалил, а прямо сказал, что гремучий студень для снарядов привезен из-за границы.
Так-так, это интересно! Круг преступных связей расширяется, можно и Европу попрекнуть в случае, если она начнет издеваться над процессом.
Кибальчич протестует:
— Я должен возразить против мнения экспертизы о том, что гремучий студень заграничного приготовления. Он сделан нами.
Кибальчич чувствует себя на университетской кафедре. Размеренным голосом он читает лекцию о динамите, не забывает познакомить слушателей и с историей вопроса. И это просто, веско, убедительно.
Фукс бесится. Они равнодушны к своей судьбе, но попробуй умалить партию! Послушать их, так она всесильна!
Опять потянулись свидетели, и снова Желябов издевается над Особым присутствием. Он выматывает душу из дворника Самойлова, запутал его, заставил отказаться от своих первоначальных показаний по поводу пьянства Кобозева. Он на страже чести партии — это прежде всего, но и не упускает случая посмеяться над судьями. Его спрашивают о назначении вещей, найденных в квартире, особенно жестяных банок из-под конфет. Он говорит, что банки — общественная собственность партии, и поэтому более подробных объяснений давать не желает. «Преступники» откровенно хохочут.
Фукс в изнеможении закрывает заседание Особого присутствия.
Целый день в зале звучит речь прокурора Муравьева. Верхи возлагают на него большие надежды. Муравьев готов вывернуться наизнанку.
В кулуарах Особого присутствия толпятся сотрудники газет. Их обещали сегодня допустить на заседание, но почему-то не пускают. Безобразие, ведь прокурор не сеет крамолы! Жандармы рассуждают иначе: пусть газеты помолчат, для них же будет от этого польза, по крайней мере не закроют.
Желябов скучает. Он предугадывает, о чем будет говорить этот вурдалак. Соня рассказывала, как в детстве они вместе играли в прятки, и будущий прокурор заискивал перед будущей революционеркой. Но тогда она была дочерью губернатора.
Вицмундир смешно топорщится. Если бы Муравьев надел мантию, то напоминал бы инквизитора. Иногда подсудимым мерещится распятие позади прокурорской трибуны.
Желябов изучает жандармов, стоящих у барьера. Их лица ничего не выражают; у одного шея набухла и покраснела, стянутая тугим воротником, у другого дрожит рука, шашка ритмично покачивается. О чем они думают? Наверное, верят всему, что говорит прокурор. А может быть, они тоже не слушают? В зале легкий шепот, но его глушат патетические взлеты голоса Муравьева. Кто-то рисует. Андрею очень хочется скорчить гримасу. Но это можно только перед фотоаппаратом. А ловко он тогда не позволил себя снять, такие строил рожи, такие рожи, что тюремщики отказались от всяких попыток.
Взгляд останавливается на Гесе. Как ей помочь? У нее скоро будет ребенок. По закону наказание должно быть отложено до рождения младенца. А не лучше ли сразу? Иначе двойные муки. Желябов гонит от себя боль.
О чем там разглагольствует прокурор: а, о беспристрастии. «Ну, ну, послушаем этого Иудушку».
— Нам понадобится все мужество и все хладнокровие… Нам предстоит спокойно исследовать и оценить во всей совокупности несмываемые пятна злодейски пролитой царственной крови…
Желябов добродушно смеется: вот уж перестарался угодничек, «оценить капли крови», право, и красноречие должно все же подчиняться правилам грамматики и здравому смыслу!
— Из кровавого тумана, застилающего печальную святыню Екатерининского канала, выступают перед нами мрачные облики цареубийц… Но здесь меня останавливает на минуту смех Желябова…
Поди же ты, сумел-таки придраться! Что же дальше?
— …Тот веселый или иронический смех, который не оставлял его во время судебного следствия и который, вероятно, заставит его и потрясающую картину события первого марта встретить глумлением… Но… я знаю, что так и быть должно: ведь когда люди плачут, Желябовы смеются…
Смех Желябова громко разносится по залу в момент, когда Муравьев переводит дух. Он звучит одобрением. Что же, на сей раз этот Торквемада удачно кольнул его. «Но подожди, наша речь впереди…»
Зал шокирован смехом и бешено рукоплещет прокурору. Но Муравьев достаточно умен. Он понимает, что аплодисменты вызваны удачным выпадом, а главное, на что он истратил весь запал красноречия, не достигнуто. Как он ни актерствовал, как ни придавал своему голосу зловещее шипение, как ни взывал к богу языком допетровских предков, ему не удалось — изобразить подсудимых уголовными убийцами, садистами, фанатиками всеобщего разрушения. Скорее наоборот: чем больше он живописует мрачное подполье, подкопы, борьбу одиночек с грозными силами повелителя империи, тем героичнее выглядят эти шестеро, скромные, воспитанные люди. Проклятие! Весь начальный план речи летит… Нужно найти в противовес им героя или святого. Да, да, святого! Покойный государь!..
— …Под императорской каретой внезапно раздался взрыв, похожий на пушечный выстрел, повлекший за собой всеобщее смятение. Испуганные, еще не отдавая себе отчета в случившемся, смутились все — не смутился один помазанник божий, невредимый, но уже двумя часами отделенный от вечности…
И снова смеется Желябов, но на сей раз не добродушно. Он не может сейчас говорить, но смех красноречив… «Все смутились, да, да, все, и в первую голову всякие там Дворжицкие, Кохи, жандармы, шпики, а вот Гриневицкий не смутился и отправил к праотцам помазанника». Подсудимые поняли Желябова: Кибальчич кивает головой, Перовская слегка краснеет — ведь Андрей и ей сделал комплимент.
Зал шикает. Муравьев, чтобы успокоить дам, становится в позу Цицерона, патетически вопрошая:
— Где же цареубийцы?..
Желябову хочется довести мизансцену до конца, в ответ на восклицание прокурора он готов вскочить и раскланяться. Перовская чувствует задор Андрея и тихонько удерживает его на месте.
— …Вы хотите знать цареубийц? Вот они!
В зале кто-то хлопнул в ладоши, сраженный ложным пафосом обвинителя. Хлопок подхватили, но аплодисменты испуганно смолкли. Нависла тяжелая пауза. Овации цареубийцам?..
Муравьев позеленел. Красноречие оборачивалось против него. Фукс уже тянулся к колокольчику. Нужно скорее переходить к характеристике каждого подсудимого и выяснению состава преступления.
Муравьев отодвигает в тень Рысакова и Перовскую, Кибальчича и Гриневицкого и стремится занять весь передний план фигурой Желябова. Он готов снизойти до слабостей остальных, они просто исполнители, но за ними всегда стоял демон, он повелевал ими, как Мефистофель силами ада. Он «вдохновитель», он «вездесущ».
А что дальше, что дальше?.. Муравьев мнется, он вплотную подошел к партии. Но разве можно осквернять свои прокурорские уста такими крамольными словами, как «партия», «революция»? Нет, нет, партии никакой нет, успокойтесь, господа! В России испокон веков мир и благоденствие, народ любит своего отца — батюшку императора, тот печется о чадах своих. А эти вот — выродки, исчадия ада в облике благопристойных людей. Перед судом не партия, а просто «атаманство», шайка убийц, а их глава — атаман Андрюшка Желябов. Ну, да он пострашнее Васьки Потехина, что сбродует вокруг столицы; тот убивает ради кошелька, а этот ради убийства.
Муравьев окончательно заврался. Зал уже не аплодирует, Желябов не смеется. Кто-то зевает, но прокурор не может соскочить со своего «конька». Желябов, Желябов… Характеризуя его, он характеризует «сообщество», «Исполнительный комитет», «крамольное» движение. Остальных походя, между прочим.
— Мне нужно несколько остановиться на роли подсудимого Желябова в самом заговоре. При этом я постараюсь приписать ему только то значение, которое он в действительности имел, только ту роль, которую он в действительности исполнял, ни больше ни меньше… Роль моя, говорит Желябов, была, конечно, менее деятельна и важна, чем в провинции. Там я действовал самостоятельно, а здесь — под ближайшим контролем Исполнительного комитета, о котором так часто приходится говорить Желябову, я был только исполнителем указаний, и вот Исполнительный комитет, говорит он, решив совершение в начале 1881 г. нового посягательства на цареубийство, поручил ему, Желябову, заняться ближайшей организацией этого предприятия, как любят выражаться подсудимые на своем особенном, специфическом языке, или, другими словами, выряжаясь языком Желябова, поручил ему учредить атаманство, атаманом которого и был подсудимый Желябов. В старые годы у нас называли атаманами людей, которые становились во главе разбойнических соединений. Я не знаю, это ли воспоминание или другое побудило к восприятию этого звания, но тем не менее Желябов был атаманом, и атаманство под его началом образовалось. Выбрав лиц достойных, годных, по его мнению, к участию в злодеянии, он составил им список и представил его на утверждение Исполнительного комитета. Исполнительный комитет, утвердив его, возвратил его Желябову, который затем привел постановление Исполнительного комитета в исполнение… Главное руководство, утверждает Желябов, принадлежало не ему, а Исполнительному комитету. Исполнительный комитет — это вездесущее, но невидимое таинственное соединение, которое держит в руках пружины заговора, которое двигает людьми, как марионетками, посылает их на смерть, переставляет их — одним словом, это душа всего дела. Но я позволю высказать другое мнение и, рискуя подвергнуться недоверию и глумлению со стороны подсудимых, позволю просто усомниться в существовании Исполнительного комитета… Я знаю, что существует не один Желябов, а несколько Желябовых — может быть, десятки Желябовых, но я думаю, что данные судебного следствия дают мне право отрицать соединение этих Желябовых в нечто органическое, правильно установленное иерархическое распределение, — в нечто соединяющееся учреждение…
…Если бы я хотел охарактеризовать личность подсудимого Желябова так, как она выступает из Дела, из его показаний, из всего того, что мы видели и слышали здесь о нем на суде, то я прямо сказал бы, что это необычайно типический конспиратор, притом заботящийся о цельности и сохранении типа, о том, чтобы все: жесты, мимика, движение, мысль, слово — все было конспиративное, все было социально-революционное. Это тип агитатора, тип, не чуждый театральных эффектов, желающий до последней минуты драпироваться в свою конспиративную тогу.
В уме, бойкости, ловкости подсудимому Желябову, несомненно, отказать нельзя. Конечно, мы не последуем за умершим Гольденбергом, который в своем увлечении называл Желябова личностью высокоразвитой и гениальной. Мы, согласно желанию Желябова, не будем преувеличивать его значение, дадим надлежащее ему место, но вместе с тем отдадим ему и справедливость, сказав, что он был создан для роли вожака-злодея в настоящем деле…
…В 1880 году мы находим Желябова в Петербурге в качестве агента Исполнительного комитета. Агенты Исполнительного комитета, как нам было заявлено, распределяются на несколько степеней: есть агенты первой, второй и третьей степени. Желябов называет себя агентом третьей степени, агентом, ближайшим к комитету, агентом с большим доверием. Но я полагаю, что со стороны Желябова это излишняя скромность и что если существует соединение, присваивающее себе название «Исполнительного комитета», то в рядах этого соединения почетное место принадлежит подсудимому Желябову. И не напрасно думал Рысаков, что совершение злодеяния первого марта примет на себя один из членов Исполнительного комитета. Понятно, впрочем, что сознаться в принадлежности к Исполнительному комитету — значит сказать: вы имеете пред собой деятеля первого ранга, и вашим приговором вы исключаете из революционного ряда крупную силу, одного из самых видных сподвижников партии. На суде и во время предварительного исследования дела в показаниях Желябова заметна одна черта, на которую я уже указывал, эта черта — желание его расширить, желание придать организации характер, которого она не имела, желание, скажу прямо, порисоваться значением партии и отчасти попробовать запугать. Но ни первое, ни второе не удается подсудимому. Белыми нитками сшиты все эти заявления о революционном геройстве; суд видит через них насквозь неприглядную истину, и совсем не в таком свете предстанет Желябов в воспоминаниях, которые останутся от настоящего грустного дела… Когда я составлял себе общее впечатление о Желябове… я вполне убедился, что мы имеем пред собой тип революционного честолюбца…
Прокурор красноречив, театрален, иногда истеричен.
Желябов теперь серьезен. Как только кончит прокурор, ему предстоит сказать свою речь. Если первоприсутствующий предоставил такие широкие возможности обвинению, то по процессуальному кодексу у обвиняемых есть право на возражения.
Но Фукс думает иначе. Он не предоставил слова Желябову. Впоследствии он будет писать об угрызениях совести нарушении процессуального кодекса. Но это потом, когда к первоприсутствующему приблизится вечность и появится страх перед судом истории. А пока за его креслом сидит министр юстиции Набоков. Это Набоков шепнул ему: «Ради бога не делайте этого!»
И Фукс не сделал.
Не случайно Андрей отказался от защитника. Фукс должен согласиться на его выступление, но он прерывает, не дает говорить. У Желябова получается не речь, а какие-то обрывки, пререкания с председателем. Он не может сказать всего, что хочется и что нужно. Он вынужден комкать. И все-таки он говорит:
— Господа судьи, дело всякого убежденного деятеля дороже ему жизни. Дело наше здесь было представлено в более извращенном виде, чем наши личные свойства. На нас, подсудимых, лежит обязанность по возможности представить цель и средства партии в настоящем их виде. Обвинительная речь, на мой взгляд, сущность наших целей и средств изложила совершенно неточно. Ссылаясь на те же самые документы и вещественные доказательства, на которых г. прокурор обосновывает обвинительную речь, я постараюсь это доказать. Программа рабочих послужила основанием для г. прокурора утверждать, что мы не признаем государственного строя, что мы безбожники и так далее. Ссылаясь на точный текст этой программы рабочих, говорю, что мы — государственники, не анархисты. Анархисты — это старое обвинение. Мы признаем, что правительство всегда будет, что государственность неизбежно должна существовать, поскольку будут существовать общие интересы. Я, впрочем, желаю знать вперед, могу я касаться принципиальной стороны дела или нет.
Говорит прокурор, задает вопросы и прерывает ответы первоприсутствующий; подсудимых приводят, уводят; зал то затаенно молчит, то глухо рокочет негодованием. Сверкают эполеты, вицмундиры, гремят шашки конвоиров. Вхожие в «сферы» художники делают наброски в альбомах…
Кибальчич очень, почти неправдоподобно спокоен. Фукс считает его главарем.
Партия, партия, ее цели, ее программа. Ему не дают говорить! Ничего, он начнет сначала. Газеты, пусть даже иностранные, размножат его речи, они дойдут до тех, кто готов стать в ряды партии, они всколыхнут колеблющихся.
А вот и приговор.
Кибальчич, Желябов, Перовская, Михайлов, Гельфман выслушали его с гордо поднятыми головами. Рысаков пожелтел. Кибальчич с отвращением отворачивается от этого мальчишки. У него хватило решимости бросить бомбу, а потом? Потом и Михайлов, и Геся Гельфман, и он, Кибальчич, обязаны ему сегодняшним кратким: «К смертной казни через повешение». «Предатель!»
Только в последнем слове он упомянул о летательном аппарате. Герард говорил о нем раньше. Защитник не искал образов, ему не понадобилось и красноречие.
— Когда я явился к Кибальчичу как назначенный ему защитник, меня прежде всего поразило, что он занят был совершенно иным делом, ничуть не касающимся настоящего процесса. Он был погружен в изыскание, которое он делал о каком-то воздухоплавательном снаряде: он жаждал, чтобы ему дали возможность написать свои математические изыскания об этом изобретении. Он их написал и представил по начальству:
«Находясь в заключении, за несколько дней до своей смерти, я пишу этот проект. Я верю в осуществление моей идеи, и эта вера поддерживает меня в моем ужасном положении.
Если же моя идея, после тщательного обсуждения учеными специалистами, будет признана исполнимой, то я буду счастлив тем, что окажу громадную услугу родине и человечеству. Я спокойно тогда встречу смерть, зная, что моя идея не погибнет вместе со мной, а будет существовать среди человечества, для которого я готов был пожертвовать своей жизнью».
Начальство заверило Кибальчича, что его проект передадут на рассмотрение ученых.
И он ждал. Ждал 28 и 29 марта, ждал 30-го. Позади жизнь, процесс, впереди казнь, до нее три дня. А ответа нет и нет…
Ужели эксперты не могут разобраться? Ужели им неясна его мысль? Его жизнь — это аппарат. Если аппарат будет жить, то можно умирать. Он уверен в правоте дела, за которое умрет, сейчас важна уверенность в правоте идеи, которая откроет людям космические просторы.
31 марта Николай Кибальчич снова склонился к столу. Как легко писался проект, как тяжело написать эти строки: «Его сиятельству господину министру внутренних дел».
«По распоряжению Вашего сиятельства, мой проект воздухоплавательного аппарата передан на рассмотрение технического комитета. Не можете ли, Ваше сиятельство, сделать распоряжение о дозволении мне иметь свидание с кем-либо из членов комитета по поводу этого проекта не позже завтрашнего утра или по крайней мере получить письменный ответ экспертизы, рассматривавшей мой проект, тоже не позже завтрашнего дня…»
До завтрашнего и не позже! Если у экспертов есть сомнения, вопросы, нужно иметь в резерве хотя бы день-два, чтобы обдумать ответы и дать разъяснения. Как томительно тянется время, как гнетет неизвестность и одиночество! Скорее уж!..
Их сиятельство прочел прошение, позвонил, передал секретарю. В «деле» Кибальчича появилась еще одна бумажка, на ней стояло: «Приобщить к делу о 1 марта». Она была последней, перед ней был подшит конверт, в котором лежал проект, на проекте той же рукой написано: «Давать это на рассмотрение ученых теперь едва ли будет своевременно и может вызвать только неуместные толки».
Кибальчич мечтал о Луне. Кибальчич умирал за социализм. Ему было двадцать семь лет.
Фукс не напрасно опасался, что «возбужденное общество» обрушит на головы судей Особого присутствия град упреков. Желябов был недалек от истины, апеллируя к суду народа. И хотя народ безмолвствовал, а «общество» трусливо помалкивало, 28 марта процесс над цареубийцами раздвоился.
В одиннадцать часов утра Фукс открыл заседание суда Особого присутствия сената, а вечером в зале кредитного общества с нетерпением ожидали лекции блестящего оратора, профессора философии Петербургского университета Владимира Соловьева.
Зал набит до отказа. Студенты, курсистки, в первых рядах кресел необычные гости — крупные сановники, аристократические дамы: г-жа Хитрово, вдова Алексея Толстого и другие. Их тут же в шутку окрестили «последними могиканами либерализма».
Никто не знает, о чем поведет речь Соловьев. Но это не может быть ординарная лекция. Особое присутствие сената у всех на уме, хотя о процессе первомартовцев говорят с оглядкой, «могикане» настороженно молчат.
Ждут чего-то необычного.
На кафедру быстрой, уверенной походкой всходит высокий стройный человек. Он не смотрит в зал. Там тишина. Глаза устремлены вдаль, они, кажется, видят сквозь стены. Они видят заседание Особого присутствия.
Речь профессора льется плавно, но звучит поначалу странно.
Философски-мистическая глосса к культу Богоматери, затем «необъятные горизонты тайн христианства, тайн неведомого» — «того берега» бытия…
Но вот перспектива сужается. Лектор от берегов потустороннего постепенно спускается к земной юдоли. Божественный язык становится земным. Голос звучит сильнее:
— Настоящая минута представляет небывалый дотоле случай для государственной власти, оправдать на деле свои притязания на верховное водительство народа. Завтра приговор. Теперь там, за белыми каменными стенами, идет совет о том, как убить безоружных. Ведь безоружны же все подсудимые узники… А правда божия говорит: «Не убий»… Но если это действительно свершится, если русский царь, вождь христианского народа, заповеди поправ, предаст их казни, если он вступит в кровавый круг, то русский народ, народ христианский не может за ним идти. Русский народ от него отвернется и пойдет по своему отдельному пути…
Последние слова тонут в море оваций. Иногда прорываются и угрозы:
— Тебя первого казнить, изменник! Тебя первого вешать, злодей!
Соловьев не слышит. Бурные человеческие волны затопили эстраду, десятки рук тянутся к нему. Они подхватили оратора, сняли его с эстрады, понесли. Зал скандирует:
— Амнистия! Помилование!
Но в следующую минуту Соловьев бледнеет. На лице испуг. Дар оратора сыграл с ним дурную шутку. Настроение толпы носилось в воздухе, он только облек его в слова, в мистику божественной идеи. Но разве это поймут там, в верхах? Не избежать административной кары.
Точно так же думает и министр просвещения. В вестибюле он настигает Соловьева и настоятельно советует немедля ехать к Лорис-Меликову и поговорить с ним. Соловьев отказывается.
— Я не имею чести быть с ним знаком.
— Поймите, это не частное дело, а общественное, а то смотрите, придется вам ехать в Колымск.
Сил хватает только на шутку:
— Что ж, философией можно заниматься и в Колымске.
Вечером незнакомый с Лорис-Меликовым Соловьев счел возможным обратиться с письмом к царю.
Его не сослали, либеральный укус не проник сквозь толстую кожу. Царь знал воздействие высочайших окриков на премудрых пескарей.
2 марта перед обедом в Ясной Поляне царила благоговейная тишина. Лев Николаевич Толстой только что вышел погулять на шоссе, домочадцы переодевались к столу.
После снежной зимы началась ростепель. По дорогам были уже глубокие просовы, лощинки набухали водой. Из-за распутья в Тулу сегодня не посылали.
Толстой, постояв на перекрестке, двинулся обратно обходной тропинкой, старательно огибая лужи.
Там, где дорога ныряет в глубокий овраг, талый снег преградил путь оборванному мальчугану. Он стоял в раздумье.
Лев Николаевич протянул ему руку.
— Иди на тропинку.
Мальчишка ловко взобрался по обрывистому краю оврага. Перед Толстым оказался маленький шарманщик, на плече у него сидел попугай. Грязные черные волосы длинными космами вылезали из-под рваного треуха, какой-то причудливый яркий кафтан был надет прямо на голое тело.
— Откуда и куда бредешь?
— Из Тулы. Дела плох: сам не ел, птиц не ел, царя убиль. — Мальчик говорил с заметным итальянским акцентом, безбожно коверкая русские слова.
— Какого царя? Кто убил? Когда?
— Русский царь. Петерсбург, бомба кидаль, газет получаль.
На следующий день газеты подтвердили слова шарманщика.
Всю ночь Толстой неподвижно просидел в кресле своего кабинета. Его не столько поразила гибель царя, сколько мучила мысль о предстоящей казни убийц.
Утром за завтраком Лев Николаевич глухим голосом объявил, что он решил написать новому царю письмо и будет просить во имя евангельских идеалов простить этих людей, показав тем пример исполнения на деле христианских заветов.
Жена отговаривала, воспитатель детей, бывший народник-«чайковец» Алексеев, горячо поддерживал.
В колебаниях пролетели несколько дней. Толстой не переставал думать об убийцах и палачах, которые готовили им казнь. Образы тех и других преследовали его кошмарами во сне, ему часто казалось, что должны казнить его или он исполняет роль палача.
Толстой решился.
Три раза письмо переделывалось, читалось вслух.
«Я ничтожный, непризнанный и слабый, плохой человек пишу письмо русскому императору и советую ему, что ему делать в самых сложных, трудных обстоятельствах, которые когда-либо бывали.
Я чувствую, как это странно, неприлично, дерзко, и все-таки пишу…»
И он писал, писал не государю императору, императоров Толстой презирал, он обращался к человеку, писал без цветистого подобострастия и фальшивого красноречия. Писал о сыновних чувствах и царском долге, необходимости очистить от убийц русскую землю и страшном искусе заповеди «око за око, зуб за зуб». Он призывал к смирению и непротивлению злу.
«Отдайте добро за зло, не противьтесь злу, всем простите…
Не простите, казните преступников, вы сделаете то, что из числа сотен вы вырвете трех, четырех, и зло родит зло. И на место трех, четырех вырастут 30, 40…
Убивая, уничтожая их, нельзя бороться с ними. Не важно их число, а важны их мысли.
Если бы Вы простили всех государственных преступников, объявив это в манифесте, начинающемся словами: «Люби врагов своих» — это христианское слово и исполнение его на деле было бы сильнее всей человеческой мудрости. Сделав это, Вы бы истинно победили врагов любовью своего народа».
17 марта письмо пошло в Петербург и было адресовано Победоносцеву для передачи царю.
Его раздражали задержки перед каждой дверью каждой новой комнаты. Караульные спешат отпереть. Победоносцев от нетерпения топчется длинными худыми ногами на месте, как застоявшаяся скаковая лошадь. Ругается, забыв, что советовал новому императору собственноручно запираться в спальне, запирать двери близлежащих к ней комнат, не доверять адъютантам, камердинерам.
Наконец кабинет. Из-за письменного стола на прокурора смотрят пустые глаза царя. Он уже второй час скучает. Читает и перечитывает какую-то бумажку. Победоносцев, тяжело отдуваясь, застывает в почтительной позе. Но это мгновение. Легкий кивок головы, и все встает на свои места. Победоносцев в кресле, император смотрит ему в рот.
— Ваше величество, с прискорбием спешу сообщить вам, что наше общество наполнено необоснованными слухами. Повсеместно говорят, что вы даруете жизнь убийцам в Бозе почившего государя императора и вашего батюшки.
«Мопс» молчит. Победоносцев в ужасе. — Ваше величество, некоторое время тому назад небезызвестный вам сочинитель граф Толстой обратился ко мне с просьбой передать письмо на высочайшее имя. Суть письма состоит в том, что вы должны евангелически простить убийц.
Александр наслаждался неподдельным ужасом, написанным на лице воспитателя.
«Старый изувер! Держишь меня в вечном страхе, под замком, боишься, как бы не вылез из-под твоей опеки. Вот возьму и прощу… Хотя нет, постой».
Александр берет со стола письмо и небрежно протягивает его прокурору. Победоносцев впивается в него крючковатыми пальцами. Он его читал? «Мопс» беззвучно смеется.
— Ваше величество!..
— Будьте спокойны, с подобными предложениями ко мне не посмеет прийти никто. Все шестеро будут повешены, за это я ручаюсь.
Победоносцев облегченно вздыхает. Соловьев, Толстой — это не Катков, не Баранов с его идиотским манифестом, предлагающим всем лицам, принадлежащим к злодейской партии, добровольно явиться и чистосердечно раскаяться. Болван! Нет, баран!
Царю скучно. Наставник успокоился и сейчас будет читать нотацию. Александр встает, давая понять, что аудиенция окончена.
Умирать в девятнадцать лет не многим тяжелее, чем в двадцать семь. Рысаков не хочет умирать, борется за жизнь. Но не так, как Кибальчич. Он торгует жизнью товарищей, чтобы выкупить у смерти свою.
Смерть — это приговор. Смерть — это молчание в ответ на ходатайство о высочайшем помиловании. Смерть — это градоначальник Баранов, хотя он и обещает жизнь.
Теперь только один генерал продолжает повторять магическое слово, но требует все новых и новых сведений. Рысаков в отчаянии: скоро ему уже нечем будет торговать, а цена на жизнь не установлена, генерал набавляет каждый день. Вот уже и не осталось дней. Баранов как ночная птица, его жертва бьется в когтях.
— Может быть, и помилуют… — вторую часть фразы генерал не договаривает, продолжая мысленно внушать узнику: «Ну, ну же, выдай побольше, вспомни все, память выверни наизнанку, ну, скорей, скорей!»
Рысаков бисерным почерком исписывает страницу за страницей. Ему некогда вдумываться в фразы, а потому: «Террор — метод борьбы с террором», поэтому-то он и бомбу бросал, чтобы не быть террористом.
«Террор должен кончиться во что бы то ни стало… Из нас, шести преступников, только я согласен словом и делом бороться против террора. Начало я уже положил, нужно продолжить… До сегодняшнего дня я выдавал товарищей, имея в виду истинное благо родины, а сегодня я товар, а вы купцы».
Баранов заглядывает через плечо в бумагу. «Товар! За, тебя теперь не дадут и полушки, ты уже ничего не знаешь, предлагаешь нам Григория Исаева, так он еще вчера схвачен, вот только его сожительница, Вера Фигнер, ушла».
Рысаков уже не видит бумаги, строчки ложатся неровно: «Теперь я несколько отвращусь от объяснений, а сделаю несколько таких замечаний: для моего помилования я должен рассказать все, что знаю — обязанность с социально-революционной точки зрения шпиона. Я и согласен». План поимки Фигнер, еще десяти человек, выдача двух-трех конспиративных квартир. Потом вопль: «Видит бог, что не смотрю я на агентство цинично! Я честно желаю его!..» Ну как, купцы, я уплатил цену? Ну зачем вам моя жизнь?
В камеру торопливо входит смотритель тюрьмы и почтительно шепчет что-то на ухо генералу. Тот кивает головой, спешно собирает листы бумаг, исписанные Рысаковым, и выходит из камеры. В коридоре повисает безмолвие. Рысаков уже умер, хотя еще и продолжал дышать.
Остальных ожидали испытания.
Каждый вечер весной, летом Веру Фигнер изгоняли из дома сумерки. В Одессе они внезапно начинаются и быстро сменяются тьмой. А море еще струится бирюзовыми, потом фиолетовыми всплесками, пока темный горизонт не наползет на берег. Тогда ярче, теплее разгораются огни в окнах, теснее становится толпа гуляющих.
Но Фигнер одна. Она часами вглядывается в черноту водной шири, слушает ласковое ворчание прибоя. Толпа обтекает ее, но не влечет за собой. Она одна, она последняя из всех основателей Исполнительного комитета. Ее не было в зале, где шел процесс над первомартовцами, но образы товарищей живут в сознании. Они не стерты ликом смерти, и к ним каждый вечер обращается она, с ними советуется. Но неотступная мысль преследует ее в темноте. Как они прожили последние дни? Они, они, те, кто начинал, неповторимые, незаменимые. Когда все рушится, ушедшие всегда кажутся незаменимыми.
Сознание одиночества угнетает, оно разрастается до гиперболических размеров. И Фигнер кажется, что в одиночестве партия, небольшая группа измученных, гонимых, обессилевших людей. Одиночество в толпе, которая их не замечает, смотрит на них пустыми глазами многоликого равнодушного чудовища. Толпа как это море — приливы, отливы, шторм и штиль, но чаще равномерно журчащий прибой, изо дня в день, из месяца в «месяц, из века в век, спокойный, невозмутимый, монотонный.
Фигнер поворачивается к морю спиной, и тогда глаза силятся приподнять завесу тьмы там, за горизонтом, где у других берегов распластался Петербург. Она идет по его улицам, мимо дворцов и соборов, сквозь скверы и парки к тому единственному дому, откуда начали свой последний путь друзья.
О них писали газеты, тысячи слухов, сплетен, обгоняя друг друга, облетали самые медвежьи уголки страны. Их образы вдохновляли одних, заставляли трястись от животного страха других.
А они?
Они доживали последние часы каждый наедине с самим собой. В газетах писали о священниках, пришедших к смертникам с последним причастием. Желябов и Перовская отвернулись от них. Кибальчич спорил с попом о таинствах бытия. Газеты молчали о зловещих ночных посетителях, но слухи, слухи ползли… Их пытали.
В руках у Фигнер первый номер листка «Народной воли». Она на память повторяет примечание к передовой:
«Общая молва говорит о пытках после суда».
Заграничный орган якобинцев «Набат» высказался более определенно:
«Накануне казни 2 апреля, в 8 часов вечера, были сняты часовые, стоявшие у камер, в которых содержались приговоренные к смертной казни; по распоряжению тюремного смотрителя строго воспрещалось кому бы то ни было находиться в коридорах, по которым расположены эти камеры. Немедля по снятии часовых к тюремному зданию подъехали две кареты; из каждой вышло по два человека, один из них был военный, а трое — статские.
Двое статских держали под мышкой какой-то сверток, обернутый в черную клеенку, величиной в среднюю шкатулку, и, желая, по-видимому, скрыть эти свертки от постороннего глаза, они прикрыли их длинными плащами, накинутыми на плечи.
Вошедшие в здание тюрьмы все четверо быстрыми шагами направились к камере, в которой заключался Кибальчич. Военный отворил ключом дверь этой камеры. Все четверо вошли туда и пробыли там около сорока минут. Из камеры Кибальчича они вошли в камеру Желябова, в которой пробыли около часу. Вышедши из камеры Желябова, они отправились в камеры Перовской, Михайлова и Рысакова… Немедля после их выхода из тюрьмы к дверям камер… опять были приставлены часовые…»
Душная ночь спускается над Одессой. Смолкают улицы и бульвары, загадочно мерцают огни притихшей гавани. С Французского бульвара приглушенно звучит призывная мелодия.
«А может быть, это только слухи?» Фигнер бессознательно стремится облегчить душевные муки. Пусть слухи, но разве и без пыток они не достойны того, чтобы быть сторицей отомщены?
Месть, святая месть! Она не вернет Желябова, не воскресит Перовской, но смоет позорное пятно с чела партии: Фигнер убеждена, что оставшиеся на свободе были обязаны или освободить смертников, или умереть вместе с ними.
А завтра опять будет ночь, набережная и те же неотступные думы: почему им не дали прощальных свиданий?
И то же яростное бессилие одиночества, те же призраки в белых саванах смертников.
А в тот день…
Утром 3 апреля Керчь проснулась от необычной тишины. Все уже привыкли к тому, что после убийства императора в дни траура в церквах шли непрерывные службы за упокой «великомученика», в Бозе почившего. Попы выдавливали слезы, плакали навзрыд богомольные старушки, дамы из местного «общества»».
И вдруг колокола умолкли.
Тишина угнетала.
В гимназии не слышно веселого гвалта учеников. Педагоги спешат в учительскую, стараясь подальше обойти актовый зал, закрытый на большой замок.
Первоклассники присмирели.
Старшие классы настороженно шушукаются.
Еще только восемь часов, а в девять?! «В девять там, в Петербурге…» — и не договаривают. Одно имя у всех на языке, но о нем говорят недомолвками. Смельчаки подбегают к застекленной двери зала и читают на «золотой доске» гимназии это имя — «Андрей Желябов».
Он учился здесь. Учился! О нем уже говорят только в прошедшем времени. По нему не объявят траур, и в день его казни молчат колокола.
Но его еще не стерли с доски.
Он еще был жив утром 3 апреля.
В шесть часов апрельское утро прикрыто сумраком. Но в Доме предварительного заключения дробно хлопают двери, лязгают замки камер, звучат приглушенные команды. Смертников по одному приводят в управление и в особой комнате переодевают в казенное. На Желябова натянули серые штаны, полушубок, сапоги и фуражку с наушниками, а сверху арестантский армяк.
Последние часы жизни… Андрей старается не думать об этом, но весь маскарад невольно возвращает мысль к виселице. Хочется еще раз побыть с Перовской. Она спасла тогда день, но теперь заплатит за это жизнью. Он не мог представить Соню мертвой, умерщвленной таким диким способом. Первая женщина, возведенная на российский эшафот! Но последняя ли?..
Желябова вывели во двор. Как хорошо! Можно полной грудью вдохнуть свежий воздух апреля. В туманном Петербурге уже пахло весной, хотя еще подмораживало и иногда падал мокрый снег с дождем. Посреди двора два экипажа. Позорные колесницы на огромных деревянных колесах без рессор. Так! Палачи решили придать церемонии казни средневековую пышность. Какая отвратительная бутафория! Вспыхнувшее возмущение было непродолжительным. А не все ли равно! Впрочем, даже забавно. Когда-то на таких вот шарабанах подвозили к костру ведьм и колдунов.
Вывели Перовскую, Кибальчича, Тимофея Михайлова, Рысакова. Кибальчич и на сей раз спокоен. С отсутствующей улыбкой он кивнул Желябову, потом стал разглядывать облака. Перовская держалась прямо. И в эти последние мгновения она не могла оторвать глаз от Андрея. Желябов опять возмутился. Хамы! Напялили на Соню какую-то хламиду, тиковое платье в полоску. При чем тут полоски, когда эта женщина идет на смерть? Арестантская шинель сидит на ней неуклюже.
Из подъезда, пошатываясь, выходят трое. Желябов всматривается. Да, это Фролов — палач — и его помощники. Террористы добирались до него, чтобы отомстить за казнь Преснякова и Квятковского, но их постигла неудача. Фролов совершил ограбление, был судим, «упрятан», а затем «прощен». Русая борода и красные, вывороченные веки, глаз почти не видно в темных провалах надбровных дуг. Альбинос из семейства людоедов! Одет франтоватым кучером: синий кафтан, непременная красная рубаха навыпуск, а сверху черный жилет с массивной золотой цепью поперек брюха.
Желябову скручивают за спиной руки, ведут к колеснице, сажают в нее. Ноги, туловище привязывают ремнями, на груди черная доска с надписью «цареубийца». Ему все равно. Рядом Рысаков. И этим теперь уже нельзя оскорбить Андрея. Пусть палач задушит предателя. Желябов приходит в себя от голоса Перовской. Она в другой повозке, с Кибальчичем и Михайловым. Андрей не видит ее, он не может повернуться, но слышит, как Софья Львовна говорит жандармскому офицеру:
— Отпустите немного, мне больно…
— После будет еще больнее.
Андрей рванулся, ремни впились в тело.
Палач в карете выехал к месту казни, за ним, громыхая, двинулся позорный кортеж.
Шпалерная забита народом. Гул толпы несмолкаем. К нему нельзя оставаться равнодушным. Желябов преображается. Скопище людей всегда волновало его. Он умел обращаться с ними, вести за собой. Какое необозримое море голов, к концу улицы оно сливается в безликую колышущуюся массу! Кто-то навалился на соседа, усилие передалось другим, и вот уже плещется человеческая волна от берега к берегу, и нет сил ее остановить.
Желябов забыл все. Нет колесницы, глаза его горят, ноздри вздрагивают. Вот этой стихии людей не хватало им 1 марта. Он бы знал, куда направить ее неиссякаемую энергию. Желябов порывается что-то крикнуть, и в ту же минуту взвод барабанщиков, сопровождающий колесницы, заглушает все звуки отвратительной, бессмысленной дробью. В этом грохоте тонут крики улицы, люди становятся бессловесными манекенами, они разевают рты, машут руками, но беззвучно. Барабаны леденят душу, напоминая об эшафоте. Желябов видит, как на углу Надеждинской и Спасской какая-то немолодая женщина дважды махнула платком, встав на тумбу у фонаря, и тут же была сметена толпой. Андрею кажется знакомым ее лицо, но он не делает усилий, чтобы вспомнить. Опять кто-то в печальном приветствии поднял руки, и снова озверелые дворники, лабазники, переодетые жандармы хватают и передают на растерзание толпе неизвестного друга.
Рысаков все время гримасничает. Ему, видимо, больно от ремней, колесницы подскакивают на ухабах и рытвинах. Андрею противно на него смотреть.
А барабаны режут слух.
Перовская спокойна, минута слабости прошла там, во дворе. Ее не трогает безумие людей, собравшихся на их последнем пути. «И к могиле революционеры должны проследовать как триумфаторы». Где она об этом читала? Ну, да ладно! Михайлов что-то выкрикивает, но разве услышишь за этой дробью. Он хочет сказать, что нас вчера пытали! А им не все ли равно, ведь это толпа. Андрей всегда ее любил, а она не понимала. Но в этой толпе должны быть друзья — те рабочие, которых она организовывала в боевые группы для освобождения Желябова. Может быть, они сегодня попытаются освободить их всех? Перовская пристально всматривается. На Литейном она ищет кронштадтских офицеров, может быть, они пробьются к колесницам? Нет, вот и Литейный позади.
Ревет толпа, хрипят барабаны — впереди Семеновский плац.
Четырехугольник, вычерченный шпалерами войск. Барабаны смолкают, и внезапная тишина нестерпимо режет слух. Толпа на Семеновском молчит, и только из далеких улиц доносится гул людского прибоя.
Желябов разглядывает эшафот. Черный квадрат помоста на два аршина возвышается над землей, небольшие перила. Три позорных столба с цепями и наручниками, подставки для казни; их выбивают из-под ног. Шесть колец. Почему шесть? Ведь их пятеро! А Геся?
Вон и гробы, они тоже черные, набиты стружками. Который же предназначен для него?
Колесницы остановились у эшафота. По одному палачи вводят их на помост. Фролов на лестнице — крепит петли. И все это медленно, спокойно. Площадь молчит. Солдаты лейб-гвардии Измайловского полка стоят как окаменелые в двух саженях от помоста. Лица их бледны, чувства стерты.
Появляются власти. Градоначальник, генерал-майор Баранов, прокурор судебной палаты Плеве, прокурор окружного суда Плющик-Плющевский, товарищи прокурора Поставский и Мясоедов, обер-секретари Семякин и Попов.
Людей не слышно, только посвистывает ветер.
Насветевич с карандашом и альбомом приехал на плац заранее. Флигель-адъютантские погоны расчистили дорогу к подножию эшафота. Если бы он мог предполагать, что утро будет такое солнечное, то сменил бы карандаш на фотоаппарат, теперь поздно за ним возвращаться.
Площадь наполнялась народом и войсками. Насветевич в ожидании осужденных неторопливо осматривался. Прибыл палач. Очень занятная натура, руки сами потянулись к карандашу. Только Фролов все время крутится. Насветевич просит его минуту постоять спокойно. Готово! Что же, можно зарисовать виселицу, гробы, ступени. А вот явились и судейские с градоначальством, с ними попы. Насветевич спешит. Какие пятна! Вся эта сверкающая аксельбантами, мундирами и ризами компания будет великолепно контрастировать с черным эшафотом и белыми саванами смертников!
А вот и они. Насветевич впился глазами в цареубийц. Он видел и рисовал их в зале суда, освещенных неверным петербургским полусветом из-за зашторенного окна. В солнечном мареве они иные. Но как спокойны Желябов, Перовская, Кибальчич! У Перовской легкий румянец на щеках, ни один мускул не дрогнет на лице, взгляд остановился на эшафоте. Желябов даже улыбается. Рысаков и Михайлов страшно бледны.
Смертников взвели на эшафот и поставили у позорных столбов. Насветевич опять рисует. Столбов — три, обреченных — пять. Карандаш быстро набрасывает: Перовская у среднего столба, Желябов справа от нее, слева Михайлов, Рысаков и Кибальчич по краям — у перил эшафота. Какая жалкая и противная гримаса на лице Рысакова, светло-рыжие волосы слиплись от пота и вылезли из-под черной арестантской шапки. Насветевич запоминает цвета, чтобы потом передать их красками.
Площадь замерла. Градоначальник объявил прокурору Плеве, что все приготовлено для свершения «правосудия». Плеве что-то шепнул обер-секретарю Попову. Тот вышел вперед и громким голосом без выражения стал читать приговор. Насветевич не слушал, вглядываясь в Желябова: «Он смеется, да, да, смеется! Вот что-то говорит, обращаясь к Перовской, потом Михайлову».
Мелкая дробь барабанов возвестила окончание чтения. На помост взошли священники.
Желябов продолжает смеяться, и сколько иронии в его легкой улыбке, не хватало, чтобы он, так же ухмыляясь, поцеловал крест! Так и есть! Желябов что-то говорит священнику на ухо, потом целует крест, трясет головой и опять смеется. Ясно — этот поцелуй предназначается для толпы, иначе эти темные, суеверные люди сочтут революционеров выродками. Насветевич не может не восхищаться: «Черт бы их побрал, этак к лику святых причислят этих великомучеников!» Карандаш рвет бумагу.
Наступают последние минуты. Желябов сделал шаг к Перовской и долгим поцелуем простился с ней. Михайлов последовал его примеру. От Рысакова Перовская отшатнулась.
Палачи натягивают белые саваны. На Кибальчича уже надели башлык. Насветевич подался вперед, чтобы разглядеть эту чудовищную одежду. Башлык закрывает голову, а шея остается голой. Отвратительно!
Вот одевают Желябова.
Последнее, что увидел Андрей, — кусок серого неба: холщовый капюшон заслонил мир. Шею обдувал ласково прохладный ветер. В эти конечные минуты жизни исчезают мысли, живут только ощущения и видения прошлого. Будущего нет.
Желябов не ждал очереди, не слышал дроби барабанов, глухого падения тела дважды сорвавшегося с петли Михайлова, рокота возмущенной толпы. Минуты проходили за минутами, но их уже никто не считал: не хватало времени. В холщевой полутьме глаза бессильно искали тот кусочек неба, который был последним и еще светился, угасая, перед остановившимся взором. Это был отблеск вечности, он стер лики людей — кругом пустыня.
И вечность не хотела оставить его без последнего прости. На голую шею медленно, тихо, как выкатившаяся слеза, откуда-то упала бессильная снежинка — последний привет бурной зимы. Упала и растаяла.
Минут больше не было…
Аптекман, Осип Васильевич (1849–1926).
В 1874—75 гг. вел пропаганду в Псковской губ. Член харьковско-ростовского, а затем основного кружка «Земли и воли». Один из организаторов «Черного передела». Арест. 28 января 1880 г. в Петербурге и выслан в Якутскую губ. на 5 лет. В 90-х гг. участвовал в «Народном праве», стал соц. — дем. Много работал по истории революционного движения.
Ашенбреннер, Михаил Юльевич (1842–1926). Подполковник. В 1860 г. окончил Моск. кадетский корпус. За отказ отправиться на усмирение польского восстания выслан в Туркестан. Вернулся в 1870 г. С 1881 г. — член военной организации «Народной воли». По процессу 14-ти в 1884 г. приговорен к смертной казни, замененной бессрочной каторгой. Отбывал в Шлиссельбурге, освобожден в 1904 г.
Бакунин, Михаил Александрович (1814–1876). Идеолог анархизма, окончил артиллерийскую школу, вышел в отставку. Занимался философией в кружке Н. Станкевича. С 1840 по 1851 г. находится за границей, знакомится с К. Марксом, В. Вейтлингом, Прудоном, принимает участие в ряде восстаний. Выданный царскому правительству, до 1857 г. находится в крепости, высылается в г. Томск, затем переводится в Иркутск. Оттуда бежит через Японию, Америку в Англию. Сотрудничает в «Колоколе» Герцена. В 60-х гг. входит в I Интернационал, ведет подрывную работу в нем. Участвует в революционном движении Италии. В 1872 г. Бакунин исключен из I Интернационала. В 1871— 74 гг. написал свои крупнейшие работы: «Кнуто-германская империя и социальная революция», «Государственность и анархия». В 1873–1874 гг. участвует в восстаниях в Испании и Италии. В последние два года жизни разочаровывается в возможности революционной борьбы. Умер 1 июля 1876 г. в г. Берне.
Баранников, Александр Иванович (1858–1883). Окончил Павловское военное уч-ще. В 1876 г. вел пропаганду на Дону. Член «Земли и воли», а затем член Исполкома «Народной воли». Участник подготовки покушений на Александра II. Арест. 26 января 1881 г. По процессу 20-ти приговорен к смертной казни (в 1882), замененной пожизненной каторгой, Умер в Алексеевском равелине.
Богданович, Юрий Николаевич (1850–1888). Слушатель Мед. — хирург. академии. Привлекался по делу Долгушина в 1874 г., скрылся. Вел пропаганду в Поволжье. В 1877 г. участвовал в самарском поселении, а в 1878 г. — новосаратовском. Член Исполкома «Народной воли». После 1 марта организовал Красный Крест «Народной воли». Арест. 15 марта 1882 г. По процессу 17-ти 3 апр. 1883 г. приговорен к смертной казни, замененной бессрочной каторгой. Умер в Шлиссельбурге.
Бух, Николай Константинович. Член кружка киевских бунтарей. В 1878 г. работает в тайной типографии «Земли и воли», член «Народной воли». Арест, при захвате типографии «Народной воли» 17–18 января 1880 г. По — процессу 16-ти (1880 г.) приговорен к 15 г. каторги. Отбывал на Каре.
Войнаральский, Порфирий Иванович (1844–1898), В 1873— 74 гг. один из главных руководителей хождения в народ. В 1874 г, организовал в Москве в целях пропаганды столярную и сапожную мастерские. Арест. 24 июля 1874 г. в Самаре. По процессу 193-х приговорен к 10 г. каторги. В Новоборисоглебском централе пробыл до 1880 г., затем на Каре. В 1884 г. вышел на поселение.
Волошенко, Иннокентий Федорович (1848–1909). Студ. Новороссийского ун-та. Участник южных рев. кружков. Арест. 24 янв. 1879 г. в Киеве. Приговорен к 10 г, каторги. Отбывал на Каре.
Волховский, Феликс Вадимович (1846–1914). Организовал (с Лопатиным) в 1867—68 гг. «Рублевое общество» для распространения литературы в народе. Привлекался по Нечаевскому процессу. Оправдан. Организатор кружков «чайковцев» в Одессе и Херсоне. Арест, в 1874 г. По процессу 193-х приговорен к ссылке в Тобольск, губ. В 1889 г. бежал за границу. Участвовал в деятельности «Фонда Вольной Русской Прессы». Вступил в ряды партии соц. — рев.
Гартман, Лев Николаевич (1850–1908). Участник ростовско-харьковского кружка. Член «Земли и воли». Участник тамбовского поселения в 1878 г. Член «Народной воли». После покушения под Москвой эмигрировал. Был представителем Исполкома «Народной воли» за границей. Арест, в Париже и выслан из Франции.
Гельфман, Геся Мировна (1855–1882). 16 лет бежала из еврейской мещанской семьи. Арест, в 1875 г. По процессу 50-ти в 1877 г. приговорена к 2 г. заключения в Работном доме. В 1879 г. выслана в Старую Руссу, откуда бежала. Член «Народной воли», хозяйка конспиративных квартир. Арест. 3 марта 1881 г., приговорена к смертной казни, замененной вечным заключением.
Грачевский, Михаил Федорович (1849–1887). Арест, в 1875 г. в Москве. По процессу 193-х вменено в наказание предварительное заключение. Админ. выслан в Пинегу. В 1879 г. бежал. Член Исполкома «Народной воли». В 1880 г. хозяин второй типографии «Народной воли». Арест. 4 июня 1882 г. По процессу 17-ти в 1883 г. приговорен к смертной казни, замененной бессрочной каторгой. Покончил с собой в Шлиссельбурге.
Дейч, Лев Григорьевич. Член киевского кружка бунтарей. В 1877 г. арест, по Чигиринскому делу. В 1878 г. бежал и эмигрировал. Вернулся в Россию летом 1879 г., принял участие в организации «Черного передела». В янв. 1880 г. эмигрировал. В 1883 г. с Г. Плехановым организовал группу «Освобождение труда». В 1884 г. выдан русскому правительству, приговорен к 13 г. каторги. Отбывал на Каре.
Драгоманов, Михаил Петрович (1841–1895). Профессор и политический деятель. Украинофил-федералист, автор научных трудов по истории, литературе и фольклору. Во время заграничной научной командировки (1870—73) сблизился с украичск. либеральными и демократич. кружками и с рев. кружками русской эмиграции. В 1876 г. эмигрировал. В Женеве издавал журнал «Громада» на украинском языке и «Вольное слово».
Емельянов (Боголюбов), Алексей Степанович (ок. 1852 — После 1885). В 1874 г. принадлежал к харьковскому кружку Ковалика. С конца 1876 г. — член «Земли и воли». Арест, во время казанской демонстр. в 1876 г. и приговорен к 15 г. каторги. В Новобелгородском централе заболел психически, умер в Казанской психиатр, больнице.
Жебунев, Николай Александрович. Устроил в с. Васильевке (под Одессой) кузницу с целью пропаганды. Вследствие грозившего ареста эмигрировал. Впоследствии вернулся в Россию и стал ренегатом.
Жебунев, Сергей Александрович (1849–1924). В 1872 г. в Цюрихе основал революционный кружок. Участвовал в кружках Москвы, Киева, Одессы. Арест, в авг. 1874 г. По процессу 193-х приговорен к ссылке в Тобольскую губ.
Завадская, Евгения Флориановна (ок. 1851–1883). Цюрихская студ. По процессу 193-х оправдана, но выслана в Сольвычегодск. В фев. 1880 г. бежала. Член «Народной воли». В 1883 г. эмигрировала, после смерти Франжоли покончила с собой.
Засулич, Вера Ивановна (1850–1919). Арест, в 1869 г. по делу Нечаева, освобождена в марте 1871 г., но вскоре выслана. Член кружка киевских бунтарей. 24 янв. 1878 г. стреляла в петербургского градоначальника Трепова. 31 мая судом присяжных оправдана. Эмигрировала, вернулась в Россию в 1879 г. Присоединилась к чернопередельцам. В янв. 1880 г. снова эмигрировала. Вошла в группу «Освобождение труда». В конце 1900 г. вошла в состав редакции «Искры». В 1905 г. вернулась в Россию.
Зунделевич, Аарон Исаакович (1857–1923). Член кружка «Земли и воли». Вошел в Исполком «Народной воли». Арест. 28 окт. 1879 г. в Петербурге. По процессу 16-ти приговорен к бессрочной каторге (в 1880 г.). Отбывал на Каре и в Акатуе. В 1906 г. уехал за границу. Умер в Лондоне.
Ивичевичи, бр. Иван и Игнат. Члены кружка Осинского. 11 февр. 1879 г. в Киеве при аресте во время вооруженного сопротивления были ранены и умерли от ран.
Исаев, Григорий Порфирьевич (1857–1886). Студ. Мед. — хирург. академии. Член Исполкома «Народной воли». Арест. 1 апр. 1881 г. По процессу 20-ти в 1882 г. приговорен к смертной казни, замененной бессрочной каторгой. Отбывал в Алексеевском равелине, потом в Шлиссельбурге.
Каракозов, Дмитрий Владимирович (1842–1866). Член рев. кружка в Москве. Совершил покушение на Александра II (4 апреля 1866 г.). Казнен 3 сент. 1866 г. по приговору Верховного уголовного суда.
Квятковский, Александр Александрович (1852–1880). Вел пропаганду в Тульской губ. Арест, в 1874 г. и освобожден в 1875 г. Член-учредитель, об-ва «Земля и воля». В 1876— 77 гг. участвовал в поселениях. После раскола «Земли и воли» — член Исполкома «Народной воли». Арест. 24 ноября 1879 г., по процессу 16-ти в 1880 г. приговорен к смертной казни. Повешен 4 ноября 1880 г.
Кибальчич, Николай Иванович (1854–1881). В 1871—73 гг. студ. Ин-та путей сообщения, а в 1873 г. — Мед. — хирург. академии. Арест, в 1875 г., в мае 1878 г. приговорен к 2 мес. тюремного заключения. Член «Народной воли», участвовал в террористических актах, заведовал динамитной мастерской. Арест. 17 марта 1881 г. Повешен 3 апреля 1881 г.
Клеменц, Дмитрий Александрович (1848–1914). Впоследствии видный ученый, этнограф. Член кружка «чайковцев». Участвовал в Герцеговинском восстании. В 1878 г. принят в кружок «Земли и воли», вошел в редакцию. Арест, в 1879 г. и выслан в Вост. Сибирь.
Клеточников, Николай Васильевич (1847–1883). Арест. 28 янв. 1881 г. По процессу 20-ти в 1882 г. приговорен к смертной казни, замененной вечной каторгой. Умер в Алексеевском равелине.
Ковалик, Сергей Филиппович (1846–1923). Бывший земец и мировой судья по выборам в Черниг. губ. Вел пропаганду в Москве и Поволжье. Арест, в 1874 г. в Самаре. По процессу 193-х приговорен к 10 г. каторги. Отбывал в Новоборисоглебском централе и на Каре.
Ковальский, Иван Мартынович (1850–1878). Студ. Новороссийского ун-та. Революционер-бунтарь. При аресте типографии в Одессе 30 янв. 1878 г. оказал вооруженное сопротивление. По приговору военно-окруж. суда расстрелян 2 августа 1878 г.
Колодкевич, Николай Николаевич (1850–1884). Студ. Киев-ск. ун-та, член киевского и харьковского кружков «чайковцев». Пять раз разыскивался полицией, но успевал скрываться. Член «Земли и воли», а после раскола член Исполкома «Народной воли». Арест. 26 янв. 1881 г. По процессу 20-ти приговорен к смертной казни, замененной пожизненной каторгой. Умер в Алексеевском равелине.
Кравчинский (Степняк), Сергей Михайлович (1851–1895). Окончил Михаил, артил. уч-ще. Студ. Пет. лесного ин-та. Член кружка «чайковцев». В 1874 г. эмигрировал за границу, но часто, наездами бывал в России. В 1878 г. вернулся в Россию-. Один из редакторов «Земли и воли». 4 авг. 1878 г. убивает шефа жандармов Мезенцева, в ноябре уезжает за границу. Написал ряд пропагандистских сказок, очерки. В Лондоне участвовал в создании «Фонда Вольной Русской Прессы».
Лавров, Петр Лаврович (1823–1900). Псевдоним Миртов. Русский социолог и публицист, идеолог народничества, сторонник антинаучного идеалистического, субъективного метода в социологии. Главное произведение — «Исторические письма» (1868–1869). Редактор газеты «Вперед». Прожил большую часть жизни за границей. Идеи Лаврова оказали большое влияние на формирование народнических взглядов революционной интеллигенции 70-х годов.
Ланганс, Мартын Рудольфович (1852–1883). Студ. Технолог, ин-та, в 1873 г. — член кружка Ф. Волховского. Арест, в 1874 г. По процессу 193-х оправдан. В 1879 г. арест, в Киеве, выслан за границу как иностранный подданный. Летом 1880 г. вернулся в Петербург. Член Исполкома «Народной воли». Участвовал в подготовке покушений на Александра II. Арест 21 апр. 1881 г. в Киеве. По процессу 20-ти (1882 г.) приговорен к смертной казни, замененной пожизненным заключением. Умер в Алексеевском равелине.
Лебедева, Татьяна Ивановна (1854–1886). По процессу 193-х вменено предварительное заключение. Член Исполкома «Народной воли». Участ. в подготовке покушений. Арест. 3 сент. 1881 г., по процессу 20-ти (в 1882 г.) приговорена к бессрочной каторге. Отбывала на Каре.
Лопатин, Герман Александрович (1845–1918). В 1866 г. в связи с делом Каракозова провел в заключении 2 мес. В 1868 г. арест, по делу «Рублевого общества» и выслан в Ставрополь-Кавказский, там арестован в конце 1869 г., но бежал. Предпринял освобождение Лаврова из ссылки, уехал вслед за ним за границу. Познакомился с Марксом. Занялся переводом I тома «Капитала». В конце 1870 г. отправился в Сибирь с целью освободить Чернышевского, но был арестован. Летом 1873 г. бежал в Петербург, оттуда за границу. Наездами бывал в России. В 1879 г. арест., а в нач. 1883 г. снова бежал за границу. В том же году вернулся и занялся объединением «Народной воли». Арест, в 1884 г. В 1887 г. приговорен к бессрочной каторге. Отбывал в Шлиссельбурге, откуда вышел в 1905 г.
Любатович, Ольга Спиридоновна (1854–1917). Студ. Цюрихского ун-та. Арест, в 1875 г. и но процессу 50-ти (1877 г.) приговорена к каторге, замененной ссылкой в Ялуторовск. В 1878 г. бежала. Член «Земли и воли». С нояб. 1878 г. по июнь 1879 г. — за границей. Член Исполкома «Народной воли», В февр. 1880 г. уехала за границу, откуда вернулась в 1881 г. Арест, 6 нояб, 1881 г. в Москве и выслана в Вост. Сибирь.
Макаревич (урожд. Розенштейн), Анна Марковна. Студ. Цюрихского политехникума. Вернувшись в Россию, присоединилась к одесскому кружку «чайковцев». После Чигиринского дела в 1878 г. эмигрировала под фамилией Кулешовой и впоследствии играла видную роль в итальянском социалистическом движении.
Меркулов, Василий Аполлонович. Столяр, вел пропаганду среди рабочих. Участвовал в покушениях на Александра II. Арест. 27 февр. 1881 г., во время следствия сделался предателем. По процессу 20-ти приговорен к бессрочной каторге, помилован. В 1883 г. способствовал аресту В. Фигнер.
Михайлов, Александр Дмитриевич (1855–1884). Исключен из Петер, технологического ин-та и выслан на родину в 1875 г. В 1876 г. снова в Петербурге. В 1877 г. живет в Саратове среди раскольников. В 1878 г., вернувшись, участвует в освобождении Преснякова, а затем в попытке освободить Войнаральского. Член-учредитель «Земли и волн», член Исполкома и распорядительной комиссии «Народной воли», Участник ряда террористических предприятий «Народной воли». Арест. 28 ноября 1880 г. По процессу 20-ти в 1882 г. приговорен к смертной казни, замененной бессрочной каторгой. Умер в Алексеевском равелине.
Михайлов, Тимофей Михайлович (1859–1881). Из бедной крестьянской семьи. В Петербурге работал сначала чернорабочим, затем котельщиком. Вел пропаганду среди рабочих. Вступил в «боевую рабочую дружину». Арест. 3 марта 1881 г. Казнен 3 апреля 1881 г.
Морозов, Николай Александрович (1854–1946). В 1874 году член московского кружка «чайковцев». Вел пропаганду в Ярославской губ. и других местах. Во время массовых арестов эмигрировал, по возвращении в 1875 г. арест. По процессу 193-х вменено предварительное заключение. С весны 1878 г. член «Земли и воли», редактор ее органа и «Листка «Земли и воли». Член Исполкома и редактор. «Народной воли». В 1880 г. уехал за границу, по возвращении арест. По процессу 20-ти приговорен к бессрочной каторге, отбывал в Шлиссельбурге до 1905 г. После освобождения занялся целиком научной деятельностью (научные труды в области химии, физики, астрономии и математики). Награжден орденом Ленина.
Мышкин, Ипполит Никитич (1848–1885). Организатор нелегальной типографии в Москве в 1873—74 гг. Арест, при попытке освободить Чернышевского. По процессу 193-х приговорен к 10 г. каторги. В 1881 г. отправлен на Кару. Срок каторги увеличен до 15 лет. В 1882 г. бежал, но был пойман и отправлен в Петербург. В 1885 г., 26 янв., расстрелян в Шлиссельбурге за оскорбление начальства.
Натансон, Марк Андреевич (1850–1919). Один из первых «чайковцев». В 1872 г. арест, и выслан. Вернувшись из ссылки в 1875 г., организовывает «Общество северных народников», получившее затем название «Земля и воля». Арест, в 1877 г. и выслан в Вост. Сибирь. В 1893 г., по возвращении, участвует в основании партии «Народное право». В 1894 г. снова арест, и выслан на 5 лет. С начала 1902 г. в партии соц. — рев., после революции — левый эсер.
Натансон, Ольга Александровна (1850–1881). Урожденная Шлейснер. В 1871 г. вступила в кружок «чайковцев». В 1876— 77 гг. — член-учредитель об-ва «Земля и воля». В начале 1877 г. — на поселении, а затем работала в Петербургском центре. Арест, в окт. 1878 г., в 1880 г. приговорена к 6 г. каторги, замененной ссылкой. В 1881 г. из-за тяжелой чахотки отдана на поруки родным.
Нечаев, Сергей Геннадиевич (1847–1882). В 1869 г. организовал в Москве общество «Народная расправа». После убийства члена об-ва И. Иванова бежал в Швейцарию, но в 1872 г. был выдан России как уголовный преступник. В 1873 г. приговорен к 20 г. каторги. Отбывал в Алексеёвском равелине.
Оболешев, Алексей Дмитриевич (1854–1881). Студ. Московск. ун-та. Один из основателей «Земли и воли», заведовал паспортным бюро. Арест, в 1878 г. 14 мая 1880 г. приговорен к смертной казни, замененной 20 г. каторги. Содержался в Петропавловке.
Окладский, Иван Федорович. Слесарь. В 1879 г. приглашен Желябовым участвовать в покушении под Александровском. Работал в динамитной мастерской. Арест, в июле 1880 г., по процессу 16-ти в 1880 г. приговорен к смертной казни, замененной бессрочной каторгой. В 1881 г. подал прошение о помиловании, выдал конспиративные квартиры и видных народовольцев, в 1881 г. был освобожден. В 1883 г. поступил в секретные сотрудники департамента полиции. В 1924 г. арест, и Верховным судом СССР в 1925 г. приговорен к 10 г. изоляции.
Оловенникова-Ошанина, Мария Николаевна (1853–1898). Участница орловского кружка Заичневского. С 1878 г. член «Земли и воли». Член Исполкома «Народной воли». Руководила (с Теллаловым) московской народовольческой группой. В 1882 г. эмигрировала за границу, где вместе с Тихомировым представляла «Народную волю». Позднее участвовала в группе «старых народовольцев» (под фамилией Полонская).
Осинский, Валериан Андреевич (1853–1879). Студ. Ин-та путей сообщения. Один из учредителей «Земли и воли», организовал «Исполнительный комитет» в Киеве, подготовил целый ряд террористических покушений на юге. Арест. 24 янв. 1879 г. в Киеве. 7 мая 1879 г. приговорен к смертной казни и повешен 14 мая.
Перовская, Софья Львовна (1854–1881). Дочь губернатора. С 1871 г. член кружка «чайковцев». В 1872 г. работала оспопрививательницей в Самарской губ. В 1873 г. участвовала в пропаганде среди петербургских рабочих. Арест, в янв. 1874 г., но освобождена до суда. По процессу 193-х оправдана, но выслана. По пути бежала. Член «Земли и воли», член Исполкома «Народной воли» и распоряд. комиссии. Арест. 10 марта 1881 г. Казнена 3 апреля 1881 г.
Плеханов, Георгий Валентинович (1856–1918). Один из крупнейших русских марксистов. Член «Земли и воли», редактор. Один из основателей «Черного передела». В 1880 г. эмигрировал. В 1883 г. организовал первую русскую марксистскую группу «Освобождение труда». В своих работах дал критику ошибочных взглядов народников и развернул защиту марксистских взглядов. После II съезда РСДРП (1903 г.) пошел на примирение с меньшевиками.
Попко, Григорий Анфимович (1852–1885). Студ. Петров, акад., и Новороссийского ун-та. В 1876 г. участвует в организации журнала «Вперед». 25 мая 1878 г. убил жандармского капитана Гейкинга. Арест, в авг. 1878 г. и приговорен к бессрочной каторге. За побег, совершенный в 1880 г., прикован к тачке на 3 г. на Каре до 1885 г.
Попов, Михаил Родионович (1851–1908). Студ. Мед. — хирург акад. Член «Земли и воли». Вел пропаганду среди рабочих Петербурга и провинции, руководил проведением стачек. После раскола «Земли и воли» примкнул к чернопередельцам. Работает в Киеве. Арест, в 1880 г., приговорен к смертной казни, замененной каторгой. Освобожден по амнистии в 1905 г.
Пресняков, Андрей Корнеевич (1856–1880). Студ. Петерб. учит, ин-та. Участник казанской демонстрации. В 1877 г. организовал (с Квятковским) «Рабочую дезорганизаторскую группу». Убил шпиона Шарашкина. Арест. 4 окт. 1877 г. В 1878 г. бежал и уехал за границу, вернулся в 1879 г. 3 февр. 1880 г. убил предателя А. Жаркова. 24 июля арест., оказал вооруженное сопротивление. По процессу 16-ти в 1880 г. приговорен к смертной казни. Повешен 4 ноября 1880 г.
Прибылева-Корба, Анна Павловна (урожд. Мейнгардт). С янв. 1880 г. член Исполкома «Народной воли». Работала в динамитной мастерской, в паспортном бюро, в редакции «Народной воли». Хозяйка конспиративных квартир. Арест. 5 июня 1882 г., по процессу 17-ти в 1883 г. приговорена к 20 г. каторги. Отбывала на Каре.
Рысаков, Николай Иванович (1861–1881). Вел пропаганду среди рабочих, работал в «Рабочей группе». Был назначен метальщиком 1 марта 1881 г. После ареста открыл все, что знал. Повешен 3 апр. 1881 г.
Саблин, Николай Алексеевич (1850–1881). В 1874 г. вел пропаганду в Ярослав, губ. В том же году уехал за границу, при возвращении откуда был арест, в 1875 г. По процессу 193-х вменено в наказание предварительное заключение. Член «Народной воли». Участвовал в террористических актах. Застрелился при аресте 3 марта 1881 г.
Сажин, Михаил Петрович. За участие в волнениях в Технолог, ин-те ссылается в Вологодскую губ., оттуда бежит за границу (живет под псевдонимом Арман Росс). Участник Парижской коммуны, восстания славян в Герцеговине. В 1875 г. возвращается в Россию, пытается поднять восстание на Урале. Арест. в 1876 г., по процессу 193-х приговорен к 5 г. каторги. Отбывает в Харьков, централе, а потом ссыльнопоселенцем в Сибири.
Сентянин, Александр Евграфович (1856–1879). Член кружка Осинского. При аресте в Харькове в 1878 г. оказал вооруженное сопротивление. Умер в Петропавловской крепости.
Серебряков, Эспер Александрович (1854–1921). Морской офицер. С 1880 г. член военной организации «Народной воли». Выданный Дегаевым, эмигрирует в 1883 г. Сотрудничал в «Вестнике «Народной воли», в изд. «Фонда Вольной Русской Прессы» и т. д, В 1899–1902 гг. издавал журнал «Накануне». В 1906 г. вернулся в Россию, где занимался литературной работой.
Соловьев, Александр Константинович (1846–1879). Студ. Петерб. ун-та. Занимался пропагандой среди крестьян, работал в кузнице, учителем, волостным писарем. 2 апр. 1879 г. стрелял в Александра II. Приговорен 25 мая к смертной казни и 28 мая 1879 г. повешен.
Стефанович, Я ков Васильевич (1853–1915). Член киевского кружка бунгэрей. В 1877 арест, по Чигиринскому делу, бежал за границу. Вернувшись в 1879 г., участвовал в основании «Черного передела». В 1880 г. эмигрировал, по возвращении в 1881 г., вступил в «Народную волю». Член Исполкома. В февр. 1882 г. арест, в Москве. По процессу 17-ти в 1883 г. приговорен к 8 г. каторги. Отбывал на Каре.
Суханов, Николай Евгеньевич (1852–1882). Морской офицер. С 1880 г. член военной организации и Исполкома «Народной воли». Арест. 28 апр. 1881 г. По процессу 20-ти в 1882 г. приговорен к смертной казни. Расстрелян 19 марта 1882 г. в Кронштадте.
Теллалов, Петр Абрамович (1853–1883). Студ. Горного ин-та. В 1874 г. за участие в студ. беспорядках выслан. В 1879 г. — харьковский кружок, с конца года руководит московской группой. Член Исполкома «Народной воли». Арест. 16 дек. 1881 г. По процессу 17-ти в 1883 г. приговорен к смертной казни, замененной пожизненной каторгой. Умер в Петропавловской крепости.
Тетерка, Макар Васильевич (1853–1883). Рабочий. Член Сев. союза русских рабочих. В 1879 г. присоединился к народовольцам. Арест. 30 янв. 1881 г. По процессу 20-ти приговорен к смертной казни, замененной пожизненной каторгой. Умер в Алексеевском равелине.
Тихомиров, Лев Александрович (1852–1923). Член московского кружка «чайковцев» в 1871—72 гг. В 1873 г. участвует в работе петербургского кружка. Арест, в 1873 г. По процессу 193-х вменено в наказание предварительное заключение. В дек. 1878 г. вошел в редакцию «Земли и воли». Член Исполкома, Распорядительной комиссии и редактор «Народной воли». В 1882 г. эмигрировал, был представителем заграничного центра «Народной воли». Редактировал «Вестник «Народной воли». Впоследствии стал ренегатом.
Тихонов, Яков Тихонович (1851–1883). Ткач и слесарь. В 1875 г. привлекался по делу о пропаганде среди рабочих в Петербурге. В 1877 г. бежал из ссылки. В нояб. 1878 г. арест, в Москве, а в марте 1879 г. опять бежал. Арест. 24 нояб. 1879 г. в Петербурге. По процессу 16-ти в 1880 г. приговорен к смертной казни, замененной пожизненной каторгой. Умер на Каре.
Фигнер, Вера Николаевна (1852–1942). Училась на мед. фак. в Швейцарии, где входила в состав рев. кружка. В 1875 г. вернулась в Россию, участвовала в поселениях (самарском и новосаратовском). Член «Земли и воли», член Исполкома «Народной воли». После 1 марта 1881 г. работала по восстановлению центра партии. Арест. 10 фев. 1883 г. По процессу 14-ти в 1884 г. приговорена к смертной казни, замененной бессрочной каторгой. Отбывала в Шлиссельбурге до 1904 г. В 1906—15 гг. — за границей. После возвращения посвятила себя литературной деятельности.
Фигнер-Сажина, Евгения Николаевна. Участница казанской демонстрации и поселения в Самарской губ. в 1878—79 гг. В 1879 г. вернулась в Петербург, была хозяйкой конспират. квартиры, где 24 ноября 1879 г. арестована. По процессу 16-ти в 1880 г. сослана в Иркутскую губ. в 1881 г.
Франжоли, Андрей Афанасьевич (1844–1883). Арест, в 1874 г., по процессу 193-х приговорен к ссылке в Вологодскую губ., откуда бежал в 1880 г. Член «Народной воли». В 1881 г. стал во главе типографии в Москве, в 1883 г. ввиду тяжелой болезни эмигрировал.
Фроленко, Михаил Федорович. Студ. Технолог, ин-та, затем Петровск. акад. С 1873 г. член кружка «чайковцев», ведет пропаганду среди рабочих Москвы. В 1874 г. вел революционную работу на Урале. В 1876 г. член киевского кружка бунтарей. Член «Земли и воли» с осени 1878 г. Член Исполкома «Народной воли» и Распорядительной комиссии. Участвует в террористических предприятиях «Народной воли». Арест. 17 марта 1881 г., по процессу 20-ти в 1882 г. приговорен к смертной казни, замененной пожизненной каторгой. Освобожден по амнистии в 1905 г.
Халтурин, Степан Николаевич (1856–1882). С 1876 г. начал пропагандистскую деятельность среди рабочих Петербурга. Участник казанской демонстрации. Организатор Северного союза русских рабочих (1878 г.). 5 фев. 1880 г. произвел взрыв в Зимнем. В 1881 г. член Исполкома «Народной воли». 18 марта 1882 г. участвует в убийстве прокурора Стрельникова в Одессе. 22 марта 1882 г. казнен.
Цукерман, Лейзер Иосифович (1852–1887). В Женеве изучил типографское дело. Входил в русскую секцию Интернационала. В 1879 г. вернулся в Россию, работал наборщиком в типографии «Народной воли». Арест. 17–18 янв. 1880 г. По процессу 16-ти в 1880 г. приговорен к 8 г. каторги. Отбывал на Каре.
Ширяев, Степан Григорьевич (1857–1881). Студ. Харьк. ветерин. ин-та. В 1876 г. уехал за границу, работал в лаборатории Яблочкова. Вернувшись в 1878 г., занимался пропагандой среди рабочих Петербурга. Член Исполкома «Народной воли», работал техником по изготовлению динамита. Арест. 4 дек. 1879 г< По процессу 16-ти в 1880 г, приговорен к смертной казни, замененной пожизненной каторгой. Заключен в Алексеевский равелин, где установил сношения с Нечаевым.
Штромберг, Александр Павлович П854—1884). Лейтенант флота, член центра военной организации «Народной воли». Арест, в 1881 г., без суда, ввиду отсутствия улик, выслан в Вост. Сибирь. Выдан Дегаевым. По процессу 14-ти в 1884 г. приговорен к смертной казни. Казнен 10 окт. 1884 г.
Чарушин, Николай Аполлонович. С 1872 г. один из руководителей пропаганды среди русских на Выборгской стороне. Арест, в 1874 г., по процессу 193-х приговорен к 9-летней каторге. Отбывал на Каре. Вернувшись в Вятку, принимал участие в общественной работе.
Чудновский, Соломон Лазаревич (1851–1912). В 1869 г. исключен из Мед. — хирург. акад. Член кружка Волховского в Одессе. Арест, в 1874 г. По процессу 193-х приговорен к Ъ г. каторги, замененной ссылкой в Тобольскую губ. Последние годы жизни провел в Одессе.
Якимова, Анна Васильевна. Сельская учительница. Арест, в 1875 г., по процессу 193-х оправдана. В 1878 г. работала на Сормовском заводе. В 1879 г. (лето) хозяйка динамитной мастерской в Петербурге. Член Исполкома «Народной воли». Участница ряда террористических предприятий «Народной воли». Арест. 21 апр. 1881 г. в Киеве, по процессу 20-ти в 1882 г. приговорена к смертной казни, замененной бессрочной каторгой,
1851 — В семье дворового Ивана Желябова родился сын Андрей.
1860— Андрей Желябов поступает в Керченское уездное училище, позже преобразованное в гимназию.
1869 — Желябов после окончания Керченской гимназии поступает на юридический факультет Новороссийского университета.
1871 — Студента третьего курса Андрея Желябова исключают из университета за участие в студенческих волнениях по делу Богишича.
1872 — Желябова не приняли обратно в университет. Живет в Одессе случайными уроками. Знакомится с членами кружка Ф. Волховского, преподает дочерям сахарозаводчика С. Яхненко.
1873 — Желябов женится на дочери С. Яхненко Ольге, живет в Городище Киевской губернии. Посещает «Киевскую коммуну», знакомится с деятелями украинской «Громады».
1874 — Желябов активный пропагандист среди рабочих и интеллигенции г. Одессы. Арестован осенью по делу Петра Макаревича.
1875 — Весна. Желябов освобожден под залог. Принимает деятельное участие в Одесском комитете помощи славянам.
1876 — Желябов живет в Одессе и Крыму.
1877 — В июле Желябов арестован и доставлен в Петербург в Дом предварительного заключения.
1877 октябрь — 1878 январь — Желябов участвует в процессе 193-х пропагандистов. Оправдан 23 января 1878 года.
1878 — Весна — лето. Желябов пытается вести пропаганду среди крестьян Подольской губернии. Живет на баштане «Вовчек», недалеко от г. Брослава.
Осень. Желябов порывает с семьей, переходит на нелегальное положение.
1879 — Июнь. Желябов участвует в Липецком съезде террористов, на Воронежском съезде принимается в члены «Земли и воли».
Июль — август. Распад «Земли и воли». Желябов член Исполнительного комитета «Народной воли». Объезжает южные города империи, собирая силы террористов. Октябрь — ноябрь. Под именем купца Черемисова Желябов готовит покушение на Александра II в г. Александровске (Запорожье). 1879–1880 — Зима. Желябов помогает Халтурину в подготовке взрыва Зимнего дворца. Принимает участие в работе народовольческой типографии, заводит связи с рабочими, офицерами, студентами.
1880 — Лето. Желябов становится фактическим руководителем Исполнительного комитета. Подготовка к покушению на царя посредством мины, заложенной под Каменный мост. Осень. Основание типографии «Рабочей газеты». Желябов совместно с Коковским разрабатывает программу рабочих членов партии «Народной воли», вместе с В. Фигнер, Перовской, Колодкевичем создает военную организацию «Народной воли». 1880–1881 — Зима. Подготовка нового покушения на Малой Садовой. Желябов руководит всеми предприятиями «Народной воли».
1881 — 27 февраля. Арест А. Желябова на квартире М. Тригони. 1 марта. На набережной Екатерининского канала террористы убивают царя Александра II.
2 марта. Желябов требует приобщить его к процессу цареубийц.
26—29 марта. Процесс А. Желябова, С. Перовской, Н. Кибальчича, Т. Михайлова, Г. Гельфман, Н. Рысакова. 29 марта. Особое присутствие сената приговаривает всех к смертной казни через повешение.
3 апреля. На Семеновском плацу в Петербурге казнены А. Желябов, С. Перовская, Т. Михайлов, Н. Кибальчич, Н. Рысаков.