Мария Поступальская
Обручев
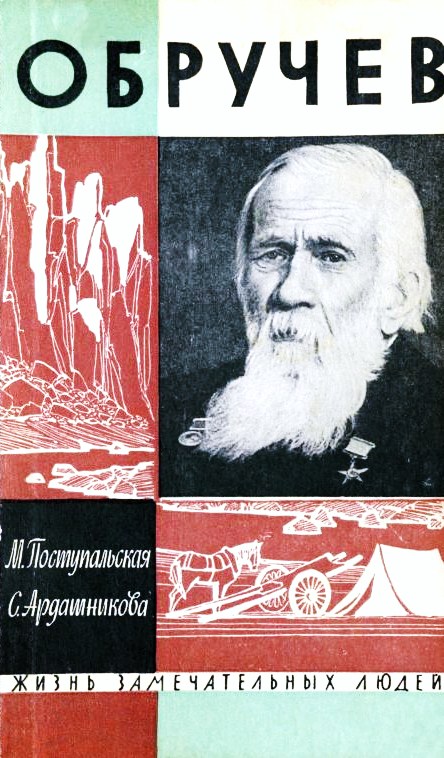
Нашему современнику, советскому человеку, легче, наверно, перенестись мыслью в восемнадцатое столетие, ко двору французских королей, в быт, столь блистательно описанный многими прославленными авторами, в Италию времен Возрождения, даже в средневековую Германию, чем в Россию семидесятых годов. Это наша страна, но совсем иная. У многих городов те же названия, что и теперь, но это другие города. Другие люди, другая одежда, даже другая речь... Это Россия без семилетнего плана, без колхозов и бригад коммунистического труда. В той России не было девятьсот пятого года, не было Ленского расстрела, не было Октября и Великой Отечественной войны. И в соседних странах ничто не напоминает настоящее время.
Нам предстоит путешествие в Россию семидесятых годов. Могучий ветер прошедшего подхватит нас и понесет на своих широких крыльях. Понесет не вперед, а назад, в глубь десятилетий. А мощный прожектор истории будет освещать наш путь. Что он выхватит из мрака? Бескрайние снежные просторы Сибири, где живут еще предания о декабристах и пока только немногие энтузиасты пророчат краю великое будущее?.. Но мы летим дальше, дальше!
Урал, где со времен первых заводчиков Демидовых люди плавят руду и живут в великой бедности?.. Дальше!
Унылые крестьянские наделы Средней России, слабенькие огоньки лучин в подслеповатых окошках?.. Дальше!
Великолепные дворцы и серые окраины Санкт-Петербурга? Толпа на залитом огнями Невском и безлюдье на тускло освещенных улицах застав? На чердаках и в тесных клетушках длинноволосые Раскольниковы обдумывают смысл жизни, а в особом присутствии сената только что закончен «Процесс 50», судимых за «хождение в народ». Еще не полностью отменена судебная гласность, обвиняемые публично высказывают свои убеждения, и «имеющие уши» внимают речи ткача Петра Алексеева и о «мускулистой руке рабочего» и «разлетающемся в прах» ярме деспотизма. А впереди, близко уже, новый «Процесс 193-х» и новые дерзкие речи... Но дальше, Дальше, на запад!
Пески и ракиты прибалтийских низменностей... И вот большой город, колокольни, стройные шпили костелов... Вильно! Здесь недавно бушевали восстания, но сейчас тихо.
Прожектор мечется из улицы в улицу, от дома к дому и, наконец, заливает потоком света невысокое окно. Что там? Какая героическая, полная значения картина представится нам?
Нет, все мирно, все обыкновенно. Большая висячая лампа накрывает световым шатром большой стол. А за столом мальчик склонился над потрепанной книгой. Книга — Жюль Верн.
Старик Жюль Верн, которого знатоки литературы не принимают всерьез как писателя... Первый учитель многих русских мальчиков, читающих книги при свете керосиновой висячей лампы в городах Российской империи. Жгучее любопытство, мечты о неведомых землях, жажда подвигов... Мальчики вырастают, становятся сельскими учителями, врачами, учеными, пропагандистами в рабочих кружках... Они будут ездить в Париж на ученые конгрессы и удивлять мир мощью русской науки. Они будут шагать по Владимирке в рядах ссыльных в снежную Сибирь...
Известнейший геолог, профессор, впоследствии академик, Владимир Афанасьевич Обручев всю свою жизнь при случае будет поминать добрым и благодарным словом автора тех книг, что приносили ему столько радости в детские годы.
Но это будет потом, еще очень и очень нескоро. А пока перед нами мальчик за большим столом читает книгу.
Мальчишек радостный народ...
Дочитав главу, Адя не спешит приниматься за следующую. Ему нравится немножко помедлить в предвкушении тех чудес, что сейчас перед ним откроются. Как хорошо, что в доме сегодня тихо и никто не мешает читать! Старший брат Саша ушел к товарищу готовить уроки, младший Коля — с сестрами в детской. Отец шуршит бумагами в кабинете, а мама одевается у себя в комнате. Сейчас выйдет нарядная, оживленная. Адя любит видеть ее такой. Мама кажется ему очень красивой — статная, высокий белый лоб, легкий румянец, серьезные серо-голубые глаза...
А Полина Карловна, закончив туалет, смотрит на себя в овальное зеркало и едва замечает все то, что так нравится Аде. Ее радует другое — скромное темное платье сидит безукоризненно, воротничок и рукавчики ослепительно свежи, каштановые волосы причесаны аккуратно, волосок к волоску.
— Афанасий Александрович, ты готов?
— Сейчас, — глухо доносится из кабинета,
Это «сейчас» может продлиться довольно долго. Мужу трудно отрываться от дела. Теперь он занят составлением книжных списков. Книги подбираются для солдатской библиотеки. И здесь, как во всем, сказывается редкая доброта и благородство Афанасия Александровича. Какой офицер будет заботиться о книгах для солдат? Зачем нужно, чтобы «нижние чины» знали о жизни больше, нежели им положено? К чему давать им книги о военном деле? Их обязанность — выполнять приказания начальства, только и всего.
Муж ее думает иначе. Ему кажется, что человек только тогда хорошо выполняет свою работу, когда понимает, для чего она нужна. И Афанасий Александрович тысячу раз прав! Полина Карловна всегда старается внушить детям сознание правильности, целесообразности того, что она от них требует. Кажется, ее воспитание приносит хорошие плоды. Девочки еще малы, но и они уже кое-что понимают, а мальчики прекрасно разбираются в своих обязанностях. Мама заставляет их все делать самим, не обращаться к прислуге? Ну да, они не должны расти барчуками, белоручками. Ведь офицерского жалованья отца едва хватает для такой большой семьи. Сегодня Полина Карловна заставляет их говорить по-французски, а завтра в доме будет слышна только немецкая речь. Надоедает? Да, но хорошее знание языков необходимо современному человеку, без этого он не может считаться образованным...
Мальчики это понимают. Все трое. А особенно Владимир.
Владимир, Володя, Владя, Адя... Это короткое имя привилось в семье. Может быть, она неправильно поступает, когда кривит душой перед мужем, покрывая маленькие Адины погрешности?
Вот вчера вечером... Мальчик сидел за книгами в «общей» комнате. На столе лежал учебник геометрии, но под ним скрывалось что-то другое. Потом она проверила, это был «Кожаный чулок» Купера. Последнее время Купер стал соперничать со старым
любимцем — Жюлем Верном. Адя раскраснелся, глаза у него блестели... Афанасий Александрович одобрительно поглядывал на сына из-за своей газеты. Он думал, что мальчик увлекся математикой.
— Так, так, парень! — сказал он. — Работай. Математика дает хлеб, да и масло к нему. Это надежное занятие.
Мальчик смущенно молчал. Молчала и она, низко склонившись над шитьем. Плохо, очень плохо, что Адя хитрит с отцом, но выдать сына она не смогла. Как жадно он глотает эти книги о трудных путешествиях, необычайных приключениях!.. И не она ли сама приучила к ним сына? Может быть, рассказы о смелых людях, об их самоотверженной помощи друг другу в минуту опасности дадут мальчику больше душевного богатства, чем лишняя математическая задача? Кто знает!..
Полина Карловна тихонько вздыхает и, выйдя из комнаты, зовет:
— Адя, ты здесь?
— Здесь, мама!
Худенький, небольшого роста... Темно-русые густые волосы... Глаза живые, но, как и у самой Полины Карловны, серьезные.
— Мы с папой уходим, Адя. Я надеюсь на тебя. Ты займешь сестер, не дашь им скучать. Хорошо?
Мальчик покорно кивает. Конечно, с большей радостью он провел бы вечер за книгой.
— Мы ведь недаром зовем тебя «рыцарем сестер», Адя. Ты любишь девочек. И вообще по-рыцарски иногда умеешь поступать.
Адя удивленно смотрит на мать.
— Конечно. А цветок забыл? — ласково напоминает она.
Нет, Адя не забыл ясный летний день и крутой холм над рекой. Они, дети, собирают цветы, камушки. Мать спокойно, задумчиво следит за ними. Лицо ее кажется таким молодым в тени кружевного зонтика. А внизу сверкает на солнце Вилия. Вода гладкая, мирная, а говорят, здесь очень глубоко.
— Ах, какой там внизу красивый цветок! — говорит Полина Карловна. — Жаль, что нельзя достать.
Адя сам тогда не понял, как сорвался с места. Он ринулся вниз, не разбирая дороги, хотя холм был высок и обрывист, а мама отчаянно кричала, чтобы он сию же минуту вернулся. Камни сыпались из-под его ног, но он благополучно спустился, добрался до воды, храбро шагнул в камыши и сорвал прекрасную водяную лилию. Чудесный цветок! Недаром понравился маме.
А потом наверх по осыпающемуся обрыву, цепляясь за камни покрупней, за клочья жесткой травы... Еще немного... еще... последнее усилие — и он наверху, протягивает маме цветок.
Но что с мамой? Она и не смотрит на лилию. Лицо ее странно побелело, губы тоже... Она хватает Адю за плечи и как будто плачет. Или смеется?.. Целует мальчика и бранит его, радуется и сердится.
Все это вспоминается Аде уже чуть-чуть туманно, словно было очень давно или случилось не с ним, а с другим мальчиком. Ему не совсем понятно, какая связь между этим случаем и необходимостью целый вечер занимать малышек... Но в семье Обручевых спорить с родителями не принято.
— Я поиграю с ними, мама. Не беспокойся, — говорит он.
Возвращаются домой Обручевы поздно. В передней Афанасий Александрович, бережно сняв с плеч жены теплую ротонду, начинает не спеша расстегивать бесчисленные пуговицы своей офицерской шинели. Полина Карловна полна сдержанного оживления. Она так любит музыку, но так редко удается ей вырваться из круга домашних забот и побывать в концерте. А сегодня петербургский пианист играл великолепно. Такой концерт — не частое события в Вильно.
— Ну, как дети? Не шалили? — спрашивает Полина Карловна у прислуги, откалывая шляпку.
— Что вы, барыня! И не слыхать их было. Видно, Аденька придумал забаву.
Полина Карловна довольна. Она быстро входит в детскую, готовая похвалить, приласкать сына. Но что это? Лица детей блестят, светлые платьица девочек грязны и помяты. Маленькая Наташа спит, должно быть сморилась после возни. Ее круглые щечки тоже лоснятся от пота. У Коли и Ади какой-то странный вид...
— Адя, почему вы все так разгорячились? Неужели нельзя было придумать игру поспокойней?
Она дотрагивается до щеки Анюты и со страхом отдергивает руку.
— Чем она вымазана? Что-то жирное...
— Это... Понимаешь, мама, — запинается Адя,— мы играли, и я... Мы просто не успели вымыться... Это масло.
— Боже мой! Какое масло?
— Обыкновенное масло... в горшочке стояло... — Адя опускает голову и замолкает.
— На что они похожи! Всю пыль на себя собрали!.. Сейчас же мыться! Хеля, горячей воды! Но как тебе могла прийти в голову такая глупая шалость?
Адя сам не может сейчас объяснить, отчего ему захотелось вымазать маслом сестер, брата и вымазаться самому. Может быть, виновата книжка, где описывается, как дикари, насытившись, втирают в кожу жир убитых животных и, сытые, лоснящиеся, пляшут?..
Чисто вымытый, с еще не просохшими волосами и со стесненным сердцем, Адя ложится в постель. Сестры и братья уже спят, сладко посапывая в подушки. На душе невесело. Неожиданное купанье среди недели, не по расписанию, даже приятно, как всякая неожиданность, но вот мамина «головомойка».
Впрочем, Полина Карловна хоть пробирает круто, чтобы дольше помнили, хоть наказывает иногда, но зла на сердце не держит. Наутро она с обычной заботой проверяет, хорошо ли позавтракали сыновья, правильно ли застегнули ранцы, не надо ли повязать башлыки, весна холодная... Двум старшим —
Саше и Аде шагать в реальное недалеко, от их квартиры у Ботанического сада до Георгиевской площади. Младшему Коле еще ближе, его гимназия в центре Вильно.
Это Афанасий Александрович решил отдать двух старших мальчиков в реальное училище. Он враг классического образования. Латынью и греческим терзают гимназистов нещадно, а кому из них древние языки пригодятся в будущем? Может быть, одному-двум из класса. А для большинства это мучительное напряжение молодых, неокрепших способностей и мертвый груз никому не нужных знаний.
Старших отдали в реальное, а младший Коля неожиданно заупрямился: «Хочу в гимназию!» Почему Коле так захотелось стать гимназистом, было непонятно. Ведь не латынь с греческим манили его к себе и не теоретические соображения о пользе классического образования? Может быть, хотелось отдельности, обособленности: «Вот братья — реалисты, а я — гимназист...» А может быть, форма больше нравилась? Но как бы то ни было, отец спорить не стал, и Коля щеголяет в синем гимназическом мундирчике с галунами и светлыми пуговицами, а Саша с Адей — «саранча», так дразнят реалистов за их зеленую форму.
Адя быстро идет рядом с молчаливым Александром. Саша мало разговаривает с младшими братьями и почти никогда не играет с ними. Постоянный участник Адиных игр — Коля, и они оба несколько побаиваются старшего брата, во всяком случае уважают его. О чем Саша думает, что он любит — непонятно. Одно время мама считала, что у него есть способности к музыке, но у всех сыновей их не оказалось вовсе. «Уроки фортепьянной игры», как написано на одной из вывесок, мимо которых проходят мальчики, прекратились. Теперь мама учит музыке только девочек.
Зато Саша придумал совершенно новый секретный язык. Обыкновенные буквы русской азбуки значат для него совсем не то, что для всех остальных. Он переменил их значение, а как именно — догадаться невозможно. Ну как, например, понять, что на Сашином языке означает буква А? Может быть К, а может и Ч... Младшие братья с завистью поглядывают на Сашины записи в особой тетрадке. Тайна известна только одному-единственному товарищу Саши. Они переписываются на удивительном языке и могут писать друг другу о каких угодно секретах; кому бы ни попала в руки записка, все равно ничего понять нельзя.
Мальчики приходят в училище за несколько минут до звонка, и Адя успевает вытащить из ранца книги, приготовить тетрадки и заодно проверить, что там положила мама на завтрак. После ранней прогулки хочется есть, но придется ждать до большой перемены. Если съедаешь завтрак раньше, перемена кажется длинной и пустой. А кстати, вот уже и звонок. Сейчас в классе появится учитель в форменном фраке.
Учителя в реальном почти все молодые, и уроки проходят нескучно. И класс у Ади дружный, ребята стоят друг за друга. Это не то что в Радоме, где раньше жили Обручевы. Там Адя учился во втором классе гимназии. В классах было людно, тесно, и, когда, вызванный к доске, Адя протискивался между партами, его со всех сторон втихомолку толкали и щипали. А уж педагоги там были! Чего стоил латинист, огромный бородач! Он говорил густым басом, и, если ученик нетвердо знал урок, великан хватал парня за голову и тряс изо всей силы, как будто это могло помочь несчастному, чья голова моталась из стороны в сторону, вспомнить забытые глаголы.
Здесь не то. Адя с удовольствием решает на доске задачу, продиктованную преподавателем математики Успенским, пишет классную работу на уроке русского языка, внимательно вслушиваясь в окончания слов. Но учитель Шолкович не старается ввести учеников в заблуждение и произносит «честно», не скрадывая окончаний. На естествознании у Лепина Аде тоже приходится отвечать. Немножко он «плавает», но в общем вопрос знает. А уж на немецком у Кюна совсем легко: благодаря Полине Карловне все дети Обручевых свободно владеют немецким.
До трех часов Адя забывает о доме. Он весь погружается в беспокойный мальчишечий мир, притихающий на уроках, шумный и бездумно веселый на переменах.
Учебный день кончен. Немного усталый и очень голодный, Адя шагает домой, иногда с братом, а порою один, если Саша, как старшеклассник, задерживается в училище. Бывает, что по дороге ему встречаются Колины товарищи — гимназисты. Э, значит, и у Николая кончились уроки! Это удача — сейчас он появится, и братья пойдут домой вместе.
Дома обед, потом прогулка. Зимой она короче, а сейчас, когда с каждым днем становится все теплее, с улицы уходить не хочется. Но пора приниматься за уроки. Опоздаешь — мама будет недовольна. Она всегда внимательно следит за тем, как дети готовят домашние задания.
Последнюю страницу грамматических упражнений Адя дописывает спеша, поглядывая на часы. Коля уже освободился и ждет брата. Но Полина Карловна, незаметно следя за сыном, видит, что готовый уже захлопнуть тетрадь и вскочить с места Адя все же заставляет себя прочитать написанное, что-то исправить и аккуратно приложить к поправке промокашку.
Она снова, как постоянно, возвращается к своей излюбленной мысли: твердое спокойное руководство, простая размеренная жизнь, строгий постоянный порядок должны научить детей делать свое дело добросовестно, любить его. Если семья этому не научит, то учиться потом, став уже самостоятельным, будет очень трудно, а иногда и поздно.
Ну, как будто мальчики сделали все, что от них требовалось, можно дать им волю.
— Адя, Коля, приготовьте учебники на завтра, вымойте руки, и можете играть.
Братья клеят из картона большой парусный корабль —пополнение их флота. На этом великолепном судне вырезанные из бумаги человечки поплывут по синим водам Атлантики. А может быть, по Голубому Нилу? Или по Северному Ледовитому океану? Кто знает, куда пошлет их Адя? Он любит географию и все, что только узнает нового, вносит в игру.
Бумажным героям грозят великие опасности: бури, грозы, ледяной плен, кораблекрушения. Но они отважны и одержимы великой жаждой видеть новые края, открывать неведомые земли. Ветер стонет в снастях корабля, высокие валы накрывают палубу, соленые брызги долетают до мостика, но маленький бумажный капитан дерзок и хладнокровен. Он только плотней кутается в плащ, не отводит от глаз подзорную трубу и властно командует:
— Фок и грот на гитовы! Лево руля! Впередсмотрящий! Заснул?
Многострадальные бумажные человечки! Они не всегда плавают по морям, порою им приходится путешествовать по суше. Там их подстерегают другие беды. Зловеще шуршит в сухой траве ядовитая змея. Издали доносится грозное рычание льва. Коварный ягуар крадется среди переплетенных лианами ветвей. А у берега из воды высовывается устрашающая морда крокодила с подобием елейной усмешки.
Вот они — крокодилы, львы и ягуары в большой коробке. Тут и слоны, и обезьяны, и жирафы, и белые медведи. Все это бумажное зверье вырезано Адей. Удивительно ловко он создает, позвякивая ножницами и поворачивая так и сяк лист бумаги, это множество причудливых созданий природы, известных ему по «Жизни животных» Брема.
Полина Карловна никогда не вмешивается в эти игры. Пусть работает ребячье воображение. И сегодня она, отрываясь на минуту от домашних дел, слушает, как увлеченно и складно - рассказывает Адя о страданиях бумажных человечков в пустыне. Кругом пески, ни капли воды, палящий зной, и, кажется, начинается самум. Коля слушает, слегка испуганно глядя на брата, и временами вставляет в рассказ пришедшие ему в голову подробности.
Смеркается, но лампу долго не зажигают. Соблюдая строжайшую экономию в хозяйстве, Полина Карловна бережет и керосин. Ведь большая лампа «молния» беспощадно поглощает его.
В этот «серый час», как сумерки называются у поляков, Полину Карловну всегда окружают дети. Девочки жмутся к ней потому, что им холодновато в свежий весенний вечер, а дрова тоже нужно экономить. Пожалуй, в неосвещенных комнатах немножко и страшно. Во все углы пробрались темные тени, стоят там смирно и ждут, не пройдет ли кто мимо. Конечно, может случиться, что удастся прошмыгнуть благополучно. До сих пор всегда удавалось. Но лучше все-таки не дразнить их. Лучше сидеть, прижавшись к маме, отдаваясь неосознанному, но вполне ясному чувству безопасности. Дети словно за оградой из маминых теплых рук, ее теплого голоса. Никому она их не отдаст, никаким теням!
И мальчиков в этот час тянет к матери. Старая привычка! Когда были еще малы и жили в местечке Журомин на германской границе, они, как теперь девочки, проводили ранние вечера возле Полины Карловны. Устраивались все трое на низеньких скамеечках у ее кресла. Мама рассказывала что-нибудь, а чаще предлагала задачи по устному счету. С тех пор у братьев сохранилась эта способность быстро производить любое арифметическое действие в уме. А позднее, когда зажигали свет, мама читала им вслух... Теперь она занята девочками, сыновья уже большие, читают самостоятельно.
Приятно чувствовать, что ты почти взрослый, но порою в сумерках вспоминается то старое время, мамины быстрые вопросы и собственное старание ответить скорее, чем другие.
А мама словно понимает настроение сыновей.
— Не разучились вычислять в уме? Ну, Саша, живо: сто тридцать восемь умножить на три. Адя, четыреста семьдесят четыре разделить на шесть! Коля, сложить девяносто девять и пятьдесят семь.
Мальчики выкрикивают ответы с явным удовольствием.
Вносят лампу. Пора ужинать.
После ужина перед сном можно еще часок почитать. Это, пожалуй, самое приятное время Адиного дня. Он раскроет потрепанный томик Жюля Верна и унесется далеко от яркой лампы над столом, от мирного вечернего отдыха семьи.
Но неугомонная мама и тут находит ему работу.
— Адя, ты забыл, что нужно написать бабушке? Берись-ка за письмо.
Ах, как не хочется! Не то чтобы Адя не любил бабушку Эмилию Францевну, мать Афанасия Александровича.. Нет, он слышал о ней много хорошего, знает, что родился в имении деда — Клепенине, жил там на попечении бабушки до трех лет... Но ему кажется, что это было очень давно, он старушку почти не помнит. Папа все собирается навестить ее и обещает взять с собой Адю, но когда это будет? Пока поездка все откладывается: нет денег. Вот побывать бы в Клепенине, побегать по парку, попробовать удивительных печений бабушки, иногда она посылает их детям, поговорить с ней. Она, наверно, много интересного может рассказать... А писать... о чем? Сразу даже не придумаешь.
Но спорить не приходится. Адя покорно берет перо, бумагу и пишет.
Эту переписку с бабушкой он вел все школьные годы. Сначала ей отсылались первые беспомощные каракули, потом четко и грамотно исписанные листки. Вот письмо четырнадцатилетнего Ади.
«Моя дорогая бабушка!
Поздравляю Тебя с днем Твоего рождения и желаю Тебе здоровья, долгой жизни и спокойствия. Надеюсь, что тетя Маша приедет к Тебе и все деревья распустятся и позеленеют к этому радостному дню. У нас уже наступила весна, снегу нигде нет, трава довольно большая, на всех деревьях большие почки, а на ивах и кленах свежие листья. Вчера Маша нашла в нашем саду несколько фиалок. На прошлой неделе мы чистили и приводили в порядок свой сад...»
«13 апреля мы праздновали папино рожденье; мама спекла папе большой крендель и купила ему туфли, подставку к лампе и левкои, ляк и тюльпаны в горшках. Анюта связала крючком цепочку к часам, Маша купила два апельсина, а я — ножик для разрезывания бумаги.
Вчера на Кафедральной площади началась ярмарка, которая будет продолжаться до 1 июня. На ярмарку приехала карусель, фокусники, кабинет с движущимися восковыми фигурами и множество купцов с товарами; для них выстроены большие деревянные бараки. Между лавками мне больше всего нравится лавка оптика Гринберга; у него есть довольно большой заводной локомотив с тендером, ящики с циркулями и много других инструментов: барометры, термометры, хронометры, телескопы, микроскопы, лупы, бинокли, очки, лорнеты; также ружья, пистолеты, револьверы и другие охотничьи принадлежности».
«В Вильно приехал также цирк лошадей Герцога и в субботу давал первое представление в манеже на Георгиевском проспекте...»
Тут, вероятно, следовал долгий вздох. Удастся ли побывать в цирке?
Словами «Прощай, моя дорогая бабушка» заканчивается письмо. В конце стоит число: 2 мая 1877 года, а начало украшено картинкой: тигр загрызает кабана. Наверное, Адя надеялся, что картинка бабушке понравится. И написал он так мелко и красиво, как пишут только взрослые. По этому письму бабушка сразу увидит, что он вырос.
Конечно, он ожидал похвал от матери, но получил выговор. Кто бы мог ожидать?
В письме есть приписка Полины Карловны:
«Адя от меня получил большой выговор за то, что забыл про Ваши больные глаза и написал письмо свое таким мелким почерком, что и здоровым глазам трудно его прочесть. И как Вам нравится картинка, наклеенная на бумагу? Не правда ли, очень удачный выбор для поздравительного письма?»
...Преданья русского семейства.
Бабушка Эмилия Францевна будет читать письмо Ади у себя в Клепенине, в одной из невысоких тихих комнат или в парке, где старые липы шумят свежей листвой, а по вечерам уже щелкают соловьи.
Она пройдет по одной из немногих расчищенных аллей, присядет на изрезанную детскими перочинными ножами скамейку и достанет из вышитого мешочка письмо внука, еще какие-то письма, стертые на сгибах, не раз читанные.
Расправляя страницы маленькой, еще красивой, но уже сморщенной рукой, Эмилия Францевна задумается.
Многое может вспомнить старая женщина в весеннем парке.
Себя, тоненькой задорной паненкой, когда она еще жила в Варшаве, страшные дни польского восстания, встречу с будущим мужем — русским офицером Александром Обручевым...
Отец ее профессор Францишек Тымовский, сам участник восстания, жил в то время в Кракове. Оставаться в столице ему было опасно. Может быть, он и посетовал, что жених русский, да еще военный. Все передовые люди сочувствовали повстанцам, и русская военщина казалась олицетворением грубой силы, жандармского николаевского режима. Но жених был сдержан, хорошо воспитан, грубой солдатчины в нем не чувствовалось. Он не скрыл, что в недавнем прошлом привлекался к суду по делу «Общества военных друзей», когда в литовском саперном батальоне, которым он командовал, были волнения. После событий в декабре 1825 года начальство было начеку, и плохо мог кончиться для Обручева этот суд. Но, видно, судьба хранила Александра Афанасьевича. Он получил только «строжайший выговор» и предупреждение «впредь быть осторожней», да на его счет отнесли судебные издержки в сумме 963 рублей и 99 1/4 копейки. Эта четверть копейки всегда ее смешила. Брали бы уже 964 рубля. К чему эта глупейшая точность?
Жених зарекомендовал себя человеком, не чуждым новым веяниям, происходил из хорошей семьи, был сыном инженер-генерал-майора, имел чин подполковника и в будущем, несомненно, мог стать генералом. Что же... жизнь дочери будет обеспечена... Словом, пан профессор возражать не стал.
Странно и страшно было думать панне Эмце, что она уедет из родной Варшавы в холодную Россию, будет понемногу забывать польскую речь, привыкать к новому, незнакомому...
И уехала, и забыла, и привыкла...
Только насчет обеспеченности пан профессор ошибся. Богатой обручевская семья никогда не была. Все в роду — военные, все — честные служаки, люди долга, много работали, мало имели... Недаром один из предков мужа, тот, что строил крепость Динабург и внес в свой семейный герб изображение крепости, оставил сыновьям по половине карандаша, как символ бережливости и трудолюбия. Этот «трудолюбивый карандаш» хранился у ее мужа.
Когда Александр Афанасьевич, выйдя в отставку, купил скромное именьице Клепенино близ Ржева, все родичи дружно осуждали его. Имеет ли смысл покупать землю, когда крепостное право наверняка будет отменено?
Эмилии Францевне до сих пор обидно об этом вспоминать. Как они не брали в расчет, что такой большой семье жить в деревне гораздо дешевле и здоровее, чем в городе, если даже имение и не приносит больших доходов! Во всяком случае, здесь они вели пусть скромное, но счастливое существование, пока... Да что искать слова! Пока не пришли беды. А беды пришли, как только выросли дети.
Александр Афанасьевич всегда был военным, в отставку вышел в генеральском чине, и сыновья его пошли по военной части.
Сын Владимир окончил военную академию, был поручиком генерального штаба. Казалось, что впереди блестящая карьера и вдруг... подал в отставку. «Из идейных соображений».
А скоро выяснилось, что Володя сотрудничает в журнале «Современник», близко сошелся с Чернышевским.
Настроение в ту пору было очень дерзкое. Даже здесь, в глуши, а уж о Петербурге и говорить нечего. Еще со времен неудачной Крымской войны страсти не улеглись... Могучая николаевская Россия так тогда спасовала... Все говорили, что солдаты — герои и мученики, а начальство никуда не годится. Взяточников полно, казнокрадов...
Ну, а после смерти государя Николая Павловича открыто стали называть Россию отсталой, говорили, что, сохраняя крепостное право, страна развиваться не сможет... Ждали реформы. Кто робко, с неверием, кто твердо рассчитывая на лучшее, а кто и прямо призывая к бунту. Но все понимали, что с крепостным правом дольше мириться нельзя.
Крестьянские волнения начались, поджоги усадеб... В Финляндии брожение, Польша тоже бурлит, студенты неспокойны...
И вот объявили манифест, в церквах его читали... Крестьяне освобождены без земли, выкуп должны платить. Опять волнения: в рязанском селе Кукуй, в казанской Бездне... Усмиряли военные части. Предводителя восстания в Бездне Антона Петрова казнили. А в Варшаве расстреляли демонстрацию. Что вспоминать! Тяжелое время! Все были недовольны, все в оппозиции к правительству. Людей словно подменили. Не было, кажется, ни одного молодого человека, который бы не критиковал, не высмеивал российские порядки. И в «Современнике» писали не то что смело, а просто зажигательно; иначе не скажешь.
Конечно, многое говорилось правильно и справедливо. И люди во главе стояли воистину благородные. О Николае Гавриловиче Чернышевском Владимир с восторгом отзывался, гордился, что близок к нему. Да она сама, когда ездила в 1860 году с больной Машей в столицу, познакомилась с Николаем Гавриловичем и оценила его. Нежной и чистой души человек!
Понятно, что плохие, бесчестные люди о своем отечестве, о народе думать не станут, им лишь бы карман набить. Она всегда это повторяла покойному генералу. Только не утешали эти слова ни Александра Афанасьевича, ни самое Эмилию Францевну. Если сын должен за свои благородные убеждения платиться каторгой... Нет, нет! Какая мать не захочет, чтобы ее дитя было подальше от смуты?
Не миновала беда Владимира, арестовали в незабываемом 1861 году... Он, оказывается, распространял прокламации тайного общества «Великорус»...
Сидел в Петропавловской крепости. В феврале шестьдесят второго судили. Получил каторжные работы и после них вечное поселение в Сибири. И зятя, мужа дочери Марии, Петра Ивановича Бокова вместе с Володей судили, но оправдали, слава Иисусу!
Владимир на следствии молчал и на суде держался отлично. Так и не сказал, откуда у него эти прокламации. Говорят, спас своим молчанием человека, которому худо бы пришлось... А кто этот человек, даже ей, родной матери, неизвестно. Разные имена называли секретно: и Чернышевского, и Добролюбова, и Серно-Соловьевича, и даже родственника Николая Николаевича Обручева, Володиного двоюродного брата.
Николай Обручев, племянник мужа... Может быть, это и он? Ведь годом позже, будучи начальником штаба 2-й гвардейской дивизии, он отказался участвовать в подавлении польского восстания, вслух говорил, что это братоубийственная война...
Благодарение создателю, ни Обручевы, ни Тымовские предателями никогда не были, и отрадно думать что Володя проявил благородное упорство и молчание его спасло человека, кто бы тот ни был. Но неужели самого Владимира не могла миновать эта участь?.. Вспомнить страшно, что пережили тогда они, старики!
Гражданская казнь была в мае шестьдесят второго... Несчастный год! Столица в то время горела. Пожары вспыхивали неожиданно в разных местах города. Народ волновался. Полиция уверяла, что студенты, революционеры поджигают.
Когда над Володей совершали эту ужасную церемонию гражданской казни, срывали с него погоны и мундир, шпагу ломали у него над головой, будто вычеркивали из списков живых — Иисус-Мария, как она тогда жива осталась! — люди вокруг эшафота кричали, требовали, чтобы Володю повесили, сами растерзать его хотели... Потом говорили, что в толпе шныряли полицейские агенты, нашептывали, что казнят поджигателей. Сами же, наверно, и поджигали, чтобы против этой несчастной молодежи народ восстановить... Неужели люди вечно будут верить начальству только потому, что оно начальство? Неужели всегда будут побивать камнями тех, кто за них идет на муки?
Эмилия Францевна плачет, не вытирая слез, и только, заметив расплывающиеся пятна на драгоценных письмах, пугается и бережно осушает исписанные страницы платком.
Теперь Володя, благодарение богу, уже свободен, но сколько пришлось вынести! А начинать нужно все сначала...
И у дочери Маши как сложилась жизнь? Чудесная девушка была, приветливая, скромная... Не то что очень красива, но привлекательна необыкновенно.
Росла, как растут все девочки в помещичьих семьях, в меру шалила, занималась музыкой, языками, а вошла в возраст, наслушалась, нахваталась... С братом Владимиром очень дружила, он помог, конечно... Заладила: «хочу учиться», «буду врачом»... Только это и твердила.
Генерал слышать не хотел, сказал раз и навсегда: он не допустит, чтобы дочь его бегала по лекциям со студентами. Так бы тому и быть, если бы не Владимир. Во всем поддерживал сестру, поддерживал, понимал, сочувствовал...
Маша горевала, горевала из-за отцовского упрямства, да и заболела. Здешние лекари ничего не понимают. Тоскует, чахнет, не ест, прямо на глазах тает...
Владимир хотя тогда с отцом и был в разрыве из-за своей отставки, но, как узнал, что Маша больна, прилетел в Клепенино. Оказалось, деньги на поездку занял в семействе, где гувернером состоял. От отцовской помощи он еще раньше отказался, в прошлый свой приезд. Ссорились они тогда с генералом страшно...
А на сей раз приехал Володя не один, привез с собою врача из Петербурга. Врач-то, как потом узналось, близкий приятель его был, но об этом родителям не сказали. Так в Клепенине появился Петр Иванович Боков.
Генерал мрачен, Володя угрюм, Маша слаба... Петра Ивановича не слишком доверчиво встретили. Но человек оказался превосходный. Воистину уж, «светлая личность», как молодежь выражается. Умен, образован, врач хороший, веселый, добрейшей души.. А уж красив!.. Глаза просто говорят, черты лица точеные, голос мягкий...
Вспоминая своего любимца, Эмилия Францевна сокрушенно качает головой.
Всем хорош! Даже до генерала дошел. Никого не слушал Александр Афанасьевич, а как сказал Боков, что Маше нужна перемена обстановки, рассеянье, столичные врачи, согласился отпустить дочку в Петербург, с Эмилией Францевной конечно.
Владимир преданно о них заботился. Квартиру снял... Оказались близкими соседями Чернышевских. Николай Гаврилович сам пришел познакомиться, книги Маше принес.
Стала Мария Александровна веселеть, румянец появился, аппетит. Бывала она у Чернышевских с братом и Петра Ивановича часто видела, занималась много. Генерал так и не узнал, что дочь его в ту пору все-таки «бегала по лекциям»...
А Володе, бедному, очень племянница Николая Гавриловича Полина Пыпина нравилась...
Сама Эмилия Францевна жила в постоянной тревоге, но так, радостно было видеть Машу веселой и здоровой, что на многое приходилось глаза закрывать.
Огорчались они все тогда, что без отцовского разрешения нельзя сдавать экзамены за курс мужской гимназии. Ну, а после манифеста, когда вся Россия забурлила, нельзя стало и в Петербурге оставаться. Генерал требовал, чтобы жена и дочь немедленно вернулись в деревню.
Приехали в Клепенино вместе с Володей, весною, в мае, а скоро и Петр Иванович прикатил. Опомниться не успели, как он сделал Маше предложение, как полагается, по всей форме. Маша ответила, что согласна. Только холодна бывала с женихом... Такого морозу напустит... Непонятно, как он терпел.
Генерал не о такой партии мечтал для любимой дочки, но или уж решил не ранить Машу новым отказом, или разглядел порядочность Петра Ивановича. Ведь о приданом ни слова, а не дворянин...
После свадьбы молодые уехали в Петербург, Володя им квартиру приготовил. Ну, а там все отцовские запреты были забыты. Петр Иванович сам провожал жену на лекции.
Подумать только, ее скромная Маша училась наравне с мужчинами! С ней еще Суслова Надежда Прокофьевна. Та из купеческого рода. Их две сестры. Старшая, Аполлинария, говорят, хороша собой несказанно... Маша с Сусловой очень подружились.
Но самое странное открылось потом. Оказалось, что и брак-то у Машеньки не настоящий. Фиктивный! Совершен только для того, чтобы избавиться от «родительского гнета». Так это у них называется.
Правда, через некоторое время стали Боковы настоящими супругами. Но ведь могли и не стать! На какую же муку обрекал себя добрейший Петр Иванович во имя женского равноправия!
И хоть сделалась Маша его женой, счастья Бокову это не принесло. Начала она, с благословения мужа понятно, ходить в Медико-хирургическую академию, бывала там на лекциях профессора Сеченова...
Светлая голова, умнейший человек Иван Михайлович Сеченов. Но уж собою так нехорош!.. Калмыцкое что-то в лице. У матери-крестьянки, говорят, был в семье калмык. А Петр Иванович ведь такой красавец!
Маша увлеклась. Всегда, хоть и тихая, а сердцем горячая была. Может быть, польская кровь Тымовских в ней сказывается?
И Сеченов равнодушен не остался. Пришла настоящая любовь.
Маша честна, правдива... Иван Михайлович, товарищ Бокова, в мыслях не имел обманывать друга. Рассказали все Петру Ивановичу.
А он как будто даже обрадовался за них. Что пережил, передумал — господу известно, но ни одного слова упрека.
Эмилия Францевна знает, как приглашали Чернышевского и его родственника Пыпина на торжество в честь того, что Маша сдала экзамены за курс мужской гимназии. Без этого нельзя было поступать в высшую школу. На визитной карточке Петра Ивановича было написано:
«П. И. Боков и И. М. Сеченов приглашают... по случаю окончания экзаменов Марии Александровны».
Так оба и приглашают! Что же это? Безумие или такая уж высота, чуть не святость?..
Она, Эмилия Францевна, беспокоилась, страдала за Петра Ивановича, а он же ее утешал, успокаивал. Писал ей... вот это письмо, чтобы она и не помышляла, будто его отношение к Маше может перемениться из-за того, что нашла она свое счастье, полюбила такого замечательного человека, как Иван Михайлович. Уверял, что был и будет Маше преданным другом до конца жизни.
Нет, лучшие люди, которых она знала, отец ее и муж, не возвысились бы до такого самоотвержения! Мода такая, что ли, быть благородными? Или дочь ее уж столь хороша, что внушает подобные чувства?
А может быть, это и есть настоящее отношение к женщине? Такое, о каком только мечтать можно? Но если так, кажется, должна бы за это Маша полюбить безоглядно... самого Петра Ивановича.
Какой высоты должна достичь душа человека, чтобы так чувствовать? Да ведь писал же Пушкин!
Я вас любил так искренно, так нежно,
Как дай вам бог любимой быть другим.
Трудно отцам и детям понять друг друга!..
А вскорости после несчастного шестьдесят второго года и ссылки Владимира по приказу правительства женщин из Медико-хирургической академии удалили. Новое потрясение Маше! Она тогда чуть не похоронила себя в киргизских степях. Тамошние женщины, по своему мусульманскому закону, не могут показываться врачам-мужчинам. Вот Маша с Сусловой и решили туда ехать, лишь бы позволили им учиться. Слава богу, начальство даже не отозвалось на этот сумасшедший проект. Тогда дочь отбыла за границу завершать образование.
Конечно, как молодая женщина, вовсе к таким серьезным предметам не подготовленная, Маша себя показала героиней. В Цюрихе получила диплом врача, докторскую диссертацию защитила, в Венской глазной клинике работала... А скоро много таких появилось, как она. И про фиктивные эти браки немало услышать пришлось. Учиться уезжали всё девицы из порядочных семейств. Софья Васильевна Круковская, та, что за Ковалевским... тоже дочь генерала, Жанна Евреинова, Юлия Лермонтова, Наталья Армфельд... Видно, как ни тяжек путь к высшему образованию, а женщины его проторят для себя...
Маша своего добилась, Володя знал, на что шел. А кончину мужа все эти обстоятельства, конечно же, ускорили. Не мог он оставаться равнодушным к судьбе сына и дочери. Вот уже одиннадцать лет, как нет Александра Афанасьевича. Умер там же, где жил, в Клепенине...
Глаза Эмилии Францевны снова заволакиваются слезами.
Невесело вдовье существование. И с тем сыном, чья жизнь ей кажется наиболее правильной, чья семья могла бы радовать и утешать ее, она разлучена...
У Афанасия, ее старшего, тоже не все хорошо. В Крымскую войну при взятии Карса был ранен, и это ранение дает себя знать.
Но главное при нем: честная служба и умная жена. Как это важно, чтобы семью строила бодрая трудолюбивая женщина! А ее невестка, Полина Карловна, именно такова.
И ведь нашел свою судьбу Афанасий в родном гнезде. Маша здесь встретилась с Боковым, а старший брат ее — с Полиной Гертнер.
Дочь лютеранского пастора, родом из Ревеля, немка... Кажется, в семье Обручевых смешались все национальности. Сама Эмилия Францевна — полька, Полина Карловна — немка. Интересно, какой национальности будут жены внуков? Ну, да об этом ещё рано загадывать...
Полина в Клепенино приехала гувернанткой, к младшей дочери. Выросла сиротой... Отец ее, пастор, должно быть, хороший был человек. Погиб у себя в Ревеле, спасая людей. В коляске ехала женщина с детьми, и кони понесли. Он хотел остановить их, и его зашибло. Детей воспитывали родственники. Полину опекала одна вдова, вырастила, дала ей хорошее образование. Девушка и языки знала и музыку. Характер образовался самостоятельный. Ведь совсем молоденькая начала хлеб себе зарабатывать. И ни к какому женскому равноправию не стремилась и к высшему образованию не рвалась... Скромно, достойно делала свое дело.
Приехал Афанасий в отпуск, увидел Полину... Тут и поженились, тут и Саша родился и Адя. Три года Аденька здесь прожил... Афанасия в Польшу служить послали, и Полина с ним... Кормилица из крестьянок у Аденьки была. Потом приехала за ним мать и увезла с собою в Польшу.
Намучились они... Военная служба, вечный бивак. Где только не жили! В Журомине, Млаве, Брест-Литовске. Там Афанасий уездным воинским начальником был. Не нравилось ему... Молодчики побогаче со взятками лезут, чтобы от призыва откупиться, или родители являются за сынков хлопотать. Афанасия это всегда возмущало. Позднее, когда он уже командовал полком, спустил однажды с лестницы поставщика дров или продуктов. Тот взятку предлагал, чтобы у него для военных покупали. Из воинских начальников вернулся снова в строевую службу. Попал в Радом, потом в Вильно. Наконец-то в приличном городе живут... Сколько учебных заведений дети переменили! Но вечное кочевье на успехах не сказывается, учатся порядочно.
И растут правильно. Семья крепкая, трудовая. Какие Аденька хорошие письма пишет!.. В прошлом письме сестренок описывал. Где это?
Эмилия Францевна отыскивает письмо, читает:
«Маша уже читает по складам и складывает слова из азбуки на кубах, которую папа ей недавно купил в награду за ее прилежание; вышивает также иногда узоры на картоне. Анюта умеет вязать чулки, вышивать и шить; она вышила уже очень красивый коврик для кукол, а теперь вяжет крючком из черного шелка и стального бисера часовую цепочку к папиному рождению. Но Наташа еще ничего не умеет делать, бегает только по комнатам, играет, болтает и стряпает несколько раз в день для своих кукол».
А дальше как разумно:
«Я пишу редко только потому, что, кроме школьных уроков, мы должны еще учиться у мамы, так что свободного времени остается очень мало. А главное, не пишу потому, что у нас один день похож на другой; интересных событий нет никаких, и мне нечего рассказать тебе, что могло бы развлечь тебя».
Попрощался уже, написал «Прощай, моя дорогая бабушка» и вдруг надумал приписку:
«Пришли нам, милая бабушка, такой кулич, какой ты прислала нам в Брест-Литовск, он нам тогда очень понравился, так же, как и твое свежее масло».
А в нынешнем письме про ярмарку... Инструментами увлекся... Мальчишка! Они все механику любят. И как все перечислил... И телескоп и микроскоп...
Эмилия Францевна перечитывает письмо и, дойдя до приписки Полины Карловны, усмехается.
Строга! Твердо детей ведет! Ну да результаты хорошие. Честь ей и слава! А что жизнь однообразная, как Аденька пишет, это и лучше для детей. Привыкают к обязанностям, не балуются.
Надо написать им, чтобы собрались, приехали.
И пусть Аденьку привезут, хочется увидеть мальчика...
Эмилия Францевна долго еще сидит задумавшись. Потом складывает в мешочек письма и медленно идет к дому по заросшей аллее.
Пора надежд и грусти нежной...
Снова весна, и в старых парках Вильно опять шумит молодая листва. Год 1881-й.
Воскресная служба в соборе подходит к концу. Справа от прохода синие ряды гимназистов, слева зеленые — реалистов. Впереди гимназистки. Под коротенькими жакетами видны белые передники. У одной — белый бант в косе пышнее, чем полагается, у другой из-за воротничка строгого форменного платья — белая пена рюша. А должна быть только узенькая полотняная полосочка. Каждой хочется xoть как-нибудь принарядиться. Весна!..
Классные дамы, истово крестясь, одним глазом наблюдают за порядком в рядах.
В соборе душно. В наклонных солнечных лучах, бьющих из узких окон, пляшут пылинки. Проходят драгоценные часы воскресного отдыха. Молодые лица бледнеют, тяжело выстаивать многочасовое богослужение, а особенно весною.
Последние возгласы священника и дьякона, последние сладко замирающие «амини» хора.
Служба кончена. Молодежь выходит из церкви и — наконец-то! — остается без присмотра. Учителя спешат по домам. Воскресенье — единственный в неделю, когда можно побыть с семьей.
Кучка молодых людей в зеленых мундирах останавливается на углу.
— Пошатаемся немножко, — предлагает Дружинин. — Голова гудит от духоты, от ладана...
— Идемте, идемте! Владимир! Обручев! Ты с нами?
Невысокий юноша кивает.
— Однако ты неразговорчив сегодня, — говорит ему один из друзей.
Обручев молчит. Серо-голубые глаза строги. Он идет впереди товарищей и в разговор не вступает.
— Вы здесь? — радуется подошедший Баранович. — Не удалось удрать? И мне пришлось всю службу отстоять в костеле.
— Пойдемте в старый город, — предлагает кто-то.
Старый город — вот он. Стоит свернуть с Георгиевского проспекта, по которому не спеша расходится из православных церквей и католических костелов по-воскресному нарядная публика, а порою проносятся щегольские экипажи, — и пешеход оказывается в лабиринте узких кривых улочек. Здесь в коляске не проехать, обязательно застрянешь. Дома вплотную прижимаются друг к другу. В иных местах через улицу от дома к дому перекинута арка. Когда-то местные жители с этих крытых галереек стреляли во врагов и забрасывали их камнями.
Улочки Пилес, Стиклю, Арклю... Старина! В стенах некоторых домов сохранились ниши, прежде в них стояли статуи... Гулко щелкают шаги по истертым каменным плитам. Солнцу трудно сюда пробиться. Улочки похожи на кривые тропки, проложенные в сплошном нагромождении серого камня. Тихо. Вся жизнь воскресного дня сосредоточена во дворах.
Юноши выходят к костелу святой Анны, о котором Наполеон говорил, что ему хочется поставить эту драгоценную игрушку на ладонь и перенести в Париж.
— Привал, братцы! Отдых!
Юноши располагаются на скамье под огромной ивой, снимают фуражки. Свежий ветерок холодит разгоряченные щеки. Хорошо немного отдохнуть, оторваться на время от экзаменационной зубрежки, полюбоваться благородным творением готики.
— Люблю наш Вильно! — восхищается Баранович. — Не город, а музей старинной архитектуры. Верно, Владимир? — обращается он к Обручеву. — Да что с тобой? Такая чудесная весна, красота вокруг, впереди свобода, самостоятельность, а ты словно в воду опущенный...
— Не трогай его, — тихо говорит Правосудович. — У него ведь отец тяжело болен.
— Это я знаю... А что? Разве плохие вести, Владимир?
— Да, неутешительные, — коротко отвечает Обручев.
Его мысли все возвращаются к несчастью, постигшему семью. Внезапно Афанасию Александровичу стало плохо. Полина Карловна, испуганная его странным состоянием и беспомощностью врачей, решила послать телеграмму доктору Чернявскому — мужу своей сестры. Владимир сам отправлял эту телеграмму и, как ему казалось, навсегда запомнил свой путь до телеграфа и обратно. Впервые в жизни он испытал тогда гнетущее чувство тоски и жалости. Что случилось с отцом, всегда таким бодрым и деятельным? За него было страшно, а маму пронзительно жалко. И то, что она держалась молодцом, не плакала, не ломала рук, только говорить стала еще ровнее, не уменьшало, а усугубляло жалость.
Чернявский жил с семьей в Петербурге, заведовал Ольгинской больницей для неизлечимых. Знакомства и связи его в медицинском мире были обширны.
На телеграмму Полины Карловны Чернявские откликнулись как подобает добрым родственникам. Вероятно, Генриетта Карловна близко приняла к сердцу горе сестры и просила мужа сделать для Обрученных все, что в его силах. Чернявские мигом собрались, выехали в Вильно и неожиданно появились перед растроганной таким вниманием Полиной Карловной.
Больной отец, осунувшееся решительное лицо матери, с прочно залегшей в эти дни морщинкой между бровями, присутствие в доме, где почти никогда не бывали посторонние, чужих людей, распорядительных, энергичных, но доселе неизвестных, как бы пришибло девочек. К маме лучше было не подступаться, а братья или молчали, или говорили только одно:
— Папа серьезно болен.
Владимир замкнулся, всегдашняя жизнерадостность в нем потухла. Только к матери он стал относиться еще нежнее и внимательнее, чем всегда.
Чернявский решил, что лучший выход — устроить Афанасия Александровича в Николаевский военный госпиталь в Петербурге. Как военный, он получит там казенное содержание, а Полина Карловна останется с семьей. Если она будет отдавать свое время и силы уходу за больным, воспитание детей неминуемо пострадает. Обеспечить в домашних условиях лечение и уход, какие даст госпиталь, она не сможет, и средства семьи этого не позволят.
Доводы были убедительны. Полина Карловна и сыновья со словами гостя печально согласились, и Чернявский увез больного Афанасия Александровича в Петербург. В госпиталь он Обручева устроил, но ожидаемого облегчения это не принесло. Состояние больного оставалось по-прежнему тяжелым.
Отца в семье очень почитали, и с его отсутствием в доме образовалась пустота, которую никакими хорошими отметками, старанием лучше учиться, чтобы не огорчать маму, никакими попытками Полины Карловны держаться бодро ради детей заполнить было невозможно. Исчезла постоянная надежная опора, обычный, приветливый мир как-то пошатнулся. Впрочем, рук Полина Карловна не опустила. Жалованье Афанасия Александровича на время болезни стали выплачивать только в половинном размере. В случае, если болезнь затянется, или в еще более страшном случае, о котором она старалась не думать, жалованье вообще прекратится, будут давать лишь небольшую пенсию. Как быть с шестью детьми без всяких сбережений? Полина Карловна не спала ночи, придумывая выход.
В апреле 1881 года Владимир писал бабушке Эмилии Францевне:
«Через две недели мы переезжаем на другую квартиру, потому что эта слишком дорога для наших теперешних средств... Мы будем жить на 3-м этаже и платить 330 рублей в год, а теперь платим 475. Но зато там нет сада при доме, хотя близенько немецкое кладбище, которое летом представляет прелестный тенистый сад, так что детям можно будет ходить туда.
Вообще у нас такая экономия, живем так скромно, мама всюду старается сберегать деньги и уже отложила в банк 800 рублей... Теперь у нас живет один ученик IV класса, который за стол и квартиру платит 25 рублей, что составляет также маленькое подспорье для мамы.
Я теперь уже скопил себе для Петербурга 100 рублей и, кроме того, завел себе новую одежду, летнее пальто, одним словом вполне обмундировался, чтобы в Петербурге не было лишних расходов...»
Эти деньги он собрал зимой, когда давал частные уроки.
Невесело начинается весна его свободы, его самостоятельности! Даже в милое Клепенино к бабушке нынче не придется поехать. А товарищи, как нарочно, говорят об этом:
— Что будешь делать летом? Закатишься снова под Ржев, в имение бабушки?
— Нет, я туда не поеду.
— Но почему же? Ты ведь в таком восторге был... С Сеченовым там встречался, с его женой... Говорил, что они замечательные люди. Ведь не забыл же ты их? В чем дело? — волнуется Баранович.
В восторге! Да, конечно, он был в восторге. И было отчего прийти в восторг. Первый раз он ездил к бабушке с отцом, когда перешел из пятого в шестой класс. Великолепный бор на высоком берегу Волги... Спуск из парка прямо к реке. Плоты со строевым лесом, медленно скользящие по воде... Все это было ново для Владимира. Целые дни он проводил на берегу, смотрел на плоты, купался, лежал на теплой песке. А блуждания по лесу, настоящему дикому лесу! Это не Виленские парки! Сколько там было птиц! Многих он не знал раньше и наблюдал за ними с терпением, которое его самого удивляло.
Бабушку немного беспокоили его долгие отлучки, но тетя Мария, кажется, его образ жизни вполне одобряла. Какая она оказалась веселая, простая, как они подружились! Она обращалась с ним как с равным, и он впервые ощутил прелесть товарищеского общения со взрослым человеком. Мария Александровна и Иван Михайлович устраивали верховые поездки в березовый лес и другие окрестности. Должно быть увидев, с какой завистью Володя смотрит на их выезды, Мария Александровна решила брать племянника с собой. Он едва мог поверить своему счастью, все боялся... Не того, что лошадь сбросит его, неопытного наездника, никогда не садившегося в седло! Нет, он боялся показаться неловким, смешным... И все обошлось прекрасно, Иван Михайлович и тетя Маша терпеливо наставляли его, и скоро он стал недурно ездить верхом.
Целое лето он провел в Клепенине. Отец уехал, у него был только месяц отпуска, а Володя остался и самостоятельно, тоже впервые в жизни, вернулся осенью в Вильно.
Ему было так хорошо там, у бабушки, на волжских просторах, среди сердечных приветливых людей, что год назад он уговорил мать снова отпустить его. Он тогда перешел в седьмой, последний, класс и считался уже взрослым. По существу, последним классом был шестой, а седьмой — дополнительный. В этом классе нужно было выбрать себе специальность — механику или химию. Он выбрал химию. Учитель Полозов очень интересно преподавал, и еще Владимира тешила мысль, что тете Маше и Ивану Михайловичу понравится его выбор.
На этот раз с ним отпустили сестру Анюту. На правах старшего брата он опекал ее в дороге, и, когда бабушка хвалила его за то, что благополучно довез сестру, делал равнодушное лицо. Разве могло быть иначе?
Опять приехали тетя Маша и Сеченов, а потом и Петр Иванович Боков. Эмилия Францевна все вздыхала, стараясь, чтобы не слышал «Аденька»:
— Боже мой! Настоящий муж приехал, а она с Сеченовым...
Но Володя все понимал, напрасно скрытничала бабушка. Да и нельзя было не понимать, какая крепкая верная дружба связывала этих людей. Именно про такую дружбу говорят «нерушимая». Как весело было им всем вместе! Спокойная, приветливая Мария Александровна, тихий деликатный Иван Михайлович, жизнерадостный, бесконечно добрый Боков... Разве можно их забыть! Он слышал их разговоры, до него дошло дыханье их внутренней свободы. Они свободны, эти люди, от предрассудков всяческого рода. Имущественных — что для них деньги, богатство! Сословных — чины, ордена, древность рода, в грош они все это не ставят. Религиозных — он убежден, что никто из них не верит в бога. Национальных — разве им не все равно, кто человек по рождению, еврей, поляк или татарин, был бы человеком!
Ну, а моральные предрассудки? Их они опровергли самой своей жизнью! Разве не доказала Мария Александровна, что женщина свободна в своем выборе, что можно смело смотреть мужу в глаза, полюбив другого человека? А Сеченов и Боков? Ведь они должны были ненавидеть друг друга или, чего доброго, драться на дуэли, как соперники. Так, наверно, поступил бы любой аристократишка. А они были и остались друзьями.
Владимир видел, как тетя Маша лечила крестьян, как они тянулись к ней на прием из ближних деревень. Он слышал, как Иван Михайлович и Боков говорили о необходимости распространять в народе знания, об огромном значении науки, которая преобразует жизнь. Ему было известно, что они помогают детям Чернышевского.
Такими, как они, должны быть все люди. И будут, наверно. Когда? Лет через пятьдесят, сто, двести? На этот вопрос даже в «Современнике» он не нашел точного ответа. А читал журнал в Клепенине постоянно. Ясно было одно: такое время настанет.
— Нет, — твердо говорит Владимир. — Нынче летом нужно много работать, а не отдыхать. Впереди экзамены в институт.
— Как в институт? В какой? Ты ведь об университете мечтал.
Обручев снова повторяет то, что не раз за эту весну говорил и себе самому и матери. В университет реалистов не принимают. Они ведь не знают древних языков. Чтобы подготовиться по латыни и греческому, нужно не меньше года основательной зубрежки. Он не может себе этого позволить. Пришлось бы брать учителя... Это большой расход. И еще на год отложить поступление в Высшую школу? А ему так хочется скорее стать студентом! Ведь это большой шаг на дороге к самостоятельности, и матери станет легче, когда отпадут заботы о нем.
— Пойду в Горный институт, — говорит он, — туда реалистов принимают... Если выдержу приемные испытания, конечно.
— Выдержишь ты безусловно! На одних пятерках учился... Да и лето собираешься над учебниками спину гнуть... Но почему в Горный? Реалистов принимают и в Технологический институт и в Лесной...
— Ты ведь когда-то хотел путешественником стать, помнишь? — спрашивает Правосудович.
— Хотел. — Владимир оживляется. — Помню, что это желание пришло, когда я «Таинственный остров» Жюля Верна читал, давно... мы еще в Радоме жили. Отец тогда заметил, как я за этой книгой обо всем забываю, и сказал мне: «Вот вырастешь, станешь путешественником и напишешь такие же хорошие книги». Помню, как я обрадовался, что отец точно мои мысли прочитал... Путешественником я очень хотел стать. И сейчас хочу. Потому и Горный. Могут послать работать в Сибирь, в Среднюю Азию, на Урал или Кавказ. Страны живописные, и неисследованных мест еще много.
— А ведутся ли там настоящие исследования? — сомневается Дружинин.
— Если сейчас не ведутся, то будут вестись непременно, — веско отвечает Обручев.
— Горный — серьезный институт, — задумчиво говорит Правосудович. — Работать придется. Вот когда тебе твой гектограф пригодился бы. Помнишь, как ты его купил и начал уроки Полозова по химии записывать и всем нашим химикам раздавать?
— А что? Разве плохая затея? Очень жаль было, когда гектограф конфисковали...
— Наверно, и сейчас стоит в учительской. Ну как же, начальство испугалось, что ты прокламации начнешь распространять!
— Да, если у человека есть гектограф, это уже явная причина для подозрения в неблагонадежности...
Владимир встает.
— Мне пора.
— Значит, окончательно решил в Горный?
— Окончательно.
Он прощается с товарищами и уходит не оборачиваясь, худощавый, невысокий, решительный.
Исчезли юные забавы,
Как сон, как утренний туман.
Монотонный голос профессора наводит тоску. Студенты слушают невнимательно. Кое-кто читает, двое с увлечением играют в шашки, положив на скамью самодельную доску. Только несколько человек, самых усердных, стараются записывать лекцию.
Владимир Обручев кладет ручку, распрямляет усталую спину.
Скучно!.. Не стоило и приходить сегодня. Спокойно читал бы дома или поработал бы в чертежной. С чертежами — завал, заданий столько, что никто не поспевает выполнить их к сроку.
Хорошо, что посещение лекции никем не проверяется. Но пусть бы проверяли со всей строгостью, только преподавание не было бы таким скучным. На первом курсе он с удовольствием слушал неорганическую химию, профессор Сушин показывал много опытов и студентов заставлял экспериментировать. Это было интересно. На втором Еремеев очень живо читал минералогию... Хоть немногие часы проходили незаметно... А сейчас третьекурснику Обручеву просто некуда деться от гнетущей скуки и казенщины.
Нет, не выдержит он этого постоянного насилия над собой, уйдет из института! Конечно, это будет тяжелым ударом для матери... Да и Мария Александровна Сеченова едва ли одобрит такое решение. Как заботливо, по-родственному она помогала ему из своих небогатых литературных заработков!.. И делала это тетя Маша столь просто, будто забота о племяннике-студенте входила в ее обязанности.
И все же придется огорчить этих дорогих и близких людей.
Но беспокоиться они будут напрасно. Он не пропадет, живя литературой. «Страсть к сочинительству», над которой подшучивали в семье, когда он был подростком, не прошла с годами. Теперь уже вполне обоснованно можно сказать, что начало литературной деятельности положено удачно. Сам Стасюлевич, редактор солидного журнала «Вестник Европы», прочитал его стихи и настоятельно советовал работать дальше. И рассказ «Море шумит», кажется, недурно удался...
Что-то пишет по этому поводу Полозов? Владимир, стараясь не шуршать бумагой, вытаскивает из кармана смятый конверт. Утром получил, а прочитать не успел, торопился в институт... Не может быть, чтобы любимый учитель не понял его. Там, дома, в Вильно — каким далеким кажется сейчас этот «дом»! — Владимир был одним из лучших учеников Полозова. На уроках химии и физики перед юношей раскрывался новый бесконечно богатый и обширный мир. Полозов вел занятия поистине вдохновенно...
Юношеская увлеченность Владимира не осталась незамеченной. Полозов явно выделял его среди других учеников, подолгу беседовал с ним, наставлял... Он очень одобрил желание Обручева поступить в Горный институт. Но он ведь не знал, какая гнетущая скука здесь... Только немногие лекции непосредственно относятся к будущей профессии студентов. Зато сколько предметов совсем ненужных — математика, механика! А бесконечное черчение! Чертишь до одури, копируешь одну за другой детали машин и механизмов, а что представляет собою сама машина, не знаешь. Слепая бессмысленная работа! «Ведь не чертежников же из нас готовят!» — ворчат студенты.
А богословие? Зачем оно нужно горному инженеру? Где и когда будет он вступать в ученые споры о сущности христианской религии? Или нескончаемые лабораторные работы! Качественные, количественные анализы!.. Никто не собирается стать лаборантом...
Кажется, он, Владимир, подробно и ясно описал все это Полозову. Всегда внимательный к ученикам, сочувствующий их планам и решениям, учитель, конечно, благословит уход из института, как благословил когда-то поступление.
Обручев осторожно отрывает краешек конверта и едва успевает прочитать несколько слов, как лицо его бледнеет и вытягивается. Этого он не ожидал! Напрасны были его мечты о сочувствии учителя. Мягко, дружественно, однако очень настойчиво Полозов советует непременно окончить Горный институт. Он считает, что затрачено слишком много времени и сил, с этим нельзя не считаться. И он вовсе не ставит под сомнение писательские способности Владимира, только предупреждает, что, не зная жизни, писателем стать нельзя. А узнать жизнь можно лишь в работе, в самостоятельном труде. Имея специальность, Владимир будет ездить по стране, встречаться с людьми, видеть, как они живут. Нужный литератору материал можно собрать, только работая, посильно участвуя в событиях, важных для общества, находясь в гуще жизни, а не чувствуя себя сторонним наблюдателем. И нужно непременно больше читать, не пренебрегать ни политической экономией, ни философией, ни историей. Литератор должен быть образованным человеком, знать прошлое и правильно оценивать настоящее.
Полозов просит хорошо обдумать его слова и сообщает, что скоро сам приедет в Петербург. Тогда они поговорят лично.
Владимир сосредоточенно думает над письмом. Он огорчен и разочарован, но что-то мешает ему отмахнуться от советов Полозова и действовать по- своему. Воспитание в семье, где всегда высоко ценился авторитет старших? Или уверенность в полной искренности и доброжелательности учителя? Он сам не знает. Во всяком случае, над всем этим нужно еще и еще поразмыслить...
Долгожданный звонок! Профессор торопливо собирает свои записки и пособия. Студенты, шумя и толкаясь, торопятся из аудитории.
— В столовую, братцы! Ты идешь, Владимир?
В студенческой столовой грязновато, тесно, шумно. За три копейки получаешь тарелку щей и гречневую кашу. Хлеба можно есть сколько угодно. Выходишь отяжелевший, а к вечеру опять «кишка кишке кукиш кажет», как мрачно острят студенты. Но это ничего! Завтра воскресенье и «настоящая» еда у Чернявских!
Пообедав, Обручев идет домой. Можно бы поехать на конке, но приходится беречь каждую копейку. Да и прогулка по городу всегда доставляет ему удовольствие. Правда, сейчас, в сырую осень не очень приятно шагать по мокрым тротуарам, поднимая воротник пальто, чтобы хоть немного уберечься от мелкого, словно через частое сито сеющегося дождя. Но и в эту погоду величественно выглядят колонны Академии наук, Кунсткамера и другие парадные здания старого Петербурга, «строгий и стройный» город сенаторов, чиновников, генералов...
А на бесчисленных «линиях» Васильевского острова Петербург другой, непарадный. Здесь уже зажигаются огни в небольших домиках, ведь маленькие окна дают немного света. Лучи керосиновых ламп неуверенно ложатся на выбоины тротуаров, на скучные уличные тумбы, на круглые столбы с обрывками афиш. Из трактиров слышны простуженные голоса органов, возле одного «питейного заведения» дерутся двое оборванцев, к ним не спеша направляется городовой, придерживая свою саблю — «селедку», как ее называют. На стоянке извозчиков мокнут лохматые лошаденки, а сами возницы, подняв кожаные верха пролеток, прячутся под ними от дождя. Хорошо сейчас посидеть в трактире за горячим чаем... Но никто не трогается с места. По такой погоде скорее может набежать седок.
Унылая картина! Но в ней есть своеобразие, одному Петербургу присущее. Так, во всяком случае кажется студенту Обручеву.
Он приходит «домой», в скудный холостяцкий уют двух комнат, сдаваемых студентам «от жильцов», с облегчением стаскивает с плеч тяжелую намокшую шинель. За стеной с неумолимой настойчивостью звучат гаммы. Великовозрастная девица, дочь хозяйки, упорно, но тщетно пытается проникнуть в тайны музыкального мастерства. А сожители-студенты опять расставляют на столе нехитрое угощение — колбасу, селедку, бутылки с пивом...
— Что это? — спрашивает Владимир. — Опять карточное сражение?
В шутливом вопросе звучит самый настоящий испуг. Неужели опять зря пропадет вечер? Ни позаниматься, ни отдохнуть... Снова галдеж, кислый тяжелый запах пива и дешевого табака... И это на всю ночь! Раньше трех-четырех не разойдутся.
— Не волнуйся, скромник! Небольшая пулечка! Как и полагается под праздник! — слышит он в ответ.
Раздосадованный Владимир ложится на постель, пробует читать... Как хочется побыть одному, спокойно обдумать письмо Полозова, попытаться прийти к какому-то решению!.. Есть же счастливцы, у которых отдельная комната!
С шумом, смехом, песнями вваливаются гости. Владимир откладывает книгу, закрывает глаза. Пусть думают, что он уснул.
Его окликают. Один из гостей, «бессменный весельчак», пробует растолкать Обручева, но друзья вступаются.
— Не трогай его. Пусть спит!
— Да как он может спать в таком гаме? Притворяется, наверно, чтобы не играть.
— А зачем ему притворяться? Все и так знают, что его за карты не засадишь нипочем. В руки их не берет!
— Ну и глупо! Печальную старость себе готовит. Не думал, что он такой байбак!
— Хорош байбак! Мы его «бомбой» зовем за порывистость.
Лежа с закрытыми глазами, Владимир улыбается. «Бомба»! Выдумают же прозвище!
Он вспоминает, как весною, уезжая с товарищами на практику, замешкался на вокзале, покупая газеты.
— Где бомба? Бомба где? Бомбу не потеряли? — взволнованно спрашивали друг друга студенты.
Величавый жандарм сначала недоуменно прислушивался, потом незаметно мигнул кому-то, и, когда Обручев подошел к вагону, молодые люди были уже плотно окружены городовыми и дюжими носильщиками с медными бляхами на фартуках. Пришлось вступать в долгие объяснения с жандармским офицером. Хорошо, что успели до отхода поезда втолковать ему, в чем дело. Не задержал, только, снисходительно усмехнувшись, посоветовал таких прозвищ друг другу не давать. Всегда возможны ошибки...
Да, ошибки всегда возможны! Как бы и ему не наделать ошибок, не перемудрить, не испортить на первых же порах жизнь, от которой он ждет так много!..
Владимир уже не слышит шума и смеха товарищей. Густые русые брови хмурятся. Как же быть? Как ему быть?..
Приехал он в Петербург с мечтой о Горном институте. Подготовлен к экзаменам был солидно. Все лето после окончания реального училища пришлось отдать исступленной зубрежке. Занимался вместе с товарищем у него на даче под Вильно... В своей победе Владимир не сомневался.
Но хмурая петербургская осень, тяжелая болезнь отца, разговоры о том, что конкурс при поступлении в Горный очень труден, как-то пошатнули его уверенность. Не подготовить ли себе отступление на случай неудачи? И дядя Чернявский так думает...
Владимир подал свои бумаги в Технологический институт на химическое отделение. Стоит проверить, может ли он вообще сдать экзамены в высшее учебное заведение. А если в Горном институте его ждет провал, ну что же, он пока займется химией, а там видно будет.
Результат превзошел самые смелые предположения. В августе он выдержал на пятерки четыре вступительных экзамена в Технологический институт и, ободренный этим, в начале сентября отправился сдавать в Горный. Он не стал больше готовиться. Довольно! Будь что будет!
Из множества абитуриентов, желавших попасть в Горный институт, было принято всего сорок человек. И среди них — Владимир Обручев.
Как он был счастлив! Старейшее высшее техническое училище, основанное еще в 1773 году по почину горнопромышленников Урала! Все горные инженеры России, работающие на копях и рудниках, — питомцы этого института. Подобных ему в России больше нет!
Владимиру нравилось само здание института. Великолепный русский ампир с портиком и чудесной колоннадой, создание знаменитого зодчего Воронихина! А скульптуры у входа — «Похищение Прозерпины» и «Борьба Геркулеса с Антеем»! Проходя мимо них, студент Обручев всегда умерял привычную быстроту шага, любуясь античной чистотой линий, великолепной соразмерностью и выразительностью фигур.
А главная, тайная гордость была в том, что институт считался «крамольным». Это не какое-нибудь закосневшее верноподданническое учебное заведение! По мнению министерства внутренних дел, институт вольнодумный. К нему тщательно присматривается жандармский корпус. Поговаривают, что и сейчас в институте тайно работают революционные кружки.
Но в первые же дни занятий восторженность Владимира несколько утихла. В великолепном ампирном здании оказались крохотные аудитории, тесные и темноватые. Впритык друг к дружке стояли обыкновенные школьные парты, исписанные и изрезанные, бывшее имущество кадетского горного корпуса. И старые классные доски были такими же, как в Виленском реальном училище. А профессорам не приходилось торжественно подниматься на кафедру, они попросту усаживались за маленький столик, приставленный к одной из передних парт. В этой будничности обстановки было что-то принижающее институт. Так думалось Владимиру, хотя порою он жестоко разносил сам себя за недостойное ребячество.
А занятия, пожалуй, скучнее, чем в Виленском реальном. Разве можно сравнить скучное бормотание профессора математики Тиме или многословные, но сухие лекции физика Краевича с увлекательными беседами Полозова? Ботаника и зоология — интереснейшие предметы, а в институте их читают формально, уныло. Если не в лес и поле, то хоть в зверинец или зоологический музей сводили бы студентов! Бесконечный перечень семейств, родов, видов... Все это можно найти и в учебнике.
В конце концов Владимир почти перестал ходить на лекции. Геология — вот что нужно для будущего горного инженера! Но ее предстоит слушать только на четвертом курсе.
И вольнодумная репутация института, которая так радовала первокурсника Обручева, не проявлялась ни в чем особенном. Студенты, как вся учащаяся молодежь, всегда не прочь были пошуметь и поспорить, но никаких особо интересных сборищ не происходило, обсуждались все больше внутриинститутские дела. Зато помощник инспектора Цитович донимал беседами о высоких обязанностях гражданина великой Российской империи, о верноподданнических чувствах, о любви к престолу и отечеству. Выспренним речам этим студенчество внимало равнодушно. Ни раз навсегда заготовленный пафос Цитовича, ни фальшивая проникновенность его увещаний никого не трогали. Неизбежное зло! Приходится терпеть.
Постепенно накапливались раздражение и скука, и, наконец, студент третьего курса Обручев Владимир пришел к намерению оставить Горный институт.
Воздух в соседней комнате уже совсем сизый, словно там чадит костер. Ну и накурили! Дверь закрыть нельзя по той простой причине, что ее не существует. Дверной проём есть, а сама дверь не навешена. Хозяйка считает, что студентам хорошо и так.
Голоса картежников охрипли, теперь не слышно ни пенья, ни смеха, ни громких возгласов. Играют сосредоточенно. Значит, уже поздно... А сна, как говорится, ни в одном глазу.
Все ли он учел, все ли продумал? Нет, серость и скуку института он не преувеличивает нисколько. Но, может быть, Полозов прав, и он идет на большой риск, желая сменить обеспеченное положение горного инженера на полную превратностей судьбу литератора, человека, работа которого не оплачивается регулярно?.. Как это отразится на семье и как бы отнесся к его решению Афанасий Александрович?
До сих пор Владимир не задавал себе этого вопроса. А сейчас вдруг с предельной ясностью понял, что должен принять в расчет не только мнение матери и Марии Александровны, но и вероятное отношение к делу покойного отца.
Живо представилось ему такое русское широкоскулое лицо, добрый пристальный взгляд, аккуратно расчесанная на две стороны борода, крепкая, ладная фигура... Нет, отец с его обостренным чувством долга, умением побеждать в себе слабости не одобрил бы его.
Опять пришло горькое чувство утраты со всей своей беспощадностью, словно не прошло уже трех лет со дня смерти отца... Владимир не мог бы сказать, что часто думает о нем, вспоминает его отдельные слова и поступки. Но образ Афанасия Александровича остался в душе, словно отлитый из единой глыбы металла. Четкий образ простого, скромного и мужественного человека — его отца.
Да, это случилось почти три года назад... Оглушенный первыми столичными впечатлениями, озабоченный предстоящими экзаменами, Владимир не забывал в назначенные дни посещать военный госпиталь. Сидя у бедной больничной койки, он рассказывал отцу о своих надеждах и опасениях, об удаче в Технологическом, а потом и в Горном... Афанасий Александрович как будто все понимал, взгляд его выражал интерес, живое сочувствие, он кивал головой, хмурился, улыбался, но сказать членораздельное ничего не мог.
А когда в Горном уже начались занятия и Владимир первое время так усердно и обстоятельно записывал каждую лекцию, однажды, после трудного дня в институте, он пришел в госпиталь и ему сказали, что все кончено...
Он был подготовлен к печальному концу долгой неподвижностью отца, уклончивыми ответами врачей на свои нетерпеливые вопросы, тем, что упорно не приходило улучшение, даже ничтожное... Горестная весть придавила его, но не согнула. Самым трудным тогда казалось послать извещение матери.
Полина Карловна приехала в Петербург на похороны. Была, как всегда, спокойна и так величава в своей скорби, что чужие люди смотрели на нее с уважением и сочувствием. На похоронах Владимир видел дядю Владимира Александровича и Николая Николаевича Обручева, недавно назначенного начальником генерального штаба[1].
Перейдя на второй курс, Владимир не поехал на летнюю практику. Ему разрешили «по семейным обстоятельствам» отложить необходимые для второкурсника геодезические работы на следующий год. Он тогда перевез мать из Вильно в Ревель. Она хотела поселиться на родине, возле своей младшей сестры.
Огромна была жизненная сила этой женщины, но тогда и она казалась сломленной. Потери ее были велики. Она похоронила мужа и двоих детей. Коля, товарищ детских игр Владимира, и маленькая Наташа тоже ушли из жизни.
Старший брат Александр не пожелал ни учиться дальше, ни работать. Как старший в роде, он оказался наследником небольшого майората в Польше, пожалованного Николаем I одному из Обручевых. На скромные доходы с этого именьица Александр решил жить и не хотел ничего лучшего. Получилось так, что главным другом и советником матери стал Владимир.
Привезя ее в Ревель, он провел там остаток лета, помог ей устроиться, оборудовал всем необходимым незатейливое жилье. Девочек Анюту и Машу удалось устроить в Смольный институт в Петербурге, где сестра Николая Николаевича Обручева — Екатерина Николаевна была инспектрисой.
На следующий год летом Владимир отбывал геодезическую месячную практику под Ямбургом[2]. Закончив работу, усталый от путешествий по полям с тяжелым теодолитом на плече, он снова приехал к матери. Живя в Ревеле, много бродил по окрестностям. Там, в обрывах глинта — уступа, что тянется от реки Сяси до Эстонии, — ему удалось собрать неплохую коллекцию окаменелостей.
Это было мирное и плодотворное время. Он отдыхал от института, занимался тем, чем хотел. Ему так нравилось в Ревеле, что он ездил туда и зимою в каникулы. Зимние штормы на Балтике поразили его, и под впечатлением серых тяжелых волы и низко нависшего сурового неба он написал рассказ «Море шумит».
Матери и сыну было легко друг с другом. Они могли подолгу разговаривать, и Владимир никогда не скучал с Полиной Карловной. Но иногда целые вечера проходили в согласном и добром молчании. Он писал, она вязала или тоже потихоньку скрипела пером. Освободившись от трудных забот хозяйки в многолюдной семье, Полина Карловна стала писать небольшие рассказы и очерки по-немецки. Их охотно печатали в петербургской и ревельской немецких газетах.
Владимиру тогда казалось, что тишина этих вечеров; когда молчание прерывалось только редкими вопросами Полины Карловны — не хочет ли он чаю, или не стоит ли ему выйти на воздух перед сном, как бы продолжала и укрепляла работу матери над его сознанием. Эта незримая работа велась со дня его рождения и создала столь прочную связь между ними, что стоило ему войти в комнату, а матери взглянуть на него, как она уже понимала, в каком он настроении.
В Петербурге он такого понимания и интереса к своему внутреннему миру не встречал ни в ком, хотя почти все окружающие относились к нему хорошо: и товарищи и родственники. Но у всех было свое... А ему настойчиво хотелось прилепиться сердцем к существу, которое вошло бы в его жизнь. И одно время казалось, что он такое существо нашел.
Тоненькая девушка, небольшого роста... Живая, кокетливая. Его познакомил с ней приятель. Она была приветлива, смотрела в глаза ласково и задорно. Владимир посвящал ей стихи, и они ей нравились. Она смеялась его шуткам, с удовольствием с ним болтала. Казалось, что выделяет его среди прочих «поклонников». А их было много — офицеры, студенты и уже солидные люди — инженеры, юристы... Жила она весело, и у нее часто собирались гости.
Владимир бывал счастлив, когда среди общего веселья, музыки, танцев она подсаживалась к нему, спрашивала, что нового он написал, глядела внимательно и задорные глаза становились мягкими, мечтательными. Это уединение вдвоем в шумной компании потом долго вспоминалось, радовало, грело...
Но время шло, и ничто не менялось. Все та же милая кокетливость, шутливость, порой, участливый, минутный разговор. Не больше... И, наконец, он заметил, что она уединяется почти с каждым из гостей. Каждого слушает, чуть склонив голову, на каждого глядит задумчиво и нежно...
Он понял, что для нее он лишь один из многих. Пробовал серьезно объясниться, она отшучивалась, ускользала, уходила, как песок из пальцев.
После нескольких одиноких и мрачных прогулок, исколесив чуть ли не весь город, он решил больше не видеть ее, С замирающим сердцем ждал, что она встревожится, позовет, напишет.
Не дождался... По слухам, в доме по-прежнему были постоянные гости, веселье, танцы. Она по-прежнему кокетничала, кружила головы, но уже стал появляться рядом с ней какой-то «жених».
Владимиру нелегко далась эта победа над собой, но он гордился тем, что выдержал характер и не остался в свите кокетливой девушки. Никому из товарищей, хотя они и подшучивали сначала над его частыми отлучками, а потом над необычной мрачностью, он не открыл ее имени.
Теперь он уже может спокойно вспоминать эту невеселую историю своей первой любви.
В Петербурге жизнь вообще была насмешливая, неласковая...
Первое время, когда мать еще не получала пенсии, а у него не было ни стипендии, ни заработка, приходилось совсем туго. Вот тогда и выручала тетя Маша. Потом стали платить стипендию горного ведомства — двадцать пять рублей в месяц. Комната, стирка, нужные книги... На кормежку оставалось немного. Спасибо Чернявским — тетка Генриетта Карловна, старшая сестра матери, и ее муж радушно приглашали к себе, каждое воскресенье угощали обильным и вкусным обедом. Владимиру казалось, что он до вторника будет сыт, но уже на следующее утро мечтал о свежей булке и стакане кофе или крепкого чая. А это часто оказывалось недоступной роскошью.
Что, если всю жизнь так будет, если он никогда не сумеет по-настоящему помогать матери? Разве мало литераторов тянет полуголодное существование? Похвала Стасюлевича еще не решает дела. Не все, пожалуй, захотят печатать молодого, никому не известного автора... А если одна неудача за другой? Если нужно будет искать работу? А он недоучка, без диплома. Таких людей покойный отец всегда жалел.
Это чудесно, что Полозов обещает скоро приехать в столицу! Но, кажется, уговаривать Владимира не бросать институт ему уже не придется. Бывший ученик скажет учителю, что все его советы продумал и принял как программу жизни.
Пять часов! Товарищи с шумом встают из-за стола, прощаются. Кто-то догадался, наконец, открыть форточку.
Спать остается совсем немного. Завтра, нет, уже сегодня, он пойдет к Чернявским, оттуда к сестре Анюте в Смольный. Он не перестает радоваться, что удалось устроить девочек туда.
Анюта выйдет к нему из рядов подружек, смешная в своем длинном камлотовом платье... Будет делать книксены направо и налево. Косички у нее торчат в стороны, белые подвязные рукавчики все время сползают... Кто-нибудь из классных дам непременно сделает ей замечание, Анюта покраснеет густо, до слез. Первые минуты встречи он будет утешать и успокаивать сестру.
Кажется, можно наскрести немного денег, купить ей коробочку тянучек. Жалкий подарок! По соседству красавцы кавалергарды и томные правоведы будут шуршать шелковой бумагой, развертывая великолепные коробки с шоколадом от Крафта. А эти малявки девчонки станут смешливо коситься на его бедные тянучки.
Ну и к черту все это! Пусть косятся! Не в роскошных конфетах счастье. Надо эту мысль получше внушить Анюте.
Он встает и выходит к товарищам.
— Довольно колобродить! Дайте отдохнуть хоть часок!
— А ты разве не спал? Неужели притворялся? Вот хитрец!
— У него такой всклокоченный вид, словно он сам всю ночь играл и продулся в пух.
— Ну нет, по-моему, я за сегодняшнюю ночь кое-что выиграл, — говорит Обручев.
Меж ними все рождало споры
И к размышлению влекло.
Профессор Иван Васильевич Мушкетов, широко и сильно шагая, поднимался на холм. Студенты следовали за ним, растянувшись длинной цепочкой, лениво переговариваясь вполголоса. Всем было жарко.
— Подтянуться надо, братцы! — предложил кто- то. — Тащимся, как тяжелая артиллерия.
— Зато бомба, как и положено, артиллерию опередила.
Владимир Обручев действительно перегнал товарищей и профессора. Он стоял на вершине холма и, щурясь от солнца, всматривался в даль.
Внизу через крутые обрывы пролагала себе путь река. Отсюда сверху вода Волхова казалась темной, тяжелой.
Обручев, как и другие студенты, не совсем ясно понимал, зачем Иван Васильевич привел их сюда. На днях Мушкетов должен был приступить к занятиям по геологии с четвертым курсом. Это знали все. Но почему он решил начать свои лекции этой экскурсией? Ничего особенно интересного тут не видно. Холмистая равнина, крутые берега...
Впрочем, Владимир не слишком задумывался над целесообразностью экскурсии. Неожиданная прогулка за город вместо сиденья в душных аудиториях радовала его. И день выдался теплый, тихий. 'Нечасто здесь, под Питером, такие выпадают... Сколько покоя в небе темно-голубого осеннего колера! Вдали мирно желтеет жнивье. Порой далекие треугольники журавлей неспешно проплывают над землей, притихшей после шумного беспокойного лета, терпеливо ожидающей зимы, молчания, глубокого сна под чистой периной снегов.
Приехали накануне пароходом. По дороге Иван Васильевич рассказывал о геологическом строении берегов.
К вечеру прибыли в городок Гостинополь и заняли все номера небольшой гостиницы. Студентов было сорок человек.
— Ну и духота же! — крикнул кто-то. — Открывай окна, братцы!
— Смотрите! — предупредил Мушкетов. — Здесь комаров много, не дадут вам спать.
— Ничего, мы комаров не боимся!
Но спать действительно не пришлось. Комаров налетело множество, и всю ночь молодые люди воевали с ними.
На рассвете все вскочили, распорядились насчет самоваров, стали ждать профессора. Он не выходил.
— У него-то окно закрыто, спит себе сном праведника, не то что мы.
— И мы бы спали, если бы его послушались,
— Давайте шуметь, пусть проснется!
Заговорили громко, кто-то затянул песню. Но
Иван Васильевич не торопился, видно, привык в путешествиях спать при любом шуме.
Когда он поднялся, было уже совсем светло. Бодрый, отдохнувший Мушкетов с улыбкой оглядел бледные лица студентов.
— Ну, так как же вы поладили с комарами? По-прежнему их не боитесь?
Дружеские шутки Мушкетова никого не обидели.
Когда после чая двинулись по правому берегу Волхова, Мушкетов удивил студентов. Он шел спокойно, размеренно, нигде не присаживался, не пил воды. А молодые его слушатели быстро устали, некоторые натерли ноги, все. страдали от жары и беспрестанно пили речную воду.
Владимир сперва не обратил внимания на эту разницу в поведении, но потом над ней призадумался. Какие же они неженки! Конечно, в путешествии надо держаться так же стойко, как Иван Васильевич.
— Прошу всех сюда, поближе ко мне, — говорит профессор.
Владимир с неохотой отрывается от мирного пейзажа.
Иван Васильевич, сняв шляпу, вытирает лоб, разглаживает густую бороду... Что-то он им расскажет? В институте его любят. Мушкетов много путешествовал, был чиновником особых поручений по горной части в Туркестане. Говорят, что он первый начал серьезные геологические исследования Средней Азии. Он известен и за границей своими работами в Тянь-Шане. Им изучены стык Алайского и Ферганского хребтов, Туранская низменность... Он пересек пустыню Кызылкум и поднялся на Зеравшанский ледник, который всегда считался непроходимым. Известный путешественник, талантливый исследователь, по мнению старшекурсников — блестящий преподаватель... Но они ведь только еще приступают к изучению геологии... Какому ученому, знатоку своего предмета, интересно заниматься популяризацией? Конечно, сейчас Иван Васильевич будет стараться говорить понятно, а слушателям, чувствующим эти старания, будет почему-то неловко.
Но Мушкетов заговорил очень просто и, казалось, был сам глубоко заинтересован в том, что говорит. Заинтересованность была такой очевидной, что студенты с невольным удивлением переглянулись и были мгновенно покорены. Никто уже не смотрел в заманчивые осенние дали, никто не переговаривался с товарищами, все не отрывали глаз от спокойного лица профессора, ловя каждое слово.
— Геология, — говорил Иван Васильевич, — наука историческая. Это история Земли, ее коры. Цель геологии — познать строение нашей планеты и историю ее изменений в разные эпохи существования. Землю изучают и астрономы, они определяют ее положение относительно других планет. Физики исследуют свойства Земли как физического тела. Но задача геологии иная. Эта наука занята выяснением вещественного состава земной коры. Она изучает формы и условия существования живых организмов в минувшие эпохи.
В том объеме, в каком мы знаем ее теперь, геология существует сравнительно недавно. Как самостоятельная дисциплина, она определилась гораздо позднее, чем родственная ей наука минералогия, изучающая минералы — продукты химических реакций Земли — и зародившаяся в глубокой древности.
Мушкетов рассказывал о гениальном живописце и ученом шестнадцатого века Леонардо да Винчи. Это он и врач Фракасторо впервые обратили внимание на камушки разнообразной формы, встречающиеся в пластах Земли. Художник и медик внимательно эти камушки исследовали и определили их как «игру природы».
Однако прошло больше двухсот лет, пока ученые поняли, что такие «камушки» не что иное, как остатки когда-то живших существ. Эти существа были погребены в земных пластах в разное время, а вовсе не погибли из-за грандиозной катастрофы — единого всемирного потопа, — как думали в средние века, когда люди судили о прошлом по религиозным сказаниям. Если и встречались единичные здравые суждения, основанные на верных наблюдениях природы, то они разбивались реакционными и религиозными доктринами и не имели успеха. И все-таки развитие геологических идей хоть и медленно, но шло вперед.
Основателем научной геологии был живший в восемнадцатом веке профессор Фрейбергской горной академии Вернер[3]. Он первый отделил геологию от минералогии и указал на ее важное практическое значение в рудничном деле. Конечно, его научные взгляды были очень ограниченны и односторонни, ведь Вернер производил наблюдения только на своей родине — Саксонии.
Гораздо больший вклад в науку внесли ученики Вернера. Александр фон Гумбольдт много путешествовал, побывал в Южной Америке, в России. Леопольд фон Бух ездил на Канарские острова.
Эти ученые выявили новые различные виды горных пород, их изменения, или, как говорят геологи, метаморфизм[4], под влиянием различных физических процессов, а также изучали вулканические явления как свойства глубинных частей Земли.
Постепенно геологии стали придавать такое большое значение, что в Англии, где сильно развилась промышленность и возникла большая потребность в рудах, было основано специальное геологическое общество; Уильям Смит сделал замечательные геологические наблюдения.
Геология — одна из наук, построенных на обобщениях конкретных наблюдений в природе. Это впервые обосновал Чарльз Лайелль, выпустив в 1833 году свои «Основные начала геологии». Он доказал, что в теперешней деятельности природы можно найти объяснение минувшим явлениям, что познать их можно «без насилия, без вымыслов, без гипотез, без чудес».
Чарльз Дарвин в своем учении о происхождении и развитии видов подтвердил идеи Лайелля. Он считал совершенно правильным мнение о постепенности развития органического и неорганического миров. Вера в катастрофы и внезапное зарождение живых существ по велению неведомого творца вселенной была сильно подорвана.
— Для того чтобы понять прошедшее, надо изучать настоящее, идти от известного к неизвестному, говорил Мушкетов. — Мы хотим определить условия образования вулканических пород в древние эпохи, значит нужно изучать характер современных вулканических извержений. Чтобы выяснить распространение древних ледников, мы должны исследовать современные ледники. Этому учил Лайелль. Он вооружил геологию специальным методом исследования, названным онтологическим[5].
В наше время геология получила такое широкое практическое применение, что во многих странах организовали специальные геологические учреждений не только для научных целей, но и для удовлетворения потребностей разных отраслей промышленности. Вы знаете, что у нас в России Геологический комитет основан при Горном департаменте в 1882 году.
Иван Васильевич объяснил студентам, на что они должны обращать внимание и как вести наблюдения в природе.
— Это прежде всего — горные породы, те минеральные массы, которые в основном составляют земную кору и доступны нашему непосредственному наблюдению лишь в своей небольшой части. Горные породы иногда состоят из одного минерального вида, как, например, мрамор — агрегат известкового шпата. Такие породы мы называем простыми. А если они сформированы несколькими минералами, их именуют сложными. Таков гранит — он состоит из кварца, полевого шпата и слюды.
И простые и сложные горные породы бывают вулканическими, или изверженными, и осадочными. Вулканические произошли из расплавленных масс, поднявшихся из недр под влиянием внутреннего тепла Земли. Те вулканические породы, которые не достигают земной поверхности и медленно застывают на глубине под сильным давлением, называют интрузивными. У них равномерное зернисто-кристаллическое сложение. Они образуют подземные тела — массивы, штоки, лакколиты — и выступают на поверхности после размыва и разрушения их кровли. Противоположны им другие вулканические породы — эффузивные. Они изливаются на поверхность и затвердевают при атмосферном давлении или под водой.
Изверженные породы массивны, в них нет слоистости. В них не встретишь окаменелостей. Они сопровождаются туфами — рыхлыми продуктами извержения. Вы не устали, господа?
— Нет, нет!
— Что вы, Иван Васильевич!
— Продолжайте! Просим!
«Ведь совсем недавно они умирали от жары и усталости, куда все это делось? — думал Владимир. — А Иван Васильевич усмехается, точно он заранее знал, какое действие произведет его рассказ».
Обручев слушал историю происхождения осадочных пород. Они существенно отличаются от изверженных, так как образовались на дне океанов и морей или на поверхности Земли под действием ветра, воды, ледников. Они залегают в виде пластов или слоев, образуют мощные свиты, покрывают большие площади. Именно в осадочных породах находятся остатки животных и растений — окаменелости. И это позволяет установить относительную геохронологию[6], выяснить геологическую историю Земли.
— Существует промежуточный тип между вулканическими и осадочными породами. Образовавшиеся на глубине и постепенно изменившиеся под влиянием нагревания и давления изверженные и осадочные породы называются метаморфическими.
Профессор продолжает:
— И в древних и в современных отложениях слои первоначально были расположены одинаково — горизонтально. Значит, лежащий выше пласт отложился позже — он новее, моложе нижнего. Если горизонтальное положение слоев нарушено, то это влияние землетрясений — тектонических движений или иных процессов, происшедших внутри земного шара.
Окаменелые остатки растительных и животных организмов попали в тот или иной слой в то время, когда он формировался. Благодаря этому по древности организмов можно судить и о древности слоев.
Изучение окаменелостей показало, что организмы развивались постепенно, от самых низших к высшим, кончая человеком. Чем древнее слои, тем их окаменелости меньше похожи на организмы, живущие ныне, и тем больше в них остатков вымерших видов. Только в новых отложениях встречаются формы, близкие к современным.
На всей Земле слои одинаковой древности содержат сходные окаменелости и обнаруживают одну и ту же последовательность в смене фауны и флоры, погребенных в слоях. Все формы окаменелостей — виды, роды и семейства — существовали в определенные сроки. Они развивались, хирели, вымирал и и больше никогда не возобновлялись.
Изменения организмов протекали так, что геологическое время можно разделить на периоды. В каждом периоде одни типы организмов появлялись, другие развивались и преобладали, а третьи, те, что главенствовали прежде, вымирали. Каждому периоду геологического времени соответствует определенная группа слоев.
Таким образом, при изучении геологической истории геологу приходится иметь дело с двумя рядами определений: временным, или геохронологическим, и вещественным, или стратиграфическим. Стратиграфические подразделения — система, отдел, ярус; геохронологические — период, эпоха, век.
С течением времени происходило полное замещение прежних форм организмов новыми, это дает возможность объединить геологические системы в три большие группы, хронологически называемые эрами. Самая древняя из них — палеозойская — состоит из старейших систем: кембрийской, силурийской, девонской, каменноугольной и пермской. Средняя эра — мезозойская — объединяет триасовую, юрскую и меловую системы. В третью, новую, или кайнозойскую, эру входят третичная и четвертичная системы. В слоях четвертичной системы впервые встречаются остатки высшего творения природы — человека.
Кроме этих трех групп, мы знаем и еще более древнюю — архейскую[7]. В ней не встречается никаких органических остатков. Во время формирования архейских толщ существовали, правда, простейшие организмы, но при изменении архейских пород они исчезли.
— В общем получается, что выяснение геологической истории Земли не так уж трудно, — шепнул кто-то из студентов товарищу. Мушкетов услышал это замечание.
— Нет, это неверно. Руководящие признаки существуют. Но геологу нелегко их распознать. Вымершие организмы жили в очень разнообразных условиях. На них влияли климат и почва, континентальная и водная среда. Да и нет на Земле такого места, где бы находились полностью все системы в последовательном порядке. Всегда это лишь обрывки систем, перемежающиеся с другими. На юге России, например, третичные и меловые породы лежат прямо на архейских и силурийских, под Москвой меловые и юрские — на каменноугольных.
Индивидуальные свойства организмов, разная скорость их изменения в разных условиях среды принуждают исследователя дробить геологические ярусы на многие частые и местные свиты пород с особыми названиями. Эго создает недоразумения, а иногда даже не позволяет выяснить геологические особенности минувших эпох хотя бы в главном — распределении суши и воды с их растительностью, животным миром и климатом в разное геологическое время.
В истории человечества письменные документы играют громадную роль. Так же велико значение окаменелостей в геологической истории. Архейскую эру нужно считать доисторической, а все другие, соответственно истории человечества, должны представлять собой древнюю, среднюю и новую историю Земли...
А теперь я предлагаю пройти, сколько успеем по берегу. Здесь можно увидеть напластования осадочных пород.
«Это и есть счастье! — думал Обручев. — Собрать вокруг себя людей разных, несомкнутых, думающих каждый о своем и создать из них нечто единое, воодушевить, заставить догадываться, предполагать, доискиваться. Заставить их измениться внутренне и внешне. Ведь у них даже лица стали другими».
Владимир нагнулся и поднял камушек. На ровной серой поверхности гальки отчетливо выделялся какой-то темный рисунок. Окаменелость!
— Иван Васильевич, посмотрите, что я нашел.
— Позвольте-ка... Ну что ж, очевидно, отпечаток одного из сегментов трилобита. Так назывались вымершие членистоногие, жившие в морях. Мягкое тело трилобита было покрыто хитиновым панцирем. Этот твердый покров состоял из трех частей и был разделен поперечными бороздами на отдельные сегменты. Трилобиты были развиты в кембрии и силуре. А здесь, по Волхову и Ладоге, распространены силурийские породы.
Владимир так обрадовался находке, как будто отыскал драгоценность.
Обедали в селе Дубовики, а вечером пришли в Старую Ладогу. Студенты были довольны, как никогда, хотя устали все смертельно. А Иван Васильевич, так же как утром, шагал спокойно и размеренно, выглядел бодро и подсмеивался над непривычными к ходьбе молодыми людьми. Он отвечал на бесконечные вопросы и рассказывал о прошлом Земли так, словно сам жил в этом прошлом и теперь обстоятельно вспоминал давнее время.
Поздно вечером на небольшом пароходе возвращались домой и, сидя на палубе, слушали рассказы Мушкетова о путешествиях по Туркестану.
В жизни Владимира Обручева эта экскурсия стала поворотным пунктом и навсегда запечатлелась в его памяти. Словно кто-то внятно шепнул ему: «Вот оно, твое дело, держись его».
Обручев подробно записывал лекции Мушкетова, заботливо их обрабатывал. Он даже предложил профессору издать их литографическим способом, ведь печатные пособия по геологии очень устарели и многое из того, о чем читал Мушкетов, в учебниках не найдешь.
Профессор поблагодарил и отказался. Он сам собирается издать свой курс лекций и уже работает над этой книгой. Но рачительность студента Обручева отметил и стал уделять ему много внимания.
— Вы как будто серьезно заинтересовались геологией, — сказал он как-то Владимиру. — Я мог бы познакомить вас с кое-какой научной литературой. Но, к сожалению, наиболее интересные книги написаны по-немецки.
— Я свободно владею немецким.
— Ах вот как! — Мушкетов не скрыл своего удовольствия. — Это очень важно для будущего геолога, В таком случае читайте.
И Обручев читал. Книга немецкого ученого Рихтгофена, где подробно описывалась природа Центральной Азии, так заинтересовала его, что он долго не возвращал ее Мушкетову, а когда, наконец, принес, сказал:
— Вот чем я хотел бы заниматься в будущем — исследовать Центральную Азию. Как это увлекательно!.. Решить, например, вопрос, прав ли Рихтгофен... Он говорит, что азиатский лёсс — это пыль, принесенная ветрами. Но из этой пыли сложены очень высокие обрывы на Хуанхэ. Заманчиво было бы проверить.
— Хм... Ну что же, будущее покажет, — доброжелательно промолвил Мушкетов.
У Владимира появился живой интерес к занятиям, и все в институте стало казаться ему иным. На лекции он ходил теперь без скуки, а некоторые курсы, как, например, петрография у профессора Карпинского или палеонтология у Лагузена, ему очень нравились.
Начав под влиянием Полозова читать философскую и экономическую литературу, Владимир и в этой области нашел для себя много интересного. Он вел список прочитанных книг и порою с удовольствием его пересматривал. В списке стояли сочинения Маркса, Лассаля, Бланки... По-новому, не так, как несколько лет назад, читал он Чернышевского, Писарева, Шелгунова. Нашлись и товарищи-книголюбы, с увлечением читавшие о положении рабочего класса в России, о крестьянском труде, об экономике страны.
Обручев стал постоянным участником студенческих собраний и кружков. Сегодня там спорили о женском вопросе, завтра — о русской печати. Порою звучали песни, услышав которые полиция немедленно пригласила бы исполнителей в некий «дом, своим известный праведным судом», как сказано у Алексея Толстого. Иногда в кружок попадали и нелегальные издания из секретного фонда студенческой библиотеки, тоже нелегальной, хранящейся на дому у нескольких студентов.
Словом, если прежде Владимир часто томился и скучал, то теперь он забыл о скуке, наоборот, ему стало не хватать времени.
Его самого удивляла происшедшая с ним перемена. Товарищам, да и самому себе, он казался более устойчивым, спокойным, выдержанным, чем другие. Он не был подвержен мгновенным отливам и приливам чувств, капризам настроений, неопределенным мечтам. По логике жизненных событий, по воспитанию он должен был твердо знать, чего хочет, и прямо, никуда не сворачивая, идти к своей цели. А оказывается, и он подвержен колебаниям, непонятной тоске и неудовлетворенности... По счастью, тяжелый период, кажется, прошел. А может быть, это неизбежная пора в юности каждого и проходит она, когда и юность уже на отлете?
Впереди был пятый, последний курс. На студенческих сборищах все чаще заходил разговор о будущей работе, о деятельности, полезной для России. На пятом курсе студентов ждало распределение по специальностям. Одни должны были выйти из института «горняками», то есть работать на рудниках и копях, другие — «заводчиками», заводскими инженерами. Геологов институт не выпускал, а Обручев хотел стать именно геологом. Он и его товарищ Богданович решили, что будут специализироваться по горному делу, но впоследствии станут заниматься геологическими исследованиями.
Это решение вызвало немало шума в студенческой среде.
— Помилуйте, — говорили им, — горный или заводской инженер — это всегда приличное жалованье, хорошая квартира, часто даже казенный выезд. Во всяком случае, обеспеченность, постоянное место работы. А что такое геолог? Это и специальность-то редкая. Да будет вам известно, господа идеалисты, что у нас в России всего семь штатных геологов. Это весь русский Геологический комитет. Вы разве не знаете, что в Московском университете геологию читает один приват-доцент Павлов? А когда тому же Павлову нужно было защищать магистерскую диссертацию, никто в Москве не мог ни оценить эту работу, ни выступить оппонентом на защите. Пришлось Павлову ехать защищать в Казань, там нашелся специалист-геолог Кротов.
— К сожалению, это действительно так, — соглашался Обручев. — А между тем еще Ломоносов в свое время говорил и писал о том, как нужна России геология.
— Да оставь ты Ломоносова! Это когда было!
— Полтораста лет назад. Но если полтораста лет ничего не делалось, значит и сейчас ничего делать не нужно? Страна огромная, строение ее очень разнообразное. Как узнать, какими богатствами мы владеем? Без геологии этого не обнаружишь.
— А строить новые города, заводы можно без геологов? — поддерживал приятеля Богданович. — Начни-ка любую постройку без учета геологических данных!
— В случае войны, — продолжал Обручев, — геолог помогает строить укрепления, рыть окопы, подводить и отводить воду...
— Это все понятно. Все это теория, хотя и верная. Но о себе-то вы думаете? Или только о полезных ископаемых и обороне?
— Ах, о себе? — Обручев вдруг вспылил. — Если хотите знать, я о себе тоже думаю. Но поймите, для меня думать о себе — это прежде всего против совести не идти. А моя совесть не позволяет мне обслуживать фабриканта, заводчика, умножать его прибыли. Геолог работает не на такого хозяина. Он на государственной службе, для страны трудится...
Возразить было нечего. Последовательность и прямота Обручева брали верх. Многие призадумывались. В самом деле, в своих кружках они читают нелегальные книги, мечтают о революции в России, а в практической жизни будут стремиться получить выгодное место у крупного заводчика или владельца рудника?.. Место с теплой квартирой и собственным выездом?
Один студент из тех, кого называют «горячими головами», возразил однажды Владимиру, что если придерживаться таких воззрений, то следует вообще заниматься не горным делом, не геологией, а идти в революцию, отдавать все силы подрывной работе. Тот же Иван Васильевич Мушкетов с его энергией, организаторскими способностями мог бы принести огромную пользу общему делу.
— Я в победу революции верю, — спокойно ответил Владимир, — хоть мы сейчас живем во время злейшей реакции. Но не всегда будет так. Придет время, Россия станет свободной, и ей потребуются разные специалисты. Не все могут быть профессиональными революционерами. А Ивана Васильевича не тронь! Он большое и благородное дело делает. Из мальчишек создает работников для будущей России.
Заниматься Обручеву приходилось много. К тому же Мушкетов, памятуя, что способный студент хорошо знает немецкий язык, стал иногда давать ему статьи для перевода на русский. Хоть заработок этот был невелик и нерегулярен, Владимир все же решился исполнить давнюю мечту — снять отдельную комнату. В шумной студенческой компании, на квартире, где постоянно устраивались то карточные партии, то вечеринки с выпивками, работать было трудно.
Несколько дней подряд он блуждал по петербургским улицам, посматривая на окна, не белеет ли на стекле бумажный квадратик — знак, что сдается комната.
Как-то под вечер, решив уже закончить поиски, Владимир попал на Никольскую площадь, что отделяет Большую Садовую от Театральной улицы. Остановившись возле церкви Николы Морского, он огляделся. Кажется, в доме напротив в одном из окон нижнею этажа что-то белеет...
Обручев перешел площадь. Так и есть — билетик. Ну, была не была! Вдруг повезет!
На звонок дверь открыла стройная девушка.
— Простите, это здесь...
— Вы насчет комнаты? Да, да. Входите, пожалуйста.
В передней было темновато, и лица девушки Обручев не рассмотрел. Но как-то сразу внутренне подобрался, точно приготовился к еще неизвестному, но очень серьезному событию.
Комната ему не понравилась. Низкая, рядом с кухней, окно выходит на грязный двор. Но к девушке здесь, на свету, он пригляделся. Яркие серые глаза в пушистых ресницах, широко открытые, радостные...
— У вас большая семья? — спросил Обручев.
— О нет, здесь живем только мы с сестрой.
— А позвольте спросить, какая цена.
— Мы думали... Если вам нетрудно — пятнадцать рублей.
«Конечно, будет очень трудно, — подумал Владимир, — стипендия двадцать пять...»
Но, взглянув еще раз на девушку, он решительно сказал:
— Я согласен. Если позволите — завтра перееду.
Пришла и вторая сестра. Эта была несколько старше и гораздо красивее. Пожалуй, можно было назвать ее настоящей красавицей: бледное матовое лицо, копна пышных темных волос, великолепные приветливые и слегка грустные глаза. Но Владимир смотрел не на красавицу Иду — взгляд его не отрывался от младшей — Лизы.
На другой день он перебрался на новую квартиру. Здесь было спокойно. Он хорошо работал на новом месте.
От хозяек своих, собственно от старшей, Иды, он скоро узнал несложное прошлое сестер.
Ида и Елизавета Лурье происходили из небогатой еврейской семьи. Жили в Могилеве на Днепре. У отца было десять детей. Он держал в Могилеве столовую. Переехав в Петербург, тоже открыл небольшую кухмистерскую. Еврей, поселявшийся в столице, обязан был иметь какое-нибудь, хоть самое захудалое, предприятие или ремесло, иначе он не получал права жительства. Ида кончила курсы и работала акушеркой в частной лечебнице доктора Штольца. Лиза после окончания могилевской гимназии мечтала стать врачом. Но именно этим летом прием на Высшие женские медицинские курсы при Медико-хирургической академии был прекращен по приказу министра.
Чтобы не сидеть без работы, Лиза взялась помогать отцу в его кухмистерской. Дела там шли не бог весть как хорошо, но на прокормление семьи кое-как хватало. Хватало и работы Елизавете.
Родители девушек с остальным потомством жили отдельно. Почти все дети учились. А брат Абрам был коммивояжером, ездил из города в город с образчиками парфюмерных товаров.
Спокойная, рассудительная, приветливая Ида быстро перешла с Владимиром на дружеский тон.
Не то было с Лизой. Она его долго дичилась...
Владимира она первое время как-то удивляла. Этакая неистребимая сила жизни! Вскочит рано и уже с утра поет. Целый день на ногах в шумной кухмистерской. К вечеру вернется усталая, побледневшая. Не прошло и получаса, она умылась, переоделась и опять готова бежать куда угодно. О театре нечего и говорить. Театром она увлечена так, что может ночь напролет простоять у кассы за билетом на спектакль, где играет любимая актриса. Но и просто погулять с подругой не откажется. А не то к отцу убежит, там дело всегда найдется. А какой смех у нее! Ребячий, звонкий, доверчивый, словно она убеждена, что весь мир готов разделить ее веселье. Владимир часто переставал работать и подолгу сидел в задумчивости, желая одного, чтобы не смолкал этот доверчивый смех.
Но понемногу она переставала быть чужой. Притихнув, слушала его разговоры с Идой. Иногда брала у него книги. Несколько раз они втроем были в театре.
Однажды она призналась, что на нее большое впечатление произвел роман Чернышевского «Что делать?», и спросила, подняв на него ясные серые глаза, нравится ли ему эта книга.
Владимир ответил, что роман Чернышевского, конечно же, нравится ему и сам по себе, а особенно дорог тем, что в лице Веры Павловны автор вывел близкого ему человека — тетю Машу — Марию Александровну Сеченову.
— Как? — изумилась девушка. — Это правда? И она похожа на Веру Павловну, ваша тетя?
Обручев сказал, что многие находят в Вере Павловне сходство с женой Чернышевского Ольгой Сократовной, но в обстоятельствах жизни героини, в ее взглядах много общего с тетей Машей. Во всяком случае, в их семье думают, что Верочка списана с нее.
Это обстоятельство необыкновенно поразило Лизу. Она и без того робела перед Обручевым, он казался ей слишком ученым. А теперь стала смотреть на жильца с некоторым трепетным уважением, будто сам он был причастен к сложному миру героев Чернышевского. Ведь эта книга так любима молодежью, так нужна людям! И вдруг оказывается, что героиня — удивительная, необыкновенная Вера Павловна — портрет женщины, близкой их жильцу, студенту Обручеву, и он называет ее попросту: тетя Маша.
Но уважение уважением, а подшутить над ним втихомолку, высмеять его методичность, аккуратность, собранность — качества, столь тщательно привитые ему Полиной Карловной, качества, которыми сам он слегка гордился, — эта девушка умела. Скажет что-нибудь колкое так невинно и скромно, что не сразу и поймешь, как она тебя поддела.
«Она умна, — думал Владимир. — Умна, остроумна и при всей своей живости серьезно относится к жизни. К людям и к себе самой предъявляет большие требования».
Есть время для любви, Для мудрости — другое«
— Нет, я правильно сделал, что решил ехать на Урал. Подумай, выбрать специальностью геологию и никогда в жизни не видеть гор!
— Так уж и никогда в жизни? — флегматично спросил Богданович.
— Да нет же! Детство я провел в разных местах Польши, долго жил в Вильно... Места, как известно, ровные.
— Наверно, ведь ездил куда-нибудь?
— Ездил два раза на Волгу в бабушкино имение под Ржевом. Последние годы гостил у матери в Ревеле... Кроме Виленского холма с остатками башни Гедимина, гор так и не видал.
Разговор с Богдановичем происходил на пароходной палубе. Студенты отправлялись на Урал отбывать практику. Оба они перешли на пятый курс благополучно, если не считать предстоящей Владимиру осенней переэкзаменовки по общей металлургии, курсу, который он в году не слушал. Оба желали стать геологами — двое из сорока однокурсников. Оба были преданными учениками Мушкетова. Направлялись они в уральскую глушь, на металлургический Симский завод видного предпринимателя Балашова. Отбыв там заводскую практику, Богданович должен был отправиться на геологическую съемку с геологом Чернышевым, а Обручеву предстояло встретиться с горным инженером Ругевичем и с ним работать на разведке угля. Разведка производилась для того же заводчика Балашова. Он предполагал поставить новый завод близ угольного месторождения, если таковое обнаружится.
Пароход шел от Нижнего по Волге, Каме и Белой до Уфы. Другого пути на Урал не было. Железная дорога из Самары в Уфу и дальше через Урал была только запроектирована, и на изыскания для постройки этой дороги на пароходе ехало несколько студентов-путейцев. Они держались обособленно и, расположившись на палубе под полосатым тентом, бесконечно играли в карты. Пытались пригласить Обручева и Богдановича, но, получив отказ, махнули на них рукой.
— Одержимые какие-то! Чуть завидят на берегу скалёнку, с парохода начинают определять, какие там горные породы и как залегают!
Владимир с товарищем в самом деле не отходили от борта. С первой минуты путешествия Обручев был захвачен новыми местами, постоянной сменой пейзажей. Детские мечты о странствиях впервые сбывались. Его радовало спокойное величие Волги, явственная разность цвета воды в том месте, где Белая — «Ак-Идель», — как зовут ее башкиры, вливает свои светлые струи в желтоватую Каму.
Уфа встретила домишками, лепящимися по холмам, показалась живописной и грязной. Но вид сверху из города на противоположный берег Белой был очень хорош. Там расстилались великолепные поемные луга и, вся заросшая ольшаником, змеилась река Дёма.
— Аксаковские места! — вспомнил Обручев.
Из Уфы по тракту отправились на почтовых в Златоуст. На станциях менялись ямщики, лошади и даже прутяные плетенки, в которых ехали пассажиры. Экипажи эти были так узки, что молодые люди, хоть и не обремененные излишним багажом, с трудом в них втискивались.
Состояние дорог было ужасно. Колеса с трудом вращались в густой грязи. Земля еще не просохла после весенней распутицы. Трясло немилосердно. Ямщики башкиры плохо понимали по-русски, были одеты в отрепья и казались сонными. Один из них все же объяснил молодым людям, что лошади так тощи потому, что еще не отъелись, наголодавшись за зиму.
— Так... — сказал Богданович, выслушав рассказ. — Бедна здесь жизнь. Ну что видел на своем веку этот наш возница?
Но, несмотря на все неудобства пути, молодые люди наслаждались поездкой. Особенно восхитили их горы. Сначала это были одинокие громады, почти сплошь заросшие липовым лесом. Постепенно они смыкались и ближе к заводу превратились в сплошные гряды.
Завод стоял на берегу извилистого быстрого Сима. Большое колесо гнало воду, дающую движение станкам и воздуходувке.
Друзья остановились в «посетительской». Здесь так называлось подобие гостиницы.
Нужно было подробно ознакомиться с работой завода, записать процесс плавки чугуна и превращения его в железо, а также изготовить чертежи всевозможных станков и печей. Посмотреть завод было интересно, а чертежи приводили студентов в уныние. Они ведь не собирались делаться «заводчиками», зачем же тратить время на изображение общих планов, разрезов и отдельных узлов заводского оборудования?
Выручил управляющий заводом. Он разрешил практикантам свободно ходить по цехам и даже снабдил их готовыми чертежами. Молодые люди повеселели.
Обручев первый раз в жизни видел домну, правда здесь она была небольшая, и наблюдал за доменным процессом. Он отшатнулся, когда расплавленная струя чугуна, слепя глаза и обжигая лицо нестерпимым сухим жаром, потекла в песочные формы. Он почувствовал красоту и некую торжественность этой минуты и понял, как тяжел труд доменщиков. Заинтересовал его и прокатный стан. После нагрева чугунных болванок в горне и ручной обработки их молотами раскаленные крицы, уже не чугунные, а железные, проходили между вальцами стана, делались все тоньше, расплющивались и превращались в листовое железо.
Эта встреча с заводским трудом, темные фигуры рабочих, лязг, грохот, разлетающиеся огненные брызги производили внушительное, но не радостное впечатление, и Владимир был доволен, когда заводская практика кончилась. Богданович, встретившись со своим начальником, уехал на съемку, а Обручев вместе с инженером Ругевичем отправился на Миньярский завод Балашова.
Они ехали по берегам Сима, вдоль заросших лесом гор. Владимира привел в восторг большой розовый утес — «Красный камень», как его называли местные жители. Цвет камня, интенсивно розовый, великолепно оттенялся темной зеленью лесов, и крутизна его как бы разрывала мягкую покатость склонов.
После заводского скрежета и горячей духоты цехов было особенно отрадно дышать влажным теплом леса, чуть уловимой свежей горечью уже начавших созревать трав.
Остановились в лесу, в избушке пчеловода. Немолчное жужжание пчел дрожало в воздухе, амбарчик для ульев, где им устроили жилье, пропах воском и медом, в нем было чисто и прохладно. По вечерам на деревянном столике под липой шумел самовар, в глиняной миске плавали в янтарном меду соты.
Вставали рано, чуть всходило солнце, и после чая шли к месту разведки. Дорога пролегала через лес, и этот утренний путь по еще не обсохшим после ночной росы зарослям освежал и бодрил.
На обрывистом косогоре, у излучины реки Сима, стоял балаган, где жили рабочие. На противоположном берегу реки выступали угленосные пласты. Надо было выяснить условия их залегания.
Рабочие делали разрезы по косогору и «били шурфы». Дело шло не быстро, так как народу было всего двадцать человек. Кроме присмотра за работами, Владимир должен, был искать выходы угленосных пород. Почти ежедневно он отправлялся в дальние походы по лесам, внимательно осматривая почву. Пытался собирать окаменелости, но почти не находил их и часами безрезультатно дробил обломки известняка.
Для Ругевича и Обручева был поставлен второй небольшой балаганчик. Здесь они прятались от дождя и обедали. Обед обычно готовил на костре Обручев. Так как, кроме яиц, хлеба и чая, почти никаких продуктов у него не было, то он фантазировал вовсю, подавая к столу каждый день иную яичницу.
— Прямо как в поваренных книгах пишут: «Яичница другим манером», — шутил Ругевич.
Возвращались в избушку пасечника к закату. После ужина нужно было обработать сделанные днем записи, зарисовать разрезы. Но эту работу вел главным образом Ругевич, а Владимир, набегавшись за день в поисках угольных пластов, быстро засыпал. Усталость сваливала его так быстро, что он едва успевал, засыпая, на мгновенье вызвать в памяти лицо Лизы Лурье.
Ругевич показал себя человеком дельным, но властным и упрямым. С рабочими он был беспощаден, постоянно проверял шурфы и разрезы, крепко пробирал тех, у кого дело не спорилось.
Работали с шести утра до восьми вечера. На обеденный перерыв полагалось два часа. В воскресенье трудились, как обычно. Никаких свободных дней инженер не признавал. Люди с начальником считались, но относились к нему недоверчиво и недоброжелательно. Впрочем, его это не трогало.
Зато молодость Обручева и его простое обращение явно располагали к нему рабочих. Когда Ругевичу случалось уезжать по делам в Миньяр, вокруг Обручева начинали похаживать, заглядывать ему в глаза, и, наконец, кто-нибудь спрашивал:
— Сегодня не пошабашим раньше, Владимир Афанасьевич? Начальства-то нет...
И Владимир не мог отказать. Он знал, как устают люди, и хоть сам не сидел без дела, всегда чувствовал какую-то неловкость перед ними. Отводя глаза в сторону, он обычно отвечал:
— Отдыхайте, ребята.
Ругевич, вернувшись, проверял сделанное без него, всякий раз оставался недоволен и пробирал Обручева за поблажки рабочим. Владимир слышал, как старый землекоп сказал однажды товарищам:
— Опять инженер жучил студента за нас. Чистый Ругевич, недаром прозванье дано...
Между тем, несмотря на работу без отдыха, несмотря на розыски, Обручев не находил никаких признаков угленосных пород. Ругевич, видимо не полагаясь На практиканта, решил сам проверить его наблюдения. Они отправились в лес вдвоем. Инженер внимательно всматривался в почву, но выхода коренных пород нигде не было. Землю покрывали толстые подушки мха, много было поваленных деревьев, валежника, часто путь преграждал густейший мелкий подлесок. На вершине горы тоже ничего не нашли, хотя блуждали долго.
Ругевич вынужден был согласиться с нерадостными выводами Обручева и решил возвращаться домой. Однако это оказалось не так просто. Колеся по лесу в разных направлениях, они потеряли путь и теперь не знали, куда идти. Ругевич совсем помрачнел, а Владимир, вспомнив, как однажды он вывел из лесу тетю Машу и Сеченова, взобрался на громадную сосну, огляделся и крикнул:
— Там на юге понижение! Это, должно быть, долина реки. Ну да, это Сим! Надо брать вправо.
— Если это и Сим, — возразил Ругевич, — идти нужно, во всяком случае, влево.
— Ну как же так? Непременно вправо!
Они долго спорили. Владимир утверждал, что, по его мнению, понижение вдали и есть та самая излучина Сима, возле которой стоят их балаганы, и нужно, конечно, идти вправо, чтобы до них добраться. Ругевич с неохотой последовал за студентом, ворча, что, несомненно, они идут неправильно и окончательно заплутаются. Однако Владимир молча уверенно шел вперед, и довольно скоро они вышли к месту работ. Завидев балаганы и людей, инженер удивленно глянул на Обручева, а тот втайне торжествовал. Значит, он умеет ориентироваться на местности, как и подобает настоящему путешественнику!
Вскорости разведку посетил сам заводчик Балашов. Это был плотный, по-видимому, самоуверенный человек, в элегантном дорожном костюме, английских ботинках и чулках. Дружелюбно поздоровавшись с Ругевичем и небрежно с Обручевым, он едва ответил на приветствие рабочих и начал обходить шурфы и разрезы. Водил его Владимир.
От одного разреза к другому нужно было или идти по воде вдоль берега, или подниматься на косогор и снова спускаться. Владимир, обутый в высокие сапоги, всегда выбирал первый путь. И на этот раз он так повел хозяина, не без злорадной мысли, что этот франт сейчас запросит пощады. Но, к его удивлению, Балашов, несколько поколебавшись, безропотно двинулся за ним. Изрядно промочив ноги, он все же ни словом не упрекнул студента, зато Ругевич вечером долго пробирал Обручева за мальчишество, а рабочие, поглядывая на Владимира, усмехались.
Выгодные для разработки пласты угля найдены не были. Балашову пришлось согласиться с тем, что дальнейшая разведка бессмысленна. Уезжая, он приказал ее прекратить и засыпать уже заложенные шурфы.
Владимир доказывал инженеру, что неудача в этом месте еще ничего не означает. Пласты могли простираться по склону горы на север, и следовало попытать счастья там.
Ругевич слушал невнимательно. Он, кажется, был доволен, что неинтересная работа кончилась, и удивлялся дотошности студента, желавшего во что бы то ни стало найти этот ненужный им обоим уголь. Он поспешил рассчитаться с Обручевым, и, к великому огорчению, Владимир получил так мало, что едва могло хватить на дорогу до Петербурга. А он-то мечтал посмотреть какую-нибудь угольную копь, увидеть добычу угля и описать ее в своем отчете!
Подумав, Обручев напрямик сказал Ругевичу, что считает оплату несправедливой. Работал он добросовестно и по существующим расценкам должен получить больше. Инженер, видимо, не ожидал «бунта», был слегка смущен и без возражения добавил Обручеву несколько десятков рублей.
Владимир уехал с разведки со странным чувством.
Он понимал, что это время, проведенное на Урале, — обычная студенческая практика, однако для него она превращалась в событие, полное глубокого значения.
На Симском заводе он впервые увидел, что такое труд рабочего. Эти горячие цехи, домны, горны, прокатные станы... «Современный ад», как был назван металлургический завод в статье одного журналиста!
Да, пожалуй, теперь, слыша слово «ад», он будет представлять себе именно такой завод!
Как ничтожен там человек! Как он целиком взят беспощадной изнурительной работой! Без него завод не смог бы действовать, и все же и ум и сила человека там не главное. Главное — металл! Он диктует людям поведение. Он обжигает палящим жаром лица, сушит глаза, заставляет людей отбегать, чтобы не достигли их жалящие искры. Он приказывает ворочать огромными щипцами раскаленные, немыслимо тяжелые крицы и поворачиваться быстрее, иначе он может остыть. Он велит, не мешкая, бить по себе молотами, тянуть изо всей силы раскаленные железные полосы.
Тяжелый, нечеловеческий труд! А ведь его можно было бы облегчить. Воздух! Свет в цехе! Специальная одежда рабочим! Душ! Хорошая пища! Более короткий рабочий день! Все это могло бы сделать непосильный труд сносным... «А может быть, даже интересным?» — спрашивал себя Владимир. Ведь, по существу, процесс превращения руды в металл захватывающе интересен. Если бы он не был так связан с людскими страданиями!..
А здесь, на разведке, где закладывали шурфы те же заводские рабочие, нанятые Ругевичем? Они говорили, что после завода жизнь на чистом воздухе кажется им отдыхом. Владимир видел, каков этот отдых...
Его не стеснялись, ему доверяли, и в те редкие минуты, когда удавалось свободно поговорить с рабочими, он узнавал, какую мизерную плату получают они за свой выматывающий силы труд, как плохо питаются, как ютятся в сырых каморках вместе с женами и маленькими детьми... Да не у всех даже есть отдельная каморка! Многие живут в «казарме» — большом помещении, разделенном на клетушки, отгороженные от соседей только ситцевыми занавесками.
Все они панически боятся заболеть потому, что за пропущенные по болезни дни управление заводом не платит. Боятся старости — ведь она никак не обеспечивается, хотя бы рабочий отдал заводу всю свою жизнь, начав с мальчика-подручного, а кончив знающим и опытным мастером своего дела. Боятся иметь лишнего ребенка, ведь его нужно кормить и растить, а ждет его в будущем тот же беспросветный ежедневный труд и вместо развлечения и отдыха в редкие праздники — водка и драка «по пьяному делу».
А больше всего приходится бояться заводской администрации и полиции. Они всесильны. Они вправе распорядиться судьбой и самой жизнью рабочего. С ними не поспоришь!
Он видел, как живут люди, работающие на заводах и «вольных заработках». Ему нужно еще понять, что такое копи и труд шахтера. Он должен это увидеть, должен!
Хотя он и устал после своих походов на разведке, тянуло в Петербург, в низенькую спокойную комнату рядом с кухней и очень хотелось скорей увидеть своих молодых хозяек и потом на остаток лета съездить к матери в Ревель, он все-таки поехал на север Урала, поглядеть Луньевскую копь. Он знал, что копь богата углем и усиленно разрабатывается. Ее описание, сделанное одним из профессоров Горного института, ему приходилось читать. Это определило выбор.
Владимиру удалось получить пристанище у штейгера и вместе со своим хозяином обойти все подземные работы. Он был слегка взволнован, впервые спускаясь в шахту, но внизу быстро освоился и с присущей ему пунктуальностью расспрашивал штейгера о всех подробностях подземного труда. Он следил за добычей угля в забоях, интересовался правилами крепления, наблюдал откатку породы в вагонетках, бегущих по бесконечным штрекам. Он был подавлен всем увиденным и плохо спал после этого первого посещения шахты, но на следующий день снова спустился.
Впоследствии, через много лет, Обручев немногословно записал свои впечатления:
«Абсолютная могильная тишина вдали от забоев, где шла добыча угля, изредка прерываемая стуком вагончиков; длинные коридоры штреков с нашлепками или гирляндами белой плесени на столбах крепи, ярко выступающими из абсолютного мрака при свете рудничной лампы, которую несешь в руках; капающая сверху или льющаяся целыми струйками вода; толстые пласты угля в забоях, местами разорванные и сдвинутые по трещинам. В отработанной части толстые столбы и переклады крепи, смятые, расщепленные или надломленные, подобно спичкам, страшным давлением горных пород.
И я оценил по справедливости тяжелый труд горняков, проводящих лучшие годы своей жизни в этом подземном мире, где обвалы горных пород, прорывы воды, взрывы горючих газов и пожары по временам создают условия смертельной опасности».
Обручев чувствовал, что возвращается в Петербург другим человеком. Он явственно ощущал внутреннее свое возмужание. И первые «взрослые» впечатления его были нерадостны. Но он знал, что выбранный им путь верен и с него он не сойдет. «Это твое дело» — слова, прозвучавшие в нем во время первой лекции Мушкетова, остались в душе, и он слышал их, шагая по подземным коридорам, поднимаясь по утлым лестницам шахты, блуждая по бесчисленным темным «проходкам».
Все, о чем он читал в книгах из нелегальной студенческой библиотеки, о чем думал в одинокие вечера, о чем спорил с товарищами, предстало перед ним в своей неприкрытой наготе. Нет, жизнь в России должна измениться! Поворот будет! И суждено ли дожить до этого, или нет, надежда на далеко встающий, новый день должна руководить его жизнью, его работой.
Приехав в столицу, он с вокзала полетел домой и был огорошен известием, что «барышни Лурье здесь больше не живут». Его растерянность была так очевидна, что новая жилица поспешила прибавить:
— Не волнуйтесь, у них все благополучно. Вы ведь Обручев? Вам оставлено письмо.
Он снова обрел потерянное дыхание и нетерпеливо вскрыл конверт.
Писала Ида. Она сообщала, что переехала с сестрой в лучшую квартиру на Театральной. У них две комнаты на четвертом этаже. Здесь светло и весело.
Окна выходят не на грязный двор, а на крыши окрестных домов. Если он хочет опять поселиться у них, сестры его ждут.
Обрадованный тем, что новая квартира недалеко и встреча отдаляется только на минуты, он почти побежал на Театральную.
Свет и уют просторных комнат, приветливость Иды были наградой за спешку. Но Лизы не оказалось дома.
Умываясь, перебрасываясь с Идой веселыми вопросами и бестолковыми ответами, он думал о подарке, который привез сестрам. Из небогатого летнего заработка он ухитрился купить несколько полудрагоценных уральских камней. Скоро ли появится Лиза?
Она не шла, и Владимир, не утерпев, достал заветную коробочку.
— Пожалуйста, выберите себе, что вам понравится.
Ида поблагодарила и отобрала несколько самоцветов.
А когда вернулась Лиза, на него вдруг напала непонятная робость. Он долго прислушивался к ее голосу, звучащему сегодня непривычно тихо, ждал, что она позовет, наконец не вынес ожидания и вышел сам.
Девушка была неузнаваема. Едва ответила на его приветствие, от подарка холодно отказалась... Что с ней? Она и не смотрит на него!
Он ничего не понимал, огорченный, ушел к себе, а на другой день, стараясь говорить беспечно, спросил Иду:
— Елизавета Исаакиевна, кажется, сердится на меня? Может быть, ей не понравился мой подарок? Или показалось, что я отдал вам лучшие камни? Но, право же, я...
— Не в этом дело, — медленно ответила Ида, пристально глядя на него. — Свои камни я уже ей подарила... Но не в этом дело. Ей стало обидно, что вы не дождались ее, чтобы показать свой подарок.
— Вот как! Ей стало обидно?
Владимира впервые обожгла мысль, что, может быть, он для Лизы не просто симпатичный жилец, сосед, хороший знакомый... Может быть, он значит для нее больше?
Ему стало страшно... и весело.
Пустыни сторож безымянный...
Имя у городка было. Он назывался «Кызыл-Арват», по-русски — «Красная женщина». Почему так назван был этот городок, Обручев и Богданович не знали.
Проспав ночь в поезде, отошедшем накануне вечером от станции Узун-Ада, они теперь удивленно поглядывали на небольшой вокзальчик и домишки вокруг него — деревянные, глинобитные, кирпичные... Каждый третий встречный — военный. Они здесь строят железную дорогу. Туркменские юрты стоят на окраине городка. Грязно, жарко, уныло... Дыхание Каракумов ощущается явственно, пустыня близка. Но что похожего на женщину, к тому же красную?
— Сюда пожалуйте!
Бравый казак привел их к глинобитному домику. Комната, куда они вошли, была чисто побелена и почти пуста.
— Их сиятельство князь Хилков сейчас будут. Просят подождать, — отрапортовал казак и, козырнув, вышел.
— Думали попасть к генералу, а попали к князю, — озорно скосив глаза на товарища, шепнул Богданович.
— Это князь особенный, — так же шепотом отвечал Обручев.
— А что? Интересная личность?
— Потом расскажу.
Друзья замолчали.
Ждать пришлось довольно долго. Сонная тишина стояла в домике, только мухи жужжали назойливо и звонко. Уставший за дорогу Владимир старался не задремать.
Весна 1886 года была трудная. Он окончил Горный институт, а это потребовало немалого напряжения сил. Получив диплом, Обручев заявил, что хочет вести геологические исследования в не изученных еще частях Внутренней Азии. Иван Васильевич Мушкетов помнил, что Обручев уже высказывал это намерение, но тогда можно было предположить, что оно вызвано непосредственным впечатлением от книги Рихтгофена. Заинтересованность и постоянство молодого геолога внушали уважение. Профессор обещал подумать, как можно осуществить желание Обручева.
Слов на ветер Иван Васильевич не бросал. Очень скоро он вызвал к себе Владимира.
— Вот послушайте, Обручев, что я хочу вам предложить. Вы знаете, что сейчас строится Закаспийская железная дорога. Начальник — генерал Анненков. Это человек энергичный. Противников у строительства множество. Считают, что прокладка пути через пустыню — дело гиблое. И трудно и невыгодно. А генерал знает свое: новый край — Туркмению нужно заселять, там размещают войска, их нужно кормить и поить, с водой плохо... Для подвоза необходима железная дорога. Словом, Анненков бушевал во всевозможных комитетах и комиссиях и добился своего. Были отпущены средства, и начались работы. Сперва все шло хорошо, потом неприятности с афганцами заставили прекратить дело.- Теперь строят опять.
— Да, да, я знаю, — машинально отвечал Владимир, нетерпеливо ожидая, что же последует дальше.
— Собственно, труднейший участок пути уже пройден, примерно на тысячу верст от моря дорога проложена. Но теперь перед строителями новая задача. Догадываетесь какая?
— Не трудно догадаться. Поскольку империя наша стала богаче...
— Совершенно верно. Стала богаче, присоединив к себе Хиву и Бухару — великолепные плодородные края. Теперь Анненкову нужно продолжить путь до древней столицы — Самарканда, а нынешнюю столицу Ташкент соединить с Петербургом. Тут надо идти через Каракумы, юго-восточную часть пустыни пересекать. Условия трудные. Снабжать строителей водой очень нелегко. А главное — заносы, пески наступают, все время приходится расчищать полотно. Надо подумать, как закреплять пески, надо выяснить водные ресурсы на местах... Словом, Анненков просит меня рекомендовать ему двоих молодых геологов. Называться они будут «аспирантами», а заниматься должны изучением песков, водных ресурсов, почвы... Условия трудные, придется...
— Я еду! — непочтительно прервал Мушкетова Владимир.
— Подумайте. Не надо торопиться.
— Я об этом не мало думал, Иван Васильевич. Я хочу работать в Азии. Конечно, Закаспийский край — это еще не Внутренняя Азия, только ее преддверие, но ведь природа там очень похожа на описанную Рихтгофеном. Поработаю... А со временем и дальше на восток попробую проникнуть. Второго геолога не ищите. Богданович непременно поедет.
Дальше дело пошло быстро. Мушкетов познакомил молодых людей с Анненковым, их зачислили «аспирантами» на постройку дороги, выдали деньги. Друзья доехали до Царицына, затем па Волге до Астрахани и на другом пароходе отправились дальше.
Они останавливались в Баку, осматривали нефтяные скважины и вышки, которых никогда прежде не видали, посетили старый храм огнепоклонников, где когда-то горел газ, проходящий по трубам из-под земли, пили в гостинице солоноватый чай — пресной водой город был беден.
Из Баку пароходом добрались до Узун-Ада, и оттуда, наконец, — до Кызыл-Арвата.
Генерал Анненков, как им сказали, уехал «на укладку». Он лично следил за тем, как наращивают новые участки пути. Придется договариваться с его заместителем князем Хилковым. О нем Владимир много слышал от Мушкетова. Родовитый, получивший блестящее воспитание, Хилков мог бы по примеру многих молодых аристократов вести беспечную светскую жизнь. Но с юности он был привержен к технике, и с годами этот интерес все возрастал. Князь уехал в Америку, работал там в железнодорожных мастерских и паровозных депо как рядовой слесарь, изучил всю сложную механику паровозостроения и железнодорожного дела. Вернувшись на родину знающим инженером, Хилков посвятил свою жизнь постройкам железных дорог в родной стране, видя в этом залог дальнейшего развития российской экономики.
— Очевидно, наши аспиранты? — неожиданно услышал Обручев. — Добро пожаловать! Рад познакомиться, Хилков.
Князь-слесарь оказался очень высоким, тощим человеком. Седая бородка, добрый и рассеянный взгляд придавали ему отдаленное сходство с Дон-Кихотом. Но в этом Дон-Кихоте были изящество и светскость.
— Как доехали? Сильно устали? — забросал он вопросами молодых людей. — Вот здесь вам придется жить. — Он открыл дверь в соседнюю комнату. — По-походному, изволите ли видеть. Пружинных матрасов нет — топчаны. Однако нужно будет здесь задержаться. Покуда стоит такая жара, полевые работы начинать нельзя. Снаряжайтесь, готовьтесь, а недельки через две отправитесь. Дадим вам двух казаков для охраны. Да, да, в одиночку ехать опасно. Случаются и открытые нападения, и из-за угла могут подстрелить...
— Ну, углами-то пустыня как будто небогата,— пошутил Богданович.
— Совершенно верно. Но человеку, выросшему в здешних условиях, нетрудно за любым бугром укрыться. Ты ко мне, братец? — обратился Хилков к вошедшему казаку.
— Так точно. Их превосходительство просят прибыть на укладку. Сейчас вестовой оттуда приехал.
— Хорошо, хорошо... Сейчас соберусь.
Сборы были недолги. Взяв макинтош и нахлобучив на голову видавшую виды фуражку, Хилков исчез. Ночевать он не вернулся. Обручев и Богданович увидели его только через несколько дней, когда сами отправились посмотреть, как строится дорога.
Уже готовое железнодорожное полотно уходило в глубь желтых волнистых песков. Поезд должен был пройти по уложенному участку дороги до того места, откуда следовало тянуть рельсы дальше.
Строители-солдаты, загорелые до чугунного отлива, сгрудились у полотна. Чуть поодаль, поглядывая на часы, стоял с группой офицеров генерал Анненков. Он приветствовал аспирантов взмахом руки, но, очевидно, разговаривать с ними ему было недосуг. Он, как и все, ждал машиниста.
И машинист появился. Высокий сухопарый человек в замасленной куртке ловко вспрыгнул на ступеньку локомотива, махнул фуражкой и крикнул:
— Прошу занять места! Поезд отправляется!
Узнав в машинисте Хилкова, Владимир Обручев удивленно переглянулся с приятелем.
Солдаты вскочили в вагоны, передавая друг другу мешки с инструментами и провиантом. Не спеша сели Анненков и офицеры. Паровоз дал гудок и, медленно набирая скорость, двинулся по новеньким, отливающим синеватым серебром рельсам. Когда голова поезда проплыла мимо аспирантов, Обручев успел разглядеть чуть наклоненную седеющую голову, внимательный цепкий взгляд и сосредоточенное выражение лица Хилкова.
— Ну и Дон-Кихот! Лихой машинист, оказывается! — повторял Богданович.
Владимиру тоже надолго запомнился этот машинист в старой, покрытой масляными пятнами куртке, с французской бородкой и неуловимым изяществом. Ночью, лежа в гамаке на веранде, — спать в тридцатиградусную жару в комнатах было немыслимо,— Обручев пытался осмыслить свое впечатление. Видимо, правильна где-то слышанная игл или прочитанная мысль: из жизненных наблюдений человек отбирает для себя то, что наиболее соответствует его собственному душевному строю. Почему его так заинтересовал этот немолодой человек, что променял бездумную жизнь столичного высшего света на пески, удручающую жару и тяжелую работу в глухом углу? Вместо фрака, сшитого модным петербургским портным, и белоснежной манишки он носит куртку паровозного машиниста. Вместо тонких ресторанных обедов он питается солдатскими щами из котелка и, по-видимому, доволен. Одержимость любимой работой заставляет его забывать о неудобствах и лишениях. Разве не эта же страсть заставила самого Владимира с восторгом принять предложение Мушкетова, не искать лучшего и более спокойного места, надолго оставить любимую невесту? Бедная Лиза! Как ей не хотелось расставаться с Владимиром! Расставаться именно сейчас, когда впереди у них еще так много неопределенного, неясного!
В последнее время, едва только они оставались вдвоем, наступало томительное молчание. И, не выдержав, Владимир сказал ей однажды, что жизни без нее не мыслит, что они должны быть вместе, разлучаться им нельзя.
Какой свет брызнул навстречу ему из ее глаз! И сейчас же это счастливое сияние потускнело, затуманилось. Лиза заплакала горько и безнадежно, задыхаясь и повторяя:
— Зачем... зачем так говорить, когда вы знаете, что это невозможно, невозможно...
— Но почему? Почему невозможно? — растерянно спрашивал он, потрясенный, испуганный этим потоком слез.
— Вы дворянин... — рыдала Лиза. — У вас военная семья... Ваша мама... Она никогда не согласится... Она не захочет, чтобы вы женились на еврейке.
Владимир тогда жестоко обиделся за мать.
— Мама — просвещенная передовая женщина, — с достоинством сказал он. — Почему вы решили, что сословные и национальные предрассудки имеют над ней власть? Ей совершенно неважно, к какой нации принадлежит человек, лишь бы сам он пришелся ей по сердцу. А не полюбить вас нельзя...
— Это вам кажется... потому что вы сами так... так относитесь ко мне...
— Да нет же, нет! Наша семья не мещанская, не обывательская. И потом бабушка у меня полька, мать немка и...
— Ах, это все не то, не то! — и Лиза убежала с плачем.
А на другой день был серьезный разговор с Идой. Печально глядя на Владимира, она просила «не морочить голову» сестре. Это не дешево стоит Лизе. Девушка его любит, любит давно, считает счастьем быть его женой. Но обе сестры понимают, что это невозможно.
— Да что вы в один голос твердите «невозможно»? А для меня невозможно иметь женой не Лизу, а какую-то другую женщину. Я докажу вам, что все эти страхи напрасны. Сегодня же напишу матери!
Он исписал несколько страниц, рассказывая Полине Карловне о своей любви, прося ее скорее прислать согласие, чтобы успокоить Лизу. Заканчивая письмо, он задумался и, ощутив в себе строгую и спокойную уверенность в своих чувствах, понял, что если даже Полина Карловна воспротивится его браку, Он все равно женится. Он нашел ту единственную, с которой хочет разделить свою судьбу, и пусть весь свет будет против нее, он не уступит. Но мать, конечно, не станет возражать, ведь она его так понимает! Сколько раз она, смеясь, говорила, что у нее с сыном одна душа.
Ответ огорчил его, но ни на минуту не поколебал решимости. Нет, Полина Карловна, как он и ожидал, ни словом не обмолвилась о том, что национальность и невысокое положение невестиной семьи не устраивают ее. Но... Владимиру еще рано жениться. Он не встал как следует на ноги, не заработал себе ни положения, ни средств для содержания семьи. И потом этот брак может повредить его карьере, дальнейшему продвижению в жизни. Ведь он знает, как заражен предрассудками чиновничий мир. Весьма вероятно, что те обстоятельства, которые не имеют значения ни для сына, ни для нее самой, вовсе не придутся по душе начальникам Владимира. Неизвестно, каковы будут эти люди, но они будут непременно. Чего-чего, а начальства в жизни каждого среднего человека больше чем достаточно. И любой тупой чинуша, принимая на работу молодого, пусть и очень талантливого, геолога, непременно спросит: «А на ком он женат? Она что же, не русская?»
Глядя на озабоченное решительное лицо Владимира, Лиза понимала, что ответ матери оказался не тем, какого он ждал. Но на все расспросы Обручев отвечал, что опасения Полины Карловны относятся к его возможностям построить семью, а не к самой Лизе. Свою будущую невестку мать просто еще не знает, а когда узнает, непременно ее полюбит. Его уверенность и твердость победила, наконец, и страх Лизы и неверие Иды в благополучный исход. Сестры повеселели.
Лизе следовало креститься, без этого не венчали. Принять православие или лютеранство было не сложно, но сначала нужно было склонить к этому родителей. Старики могли встретить «отступничество» дочери от веры дедов и прадедов очень трагически. То, что Владимиру и Лизе, людям нерелигиозным, казалось простой формальностью, для людей старшего поколения было значительным и серьезным.
Словом, забот и треволнений оказалось множество. Чаще обычного в Ревель летели письма, и оттуда приходили ответы, полные материнских сетований и уговоров. А Ида и Лиза воевали с родителями.
Нет, ни для каких забав и удовольствий не оставил бы он сейчас невесту! Но «сердце Азии», как ревниво сказала однажды Лиза, заставляет его забывать о сердце любимой.
Он возмутился тогда: «Как забывать?» Ни на минуту он не забудет! Но отказаться от поездки? Нет, на это пойти он не мог. Ведь обследование песков Каракумов — первый шаг на его самостоятельном пути, начало работы, которой он решил посвятить свою жизнь.
Молодые геологи прожили в Кызыл-Арвате две недели, готовясь к путешествию. И Анненков и Хилков были так заняты, что смогли дать аспирантам только общие указания. Богданович должен был начать исследование горной части края, а Обручев — изучить низменность. Друзьям пришлось самим закупать все походное снаряжение, и тут выяснилось, что они понятия не имеют, как надо собираться в путешествие. Какую нужно иметь палатку, какую тару для образцов горных пород, как одеваться, что брать с собою из продуктов? Единственно, что они хорошо знали, — это какие инструменты необходимы. Об этом им заботливо рассказал Иван Васильевич Мушкетов. У молодых людей были и горные компасы и барометры, набор молотков и зубил. Что же касается всего остального, тут они действовали «без руля и без ветрил».
— Вот пробел нашего образования, — говорил Владимир.— Об этом должен думать институт, если он готовит геологов... Ведь в разных географических условиях нужно и разное снаряжение. А мы совершенно не представляем себе, что нам может понадобиться.
— Ладно, не ворчи! Будешь когда-нибудь профессором, введешь в преподавание такой предмет, — беззаботно шутил Богданович.
Конечно, он не думал тогда, что слова его в точности сбудутся и что он сам тоже будет профессором Горного института.
Наконец аспиранты собрались, купили туркменские ковровые сумы, незамысловатые постельные принадлежности: кусок кошмы на подстилку, подушки и легкие одеяла, приобрели кое-какую посуду — жестяные чайники, кружки, ложки. Провизия состояла из чая, сахара, крупы и сухарей. Не зная, какая нужна палатка, Обручев решил обойтись совсем без нее. Его уверили, что на ночь всегда можно устроиться в туркменской кибитке. Их будет много на всем пути.
Пожелав товарищу удачи, отправился по своему маршруту Богданович, а на другой день пришла очередь Владимира двигаться в путь. Его сопровождали двое верховых казаков. Для молодого геолога выбрали сильную верховую лошадь, еще одна лошадь должна была идти под вьюками.
Путешествие началось неудачно. Не успели тронуться, как вьючная лошадь стала брыкаться и вскакивать на дыбы. Было очевидно, что она хочет освободиться от своей поклажи. Владимир с ужасом следил за эволюциями норовистой лошадки и думал, что, вероятно, чересчур перегрузил ее.
Еще минута, и все плохо притороченное снаряжение очутилось на земле. Пожитки рассыпались, у чайника отлетел носик. А лошадь, освободившись от тяжести, бодро понеслась обратно в конюшню. Но беглянке не дали насладиться привычным покоем. Казаки вернули ее и снова навьючили. Тут выяснилось, что она до сих пор никогда под вьюком не ходила и большие пестрые туркменские сумы пугают ее. Некоторое время она еще брыкалась, но, видя, что непонятные предметы ведут себя смирно, успокоилась и пошла вперед.
Маленький караван двинулся на север, к Хиве.
В пустыне чахлой и скупой...
Нет, этак не уснешь! Черт бы ее унес, эту луну!
Сердито ворча, Владимир отбросил одеяло и сел.
Огромная белая страшно высокая луна нахально заглядывала ему в глаза. Больше, чем когда-нибудь, она была похожа на человеческое лицо — пухлое, перекошенное в злорадной ухмылке.
Он попробовал повернуться на другой бок, и ветер немедленно швырнул ему в лицо пригоршню сухого песка. Укрыться с головой? Но песчинки шумно ударяются об одеяло. К тому же нечем дышать, жарко, тяжко...
По рассказам выходило, что туркменские кибитки встречаются чуть ли не на каждом шагу. Ерунда какая! Да и не во всякой кибитке можно переночевать. Порою в них столько суетливых женщин и кричащих малышей, так тесно и грязно, что отступаешь, даже не перешагнув порог.
С питанием тоже плохо... В сухом и чистом воздухе Каракумов продукты сохраняются довольно долго. Можно было захватить с собой кое-что получше, чем крупа и сухари. Приходится есть на обед и на ужин невкусную кашицу и запивать чаем сухой хлеб. Очень редко удается купить у туркмен кусок свежей баранины.
В другой раз он будет умнее! Только заснуть бы сейчас, хоть ненадолго заснуть! Нет! Этот песок невыносимо колет. Щеки горят... Уж лучше луна! Он повернулся, и сейчас же неумолимый тускло-белый свет ударил ему в глаза.
После таких ночей Владимир вставал разбитый, с болью во всем теле и до полудня делал невероятные усилия, чтобы не заснуть, сидя на лошади. Потом усталость немного проходила, только о предстоящей ночи он думал со страхом.
Но путешествие продолжалось. Пустыня настойчиво и неуклонно втягивала маленький отряд в свои недра. Она смыкалась за спинами людей, скрывая пройденный путь, и развертывала впереди все новые и новые, но такие же однообразные просторы.
Работать приходилось много. Обручев исследовал колодцы, вел наблюдения за песками, всматривался в природу пустыни и подробно записывал все, что видел и над чем думал.
Исследование неглубоких колодцев было несложным делом. Он измерял глубину, определял температуру воды, ее количество и качество. Обычно ее было немного, она казалась мутной, скверно пахла и была неприятна на вкус.
Здесь, в Каракумах, источник воды — жизнь и счастье для людей. Но каким же неприглядным оказывалось это счастье! Вверху колодец кое-как оплетен прутьями, дальше вниз уходят обомшелые скользкие стены. Вокруг песок изрыт глубокими следами конских копыт и мелкими отпечатками овечьих копытец... Колодец ничем не огорожен. В воду просачивается все, чем пропитан песок, а ветер заносит в этот источник жизни и пыль, и мусор, и овечий помет.
Когда в первый раз наткнулись на глубокий колодец, Владимир стал в тупик. Складной саженью тут не обойдешься... Спуститься внутрь?
— Как будто и ведро и аркан крепкие... Удержите меня, братцы?
— Ну как же! Вы, ваше благородие, легкие, стало быть, суховатые и из себя не крупные. Вас удержать ничего не составляет.
Обручеву было и жутковато и смешно. Он встал одной ногой в кожаное ведро и, ухватившись за шерстяной аркан, скомандовал:
— Опускай!
— С богом! — серьезно сказал старший казак.
Ведро заскользило вниз. Обручева обдало затхлой сыростью.
— Помалу, помалу! Так я ничего не рассмотрю.
После этого первого спуска он постоянно исследовал глубокие колодцы таким способом. Казаки медленно разматывали аркан, и Владимир, держась одной рукой за аркан, во время спуска осматривал стенки колодца и даже отбивал от них куски молотком, чтобы определить состав отложений. А внизу в гулкой тьме брал пробу воды и измерял глубину.
Он привык к этой работе, но потом ему долго снились спуски в колодец, запах сырости, шершавые арканы, часто сдирающие кожу с ладоней, колеблющиеся под" ногой ведра...
Много дней они ехали по однообразным грядам песка. Лошади без конца поднимались по склону и спускались вниз, чтобы немедля начинать новый подъем, а затем спуск. Оглядывая местность с высоких гребней, Владимир видел все то же — узкие долины и высокие песчаные наносы, простиравшиеся далеко-далеко, до самого горизонта.
Однако эта скучная холмистая равнина, к его удивлению, вовсе не была безжизненной. И жизнь здесь не просто теплилась, но шла полным ходом, напряженная и деятельная. Среди песков попадались кусты кандыма с почти голыми ветвями и саксаула, покрытого крохотными листочками. Этим растениям не нужны широкие листья, испаряющие много влаги, здесь ее надо беречь.
Встречались заросли трав — высокого селина и низкорослой песчаной осоки, которую охотно щипали лошади. Все эти растения, по-видимому, чувствовали себя здесь неплохо.
Часто глаза, утомленные однообразными красками, не сразу замечали прижавшуюся к песку ящерицу и улавливали ее молниеносное движение только перед тем, как она исчезала. Сойки и славки перепархивали с куста на куст. По песку ползали крупные черные жуки. Порою слух улавливал какое- то посвистывание. Иногда этот звук делался прямо- таки назойливым, и Владимир не мог понять, что это такое, пока не разглядел возле норы в песке небольшого, почти слившегося по цвету с песком зверька. Свистел именно этот зверек, и казаки объяснили, что сусликов-евражек тут много и лучше объезжать их поселения стороной, а то лошади проваливаются в норы, чего доброго, могут и ногу сломать.
Кроме этих явных обитателей пустыни, было много невидимых. Эти оставляли после себя только следы. Хоть и недолгое время, но пески хранили память о тех быстроногих существах, что пробегали здесь, а казаки умели читать эти записанные на ходу рассказы. Вот заяц удирал от лисы, а там промчалось стадо резвых джейранов, а эта узкая извилистая тропка в песке — след проползшей змеи. Казаки говорили, что в этих местах можно встретить и волка, и кабана, и даже тигра.
Характер грядовых песков был для Обручева ясен. Маленькая экспедиция повернула к югу. Здесь пески располагались иначе. Они гораздо активней наступали на степь. Исчезли бесконечные гряды, покрытые растительностью, пусть и небогатой. Их место заняли почти голые холмы, барханы. С наветренной стороны они были покрыты мелкой рябью, а с противоположной оставались крутыми и ровными. Наветренный склон таких крупных барханов был плотным, словно его специально трамбовали, а в подветренном, совсем рыхлом, вязли ноги.
Владимира занимал вопрос, почему пески наступают на степь не везде одинаково. В одних местах песчаные наносы прорезались длинными степными косами, в других отдельные барханы вырывались в степь. Пустыня и степь смешивались, проникали друг в друга. Обручев сопоставлял разные участки, где степь боролась с песками, и мало-помалу в уме его слагалось объяснение неравномерности наступления песков.
Степь, у которой пески неторопливо и неуклонно отвоевывают участок за участком, полого простиралась от гор к пескам. В ней встречались нагромождения валунов, множество гальки, гравия, а подчас ила и песка. Конечно, весь этот материал, «пролювий», как зовут его геологи, приносился с гор во время таяния снегов, когда бесчисленные горные потоки устремляются вниз, и мешал продвижению песков.
У границы песков было много такыров — гладких площадок, таких высохших и твердых, что на них не отпечатывались подковы лошадей. Весною вода мчится с гор и, когда пески преграждают ей путь, разливается по такырам в озера и большие лужи. Она насыщена илом, и после высыхания озер вместо них снова остаются темно-серые растрескавшиеся такыры. Несомненно, и они сильно задерживают наступление песков. А места, где живут кочевники и пасется скот, постепенно превращаются из степи в пустыню. Люди истребляют саксаул на топливо, а скот вытаптывает всю растительность.
Удовольствие от первой самостоятельной исследовательской работы приучило его пренебрегать неудобствами, легко переносить утомительные ежедневные переезды, мириться с плохой пищей и скверными ночлегами. Он уже спал, как его спутники, не просыпаясь ни от света луны, ни от ветра, и утром вставал освеженный, готовый снова в путь. Ему нравился установившийся ритм путешествия. Он почти не замечал времени. По вечерам удивлялся, что уже стемнело, и с удовольствием думал об утре, когда солнце осветит сумрачные пески, а от барханов протянутся густые тени. Утром ему казалось, что ночь прошла, как одно мгновение, а в полуденную жару он предвкушал бархатно-черный вечер с его относительной прохладой.
Это чередование дней и ночей сопровождалось для него тихой, но явственной музыкой пустыни. Она была сухой и звенящей, как окружающие пески, и Владимир все сильнее поддавался ее однообразному очарованию.
Иногда путешественникам приходилось оставлять на время намеченный путь по окраине каракумских песков и возвращаться к линии железной дороги, чтобы запастись на станциях кормом для лошадей.
— Кони должны быть в аккурате и с тела не спадать. Начальство ведь с нас спросит, — говорил старший казак. — А в степи да в песках какие уж корма...
На станции Геок-Тепе казаки хотели купить сена. И тут Обручев убедился, что для многих местных жителей русские вовсе не друзья, а только завоеватели. В этих местах еще не забыли о недавних боях, когда войска генерала Скобелева взяли крепость, от которой теперь остались одни развалины. Сена у туркмен было много, большие охапки лежали на плоских кровлях, но хозяева наотрез отказались продать его. Никакие уговоры Владимира и казаков не действовали. Женщины и дети попрятались, а мужчины, громко переговариваясь на своем языке, смотрели на непрошеных гостей с вызовом и угрозой. Наконец казаки решительно сбросили с крыш несколько охапок сена, и отряд ушел в степь, сопровождаемый криками туркмен. Владимир живо представил себе, какие ругательства и проклятия летели им вслед. Эта встреча оставила в нем тягостное впечатление, и оно долго не могло изгладиться.
Зато следующее приключение восхитило его. Они подошли к персидскому городу Лютфабаду. Граница с Персией здесь, выдаваясь углом, подходила близко к железнодорожному пути, и город вклинивался в русскую территорию. Конечно, его следовало объехать, но никакой охраны ни с той, ни с другой стороны не было, а Владимиру очень захотелось увидать хоть краешек чужой, неизвестной жизни. Какое-то азартное любопытство охватило его. Будь что будет! Нельзя не воспользоваться случаем!
Казаки проявили некоторое опасение.
— Как бы чего не вышло, ваше благородие! — говорил старший. — Не положено.
— Это точно так, — твердил младший, веселый малый, с лихо выбивавшимся из-под фуражки чубом. — Да ведь охрана тут, видать, сроду не ночевала. Неужли такой крюк делать? Попытаемся проехать.
В самом деле, никто их не остановил, никто не спросил, что они тут делают.
С веселым и жутковатым чувством риска, настороженности и счастья Владимир проезжал по узким улочкам, глядел на лавки с пестрыми товарами, на персов с рыжими, крашеными бородами, на женщин в ярких шальварах, несущих на голове глиняные кувшины и ступающих легко, как танцовщицы. Как вкусны были в этом городе тонкие круглые лаваши, как сладки дыни, как холодна и чиста вода!
Город был невелик, и проезд через него вместе с покупкой продовольствия занял не больше двух часов. Но эти два часа запомнились Владимиру, как запоминается пестрая и лукавая восточная сказка.
За Лютфабадом пошли иные места. Здесь не было такыров, и пески придвинулись совсем близко к железной дороге. Но хотя на степь упорно наступали песчаные волны, она была покрыта густой и высокой травой. Почему здесь такая богатая растительность? Почему нет такыров? Не потому ли, что горная цепь тут хоть и невысока, но непрерывна? Горы слиты воедино, не перерезаны ущельями...
Да, конечно, поэтому! Вода не приносит сюда с гор ни ила, ни пролювия. Пески здесь не сдерживаются ни такырами, ни отложениями рыхлого материала. Не встречая препятствий, они продвигаются вперед так энергично.
А богатая растительность? Тут дело, видимо, в почве.
Обручев начал исследовать почву и не нашел в ней ни гравия, ни гальки, ни глины, смешанной с песком. Мелкозернистая однородная масса легко растиралась в порошок.
«Это лёсс! — обрадовался Владимир, вспомнив книгу Рихтгофена. — Плодородный лёсс! Поэтому и трава так хороша. Но откуда здесь лёсс, эта мельчайшая пыль?»
«Из песков, конечно! — уверенно ответил он себе. — Песчинки трутся друг о друга, рассыпаются в пыль, и ветер приносит ее в степь. Конечно, здешние ветры поднимают с земли и тучи песка, но пылинки, как более легкие, взлетают выше и уносятся дальше. Да, песчаная область — постоянный источник лёссообразования».
Они проехали подгорную полосу Копет-Дага и вышли к реке Теджен. После жаркого лета она превратилась в цепь мелких озер на самых глубоких местах русла. Путь воды сопровождался полосой тополей, тамариска и тростников, и живая зеленая кайма веселила глаз. Места эти понравились Владимиру. Часто путники встречали густые заросли тальника, попадались хлебные поля, бахчи, кибитки туркмен.
Однажды отряд решил заночевать возле двух очень чистых больших кибиток. Неподалеку раскинулась просторная бахча.
Устраиваясь на отдых, Владимир увидел, что казаки несут лошадям большие связки зеленого камыша.
— Хозяин продал? — спросил Обручев.
После неприятного столкновения с жителями Геок-Тепе он внимательно следил, чтобы казаки обходились без самоуправства и договаривались о конском корме мирно.
— Так точно. Просит коней привязать, чтобы бахчи не потоптали.
— Правильно. Уж вы последите за лошадьми, пожалуйста.
Владимир занялся своими записями и так в них углубился, что до его слуха не сразу дошло какое-то невнятное бормотание.
Перед ним стоял благообразный пожилой туркмен. Низко кланяясь, прикладывая ладонь то ко лбу, то к сердцу, он о чем-то просил. Владимир с трудом понял, что это хозяин кибиток и хочет, чтобы «русский ученый человек» посмотрел его больную дочь.
— Я не врач. Не доктор, понятно? Ничем помочь не смогу.
Но туркмен не уходил.
— Все равно человек ученый... Пропадет девка! Посмотри, может, что узнаешь... — твердил он и так умоляюще смотрел на Обручева, что тот неожиданно для самого себя согласился.
— Ну, пойдем, только я еще раз предупреждаю, что лечить не умею.
С легким замиранием сердца молодой геолог вошел в кибитку. Она была великолепна. Просторная, чистая. Потолок и стены затянуты пушистым белым войлоком. На полу превосходный текинский ковер. И всюду множество расписных сундуков и шкафчиков, вороха подушек, груды ярких одеял. Видно, хозяева небедные люди.
Туркмен подвел Владимира к низкому ложу, и Обручев был поражен. Перед ним лежала настоящая красавица, с нежным смуглым лицом, длинными тонкими бровями и густыми ресницами. По подушкам змеились темные косы. Одета девушка была в желтые и зеленые шелка, и наряд как нельзя лучше шел к ней. Но глаза больной были закрыты, и, сколько ни окликал ее отец, она не отвечала, вероятно, даже не слышала. Маленький рот был сведен судорогой страданья, лицо горело, девушка металась и стонала.
Робея, Обручев нащупал пульс. Сто двадцать! Сильный жар. Что же с ней? Лихорадка или что-то более страшное?
— Не кашляет? На горло не жаловалась? — спрашивал Владимир хозяина.
— Нет, нет... Ничего не болит... Только вперед холодно, потом жарко.
— Комаров тут много у вас?
— Что? А, комар! Много комар, много. Кругом стоит вода...
— Да, вода стоячая... Ну, попробую дать лекарство.
Обручев дал отцу больной хинин, научил, как завертывать порошки в папиросную бумагу и делать небольшие пилюли. Очень хотелось ему помочь девушке и утешить старика.
Когда путешественники уселись за свою скромную вечернюю трапезу, вдруг появился мальчик с блюдом великолепного плова. Он объяснил, что хозяин прислал ужин в благодарность лекарю.
— Э, ваше благородие, доктором заделались! По вашей милости первый раз за весь путь поужинаем по-человечески, — шутили довольные казаки.
Жирный душистый плов показался Владимиру царским угощением. К тому же вода для чая была совершенно чистая, без дурного запаха и солоноватого привкуса. Видно, хозяин оберегал свой колодец от ветра и скота.
На следующий день Владимир оставил одного из казаков с вещами и поехал с другим искать окончание дельты Теджена. Они добрались до начала пустыни, но дельта сильно разветвлялась и рукава ее уходили в глубь песков. Кое-где виднелась растительность, питаемая по веснам разливом. Зато там, где было много крысиных и сусличьих нор, трава исчезала, кусты сохли и песок, подчиняясь ветру, перемещался с места на место.
Владимир вернулся в лагерь только к вечеру и по лицу хозяина кибиток сразу понял, что его лекарство помогло.
Чуть не плача от радости, старик сказал, что девушка уже не мечется в жару, а сидит на подушках и просит есть, а раньше в рот ничего не брала. Ей лучше, гораздо лучше, и она велела отцу поблагодарить «русского ученого человека».
Владимир на радостях отдал туркмену почти весь свой запас хинина, подарил ему и охотничий трофей — зайца.
— А казак разве есть не хочет? — спросил хозяин.
— Нет, брат, бери себе. Мы ушанов не уважаем. Мы барашка любим, — посмеивались казаки.
— Будет барашек, будет! — пообещал старик.
К ужину он снова прислал русским плов и сочную дыню.
Владимиру очень не хотелось уезжать, не узнав, окончательно ли поправилась девушка, но нужно было двигаться дальше.
Снова красноватая глина такыров, бурая степь, порою кибитки, бахчи и пески, пески...
Они опять изменились, легли холмиками, покрытыми кое-где пучками селина, жесткой травой и даже небольшими деревцами песчаной акации и саксаула. Обручев назвал этот тип песков бугристым. Лошадям новые места давались трудно — снова приходилось то подниматься на холмы, то спускаться в котловины.
Владимир ненадолго заезжал в Мерв, чтобы получить в конторе железной дороги деньги и купить продовольствие. Потом отряд направился по реке Тед- жен к югу.
Проехав маленький глинобитный городок Серахс, путешественники увидели, что здесь Теджен превратился уже в настоящую реку с чистой проточной водой. По реке проходила персидская граница, но никакой охраны не было видно.
Постепенно холмы стали превращаться в горы, начали появляться и каменные выступы. Обручев с увлечением работал молотком, отбивая куски породы и отыскивая окаменелости.
Путешественникам предстояло повернуть на восток к реке Мургаб. На последней ночевке у Теджена Владимир не мог усидеть возле костра. Вечер был прекрасный, спать еще не хотелось. Он решил побродить по зарослям камыша. Может быть, удастся подстрелить фазана.
О фазанах он скоро перестал думать, уж очень хорошо было кругом, светло и тихо. Обручев особенно остро чувствовал всю прелесть жизни, природы, движения среди этой зачарованной тишины.
Какой-то след на высохшем иле привлек его внимание. Владимир нагнулся. Неужели тигр?
Он подозвал казаков, те всполошились.
— Тигр, тигр, ваше благородие! — твердили они. — Да здоровый! Матерый...
— Постойте. Ведь он бродил тут давно, когда ил еще не затвердел. Наверно, в самом начале лета.
— Оно так, да вдруг вернется? Все может быть. Надо большой костер разводить.
Казаки разожгли огромный костер, дежурили возле него по очереди. Просыпаясь, Владимир видел яркое пламя, темную фигуру казака у огня, порою подошедшую к свету и косящую блестящим лиловатым глазом лошадь. Стояла тишь, только однообразно покрикивала маленькая сова-сплюшка. Ему казались невыразимо прекрасными и темные камыши, и отблески костра, и даже крики сплюшки.
Казаки подняли его рано. Не потому, что хотели поскорее уйти из этого места, днем они не так уж боялись тигра, но им предстояло пройти по земле, принадлежавшей Афганистану. Путешественники не запаслись никакими пропусками, задержат, пожалуй, и сиди под арестом, пока не наведут справки у русского консула. А задержавшие, как известно, никогда и нигде не торопятся освобождать задержанных...
Но в этот ранний час, как были уверены казаки, все афганские часовые еще спят, и отряд успеет проскочить опасную зону. Спутники Обручева гнали коней, а Владимир с тоской посматривал на стенки ущелья. Все его попытки объяснить казакам, что здесь перед ними «прекрасные обнажения», которые стоило бы осмотреть подробнее, ни к чему не привели. Старший казак угрюмо отвечал, что «этого добра везде много».
— Вот посадят афганцы в «холодную», тогда узнаете, почем фунт лиха. Выедем на свою землю, там и стучите молотком сколько душе угодно.
Но когда миновали чужое ущелье, выходы скал уже перестали встречаться. Горы сделались пологими и покрылись зеленью. Разочарованный Обручев молча ехал впереди и вдруг круто осадил коня. Совсем близко большой кабан сосредоточенно рыл землю, не замечая всадников. Владимир схватил винтовку, но в ту же минуту почувствовал, что летит куда-то...
Не успев вымолвить ни слова, он пребольно ушибся о землю, перелетев через голову лошади под громкий смех казаков. Оказалось, что кобылка попала ногой в сусличью нору. Кабан, конечно, скрылся.
Владимир был сильно раздосадован неудачей, но казаки уверили его, что надо радоваться благополучному окончанию этого приключения. Руки, ноги целы, и лошадь не пострадала, могло быть гораздо хуже.
Ужин, однако, был довольно мрачным. Пришлось выпить солоноватого чаю, таков был вкус воды в маленьком озере, возле которого они остановились, и поесть сухого хлеба. За едой казаки не раз вспоминали кабана. Какой он был большой! Наверно, жирный!..
Для лошадей тоже поблизости не было травы, а отпустить их подальше не решились. Перейдут границу, и поминай как звали!..
Весь следующий день пришлось ехать по скучным, как показалось Владимиру, местам. Во всяком случае, для геолога не было ничего занимательного в беспрерывном чередовании плосковатых холмов. Наконец, двигаясь по долине реки Кушки, добрались до русского пограничного поста Тахта-Базар.
Пост был только недавно учрежден. К строительству едва приступили, а офицеры и солдаты местного гарнизона жили пока в палатках. Владимира очень радушно встретили пожилой подполковник и молодой хорунжий, скучавшие в этом глухом углу. Последние дни путешествия были такие голодные и утомительные, что Обручев решил дать передышку людям и лошадям.
Офицеры пригласили Владимира к ужину. В палатке горели свечи, на столе появилась бутылка вина. Во всем этом был своеобразный походный уют. Седой подполковник с красивым усталым лицом производил впечатление много видевшего образованного человека. Разговор его был занимателен, и Владимир удивлялся, почему этот бывалый и, вероятно, опытный офицер служит в глуши и занимает скромную должность командира роты. Хорунжий, высокий и тощий молодой человек, все время пощипывал усики и был не очень разговорчив. Он казался проще своего старшего сослуживца и с интересом прислушивался к его словам.
Под действием вина и оживленного разговора подполковник вспоминал свою молодость. Лицо его разгладилось, глаза зажглись, и голос утратил глуховатость. Он говорил о Чернышевском, Писареве, о тех идеалах — он так и сказал: «Великие идеалы», — которые воодушевляли когда-то молодое поколение.
— Вы не помните, не можете помнить... Какое тогда было время! Сколько надежд! Как все ждали отмены крепостного права, как бурлила страна! А сейчас? Тяжелая пора, глубокая реакция!.. Во всем, в любой области нашей жизни рутина и застой-
Владимир жадно слушал. В словах подполковника ему слышались отзвуки давних речей тети Маши, Сеченова, Бокова... Как давно это было! И какой огромный след эти люди оставили в его тогда еще детской душе! Для них Чернышевский тоже был пророком... Конечно, старик прав! Будущая революция непременно поставит русского рабочего в первые ряды сражающихся за правду.
Обручеву устроили удобный ночлег, но, растревоженный разговором, он полночи не спал. Как богата жизнь необычайными людьми, неожиданными встречами! В просвещенной столице порою наталкиваешься на вопиющее чиновничье бездушье, закоснелость в предрассудках, полное безразличие к народу, к судьбам родной страны, а здесь, в медвежьем углу, такая смелость, широта взглядов... Но кто же он, этот подполковник? Что-то значительное и глубоко печальное есть в нем.
Через день Обручев сердечно простился с подполковником и хорунжим. Маленький отряд двинулся на север по долине реки Мургаб.
Не успели отъехать от Тахта-Базара, как старший казак спросил Владимира, понравился ли ему подполковник. Обручев и прежде замечал, что его казаки на любой населенной остановке мгновенно разузнавали все местные дела и новости. И на сей раз они рассказали, что подполковник здесь «вроде как в ссылке, потому, значит, неблагонадежный... А хорунжий должен за ними надзирать, хотя и младше годами и чином. Но только стрелки говорят, что он подполковника очень уважает и в обиду не дает».
Так разрешились недоумения Владимира насчет скромного положения бывалого офицера. Он всего этого еще не знал, прощаясь со стариком, и теперь понял, почему так хотел сказать что-то значительное, когда пожимал крепкую руку подполковника, почему пытался неясными словами выразить ему свое сочувствие и уважение. Трагическая судьба этого человека наложила на него отпечаток, и это понял даже случайный приезжий...
Путь лежал по берегу полноводного мутно-желтого Мургаба. К воде близко подходили пески. Ближайшей ночевкой оказался пост Сары-Язы. Здесь Обручева тоже приютил офицер. Из разговора с ним Владимир узнал, что буквально все военные на этом посту болеют пендинской язвой. Этот небольшой прыщик не болит, но мокнет, долго не заживает и оставляет после себя безобразные рубцы. Страдал от пендинки и сам хозяин и его денщик, приготовлявший гостю постель. Решив, что он тесно не соприкасался с больными людьми, Обручев надеялся, что не заболеет, но уже через несколько дней, в Мерве, обнаружил на ноге язву. По счастью, он захватил болезнь вовремя, и сулемовые примочки довольно скоро вылечили ее.
Из Мерва путешественники двинулись на восток вдоль полотна железной дороги. Тут было более оживленно, попадались поля, бахчи, поселки... Возле станции Байрам-Али только начало вырастать крохотное селенье. Обручеву сказали, что Байрам-Али — первое в России место по годовому количеству солнечных дней. У него мелькнула смутная мысль, что это свойство городка медицина должна как-то использовать. Много лет спустя, когда в Байрам-Али открылся превосходный санаторий для почечных больных, Владимир Афанасьевич вспомнил об этом.
Песчаные бугры, которые долго сопровождали экспедицию, здесь буквально обступали линию железной дороги. Постепенно они становились все более высокими и оголенными, а за строящейся станцией Репетек превратились снова в барханы. Но песок здесь был такой сыпучий, что барханы, даже довольно высокие, не имели правильной формы, как на окраине Каракумов. Вершины их без острых рогов или гребней полого переходили в седловины.
Как-то вечером Владимир поднялся на высокую вершину бархана и подивился тому, насколько несхожи пески с разных сторон. С северо-востока их подветренные склоны были похожи на огромную лежачую лестницу, а на юго-западе застыло желтое море с недвижными волнами.
Несколько дней путешественники шли вдоль линии железной дороги. Лошади по колено увязали в песке.
Однажды подул сильный встречный ветер и по наветренным склонам барханов побежали песчаные змейки. Воздух очень скоро стал мутным от крутящейся пыли, и в нем висело красное, точно налитое кровью, солнце. Песок больно царапал лицо.
— Очки! Надевайте очки, ваше благородие! — закричали казаки.
Они закрыли лица платками, а Владимир быстро разыскал и надел специальные очки с боковыми сетками, предохраняющие глаза. Песчаная буря длилась долго. Только к вечеру стало тише, и отряд смог ехать дальше. Обручеву этот день показался тяжелым испытанием.
— Что вы, ваше благородие! Это пустяки! Не такие ветры здесь бывают, — уверял старший казак.
Поздно вечером измученные путники въехали в селенье Чарджуй и, едва добравшись до скверного постоялого двора, уснули мертвым сном.
Чарджуй был последней станцией, до которой в этом году должна была дойти дорога. Возле этого селения собирались построить большой мост через Аму-Дарью. Городок вырастал на глазах, в нем было уже много глинобитных домов, духанов и постоялых дворов.
После однодневного отдыха в Чарджуе Владимир и его спутники повернули обратно, торопясь на укладку дороги, которую миновали на своем пути. Истекал третий месяц путешествия, материала было собрано много, и Обручев хотел как можно скорее поделиться своими соображениями с генералом Анненковым.
На обратном пути он наблюдал, что сделал за один день ветер. Песчаные косы, пересекавшие полотно, порою поднимались в высоту на аршин и больше, всюду виднелись глубокие желоба. Ветер дул не вдоль полотна, а наискось, потому и разрушения были так серьезны.
Снова переночевав у колодца близ Репетека, маленький отряд, наконец, прибыл на укладку. Здесь стоял поезд, в котором размещались солдаты-строители. В отдельных вагонах жили офицеры, каждый, не исключая самого Анненкова, занимал одно купе. Были здесь вагон-баня, вагон-столовая, вагон-канцелярия. Жизнь на этом биваке кипела, всюду движение, у всех озабоченный, деловой вид. Владимир знал, что строители торопятся к началу морозов дойти до Чарджуя.
Соскочив с лошади, Обручев немедленно отправился к генералу.
— Позвольте доложить об окончании полевых работ в пределах Закаспийской области, — отрапортовал он.
Анненков, хмурый и озабоченный, при виде молодого геолога расплылся в улыбке.
— Прекрасно, мой юный друг! Отдохните, стряхните с себя дорожную пыль, и милости прошу к ужину в офицерское собрание. Там вы расскажете нашим инженерам и офицерскому составу о результатах своих изысканий.
Яркий свет, белизна скатерти, шум и смех собравшихся ошеломили Обручева, когда он вошел в столовую. Правда, это был всего-навсего товарный вагон, со щелями в стенах и плохо пригнанными досками пола, но по сравнению с костром в песках и вечерней трапезой из кашицы и солдатских сухарей все здесь казалось ему роскошным.
Офицеры встретили его дружественно, генерал был благодушен. И, видя их внимание и гостеприимство, Владимир думал, что эти веселые, приветливые люди ведут здесь очень нелегкую, лишенную удобств жизнь, работают не за страх, а за совесть. Он должен предостеречь их. Должен убедительно доказать, что едва ли имеет смысл вести дорогу через каракумские пески. Все труды могут пропасть даром.
Когда ужин подошел к концу, Анненков постучал ножом о край стакана.
— Прошу, внимания, господа!
Владимир поднялся, оглядел загорелые лица офицеров и начал, немного волнуясь, но скоро справился с собою. Рассказал о степной окраине песков, с ее пролювием и такырами, о лёссе и его образовании, о том, как он делает почву степи плодородной... Потом заговорил о песках грядовых, барханных и бугристых.
— Наступление песков на степь приходилось наблюдать во многих местах, — говорил он. — Даже там, где барханы покрыты растительностью, пески движутся, и на гребнях барханов создаются ложбины, корни кустов обнажаются и при постоянных ветрах легко могут погибнуть. А в тех местах, где пески вовсе не закреплены растительностью, движение их более энергично, они представляют собою серьезнейшую угрозу всякому строительству, а строительству железной дороги подавно.
Он заметил, что Анненков поднял голову при этих словах, а некоторые офицеры молча переглянулись.
— Сам по себе ветер — очень опасный враг строительства, — продолжал Обручев. — Но ветру еще как-то можно противостоять. Хуже то, что у ветра есть очень усердные помощники. Это люди и животные. Там, где живут кочевники, как правило, имеется колодец. Казалось бы, присутствие воды должно способствовать развитию растительности. На самом деле совсем не так. Кусты в таких местах вырублены на топливо, трава начисто съедена и вытоптана скотом, местность оголяется и становится доступной нашествию песков. Кочевники же, опустошив один участок степи, переходят на другой, и через некоторое время он тоже становится добычей песков. Новая молодая растительность слишком слаба, чтобы оказывать сопротивление пескам. Вот мои зарисовки, я прошу рассмотреть их. Тут ясно видно, как под защитой небольшого кустика происходит накопление песка, как песчаная коса растет и, наконец, погребает под собой куст и превращается в типичный бархан.
Он переждал, пока слушатели рассматривали рисунки.
— Грядовые пески Каракумов в основном закреплены растительностью и неподвижны, но скотоводы- кочевники со своими стадами и там* уничтожают траву и кусты. Взрытый, истоптанный песок, как более рыхлый, подхватывается ветром и отлагается степными барханами. Отдельные барханы в степи —• авангард наступления песков.
Огромный вред приносят и колонии грызунов, сусликов, или евражек, а также песчаных крыс. Их поселения очень обширны. Эти зверьки не дают песку закрепиться, роют норы с бесчисленными ходами, объедают корни кустов и трав, выбрасывают много песка из нор на поверхность, а его подхватывает ветер.
Владимир рассказал о пустынных ветрах, упомянул о песчаной буре, с которой встретился близ станции Репетек, и описал все разрушения железнодорожного полотна, которые ему пришлось видеть.
— Все это вызывает у меня серьезнейшие опасения за будущее железной дороги. Сделана уже очень большая часть работы, но, если не принять экстренных мер,' она может оказаться выполненной впустую. На многих участках, особенно на таких, как участок между Мервом и Аму-Дарьей, песок будет всегда мешать дороге и, наконец, остановит движение, если немедленно не начать посадку кустов и деревьев.
Генерал слушал вначале с большим интересом, благожелательно улыбаясь, а под конец начал хмуриться, и лицо его стало суровым. Однако Обручев не смягчил своих выводов. Он коротко рассказал еще о состоянии обследованных колодцев и признал водные резервы края тоже не слишком обнадеживающими. Когда он сел на свое место, то почувствовал усталость не меньшую, чем после трудного дневного перехода по пескам.
Некоторое время все молчали. Очевидно, и офицеров сообщение Обручева огорчило.
— Ну-с... — заговорил, наконец, Анненков. — Поблагодарим господина геолога за его рассказ. Поработал он изрядно... Но что касается безнадежного утверждения, что пески погубят нашу дорогу, я думаю, здесь явное увлечение теориями. Это свойственно молодежи. Опасность заносов сильно преувеличена. С песками мы справимся!
Все в облегчением заговорили, зашумели, вставая из-за стола.
«Они уже столько сделали!.. Верят в эту дорогу, любят ее, — думал Владимир, одиноко стоя в стороне, — а я их так разочаровал. Но все равно я должен был честно сказать о своих сомнениях».
Он стал пробираться к выходу, но кто-то мягко дотронулся до его плеча. Владимир обернулся, на него сочувственно смотрел Хилков.
— Вы не смущайтесь, юноша, — улыбаясь, сказал он. — Старика, — он показал глазами на Анненкова, — тоже нужно понять... Ведь при дворе невероятные споры были из-за этой дороги. Сумасшедшим проектом ее называли. Заносы, воды нет, — перечислял он, загибая по одному тонкие длинные пальцы, — возить ее далеко, с Мургаба да Аму-Дарьи... Думали, что туркмены начнут таскать шпалы на топливо... Но как быть? Ташкент — столица Туркестана должна быть связана с Петербургом! Военные части размещать в крае надо? Застраивать эти места надо? Нельзя без дороги! И через Каракумы самый короткий путь. Анненков в Государственном совете слово дал справиться. Конечно, ваши выводы его не устраивают. И помяните мое слово — он прав. Дорога будет!
Впоследствии Обручев вынужден был признать, что действительно Анненков и Хилков были правы. Песчаная буря близ станции Репетек и разрушения, которые она причинила, сильно повлияли на его выводы. На самом деле пески наступали гораздо медленнее, чем думал молодой геолог. Случалось, что полотно железной дороги оказывалось занесенным, но это бывало не чаще, чем снежные заносы где-нибудь на севере. Кстати, и ни одно из опасений правительства не оправдалось. Воду частью подвозили, частью добывали из новых колодцев, выкопанных на станциях. И ни одному местному жителю не пришло в голову портить и разрушать дорогу. Наоборот, к ней относились с большим интересом и были благодарны строителям, облегчившим передвижение по краю.
Но в тот вечер, уходя из офицерского собрания, Владимир был уверен в своей правоте и чувствовал себя несколько обиженным.
Обида улеглась только в Мерве, где он дружески распрощался со своими спутниками-казаками.
Обручев двинулся домой, в Петербург, мечтая о скорой встрече с Лизой. Как он мог так мало вспоминать о ней во время путешествия! Странное свойство человеческой души — забывать о самом дорогом в увлечении работой...
Теперь они не скоро расстанутся. Сколько будет разговоров, восклицаний, смеха! Он расскажет ей подробно обо всем, что видел и испытал...
Но разве все расскажешь? Разве передашь, например, очарование того вечера на Теджене, когда казаки ждали тигра? Или волнение, с которым он проезжал персидский городок Лютфабад? А ужин в посту Тахта-Базар? Этот седой подполковник... И больная девушка в туркменской кибитке... А главное — спокойное и древнее величие пустыни, та музыка, что и сейчас звучит в нем. Из чего она слагалась? Из сухого шелеста песков, посвистывания евражек, звона нагретого воздуха?.. Все равно! Она была прекрасна, и он не успокоится до тех пор, пока снова не услышит ее!
«Я сюда вернусь! — говорил себе Владимир, стоя у раскрытого окна вагона и подставляя лицо ветру, улетавшему в пустыню, — Вернусь непременно. Непременно!»
Только версты полосаты Попадаются одне.
И вернулся! Правда, только через год, но вернулся...
Обручеву показалось, что эти слова он произнес вслух. Открыв глаза, он сел и, совсем очнувшись от своей полудремы, оглянулся кругом.
Серая, унылая равнина расстилалась перед ним. Вдали темнели горы, заросшие сине-зеленым, как издали казалось, лесом, а за ними на горизонте высились покрытые снегом пики.
На горах уже снег, а его с семьей всю долгую дорогу преследовали дожди, невероятная грязь и холода сибирской осени...
Владимир Афанасьевич взглянул на жену. Елизавета Исаакиевна, тепло закутанная, мирно спала. Как она, бедная, устала за сорокадневное путешествие! Но сегодня они должны быть в Иркутске.
Маленький Волик тоже спит. Из пушистого заячьего меха выглядывает круглое розовое личико. Как хорошо Лиза придумала сшить мешок из меха, в него вложить второй мешок, клеенчатый, и класть туда ребенка! Семимесячному путешественнику и тепло и просторно, он может двигать руками и ногами. Заячий мешок завязан у шеи малыша, на голове теплый капор. За весь путь он ни разу не чихнул. Не простудить бы после приезда... Удастся ли сразу найти. теплую удобную квартиру?.. Впрочем, об этом нужно заботиться на месте. Доехать бы скорей!
— Ямщик, приедем сегодня?
— Дак как же! Приедем! Часа через два переправимся через Ангару, а там и Иркутск.
Обручев снова откинулся на подушки. Ехать в тарантасе приходилось почти лежа. Если бы не бесконечная тряска, пожалуй, даже удобно. Но последние дни дорога стала ровней, и погода исправилась. Это не то что перед Красноярском, где то подъем, то спуск и грязь непролазная...
Кажется, никогда в жизни до сих пор не было у него столько дней вынужденного безделья, как в этой нескончаемой дороге. Можно и пофантазировать о будущем и оглянуться на пройденный путь...
Мысли его снова вернулись к той поре, когда он закончил свое первое путешествие по Закаспийскому краю.
В Петербурге, куда он вернулся после доклада генералу Анненкову, его ждал призыв на военную службу. Смертельно не хотелось прерывать работу и тратить драгоценное время на казарменную муштру, но делать нечего. Он надел военный мундир.
Спасибо доктору Штольцу, у которого в клинике работала Ида. Он с кем-то поговорил, где-то похлопотал и устроил так, что Владимир смог отбывать воинскую повинность в Петербурге. В свободное время он мог жить дома. Этого свободного времени было немного, но все же ему удавалось работать над отчетом о своей экспедиции.
Ему тогда казалось, что он живет одновременно тремя различными жизнями. Один Владимир Обручев вовремя заступал в караул, следил за тем, чтобы пряжки и пуговицы были начищены до блеска, старался не попадаться на глаза придирчивому фельдфебелю. Второй — раскрывая свои полевые записки, мгновенно забывал и казарму и фельдфебеля, видел перед собой волнистые гряды песков и дрожание знойного воздуха над ними. А третий был молодо и бездумно счастлив с Лизой.
Смирились с выбором дочери старики Лурье, Лиза приняла лютеранство... Только Полина Карловна продолжала уговаривать сына не делать безрассудного шага. А он... он избрал благую часть: с матерью не спорил, писал ей неизменно ласково и почтительно, но своих позиций не сдавал. Он был искренне уверен, что придет время, и Полина Карловна одарит Лизу своим материнским попечением, только не нужно торопить ее, требовать того, чего она сейчас дать не может.
Женатым человеком он стал в феврале тысяча восемьсот восемьдесят седьмого... Каких трудов стоило венчание!.. Во время отбывания военной службы вольноопределяющийся мог вступить в брак только с разрешения начальства, а для этого нужны были длительные хлопоты. Владимир решил обойти ненужные формальности. Пришлось искать священника, который согласился бы обвенчать без разрешения. Насилу нашли такого где-то на Черной речке.
А мать и на свадьбу не приехала и сейчас в Сибирь его не проводила... Но она смягчится, иначе быть не может...
Но как мила Лиза в новой для нее роли жены и хозяйки! Как оживленно щебетала она в кухне, надев нарядный передник, как торжественно вносила в столовую какое-нибудь замысловатое блюдо, чтобы угостить своего «солдатика». А когда брат непочтительно называл ее Лизкой, окидывала его строгим взглядом и горделиво выпрямлялась: Елизавета Иса- акиевна Обручева, к вашему сведению!
И что удивительно — угощение всегда оказывалось вкусным и недорогим, она сразу показала себя умелой и экономной хозяйкой. Нравоучение брату было, конечно, шуткой, но держаться при посторонних она стала строже, сдержанней, девическая шаловливость сменялась скромным достоинством молодой счастливой женщины.
Но никакое счастье не могло помешать .ему снова уехать в Закаспийскую область!
Осенью он сдал экзамен на чин прапорщика, уволился в запас и отправился в новую экспедицию. О, на этот раз он чувствовал себя уже бывалым путешественником!
И на первых же порах попал впросак. Выехав из Чарджуя, уснул в арбе, а проснувшись ночью и увидев сверкавшую в лучах луны совершенно белую степь, спросил:
— Когда же это выпал снег?
Возница расхохотался.
— Соль это! Соль, а не снег. Большой солончак проезжаем.
До Чарджуя он добирался по железной дороге, ее уже довели до Аму-Дарьи... Интересно было следить за тем, как стальной путь, проложенный в пустыне, изменяет лицо края. Кызыл-Арват, раньше оживленный, стал тихим и безлюдным: управление дороги ушло оттуда дальше на восток. Станция Уч- Аджи, наоборот, отстроилась, прежде там стояло несколько кибиток, а теперь он увидел очень опрятное здание станции и другие постройки. Телеграфная линия уходила от станции в пески, и ему объяснили, что в пяти верстах от Уч-Аджи оказались хорошие колодцы. Какой-то старый туркмен вспомнил о них и привел туда людей. Вода была несоленой, и возле колодцев построили водокачку, поселили там машиниста с двумя рабочими и к железнодорожной водоразборной колонке провели оттуда трубу. Он тогда записал эту историю с колодцами и подумал, что нужно выяснить, каким образом в песках вдруг оказался такой полноценный водоносный слой...
Из окна вагона он видел уже знакомую картину песчаной бури. Снова пылало в мглистом воздухе багровое солнце, струйки песка вздымались с барханов. Скоро пыль заскрипела на зубах, она находила любые щели, чтобы проникнуть в вагон. Поезд пошел медленней, и ему сказали, что песок засыпает рельсы, но вместе с поездом следуют рабочие бригады, они, когда нужно, расчищают путь. А чтобы ветер не выдувал песок из-под шпал, в насыпь втыкают пучки хвороста почти горизонтально. Такой ощетинившийся прутьями пучок лучше предохраняет путь от песка, чем воткнутый вертикально.
Он мысленно похвалил Анненкова, Хилкова и всех строителей. Молодцы! Разумно распоряжаются.
Вот только мост через Аму-Дарью еще не готов. Река эта постоянно меняет русло. Нынче весною тоже свернула с главного пути, пошла по мелкому участку. А там сваи были забиты не очень прочно, вот большая часть уже готового моста и обрушилась...
В Чарджуе он купил арбу для поклажи и верховых лошадей для себя и конюха, который был и поваром. Через Аму-Дарью переправлялись на больших лодках — каюках. От охраны он отказался.
Путь был безопасен, места от Чарджуя до Самарканда достаточно населены.
И началось путешествие. Снова солончаки, такыры, бугристые пески... Они перемежались почти голой степью. Опять привычная работа целиком захватила его.
С приближением к Бухаре дорога становилась все оживленней. Возделанные поля чередовались с кишлаками. В город и из города шли надменные верблюды с поклажей, бежали серые ишаки, до того нагруженные сеном или хворостом, что казалось, будто вороха сухой травы и прутьев сами бегут вперед на четырех тонких ножках. Порой на прекрасном коне скакал знатный человек в белой чалме. Все они или побывали в Бухаре, или спешили туда.
И вот, наконец, перед ним возник этот легендарный город — «Бухара-эль-шериф», как называли его в древности, — «благородная Бухара».
На фоне ярко-синего, не потревоженного ни единым облачком неба вырисовывались желтые глиняные стены, зубчатые ворота, а за ними минареты, башни, купола мечетей...
Караульные солдаты в красных мундирах пропустили его со спутниками через ворота. Они ехали по улицам, таким узким, что арба занимала все свободное пространство, а пешеходы жались к стенам. Вокруг шумел, торговался, работал старый восточный город. Скрипели домашние мельницы, слышался стук маслобойки, красильщик выплескивал из чана оранжевую воду, хлебопек выпекал на открытом очаге лепешки, уличный цирюльник брил желающих, медник стучал молотком в своей крохотной темной мастерской.
Обручев кое-как устроился в караван-сарае, где размещалось управление дороги, и ушел бродить по улицам. Весь следующий день он тоже бродил и чувствовал, что этого мало, мало...
Над четырехугольными, выложенными камнем прудами — хаузами склонялись необыкновенно изящные деревья, как ему показалось. Присмотревшись, он с удивлением узнал в них простые ивы.
У хаузов стояли чайхане[8] ,где на помостах, покрытых пыльными коврами, сидели, поджав ноги, люди в пестрых халатах и не спеша, пиалу за пиалой пили зеленый чай. В съестных лавках жарили пирожки, варили в красном нестерпимо жгучем соусе большие пухлые пельмени. Кучка нищих — дервишей с Длинными посохами двигалась среди толпы, громко выкрикивая слова молитв, приплясывая в религиозном экстазе и выклянчивая милостыню. Сводчатые торговые ряды выставляли напоказ ковры, шелка, халаты, вышитые тюбетейки, великолепные покрывала — сюзане. Закон Магомета запрещает изображения людей и животных. Восточным художникам и вышивальщицам остается один растительный орнамент, и какой же роскошной вязью рассыпается он по коврам, покрывалам и тюбетейкам!
А старинные мечети и медресе тоже, словно вышивкой, покрыты удивительной мозаикой из пестрых изразцов... Эти алебастровые сталактиты ржавых и зеленоватых тонов на куполе мечети Магоги-Курпа!.. Многие минареты увенчаны большими растрепанными гнездами; иногда в гнезде задумчиво стоит на одной ноге его хозяин — аист, и тонкий силуэт птицы отчетливо рисуется в небе.
Он долго смотрел на внушительные стены «арка» — цитадели резиденции эмира. Эмир бухарский, как говорят, живет среди пышной и безвкусной роскоши... А путь от ворот арка ко дворцу — это длинный крытый коридор, и по бокам его стоят клетки, где заперты узники — враги эмира. Люди, идущие во дворец, швыряют в них грязью и камнями. Над воротами цитадели висит символ эмирской власти — плеть, или «камчин Рустама» — легендарного богатыря.
Странное и грустное впечатление оставлял этот город, желтый под синим небом. Осыпающаяся глина, дряхлость и пестрота, великолепие ярких изразцов и большие кучи мусора на улицах, горы роскошных фруктов и цветов на базарах и множество нищих, чудесные ковры и стаи голодных собак, нарядные всадники на горячих конях со сбруей, украшенной бирюзой, и голые дети...
После Бухары началась степь Карнак-Чуль, каменистая равнина с белой .дорогой и тучами белой пыли над ней. Оказалось, в почве много гипса. А дальше пошли отложения лёсса. У города Катта-Курган лёссовая толща была уже пробита для будущего полотна железной дороги.
Он впервые увидел такие мощные отложения лёсса и с увлечением начал изучать эту породу. Она легко поддавалась растиранию, превращаясь в мельчайшую пыль. Брошенный в воду кусок такого суглинка долго выделял пузырьки воздуха, так как весь был пронизан порами, в которых держится воздух. В толще лёсса он нашел тогда много костей животных и раковин сухопутных моллюсков. Снова пришлось задуматься над тем, прав ли Рихтгофен. В его книге говорится, что лёсс образовался в результате разрушения горных пород, превращенных в мелкую пыль и принесенных в долины с гор водою и ветром. Но эти увалы лёсса были очень мощными и находились далеко от гор... Может быть, они возникли каким-то иным путем? Но каким именно? Ему и сейчас это неясно, но он не перестанет искать ответа на вопрос, заданный самому себе. Кто знает, может быть, придется еще поспорить с кумиром юности Рихтгофеном? Пришлось ведь спорить с горным инженером Коншиным, исследователем Средней Азии, человеком, сильно превосходившим его по опыту... Коншин считал, что такыры образованы древним морем, что они были когда-то лиманами или озерами морского происхождения. Но, кажется, мнение Обручева, что такыры — новые образования и создаются горными потоками, приносящими в степь ил и глину, его ученые коллеги признали более убедительным.
А тогда он с этими размышлениями о лёссе въехал в Самарканд. Город показался ему чище и нарядней Бухары. Блистали красотой мечети и минареты: сильно пострадавшая от времени мечеть Биби-Ханым, любимой жены Тимура; усыпальница самого «железного хромца» — Гур-эмир с великолепным куполом; место упокоения многих тимуридов — Шах-и-Зинда — величественный портал входа и за ним длинный коридор смерти с усыпальницами по сторонам... Горят на солнце изразцы древних мозаик, на базарах все великолепие плодов земных...
Жилистые кулаки гранатов, пылающие светильники красных перцев, восковые конусы груш, прозрачные пальчики винограда... Все это кажется не грубой снедью, а произведением искусства.
Но долго любоваться этой роскошью было нельзя. Он выехал на осмотр месторождений бирюзы, графита и нефти, обследовал их и пришел к выводу, что они бедны и не стоят серьезных разработок. А потом... потом надо было возвращаться.
Больше всего он доволен своей третьей экспедицией. Для окончания работы в Закаспийской области ему надо было изучить Келифский и Балханский Узбои — предполагаемые старые русла Аму-Дарьи.
Результаты первой экспедиции изложены в статье «Пески и степи Закаспийской области». Статья напечатана в «Известиях Русского географического общества» и замечена специалистами. По ее поводу он слышал не мало лестных слов. Хвалили обстоятельность наблюдений молодого ученого, оригинальные выводы, говорили, что классификация типов песков и теория происхождения такыров очень убедительны. И этого мало — благодаря статье он избран действительным членом Русского географического общества и получил за нее Малую серебряную медаль. Это радует, но и несколько смущает. Ведь статья — его первая печатная работа, плод первой научной поездки... Но тем более тянет продолжать начатое дело.
В третью экспедицию он отправился, не успев приобщиться к радостям отцовства. Волик родился в конце февраля, когда отец его уже выехал в Чарджуй. Но Ида заверила его, что не оставит сестру, и в полученных в Чарджуе телеграммах говорилось, что Лиза и мальчик здоровы. Нет, 1888 год складывался удачно. Он получил славного малыша и совершил очень содержательное путешествие.
На этот раз в Чарджуе пришлось купить трех верблюдов и двух лошадей, был нанят конюх, он же кашевар, и туркмен-проводник. Не забыты бочонки для воды и палатка — впереди лежал путь по безлюдной и безводной местности.
Начался трудный поход по левому берегу Аму- Дарьи. Он изучал пески и глины этого левого берега, а сам с тоской поглядывал на правый. Там тянулись увалы из третичных пород, в них интересно было бы покопаться. Но... переправ через реку не было, вброд ее не перейти — глубоко, переплыть трудно — течение быстрое. Но и здесь, на левом берегу, удалось разрешить интересный вопрос. Густые сады, бахчи, дома и огороды крестьян, что тянутся вдоль по реке за Чарджуем, часто оказываются занесенными песком. Он решил, что виноваты в этом отмели и острова. Когда Аму-Дарья мелеет, они обнажаются, а так как песок на них не закреплен растительностью, то, высыхая, он уносится ветром.
От города Керки, наняв там нового проводника, пошли по барханным пескам к Келифскому Узбою. В этой древней пустынной долине он долго работал, совершая далекие походы. Нужно было составить себе ясное представление об особенностях Узбоя.
Старое мертвое русло... Оно состоит из шоров. Слово «шор» — значит «соль» на иранских языках. Цепочкой друг за другом располагаются впадины, то обширные, до десяти верст в длину, то более короткие, две-три версты. Дно у шоров солончаковое — или белое от соли, или покрытое мутной соленой водой. Перемычки между впадинами песчаные. Вот что такое Узбой.
Он пришел к выводу, что по этому руслу несомненно текла когда-то Аму-Дарья, а может быть — часть ее, отделившаяся от основного русла, и, постепенно отклоняясь в сторону, ушедшая в пески. Само расположение шоров говорит о том, что Узбой прежде был рекой. Состав дна и берегов тот же, что у Аму-Дарьи, — слоистый глинистый песок, плотные и пористые глины. И туркменские пастухи уверяют, что слышали от дедов и прадедов предание о реке, протекавшей некогда в этих песках... А развалины башни Зеид на берегу Узбоя? Конечно, здесь прежде жили люди. В голой пустыне не станут строить башен. Может быть, даже река отклонялась на запад сильнее, чем он предполагал. Этим можно объяснить существование колодцев с прекрасной водой, найденных в песках за станцией Уч-Аджи.
От Келифского Узбоя пошли к юго-западу через бугристые пески. Тут уже появились трава, саксаул, сами бугры стали плоскими, и, наконец, отряд оказался на равнине. Сколько там было черепах! И как раз все припасы, взятые из Керки, подошли к концу. Эти черепахи очень вкусны.
Такой тип равнины он назвал песчаной степью. Может быть, если осадков достаточно, а люди и стада не портят растительность, бугристые пески могут превратиться в такую степь? Может быть... Это еще недостаточно ясно.
Обратно он плыл в лодке с одним из своих помощников, останавливаясь для обследования третичных отложений в увалах правого берега реки. Другой рабочий с лошадьми и верблюдами добирался до Чарджуя прежним путем.
Потом Мерв... Оказалось, что тропа в Хиву заброшена, караваны по ней больше не ходят, жившие там кочевники ушли в другие места, колодцы занесены песком. Пришлось ехать по железной дороге в Кызыл-Арват. Хлопотливый был путь! Как боялись верблюды входить в товарный вагон, как жалобно кричали!.. Зато в Кызыл-Арвате сразу нашли проводника и вышли в поход к Балханскому Узбою.
На этом пути он воочию увидел образование такыра. В степи их застал небольшой дождь, но в горах Копет-Дага, по-видимому, была сильная гроза. Когда отряд на подходе к пескам двигался по такыру, с гор стремительно сбежал и разлился мутный поток. Они шлепали по воде, пока не выбрались на песчаные холмы, а потом увидели свежий слой ила, затянувший такыр.
Углубляясь в пески, он снова услышал удивительную музыку пустыни. На этот раз она была особенно торжественна. Пустыня праздновала весну! Здесь, вдали от людских поселений, на песках кое-где ярко зеленела молодая трава, чахлые кустики саксаула поднимались до высоты настоящего деревца, а ошалевшие от весеннего воздуха зайцы стремительно выскакивали из-под кустов, пугая верблюдов. А однажды он увидел на песке большую ящерицу — варана.
Балханский Узбой... Здесь прежний путь воды был виден еще яснее, чем на Келифском. Когда-то эта река соединяла большое Сарыкамышское озеро с Каспийским морем.
Коншин считает, что Узбой был морским проливом. Нет, с этим никак нельзя согласиться! Это, несомненно, пресная река, а не пролив из Арала в Каспий. Через эту реку лишняя вода из Сарыкамыша уходила в Каспийское море. В красно-серых глинах берегов попадаются раковины пресноводных моллюсков. По дну Узбоя тянутся и пресные и соленые озера. Пролегая в твердых породах, русло образует кое-где уступы. Какими великолепными водопадами свергалась когда-то с этих уступов вода!
Он нашел на берегах давно вырытые колодцы, питавшиеся, конечно, речной водой. Возле одного из колодцев обнаружились остатки фундамента и невдалеке грубо обтесанные могильные камни кладбища. А дальше по берегу новая находка — небольшой пруд и остатки желоба, шедшего к реке. Еще одно подтверждение. Никто не станет отводить на поля соленую морскую воду...
По руслу шли, пока оно не стало мелеть. Самая интересная часть его была пройдена. Тогда он повернул на восток, ему хотелось осмотреть Унгуз.
По пути он думал о больших такырах, идущих вдоль русла Узбоя один за другим и разделенных песчаными грядами. В полуденную жару издали голубоватая поверхность такыров была так похожа на озера, что он невольно торопил коня, мечтая о воде. Потом привык и уже не обманывался. Но почему здесь столько такыров? Значит, русло никогда не вмещало всей своей воды и постоянно разливалось?
Очевидно, разливами и созданы эти такыры. Чем дальше от Узбоя, тем они становились уже, потом совсем исчезли и снова появились уже на подступах к Унгузу.
Унгуз — это цепь красноватых такыров и серых шоров. Такыры твердые, сухие, а шоры пухлые, часто с горько-соленой водой, с кристаллами гипса на дне. Эта красно-серая цепь пролегает у подножья чинков — обрывов, сложенных песчаником, глиной и песками. Они прорезаны рытвинами и промоинами, то выступают мысами, то углубляются. Похоже, что эти чинки были образованы в древности Каспийским морем, ведь когда-то оно покрывало всю низменную часть Туркестана.
В эту поездку он собрал очень большой материал и полностью узнал, что такое пустынное одиночество. Ни единой живой души отряд не встретил ни на Балханском Узбое, ни на Унгузе. В этом была своя прелесть, ничто не мешало работать, никто не прерывал неторопливую цепь его размышлений. Дикие просторы казались поистине бескрайними, и его тешила мысль, что ржание коней и голоса рабочих — первые звуки, слышимые пустыней после долгого молчания. Умолкнут они, и опять надолго воцарится тишина. Но безлюдье несло с собой и неудобства. Плохо было с провиантом, люди отощали, питаясь сухарями, чаем и скверным рисом, больше ничего у них не осталось. Неприхотливые верблюды довольствовались скудной растительностью песков, а лошади сильно страдали без хорошего корма.
Правда, он мало думал тогда об удобствах... Не то что теперь, когда с ним двое дорогих людей. Впрочем, Волика человеком еще не назовешь. Он только детеныш, но тревога о нем не оставляет ни на минуту...
А тогда он больше думал об Узбое. Еще греческие и арабские географы писали об этом непонятном русле в песках. Петр Великий мечтал пустить воду по Узбою и плыть по нему из Каспийского моря в Азию, чтобы добраться до Индии. И позже составлялись проекты, как повернуть Аму-Дарью и заставить ее течь по Узбою. Но сможет ли Узбой вместить все ее воды? Кроме того, долина Узбоя проходит по каракумским пескам, где мало пригодной для обработки земли.
Пески Каракумов он признал не морскими, как думал Коншин, а отложенными Аму-Дарьей. Когда- то она текла на запад вдоль Копет-Дага и впадала в Каспий, а затем повернула на северо-запад и, откладывая пески, постепенно принимала современное направление к Аральскому морю. Узбой — Келифский и Балханский — бывшие русла Аму-Дарьи. Но нужны большие, хорошо снаряженные экспедиции, чтобы изучить этот вопрос всесторонне. Состоятся ли они когда-нибудь? Примет ли он в них участие? Теперь, во всяком случае, он надолго оторван от Средней Азии. Никаких новых геологических исследований там не предполагается. Впереди долгая работа в Сибири.
Как неожиданно это получилось! Он с Лизой и маленьким Воликом мирно жил на даче в Сестрорецке, работал над отчетом о своей весенней поездке... И вдруг предложение Ивана Васильевича Мушкетова: в Сибири впервые открывается штатная должность геолога при Горном управлении в Иркутске. Иван Васильевич очень советовал не упускать эту возможность.
Обручев и сейчас как будто слышит голос своего учителя:
— Возьмите в расчет, что геология Сибири еще меньше изучена, чем Средней Азии... Подумайте, какие просторы откроются перед вами! Широкие, как широка сама Сибирь.
Это его и соблазнило... А потом, поработав в Сибири, можно будет вернуться в дорогую сердцу пустыню.
Какой неожиданностью для бедной Лизы было его решение! Как она испугалась! Везти семимесячного ребенка в такую даль! Он не выдержит, погибнет. А когда прошли первые минуты волнения и испуга, как мужественно она примирилась с необходимостью оставить Петербург, как деятельно и распорядительно собиралась, сколько проявила выдумки и находчивости!
Только бы она и малыш хорошо переносили здешний климат!
Он взглянул на жену, и ему показалось, что из- под шалей и платков большой печальный серый глаз внимательно смотрит на него.
— Ты не спишь, Лиза?
Ответа нет. Спит, ему показалось...
Но Елизавета Исаакиевна не спала. Она тоже с тревогой думала о будущей жизни в незнакомом краю, о быстро пролетевших годах девичества, о сыне, о муже...
Нет, Обручев уже не тот юноша студент, что поселился у них и первое время почти не выходил из своей комнаты. Тот Владимир казался очень мягким, иногда даже несколько робким с нею...
Сейчас это вполне сложившийся человек. И человек с определенным, твердым характером. Он глава семьи, он требователен. Нет, не капризен, наоборот, совсем неприхотлив и легко мирится с житейскими неудобствами. Его требовательность сводится к одному — он должен спокойно работать. Ему нельзя мешать, нельзя досаждать хозяйственными мелочами. Он с удовольствием будет есть простые щи и кашу, но подать их нужно вовремя, непременно вовремя, он не терпит неаккуратности. Он сделает все, чтобы жене и сыну было тепло, удобно, сытно... А дальше налаживать жизнь нужно ей самой. Он не может вникать во все детали быта. Он занят, он всегда занят...
— Я должен работать, голубка, ты ведь знаешь...
О, эта его пунктуальность, аккуратность, педантичность! Как они иногда надоедают! Зачем, например, он ежедневно записывает погоду? Эти записи никак не обрабатываются, ничему не служат... Просто привык с детства и будет до конца жизни записывать, был ли дождь или ветер, какая температура... Это все влияние матери-немки...
И при такой деловой усидчивости, скрупулезной точности у него есть страсть, да еще какая! Скитания. Разбуди его ночью, подними во время болезни, в самое неудобное для семьи время и предложи ехать в экспедицию... Поедет! С восторгом поедет, даже не оглянется!
Он говорит, что быть первым геологом Сибири — должность обязывающая. Значит, работать будет с утра до вечера. А она окажется предоставленной самой себе. Дом, хозяйство, ребенок... Знакомств в Иркутске никаких, и, наверно, не скоро появятся при его характере.
Ну что же! Она должна быть мужественна. Таков, какой есть, он для нее лучший в мире. И Волик, дорогой малыш... Для них обоих можно иногда и поскучать, даже поплакать. Ее обязанность так поставить дом и хозяйство, чтобы Владимиру действительно ничто не мешало работать.
И она, конечно, этого добьется! Только пусть бы он хоть иногда вознаграждал ее, заботился, чтобы ей было весело, интересно...
Но что это? Впереди огни... И ямщик осаживает лошадей, спускаясь с пригорка... Владимир привстает в тарантасе.
— Эй, братец! Где это мы?
— Ангара, барин! На том берегу — Иркутск!
— Лиза! Лиза! Проснись, голубка, приехали!
Ему везде была дорога, Везде была ночлега сень...
Иркутск. В Восточно-Сибирском отделе Географического общества тихо. На полках высоких шкафов тесные ряды книг. За столом правитель дел — седеющий человек в очках.
— Григорий Николаевич, позвольте представить вам нашего первого сибирского геолога. Владимир Афанасьевич Обручев, прошу любить и жаловать,— говорит служащий отдела.
К столу подходит невысокий ладный молодой человек в форменном мундире горного инженера. Мягко курчавится русая бородка, глаза серьезные, внимательные.
Потанин встает, крепко пожимает маленькую твердую руку.
— Слышал, слышал о вашем прибытии. Ну, как устроились в Иркутске?
— Благодарю, Григорий Николаевич. Устроился вполне сносно. Нашел подходящую квартиру.
— Ну, рад за вас, Чем же теперь занимаетесь? Полевые работы ведь кончились.
— Да, до весны никуда ехать не придется. Пока привожу в порядок геологическую коллекцию в Горном управлении.
— Но там как будто ничего особо интересного нет?
— Совершенно верно. Многое получено из-за границы — к геологии Сибири и отдаленного отношения не имеет. А кое-что от случая к случаю собирали горные инженеры здесь.
— Ну, а у нас в отделе, вероятно, библиотекой интересуетесь?
— Я, Григорий Николаевич, с геологией Сибири мало знаком. Хотелось бы, пока работы немного, познакомиться с литературой по этому вопросу.
— Написано по геологии Сибири немало, но разбросано все это по разным сборникам и журналам. Коли есть время и охота, пожалуйста!
— Материал действительно очень разбросан. Поэтому я решил, что понемногу буду составлять библиографию. Если на отдельных листках выписывать название работы и краткую аннотацию к ней, это в дальнейшем поможет всякому, кто будет знакомиться с геологической литературой о Сибири.
— Великолепно! — оживился Потанин. — Это вы большое дело затеяли. Очень важное. Попутно, может быть, и у нас в музее поработаете? Коллекции наши тоже не приведены в порядок, нуждаются в определениях... Участие геолога в этом деле просто необходимо. Как я жалел, что в путешествии по Тибету, да и во всех экспедициях со мной не было геолога!
— Но все-таки вы собирали образцы горных пород?
— Собирал, только не специально, а занимался этим наряду с гербарием, записями легенд, зарисовками. Так что собрано опять-таки мало, да и отбор случайный... Ну, так прошу вас чувствовать себя свободно, Доступ к книгам вам обеспечен. Работайте.
Потанин был прав. Литература по геологии Сибири оказалась довольно обширной. Обручев просматривал все подряд и аккуратно записывал название и содержание каждой прочитанной статьи. Так началась огромная работа, которую с перерывами он вел всю жизнь, завершил, когда стал уже академиком, и выпустил в свет пятитомную «Историю геологического исследования Сибири».
В тот первый период своей работы в Иркутске он делил день между Горным управлением, где разбирал геологические коллекции, и Восточно-Сибирским отделом Географического общества, а по вечерам возвращался домой непременно со стопкой книг. Когда в управлении не было работы, он мог вообще туда не являться. Но и дома ждало столько дел, что дня не хватало. Он заканчивал отчет об исследованиях в Туркестане — результат всех трех его поездок. Мушкетов ждал эту рукопись, нужно было спешить. Необходимо и почитать и заняться библиографией. Словом, Елизавета Исаакиевна не ошибалась, предполагая, что ее муж будет всегда занят. Службы ему мало, он и дома не отходит от письменного стола!
Но, негодуя на постоянную занятость Владимира Афанасьевича, она старалась так устроить домашнюю жизнь, чтобы его работа шла размеренно и спокойно. Сама мимо кабинета ходила на цыпочках и Велика уносила подальше. Обручев считал даже, что она чрезмерно благоговеет перед его занятиями, и полушутя жаловался на это в письмах к матери.
В то время в Иркутске не так легко было найти сносное жилье. Несколько лет назад город сильно пострадал от пожара и еще не отстроился. Поэтому Елизавета Исаакиевна была счастлива, оказавшись обладательницей четырехкомнатной квартиры. Правда, комнаты небольшие и кухня в подвале, но на первых порах это ее не огорчало. Убранство тоже не потребовало многих хлопот. Купить какую-нибудь мебель здесь, в Сибири, оказалось почти невозможным. Все привозится «из России», как тут говорят, и все немыслимо дорого. А жалованье геолога вовсе невелико. Да и жаль платить деньги за тяжеловесные буфеты, унылые трюмо, громоздкие кресла. Их можно увидеть в любой иркутской квартире. Обручевы купили только то, без чего никак нельзя было обойтись, а ковры и пестрые ткани, привезенные Владимиром Афанасьевичем из Бухары, заменили все остальное. Гостиная получилась совершенно необычная, и Елизавета Исаакиевна, окончив ее убранство, с глубоким убеждением сказала, что, наверно, такой комнаты нет у самого эмира бухарского.
Она радовалась своему уютному гнезду в этом чуждом ей и странном городе, где половина домов представляет собой обгорелые развалины, где долго не замерзающая из-за быстрого течения Ангара в холодные дни вся клубится паром, и поэтому плотная завеса тумана широко расстилается кругом; где молоко продают в виде замороженных кругов, а хлеб, принесенный с холода и твердый, как камень, разогревает в печи.
Владимир Афанасьевич писал Полине Карловне, что у Елизаветы Исаакиевны «есть сынишка и хозяйство, требующее изобретательности и возбуждающее ее интерес своими весьма большими отклонениями от европейских форм. У маленького Воли есть папа и мама, соска и погремушка, так же, как и дома в Петербурге, и, как подлинный философ, он ни на минуту не заботится об остальных пяти частях света с их наслаждениями и лишениями. У меня мои служебные обязанности и научная работа, прежде всего чрезвычайно интересное изучение геологического строения Сибири»..
Из прочитанной литературы особенно увлекли Владимира Афанасьевича труды Чекановского и Черского. Они изучали берега Байкала и южную часть Иркутской губернии. По-видимому, и он сам будет с этого начинать.
Очень радовало Обручева знакомство с Потаниным.
Он и прежде слышал о нем как о неутомимом путешественнике, смелом исследователе Азии. Уже одно это казалось захватывающе интересным. Но Потанин, как рассказывали, был и человек незаурядный: самоотверженно честный, благородный. Вместе с друзьями — Ядринцевым, Колосовым, Щаповым в 1865 году его арестовали по так называемому делу «Сибирских сепаратистов». Они мечтали об университете в Сибири, о журнале, где печатались бы авторы-сибиряки, о новой сибирской интеллигенции, работающей для народа, о том, чтобы Сибирь делалась все культурней и богаче. Следствие тянулось долго. Три года держали людей этих в Омской тюрьме. Наконец из Москвы пришел приговор. Все получили ссылку на разные сроки, а Потанин был наказан строже всех. Сначала ему дали пятнадцать лет крепости, потом сбавили срок до пяти лет. Над ним совершили обряд гражданской казни и отправили в Свеаборгскую крепость. Строгость приговора объяснялась тем, что Григорий Николаевич, спасая друзей, взял всю вину на себя: он заявил, что был главным агитатором кружка.
По счастью, Потанин провел на тяжелых работах в Свеаборге не пять лет, а три года. Он «подпал под манифест». Время от времени объявлялась амнистия по поводу какого-нибудь торжества в царском доме.
Потанина освободили, но на волю он не вышел, его отправили в ссылку в город Никольск Вологодской губернии. Через три года по новому манифесту он получил право выезда из места ссылки с запрещением жить в больших городах. Но известный географ Петр Петрович Семенов, знавший Потанина, хлопотал за него и добился полного помилования.
После этих трагических событий Григорий Николаевич при содействии Семенова отправился в путешествие по Северо-Западной Монголии, потом он посетил Запад Монголии вторично, побывал в Урянхайском крае, прошел по Китаю от Пекина до Ланьчжоу, исследовал восточные окраины Тибета, Наньшань и снова Монголию, на этот раз — Центральную.
После этих трудных и плодотворных походов Потанин решил некоторое в.ремя пожить оседло, чтобы обработать материалы последних путешествий. Вот почему он оказался в Иркутске.
Обручев знал работы Потанина и высоко ценил их. Удивительно, что Григорий Николаевич посетил именно те края, о которых мечтал сам Обручев. Монголия, Китай, Тибет... Одни эти названия кружили голову. Чего бы не дал он, чтобы побывать там! Пустыни и горы! Есть ли на свете более интересные места!
Григорий Николаевич был к тому же обаятельным человеком. Простой, отзывчивый, всецело преданный науке. По виду суровый сибиряк... Густые седоватые шевелюра и борода, глаза прячутся за очками. А на самом деле добряк и прекрасный товарищ. Люди часто смотрели на него с некоторым изумлением. Настоящее бескорыстие и подлинная доброта не так уж часто встречаются и могут удивлять и даже вызывать недоверие: «Неужели он в самом деле такой?» Но Потанин действительно был «таким». И Обручев, несмотря на свой еще небогатый жизненный опыт, правильно понял Григория Николаевича. Впоследствии не раз он благодарил судьбу за то, что она свела его с этим человеком.
В двух небольших комнатах, где жили Потанин и его жена, каждый вечер собирался народ. Обручев, воспитанный в очень строгих правилах приличия, человек сдержанный, вначале был поражен простотой жизни и отношений в кругу Потаниных и тем, что можно было назвать полным отсутствием светскости. Комнаты в мезонине, очень низкие потолки... Простые книжные полки, газетная бумага на письменном столе... Неярко горят две свечи. Хозяин в темной блузе, подпоясан ремешком. Хозяйка — молчаливая высокая Александра Викторовна чуть ли не в ситцевом платье... Но, освоившись, Владимир Афанасьевич стал часто захаживать в потанинский мезонин и уже не удивлялся такой простоте.
Кого только здесь не встретишь! Сотрудник Восточно-Сибирского отдела, инженер Горного управления, врач, учитель и стайка его воспитанников — гимназистов. Молодежь льнула к Потанину, видимо бессознательно чувствуя чистоту его внутреннего мира. Тут же священник Подгорбунский, автор нескольких книг о буддизме, Григорий Николаевич вместе с ним организует в музее выставку. Там будет все, что относится к буддийскому культу, — костюмы лам, статуэтки богов, молитвенные мельницы, ритуальные маски. У иркутских коллекционеров множество таких интересных предметов, а собрать их для выставки помогает молодежь.
Порою у Потанина увидишь бурята кочевника. Он молча пьет чай, сдобренный маслом, и на его неподвижном лице ничего нельзя прочитать. За таким гостем Григорий Николаевич очень ухаживает. Он собирает сказки и предания бурят и пользуется случаем, чтобы проверить уже записанные или записать новые.
Сюда же приходят иногда местные богачи и «отцы города». Потанин со всеми одинаково приветлив, ровен, не стесняется ни своей убогой обстановки, ни скромного костюма.
Но чаще других бывают здесь близкие друзья хозяина— люди очень интересные. Обручеву нравится ; Ядринцев — высокий, худой, быстрый в движениях. ! В его выпуклых светлых глазах что-то детское, но эти же глаза наливаются яростью, становятся бешеными, когда он говорит о том, что его возмущает.
— Ты помнишь, Николай Михайлович?.. — спрашивает Потанин и неизменно слышит в ответ:
— Помню, помню, Григорий Николаевич.
Друзья вспоминают студенческие годы, когда они жили в Петербурге. Обед их состоял из вареного картофеля и ситного хлеба. Эти яства они запивали квасом, спали без тюфяков на голых досках. Делалось это не из аскетизма. Просто такая жизнь позволяла не гнаться за лишним заработком и отдавать больше времени тому, что их интересовало. А интересовало молодых сибиряков многое: книги, музеи, выставки, экскурсии в окрестности столицы.
Когда Петр Петрович Семенов посоветовал Потанину купить книгу Ледебура «Русская флора», чтобы научиться собирать гербарии, студенты лишили себя и картофеля, питались чаем и хлебом, пока не собрали двадцать четыре рубля на покупку дорогого издания.
Любил Григорий Николаевич рассказывать и о более ранних годах своей жизни, когда он учился в войсковом казачьем училище вместе с Чоканом Валихановым — будущим знаменитым путешественником. Часто вспоминал Бакунина. Известный анархист помог Потанину поехать в столицу учиться.
— Барин твой Бакунин! — говорил Ядринцев.
После ссылки в Шенкурск Ядринцев жил в Петербурге, издавал там газету «Восточное обозрение». В ней освещались вопросы экономического и культурного развития Сибири. Хотя писать обо всем этом уже было можно, но газета хирела, число подписчиков все убавлялось. Потанин предложил перенести издание в Иркутск. Здесь как раз недавно за оппозиционные высказывания была закрыта газета «Сибирь».
Новый тогда генерал-губернатор Восточной Сибири— граф Игнатьев был довольно либерален, боролся со взяточниками, интересовался сельским хозяйством и не мешал работать людям, которые мечтали о расцвете Сибири. Он не препятствовал плану Потанина, и Ядринцев начал издавать газету в Иркутске. Вокруг редакции сгруппировались все культурные силы города.
На столе шумит самовар. Угощение незамысловатое — сибирские шанежки, масло, мед. Гости тесно сидят за столом. Только Ядринцев мерит шагами небольшую комнату. Пять шагов и поворот.
Александра Викторовна молчаливо разливает чай. К этой женщине Обручев относится с особенным уважением. Она сопровождала мужа в его путешествиях, была незаменимым товарищем, великолепным распорядителем. Это очень важно для непрактичного и доверчивого Потанина. Слабая здоровьем, не жалуясь, переносила все трудности пути, длинные переезды на верблюдах, верхом на лошади, иногда под дождем и пронизывающим ветром. Все эти ночевки на снегу, частое недоедание, усталость сделали свое дело. Александру Викторовну мучит ревматизм, в иные дни она кажется совсем больной... Посмотришь в ее серьезное кроткое лицо, когда она хлопочет за чайным столом, и не подумаешь, что это первая русская женщина, побывавшая в глубинах Центральной Азии, отважная путешественница по Китаю, автор многих статей и очерков об азиатских народах.
— Сибирское золото и пушное хозяйство расхищались безобразно! — гремит Ядринцев. — О правильной экономике Сибири никто не думал. А богатства ее немыслимо, невероятно велики. И какой народ! Крестьянство удивительное! Не мудрено: это потомки предприимчивых людей, тех, кто бежал сюда, на новые земли, от крепостничества... Они вынесли тяжелейшую борьбу с природой, выносят постоянный прирост преступных элементов. Сейчас Сибирь — место ссылки, а сюда нужно открыть свободный доступ людям, которые хотят и умеют работать. У сибиряка способности Робинзона! Только не мешать ему, и Сибирь станет новой Америкой, царицей Азии, мировым рынком... Томский университет...
Григорий Николаевич, исподлобья наблюдавший за товарищем, поднимает голову.
— Катков, как известно, писал в «Московских ведомостях», что в Томске образовался целый штат социалистов, собранных со всех концов Сибири, В этой статье он говорит, что сибирские революционные кадры уже готовы, ожидается только прибытие новобранцев в лице томских студентов, а может быть и профессоров.
— Да, отношение к университету просто враждебное. А нужен он Сибири, как хлеб...
— Но он фактически уже существует, — говорит кто-то из гостей.
— А! — Ядринцев, с сердцем машет рукой. — Каких же трудов это стоило! Еще в восемьдесят пятом был готов к приему студентов, а открывается только нынче и то один медицинский факультет...
— В Сибири, как мне кажется, довольно сильная интеллигенция, — вставляет Обручев.
— Без интеллигенции нет общественной жизни, — задумчиво говорит Ядринцев. — Сибирская интеллигенция создавалась медленно, и она еще не многочисленна, но единодушна. Под ее влиянием и купечество стало понимать необходимость культуры для Сибири. Такие богачи, как Цибульский, Сибиряков, по сто пятьдесят тысяч пожертвовали на университет, а Строганов подарил большую библиотеку.
После таких вечеров Владимир Афанасьевич, возвращаясь домой, думал о крае, в котором ему предстоит работать. Любовь этих людей к Сибири, их готовность всем, чем возможно, служить родной земле усиливали его интерес к этой земле, вызывали желание заглянуть в лицо Сибири — страшное и злобное, по мнению одних, и величаво прекрасное, как уверяют другие. Он с нетерпением ждал весны.
А весна, как это часто бывает в Сибири, медлила, порою радовала капелью и журчаньем ручьев под снегом, потом опять отступала перед морозом. Но когда, наконец, тепло победило, все расцвело в несколько дней. Деревья зазеленели, в лугах и лесу закачались лиловые цветы кандыка, похожие на перевернутую бурятскую шляпу, как думалось Обручеву, скоро раскроются крупные оранжевые бубенчики — по-сибирски — «жарки».
Начальник Горного управления Л. А. Карпинский, родственник Александра Петровича Карпинского, у которого Обручев учился в Горном институте, предложил новому геологу приступить к полевым работам.
Сибирские патриоты, подобные Потанину и Ядринцеву, давно мечтали о железной дороге через Сибирь. Теперь о ней заговорили уже серьезно, и было ясно, что и само правительство понимает, как она нужна. Хоть и появлялись еще в печати статьи, где говорилось, что Сибирь — это мерзость запустения и нужно заниматься ее элементарным благоустройством, а не мечтать о железных дорогах, но никто уже не сомневался, что стальной путь по Сибири пройдет. Для будущей дороги местный уголь имел большое значение, и Карпинский хотел, чтобы Обручев разведал месторождение угля близ села Усолье,
— Не знаю, что вы найдете возле Усолья, — сказал горный инженер Лушников на совещании у Карпинского.— Там, говорят, лет тридцать назад уже искали... А вот на реке Оке, около селения Зиминское, по-моему, мощные залежи. И еще в селе Черемхово. Там недавно мужик колодец копал у себя во дворе и на уголь наткнулся. Вот где разведку бы произвести.
Владимир Афанасьевич хотел подробней расспросить инженера, но Карпинский возразил:
— Нет, нет... В Черемхово мы не поедем. Разведка в селе — это неизбежные столкновения с крестьянами... А если организовать там добычу, значит их придется всех переселять в другое место. Поезжайте в Усолье.
В начале лета Обручев перевез жену и сына на заимку недалеко от города — в Иркутске в летнюю пору было слишком пыльно и душно, — а сам отправился в первую, еще недалекую поездку по Сибири.
Он жадно всматривался в природу края и хотя не находил в ней ничего общего с полюбившейся ему пустыней, но не подпасть под мощное очарование красавицы Ангары, а затем тайги не мог.
По Ангаре он плыл с попутчиками в лодке, изучая береговые отложения.
В Усолье Обручев осматривал соляные варницы. На топливо для них шли дрова. Конечно, в Сибири лес дешев, но такое варварское истребление лесов скажется раньше или позже. Варницам нужен уголь.
Однако решить, угленосна ли почва возле Усолья, без тщательной разведки было нельзя. Старые шурфы, вырытые три десятилетия назад, заросли или заполнились водой. Записав то, что удалось выяснить, Обручев поехал на реку Оку.
В обрывах реки ясно выступали пласты угля. Примерно в десяти верстах от селения Зиминское стояла заимка, где Обручев снял комнатку для себя, помещение для рабочих, и поехал в Зиминское нанимать людей, знающих горное дело. Ему удалось найти двенадцать ссыльнопоселенцев, живущих по деревням после отбытия каторжных работ. Он купил лопаты, кайлы, прочий инструмент и отправился со своим отрядом на заимку.
Людей удалось разместить довольно сносно по избам и сеновалам. Работы начались.
Хуже обстояло дело с устройством самого Обручева. В нанятой им горенке оказалось много клопов. Он ушел в сарай. «Но все деньги при мне, сарай не запирается, а команда, как один человек, уголовники», — мелькнуло в мыслях перед сном, но спать так хотелось, что он, не придумав, где можно переночевать или схоронить деньги, крепко уснул.
Больше месяца он ночевал в незапертом сарае, и никто из ссыльных ни разу не покушался обокрасть его, хотя люди знали, что деньги при нем — он по субботам рассчитывался с рабочими.
По берегу Оки, сложенному угленосной свитой, проложили тропинку, в некоторых местах вскрыли весь обрыв, чтобы определить толщину угольного пласта. Били даже шурфы, следовало выяснить, меняются ли толщина слоя и качество угля, а также вычислить, каков его запас на разведанном участке. Такую же работу провели двумя верстами выше по реке. Тут Обручев впервые очутился в тайге. О дремучих сибирских лесах он много слышал, но оказалось, что самые красноречивые рассказы не могут передать своеобразия и дикой прелести сибирских джунглей. В непроглядной гущине подлеска из черемухи, шиповника, боярышника, в спокойной прямизне огромных елей и сосен было нечто таинственное, слегка пугающее и манящее. Он знал, что по этим дебрям можно идти день, другой, третий и никого не повстречать. Так бывало и в пустыне, но пустыня открыта глазу, в ней все видно «далеко, далеко на все стороны света», по словам Гоголя, а здесь человек видит тот маленький участок тайги, который непосредственно окружает его, все остальное скрыто. Здесь тесно деревьям, тесно траве и кустам. Проводники предупреждают, что винтовку нужно держать наготове, Всегда возможна встреча с медведем.
Медведя они не встретили, но видели и косуль и зайцев, а птицы было так много, что Обручев постоянно охотился и почти каждый день имел к ужину свежую дичь.
В падях, по которым весною бежит вода с гор, было сыро, влажная духота спирала дыхание. Папоротники здесь казались гигантами, мох раскидывал на почве не подушки, а целые перины. Поверженные лесные великаны заграждали путь, через них приходилось перелезать, и порою неосторожный путник проваливался внутрь огромного пустого ствола. Все это было ново, необычно. Величавость тайги, ее душные ароматы, густота и вышина трав, торжественный мрак среди прямых стволов, уходящих ввысь, как колонны храма, — все это ошеломляло до головокружения.
Когда разведка была уже закончена, Обручеву сказали, что недалеко от заимки, в лесном заболоченном овраге, местные жители нашли очень большую кость и никто не может понять, какому животному она принадлежит. Трудно было не поддаться искушению. Ведь с ним был отряд рабочих и весь необходимый инструмент!
Владимир Афанасьевич увел свою команду к болоту, и люди, видя, что он волнуется и с нетерпением ждет результатов, сами воодушевились и принялись за работу очень усердно, хотя в топком болоте было трудно добраться до большой глубины. Из грязи выкопали несколько огромных позвонков, кости ног, таза, кусок кожи и копчик мамонта. Копчик был особенно редкой добычей, и довольный Обручев сложил все находки в большой ящик и отправил в Иркутский музей.
Уголь оказался хорошим, запас его по расчетам был не мал, и Владимир Афанасьевич надеялся, что на берегу Оки начнется разработка. Но этого не случилось потому, что через несколько лет мощные пласты угля были открыты близ села Черемхово[9], именно там, где Карпинский не хотел начинать работы. Впоследствии не раз досадовал Обручев на чрезмерную осторожность своего начальника. Еще тогда, в 1889 году, можно было установить, какие богатые залежи угля находятся .возле Черемхова
Но в тот год Обручев не имел возможности проверить, как обстоят дела в Черемхове. Доложив Карпинскому о своей работе, он сейчас же выехал на озеро Байкал. Там, на острове Ольхон, будто бы нашли графит, а в нем была большая нужда, и в первую очередь заинтересовалось графитом само Горное управление. В графитовых тиглях сплавлялось золото, которое привозили в управление со всех подчиненных ему приисков. Графитом был богат Алиберовский рудник, но находился он далеко, в глубине Восточного Саяна, и доставка обходилась дорого.
В этом путешествии Обручев познакомился с жизнью бурят-кочевников. Ему пришлось ехать по тракту через степь, где стояли бурятские жилища. Они не были похожи на войлочные кибитки туркмен. Бурятский дом — это восьмигранный сруб, как бы заготовка избы, без печи, без пола и потолка. Так живет бурятская семья в степи, на летнем пастбище, а зимою в улусе она помещается в таком же срубе, но крытом и имеющем печь.
Миновав степь, долго ехали верхом по долине реки Унгуры. Это был тяжелый путь по глухим охотничьим тропам, по моховым болотам, в которых лошади увязали почти по брюхо. Несметные полчища гнуса облепляли людей и лошадей. Порою путь пересекался боковой падью, по ней бежал ручей, впадающий в Унгуру. В таких местах лошадям приходилось совсем плохо, они скользили, падали, проваливались.
Каждый вечер Обручев, измученный дневной дорогой, радовался, что взял с собой палатку. Можно было выкурить комаров и, застегнув палаточные полотнища, спокойно спать.
Поднявшись на перевал через Онотский хребет, путники стали спускаться вниз, в красивую долину реки Успана. Здесь Владимир Афанасьевич много работал молотком, откалывая от скал образцы.
Когда вышли по Успану к реке Сарме и остановились возле нее на ночлег, проводник предложил Обручеву пойти вместе на солонец, попробовать подстеречь изюбра. Туда, где на почве видны «выцветы» соли, как говорят геологи, приходят по ночам олени лизать соль. Порой они так увлекаются, что забывают об опасности и не замечают охотников. Было очень заманчиво добыть такое животное, как благородный олень-изюбр, но больше двух часов Обручев не выдержал и, так и не дождавшись оленей, убежал из охотничьего укрытия в свою палатку. Сидя в засаде, курить нельзя: почуя табачный дым, олени немедленно скрываются. Однако дым отпугивает не только оленей, но и комаров. На некурящих охотников набросились такие тучи гнуса, что Владимир Афанасьевич потерял вкус к охоте.
На другой день начали спускаться вниз по долине реки Сармы, но когда спустились, оказалось, что дальше пути нет. Почти отвесно над водой поднимался горный склон.
Решили объехать ущелье, снова поднявшись на хребет, и спуститься другим путем. С трудом одолели подъем по старой крутой тропе, с большими предосторожностями спустились и увидели ту же картину- дороги нет, крупные, покрытые мхом валуны загромождают берег. Начали опять подниматься, надеясь отыскать третий путь. Но пошел мелкий и очень упорный дождь, все промокли до нитки, пришлось остановиться на ночлег.
Ночевали на хребте под дождем, без ужина. Среди каменных глыб не было ни дров для костра, ни корма для лошадей. Проклинали этот невеселый ночлег без горячей пищи, без возможности просушить мокрую одежду. Но когда, наконец, прекратился назойливый шепот дождя, Обручев внезапно очнулся от дремоты и чуть не вскрикнул — так прекрасно было то, что представилось его глазам. По ясному небу плыла полная луна и ярко освещала глубоко внизу серебряную поверхность Байкала. Суровые обрывы Приморского хребта темными ущельями уходили вдаль. Остров Ольхон тоже был хорошо виден и отсюда напоминал какого-то допотопного зверя, лежащего на воде.
Наутро удалось благополучно спуститься вниз. В бурятском улусе Обручев простился с проводниками, и его перевезли в лодке на Ольхон. Он начал искать графит на этом гористом острове.
Оказалось, что вкрапления графита в известняках Ольхона невелики и добытый здесь графит обошелся бы гораздо дороже, чем тот, что доставлялся с Алиберовского рудника. Тот приходилось возить издалека, но на месте он залегал сплошной массой, а не редкими гнездами, как на Ольхоне.
Несмотря на эту неудачу, Обручев был доволен поездкой. Он познакомился с Онотским и Приморским хребтами и с докембрийскими образованиями берегов Байкала.
Он вернулся в Иркутск и сейчас же выехал на южный конец Байкала. Нужно было осмотреть заброшенные слюдяные копи и тоже оставленные копи на реке Малой Быстрой, где добывали камень ляпис-лазурь, или лазурит. Этот синий, иногда фиолетовый или зеленовато-голубой камень со стеклянным блеском считается очень ценным. Из него сделаны колонны иконостаса в Исаакиевском соборе, лазуритовые вазы и шкатулки украшают дворцы.
Обручев тщательно осмотрел заброшенные копи, объездил все окрестные места, собрал много образцов, побывал в долине реки Слюдянки, где добывали флогопит — бурую слюду. По дороге он думал о том, что мусковит — белую слюду почти перестали разрабатывать. Она пользовалась спросом в давние времена, ее вставляли в окна, а когда стекло стало дешевым, слюда оказалась ненужной. Но, может быть, о ней еще вспомнят и она опять понадобится людям?
Владимир Афанасьевич был прав. Когда начала широко развиваться электропромышленность, слюда понадобилась как изоляционный материал и сибирские слюдяные копи опять возродились к жизни.
Об этой поездке Обручев впоследствии писал: «Мне поездка дала знакомство с рельефом и строением местности у южного конца озера Байкал, с кристаллической свитой архея, условиями залегания слюды и лазоревого камня, с молодыми излияниями базальта, прорвавшегося через архейский фундамент».
Осень выдалась теплая, хотя стоял уже сентябрь; Карпинский предложил Обручеву совершить до начала холодов еще одну поездку в небольшой курорт Нилову пустынь и изучить его геологию.
Владимир Афанасьевич не мешкая покинул Иркутск. Добрался до станции Култук, а отсюда поехал к западу, вверх по широкой и плодородной долине реки Иркута. Долина называлась Тункинской, по имени расположенного тут села Тунка.
Справа он видел горную цепь — Тункинские Альпы, — увенчанную пирамидальными горными вершинами с пролегающими между ними глубокими седловинами. Такие именно формы горного рельефа геологи называют Альпами по аналогии со Швейцарскими Альпами.
Совершенно по-иному на фоне сине-голубого неба вырисовывался слева горный хребет Хамар-Дабан — высокая стена с ровным гребнем и очень редкими плоскими куполообразными вершинами.
Обручев глубоко призадумался. Какие события геологической истории могли вызвать столь резкую контрастность форм горного рельефа близко соседствующих геологических образований?
Решение этой загадки пришло много позднее, когда знакомство Обручева с Сибирью стало глубже и шире, да и геология как наука обогатилась новыми и многими фактами.
И, как всегда, глубоко упрятанная и потому, казалось, сложная тайна природы объяснилась очень просто и легко.
Некоторые геологи считают, что острые формы рельефа создаются излияниями базальтовой лавы, а такая лава местами залегает на вершинах Тункинских Альп. Но и на Хамар-Дабане встречаются базальтовые покровы. Оба хребта сложены одинаковыми горными породами, главным образом древнейшими докембрийскими кристаллическими сланцами, и, очевидно, вещественный состав не оказал влияния на формирование двух близлежащих хребтов.
Тут причина иная. И Тункинские Альпы и Хамар-Дабан сформировались не в докембрии, а гораздо позднее — в третичное, местами даже в четвертичное время, и молодые движения, образовавшие их, были вторичными и не складчатыми, а сбросовыми. Они перемещали крупные глыбы и огромные клинья земной коры вверх и вниз.
В третичное время горообразовательные движения подняли на месте теперешних Тункинских Альп узкий клин высотой примерно в тысячу метров, на который ранее, но тоже в третичный период, излилась базальтовая лава. Узкие и высокие клинья, как правило, легче поддаются размыву, чем низкие и широкие глыбы. Вот почему именно в Тункинских Альпах клин превратился в альпийскую цепь, прорезанную узкими ущельями. При этом местами на вершинах хребта сохранился молодой базальтовый покров, хотя хребет в целом сложен древними докембрийскими породами.
А Хамар-Дабан во время молодых третичных движений поднялся не так высоко, в виде широкого вздутия, а не узкого клина. Из-за меньшей высоты и большей ширины размыв тут был не такой сильный, поэтому горный рельеф здесь менее расчленен и имеет более массивные формы.
Но Владимир Афанасьевич во время поездки в Нилову пустынь был еще мало знаком с геологией Сибири и не мог этого понять. На вопрос, вставший перед ним тогда, ответ дал уже академик Обручев в книге «Мои путешествия по Сибири», изданной в 1948 году.
Курорт Нилова пустынь приютился в очень красивой долине, но был весьма примитивен. Горячая целебная вода вытекала из трещины в гранитной скале и шла по желобам прямо в «ванны», вернее — в заменяющие их деревянные ящики. «Ванн» было всего три, и пока трое больных лечились, остальные ждали. Надо было ждать и пока вода остынет — холодную для разбавки не провели. Сейчас лечебный сезон уже кончился, и, кроме сторожа, на курорте никого не было. Да сам курорт и не интересовал Обручева. Он тщательно осматривал выходы горных пород в долине реки Ихе-Угун и удивлялся, почему река течет по ущелью, пересекающему горный кряж, а не обходит его. Может быть, когда-то здесь было озеро? Ихе-Угун вливается в реку Иркут и на своем пути через отложения этого давно исчезнувшего озера должна была пробивать твердые коренные породы, находившиеся под отложениями. Так ли это? Большой, поросший лесом холм ответил Владимиру Афанасьевичу на его вопрос. Этот холм весь состоял из слоистого песка четвертичного периода. Конечно, холм был остатком толщи древних озерных отложений.
Эти четыре поездки, совершенные летом 1889 года, Обручев описал, и его описания были не простыми отчетами, а подлинно научными работами с подробным глубоким анализом всего увиденного. Напечатаны они были в «Горном журнале» и в «Известиях Восточно-Сибирского отдела Географического общества».
Начинал складываться особенный, «обручевский» стиль работы, характерный для всех научных трудов Владимира Афанасьевича, тот стиль, которого он придерживался всю жизнь.
Но жить в отрадной тишине Дано недолго было мне.
Снег падал весь день и совсем завалил город. Пухлые сугробы поднимались уже к окнам. К вечеру снегопад утих, и редкие снежинки медленно кружились в мглистом воздухе.
Владимир Афанасьевич, на минуту поднимая глаза от письма к матери, взглядывал за окно, и сейчас же серо-белая колышущаяся занавесь снега словно окутывала его мягкими складками, куда-то увлекала, уводила... С трудом возвращался он к прерванной мысли, продолжал начатую фразу.
— Ты занят, Володя?
— Войди, войди, Лиза. Я маме пишу, рассказываю ей о нашей елке.
— Можно прочитать?
— Читай. Но я ведь пишу по-немецки...
— Я пойму.
Елизавета Исаакиевна читает:
«Фруктовые деревья плохо растут в здешнем суровом климате, и потому фрукты, если их вообще возможно купить, ценятся почти на вес золота... Это приводит меня к нашей рождественской елке этого года, первой после дорогого родительского дома, единственной пережитой маленьким Волей. Она была довольно богато украшена золотой и серебряной мишурой, обвешана хлопушками и медовыми пряниками. Парафиновые свечи сияли, конечно, светлей, чем пламя пахнущих медом восковых свечек моего детства. И все же, в то время как мой мальчик смотрел на никогда не виданное великолепие, сперва издали в робком благоговейном молчании, затем, осмелев, носился, ликуя, вокруг и, наконец, дошел в своей смелости до того, что укусил острыми зубками хвост низко висевшего пряничного чудовища (произведение моей еще неопытной в этом деле жены), мне становилось все грустней и грустней. Мне не хватало поэтических капающих восковых свечей, дешевых краснощеких яблок, старого рождественского хорала, твоего любимого старого лица, словом, давно отзвучавшего, давно ушедшего собственного детства и вместе с тем всего того небесного волшебства, которое могут созерцать только детские глаза».
— Как это верно! — тихо говорит Елизавета Исаакиевна и сейчас же возмущается: — Но как ты осмелился назвать мои пряники чудовищами? Если- детские глаза способны созерцать волшебство там, где его, в сущности, нет, может быть, и Волику мои «произведения», как ты говоришь, показались великолепными?
Обручева смешит эта женская казуистика.
— А дальше что? — спрашивает Елизавета Исаакиевна. — Я хочу знать, что дальше.
— Нет, нет, — шутливо отбивается Обручев. — Дальше такие признания, что ты совсем расстроишься.
— Нечего меня поддразнивать! Покажи!
«А когда мы сели позднее за ужин, который на этот раз был украшен заливным из стерляди, медвежьим окороком, куском косули и другими сибирскими яствами, мне недоставало — прости мне тривиальный конец— острой соленой селедки, которую моя маленькая хозяйка не решилась подать к столу даже в такой день, так как в великой Сибири селедка представляет недоступный предмет роскоши».
Елизавета Исаакиевна, кажется, в самом деле огорчена.
— Говорят, что на Олекме, Лене и Витиме — настоящее Эльдорадо, — старается переменить тему разговора Обручев. — Не терпится мне взглянуть на эти места. Весною я туда еду.
— Все наши разговоры кончаются заявлением, что ты скоро уедешь... А Григорий Николаевич как останется без тебя, ведь в отделе много работы?
— Здесь он никогда не закончит отчета о путешествии в Китай и Тибет. Григорий Николаевич — ученый, путешественник и, естественно, о путешествиях мечтает. Но он и заикнуться не может о новой поездке, пока не сдаст отчета о старой. В Петербурге возле него не будет так много людей, и он сумеет спокойно работать.
— А отдел?
— Из Минусинска должен приехать старый товарищ Григория Николаевича — Клеменц. Он там отбывал ссылку и работал при музее. Потанин хочет передать ему отдел.
В соседней комнате громко заплакал мальчик. Елизавета Исаакиевна поспешила к сыну. Обручев опять склонился над письмом.
Вторая зима в Иркутске проходила мирно, деятельно и более оживленно, чем первая, Владимир
Афанасьевич писал отчеты о летних поездках, много работал в Восточно-Сибирском отделе Географического общества, переводил по просьбе Потанина статьи с английского для «Известий» отдела. К радости Елизаветы Исаакиевны, супруги Обручевы познакомились кое с кем из иркутян, изредка бывали в театре.
Владимира Афанасьевича, как и всех близких к Потанину, огорчало решение Григория Николаевича перебраться в Петербург. Но все понимали, что это необходимо.
Весною в Иркутск приехал Дмитрий Александрович Клеменц — товарищ Потанина и Ядринцева. Он занимался археологическими и геологическими исследованиями. Григорий Николаевич передал ему руководство отделом.
Обручев собирался на Лену. Как всегда перед поездкой, прочитал все, что нашел в печати об этих местах. Горный инженер Таскин и известный географ Кропоткин обследовали когда-то район, но их выводы могли устареть, многое интересно было проверить.
Неожиданно Елизавета Исаакиевна объявила, что и она поедет. Горный инженер Левицкий и его жена приглашают ее к себе. С Левицкими она подружилась зимой. Возле устья реки Кут есть солеваренный завод. Левицкий назначен туда управляющим. Она и Волик проведут у них лето. Ей надоел Иркутск. Когда мужа нет, в городе очень скучно. Она тоже хочет что-то видеть.
Владимир Афанасьевич сначала был несколько огорошен настойчивостью жены, но, разобравшись, решил, что Лиза прекрасно придумала.
После долгих и хлопотливых сборов Обручевы тронулись в путь. От Иркутска до Лены 240 верст по Якутскому тракту. Обручев боялся, что жена его измучится от тряски в тарантасе по очень плохой дороге и горько пожалеет о своем уютном доме, мягкой постели и всех удобствах городской жизни. Но Елизавета Исаакиевна хоть и вскрикивала, испуганно прижимая к себе сына, когда тарантас особенно сильно встряхивало, но первая смеялась над своими страхами и ни разу не пожалела, что поехала.
На пристани Жигалово путешественникам предоставляли «речную почту». Это была лодка, которая, как и гребцы, менялась на каждой станции. Владимир Афанасьевич рассудил, что бесконечные пересадки и перегрузки вещей, иногда по вечерам, когда ребенок будет уже спать, очень неудобны. Он решил купить собственную лодку, чтобы на остановках менять только гребцов.
Елизавета Исаакиевна с некоторой опаской оглядела купленный мужем шитик. Особенно смутила ее «пассажирская каюта» — большая, опрокинутая на бок бочка с дверцей. Однако, когда ей объяснили, что на обычных лодках речной почты каютами служат бочки без крышки и дна, так что ветер прохватывает пассажиров до костей, она смирилась.
Одеяла и подушки сделали внутренность «каюты» вполне пригодной для сна. На носу шитика в ящике с песком можно было разводить небольшой костер. Захватили много провианта. Рулевой и два гребца — бывалые люди — хорошо знали свое дело. Словом, все возможные на сибирской реке удобства были созданы, и лодка начала медленно скользить по Лене. Больше шести-семи верст в час она не проходила, да гребцы и не торопились.
Не торопились и пассажиры. Необычное соединение радостей семейных с радостями путешествия веселило Владимира Афанасьевича. Три раза в день шитик приставал к берегу, раскладывался костер, и Елизавета Исаакиевна варила суп, кашу, жарила яичницу, готовила чай. Ночевали на почтовых станциях. Малыш, существо довольно беспокойное, переносил путешествие хорошо и, казалось, так же, как и взрослые, любовался берегами, хотя первое время любоваться было нечем. По обе стороны реки сначала тянулись однообразные холмы, иногда совсем лысые, иногда покрытые лесом. И Обручев жалел, что весенний паводок мешает ехать сухопутной дорогой вдоль берега Лены. Ему рассказывали, что за поселком Качуг местность так живописна, что напоминает
Кавказ. Но скоро оказалось, что сибирским подобием Кавказа можно любоваться и из лодки. Холмы на берегах превратились в сплошные красные стены, сложенные красноцветными песчаниками — мергелями и глинами. Можно было подумать, что это обрывы гор. Но если подняться на такую почти отвесную красную стену, как сделал Обручев на одной из остановок, окажется, что так обрывается к реке бескрайняя, покрытая лесом, сильно приподнятая равнина. Только Лена и ее притоки разнообразят эту огромную равнину — плоскую Восточно-Сибирскую возвышенность.
Приехав на Усть-Кутский солеваренный завод, муж и жена простились со своим плавучим домом. Супруги Левицкие встретили их очень радушно. Владимир Афанасьевич сдался на просьбы хозяев и жены и провел здесь несколько дней, осматривал соляные варницы, знакомился с окрестностями.
Работали тут бывшие каторжники с Кары или люди, попавшие сюда после многих лет тюрьмы. Их присылали на завод как бы в награду за хорошее поведение.
Обручев смотрел на этих людей со щемящим чувством жалости и тоски. Он уже не раз видел бывших арестантов и каторжников, работал с ними на разведке угля близ Зиминского, но не мог привыкнуть и знал, что никогда не привыкнет к выражению их лиц, безучастному, отрешенному от окружающего.
«Для них каждый человек, имеющий право свободно передвигаться, работать где хочет, — существо чуждое, неспособное понять их, подневольных», — думал Владимир Афанасьевич.
Он вспомнил первую встречу со ссыльными. Это было на пути в Иркутск, когда они плыли по Оби. За пароходом тащилась на буксире барка — плавучая тюрьма. Людей везли в Сибирь на каторгу и поселенье. В небольших оконцах баржи «виднелись серые лица арестантов, жадно глядящих на речную ширь. На станциях конвойные выводили старост для покупки провианта. Тяжелое это было зрелище... И потом, уже подъезжая к Иркутску, они обогнали колонну арестантов. Тогда он впервые в жизни услыхал кандальный звон, увидал людей в одинаковых арестантских халатах с бубновыми тузами на спине. Они шли молча, с трудом вытаскивая ноги из грязи, покрывающей дорогу, а за ними тянулись телеги с поклажей. На возах сидели бледные, замученные женщины с ребятишками. А кругом конвойные с ружьями...
Здесь, на солеваренном заводе, эти люди живут не в тюрьме, а в домишках. Хоть и плохонькое, но свое, не казенное жилье. У тех, к кому приехала семья, перед хибаркой даже садочек с подсолнечниками и маками... Но все же как сломлены бывшие заключенные, какой нестираемый временем след оставило несчастье на их лицах!..
Елизавета Исаакиевна еще раз удивила мужа. Она живо и дружелюбно разговаривала с бывшими убийцами и грабителями, с их женами. Ее не чурались, с ней здоровались почтительно и говорили охотно. Какие слова она нашла для того, чтобы ей стали доверять? Да она и не искала, вероятно, особых слов. Видно, дан ей этот дар, нередко свойственный женщинам, находить в людях, кто бы они ни были, самое человечное.
А Волик подружился с очаровательной хрупкой девочкой — дочкой убийцы и поджигателя. Вместе с ней он бегал, гулял и играл. Но дочь каторжника вела себя примерно, а сын ученого-геолога не мог спокойно видеть ни одной курицы, чтобы не погнаться за ней с палкой.
— Все мои арестанты и каторжане — смирнейшие люди, ведь каждый из них много перенес и помнит об этом, — говорил Левицкий. — Охраняют их всего три казака. Но бывшие преступники ведут себя так примерно, что, право же, этим казакам нечего делать. Вот разве... — тут он ухмылялся с некоторым ехидством, — разве за вашим сынком надзирать...
«Ничего! Пусть мальчишка порезвится, пока никаких обязанностей у него еще нет», — думал Владимир Обручев.
Пора было двигаться дальше. Золотоносный край велик. Много ли за короткое сибирское лето успеешь осмотреть!
Он отбыл из Усть-Кута пароходом, а в большом и богатом селе Витим должен был дожидаться другого и успел осмотреть это село, не похожее ни на одно из виденных раньше.
Здесь собирались партии рабочих, нанимавшихся на золотые прииски. Отсюда они разъезжались по разным местам, а осенью сюда собирались уволившиеся с приисков люди. Многие имели при себе деньги, а то и золото. Большая часть этих сбережений оседала здесь. Почти каждый дом был украшен зеленой елочкой, прибитой над дверью. Это означало, что тут можно получить вино. Пропивалось все заработанное за лето, вновь завербованные оставляли в кабаках остатки подъемных денег, выданных при заключении договора, веселились золотопромышленники после удачной добычи, кутили приезжие... А витимские крестьяне богатели. Обручев обратил внимание на их крепкие, добротные дома.
Дальше Владимир Афанасьевич поплыл по быстрому и полноводному Витиму к пристани Бодайбо. В пути он с интересом присматривался к своим спутникам. Еще в Иркутске при случайных встречах со своей соседкой по дому, вдовой золотопромышленника Новицкого, он думал о беспечальной легкой жизни людей, для которых другие люди добывают в недрах земли драгоценный желтый металл. Сейчас его окружали такие люди. Одни были одеты лучше, другие хуже, одни казались образованными, другие совсем темными. Но каждый старался пустить пыль в глаза соперникам. Все говорили и спорили только о золоте. Они хвалили свои прииски, порочили участки соседей, проектировали, подсчитывали, совершали сделки. И вместе с деловитостью и самоуверенностью было в каждом что-то тревожное, некоторая одержимость азартом, явно заметная со стороны.
— Вот она, золотая лихорадка! — думал Обручев.
В Бодайбо была «резиденция» приисков. В Сибири резиденцией называли место, где помещалось управление приисками. Конторы всех золотопромышленных компаний находились в Бодайбо.
Владимир Афанасьевич предполагал, что в ближайшие годы его будут посылать в короткие командировки по различным местам Восточной Сибири, Так было прошлым летом, когда он ездил на разведку угля, графита, слюды, лазурита... Едва ли ему удастся подробно ознакомиться с огромным золотопромышленным округом. Для этого нужно время. Значит, надо сделать самое главное — исследовать геологическое строение края в общих чертах. Только так можно за летние месяцы создать себе впечатление, хотя далеко и не полное, об этом сибирском Эльдорадо.
Обручев начал обследование с Успенского прииска и его окрестностей. Здесь шла добыча золота и в открытых разрезах и в шахтах.
Он видел, как происходила «вскрыша торфов» — удаление верхних покровов почвы и грунта, не содержащих золота. Кайлами и лопатами рабочие разбивали грубый галечник и свозили на таратайках в отвалы. На «вскрыше» работали взрослые, а вывозкой занимались мальчишки, почти как один, низкорослые и щуплые, с нездоровыми зеленовато-бледными лицами.
Ниже в разрезе, где торфа были уже удалены, долбили вязкую мерзлую глину. Оттаивая, она чавкала под ногами, в ней увязали и люди и лошади. Потому и звали ее «месинкой».
Слой золотоносных песков лежал ниже. Добытые пески отправлялись на золотопромывательную машину.
Он видел эти машины, и самые примитивные и более сложные, но таких было мало. Обычная золотопромывка — это бочка или корыто с отверстиями на дне и бутара — плоскань со ступеньками. Песок, валят в бочку и направляют туда сильную струю воды; крупные камни остаются на дне, а рыхлая размытая водой порода устремляется вниз по плоскани. Но, пожалуй, «устремляется» не то слово. Ничего стремительного нет в движении мутного потока размытой породы. Он стекает медленно, так как плоскань очень поката. На ступеньках, устланных толстым сукном или просто хворостом, оседают самые тяжелые частицы породы — магнитный железняк, серный колчедан и золото. А растворенные в воде песок и глина — эфеля — уходят в реку или оседают в отвалах. Эти отвалы рыхлой породы называются эфельными.
В определенное время, обычно раза два в день, весь тяжелый осадок — «серый шлих», скопившийся на ступеньках плоскани, собирается и идет на более тщательную промывку. Она производится на вашгерде, укороченной и расширенной плоскани. Рабочий-промывщик орудует деревянным гребком и все время разгребает шлих, возвращая его снова и снова к головке вашгерда. Постепенно шлих превращается из серого в черный. Это значит, что в нем остались только крупинки черного магнитного железняка и такие же мелкие крупинки золота.
Черный шлих просушивают, магнитом отделяют железняк, а золото сдают в контору.
Добыча прииска считалась неплохой, но Владимир Афанасьевич порою дивился, видя скудный результат огромной и тяжелой работы — горсточку желтоватых крупинок — горсточку всесильного золота.
Обручев спускался в шахты по деревянным осклизлым лестницам, ходил по главным штрекам, заглядывал в боковые. Здесь породу долбили кайлами, а мальчики-откатчики везли ее к подъемнику. Для промывки золото шло на поверхность, и в клети подъемника безостановочно скользили вверх наполненные породой бадейки, а рядом спускались вниз уже опорожненные.
Крепи во всех шахтах казались ненадежными, вентиляции не было никакой, редко развешанные по главному штреку коптилки давали тусклый мерцающий свет. Вода сочилась из стен, капала с потолка, и люди работали в мокрой одежде, дышали губительным сырым воздухом.
Он с пристальным вниманием и болью всматривался в быт рабочих-золотоискателей. Из рассказов этих людей можно было представить себе, как беспросветно мрачна их жизнь.
Еще недавно в рабочей среде главенствовали беглые каторжники и бродяги. В последнее время бывших преступников стали отправлять на Сахалин, и на приисках их стало меньше. Зато сюда потянулись неимущие крестьяне и из Сибири и с земель, лежащих по другую сторону Уральского хребта.
Такой бедняк, завербованный на прииски, прибывает сюда, как правило, без гроша в кармане. Аванс, полученный от вербовщика, идет на уплату долгов, на неотложные нужды семьи. А рабочий, проделав тяжелейший путь по страшным сибирским дорогам, через тайгу и степи, появляется на прииске, не имея ни копейки за душой. Партия выходит к месту работ зимой, чтобы к весне быть на прииске. За долгую дорогу рабочий оборвался, обессилел, отощал, а труд ждет его беспощадный. Он поселяется в сырой, плохо отапливаемой, тесной казарме, одежды для подземных и не менее тяжелых работ на поверхности не получает, продукты, часто несвежие, должен забирать в приисковой лавке, где за все берут втридорога. А надежда на удачу быстро уплывает. Далеко не всякому «фартит». Если рабочий и найдет при промывке или в шахте золотой самородок, это «подъемное» золото нужно сдать в контору. Правда, платят по три рубля за золотник, так как администрация не хочет, чтобы оно перешло в руки скупщиков-китайцев и от них за границу. Но рабочий постоянно должен в лавку, за одежду, которую волей-неволей справляет себе, за ним еще числится аванс, нужно его отрабатывать... Значит, почти всегда денег, полученных за подъемное золото, хватает ненадолго.
Еще один грозный бич приисков — водка. Продажа спиртного запрещена, но человек, работающий в вечном холоде и сырости, готов заплатить сколько угодно, чтобы хлебнуть «горячительного». Этим пользуются поставщики контрабандного спирта и богатеют, вконец разоряя рабочих.
Вся эта неприглядная жизнь, весь ее ужас и горе раскрывались перед Обручевым, когда он объезжал прииски.
Долина реки Накатами, ее притоки Догалдын и Аканак-Накатами... Поездка верхом на Еленинский прииск... Долина Тахтыги и Мары... Везде он осматривал разрезы, спускался в шахты, изучал торфы и пески, собирал образцы коренных пород... В разрезах при дневном свете это было не трудно. Вскрытые слои ясно видны, как начинка в куске многослойного пирога. Не то под землей, где стены закрыты крепью и едва мигают тусклые коптилки.
К северу от верховьев Накатами высились гольцы, цепью вставая над рекой. Он решил непременно добраться до них и поднялся по долине горного ключа на вершину одного из гольцов. Отсюда были видны бесконечные горные гряды, поросшие тайгой. Это темно-зеленое волнистое море было прорезано кое- где обнаженными пиками. Далеко на юг тянулись островерхие горы с белеющими пятнами снега — Делюн-Уранский хребет.
Гольцы никак не назывались. Местное население так и звало их — «гольцы». На картах они тоже не имели названий. А между тем Петр Алексеевич Кропоткин побывал в этих местах в 1863 году и сделал их описание. Обручев назвал водораздельный хребет, состоящий из гольцов, «хребтом Кропоткина».
На Прокопьевском прииске в долине Бодайбо приисковое управление собиралось отводить в сторону один из участков реки, протекающей по ущелью. Многие думали, что под дном этого ущелья залегает богатая россыпь. Работы уже начались, Обручев видел, что труд предстоит большой и стоить будет дорого. Есть ли смысл затевать его? Он тщательно исследовал местность и решил, что ущелье это эпигенетическое, то есть более молодое по времени образования, чем окружающие участки, и богатой россыпи там быть не может. Он посоветовал прекратить работы и вести разрез в другом направлении. Там непременно должна быть глубокая россыпь. Его послушались.
Чуть ли не впервые в истории русской золотой промышленности, стихийной и работавшей «на глазок», геология дала практический совет и, как показали дальнейшие события, была права.
В этой экспедиции Обручев встретился с еще незнакомым ему явлением — вечной мерзлотой — никогда не оттаивающим слоем земли, лежащим под верхней почвой. Мерзлота усложняла работу прииска. Вскрывая торфы, приходилось оттаивать кострами почву, иначе она не поддавалась лопате и лому. В шахте тоже необходимы костры — «пожоги» или взрывы с помощью динамита. Правда, все это дешевле, чем система водоотлива. Шахты, пробитые в мерзлоте, прочны, не угрожают обвалами, вода в них не просачивается, отливать ее не нужно. Конечно, там холодно, но за работой люди согреваются, они не мокнут, носят теплые валенки, не рискуя их промочить.
Но на Ленских приисках мерзлота чередуется с таликами — оттаявшими слоями земли. Эти места очень плохи для подземной добычи. В талых слоях вода порой настолько пропитывает почву, что она начинает «плыть», а плывуны очень затрудняют работу, шахта деформируется, появляется вода, и водоотлив порой не помогает.
Обручев записывал свои первые наблюдения над мерзлотой и думал, что такое природное явление необходимо изучить серьезно. Удастся ли это ему когда-нибудь?
Владимиру Афанасьевичу пришлось побывать и в дальней тайге. Так назывались места за водоразделом между правыми притоками Витима и Олекмой. Он считал, что Ленские прииски из-за хищнической поверхностной разработки не имеют большого будущего, а здесь нашел уже заброшенные разрезы и шахты. Золото извлечено, работы кончены, и только кучки старателей копошатся на крутых склонах долины реки Хомолхо. Он удивился, как люди ухитряются находить россыпное золото на таком крутом склоне. Он не мог знать тогда, что в этом склоне высокого гольца, так и названного Высочайшим, впоследствии будут найдены богатейшие залежи сланцев с кварцем и золотом. Эти породы постепенно разрушались и давали старателям возможность подбирать крохи с богатого стола. Люди радовались, находя крупинки золота там, где оно находилось В изобилии, но еще не было обнаружено.
И в сырой долине реки Большого Патома, кое-где превратившейся в болото, он видел затопленные шурфы, покинутые разработки. Золото искали, но не находили или находили мало и думали, что не стоит больше трудиться. А судя по рельефу местности, здесь могли быть мощные толщи наносов и, следовательно, глубокие россыпи. Тут нужно поставить серьезную разведку. Вероятно, шурфы не дошли до насыщенного золотом пласта, вода помешала работать. Конечно, в таких местах нужно разведку вести не отдельными шурфами, а бить шахты и ставить водоотлив.
Тысячи мыслей и предположений... Порой он приходил в отчаяние. Что значит один-единственный геолог для такого края? Геолог, который может лишь в краткой летней поездке познакомиться с его просторами... Люди в своем стремлении к наживе спешат, хватают то, что легко добыть... О, сравнительно легко, конечно! Даже самая примитивная разработка золотоносных участков — труд тяжелейший. Но никто не задумывается над тем, что в нескольких шагах от места маловыгодных работ могут лежать несметные богатства. Работам не хватает упорядоченности, научной основы...
Он, конечно, напишет обо всем, над чем задумывался. Пусть у него еще недостаточно практических доказательств, но знания и чутье геолога не могут обмануть...
И этого мало. Не только официальными отчетами он будет заниматься зимой. Не только научными статьями. Нужно написать о положении рабочих, об их невыносимо трудной судьбе. Нужно показать тем, кто ездит на великолепных рысаках, проводит свои дни в роскошных особняках и фешенебельных заграничных отелях, какое существование ведут люди, доставляющие своим хозяевам средства для столь легкого и привольного житья.
Рано или поздно он напишет такую статью! Это его обязанность!
«Все мое», — сказало злато...
— Ах, Волик, да перестань же так шуметь! Ведь мама нездорова!
Но с малышом ничего не поделаешь. Волику крепко запомнился обратный путь из Усть-Кута в Иркутск по Лене. Грести против течения было трудно. Гребцы справиться не могли, и поэтому лодку тащили на канатах худые лошади, бредущие берегом. Их погоняли оборванные мальчишки. Владимиру Афанасьевичу эти тощие клячи казались привидениями. Они еле плелись, канат беспрестанно цеплялся за камни и кусты, мальчишки орали, лодка дергалась, Лиза вскрикивала — словом, Обручев не мог дождаться, когда кончится это мучительное путешествие.
Зато Волику оно очень понравилось. Еще бы! Столько шума и суеты ему не часто доводилось слышать и видеть. И теперь нет лучшего для него удовольствия, чем зацепить веревкой или шнурком стул и тащить его за собой, лихо покрикивая.
— Да перестанешь ли ты наконец? Няня, уложите его!
Но няню сегодня не дозовешься. Она в полном распоряжении акушерки — рослой женщины с громким голосом и властными манерами. Бедная Лиза сильно страдает... Скорее бы! А Волика нужно немедленно отправить в постель.
Владимир Афанасьевич уносит малыша в детскую, неумело раздевает, путаясь в завязках и застежках. Спи, мальчишка! Может быть, когда проснешься, ты увидишь маленькую сестру...
Обручев мечтал иметь дочку. Он писал матери о предстоящих Лизиных родах:
«Ты знаешь, что я всегда любил девочек. Дома меня называли «рыцарем и покровителем сестер». Да, всю свою жизнь я был бы покровителем этой маленькой барышни, ее первым и вернейшим рыцарем — ее отцом...»
Он прислушался. Дверь в спальню закрыта, но тихие стоны доносятся сюда. Когда это кончится?
Последнее время он так мало внимания уделял семье... Зима после экспедиционного лета всегда хлопотлива. Он составляет отчет о поездке на прииски, его выбрали в комиссию по проверке итогов годовой работы Восточно-Сибирского отдела... Он — член «совета десяти», а совет направляет всю деятельность отдела. Он — председатель секции математической и физической географии... Переводы геологических статей ему легко даются, но он считает свои знания в английском недостаточными и продолжает заниматься этим языком. Его цель — владеть английским, как русским и немецким. Это необходимо ученому, чтобы знать все новое в своей науке. Кроме того, он пишет статью о придонном льде. Осенью Обручевы переехали в новую квартиру на берегу Ангары. Странное явление заинтересовало его. Зимою в самые сильные морозы лед на реке поднимается на поверхность, образует наледи, и в городе начинается наводнение. Несомненно, это придонный лед, он образуется в Байкале и Ангаре...
Да, работы очень много, она не легко дается, но приносит и радости.
Ему казалось, что в летней экспедиции он собрал очень мало материала. Мысленно он сравнивал себя' с карликом, взобравшимся на вершину огромной горы. Карлик должен срыть эту гору, но как ничтожны его силы, как мало он может сделать!..
Он был не прав, когда так низко оценивал свои работы. Удалось выяснить много интересного и самое главное — происхождение Олекмо-Витимеких россыпей. Они залегают довольно глубоко, над ними находится толща ледниковых отложений. Об этом почти двадцать лет назад писал Кропоткин. Теперь Обручев может подтвердить, что Петр Алексеевич был прав. Очевидно, россыпи образовались очень давно, еще в доледниковое время, и отложения ледников сохранили их от действия воды, от перемывания. Там, на Олекме и Витиме, никогда не было мощных кварцевых жил, таящих золото, а может быть, их не сумели до сих пор найти... Но прииски богаты тонкими прожилками кварца, кристаллами серного колчедана. В этих породах и содержится золото, они освобождают драгоценный металл, постепенно разрушаясь в долинах рек и речек под руслами вод.
Карпинский так заинтересовался предварительными выводами Обручева, что, кажется, подумывает о продолжении работ на приисках. Это было бы очень хорошо. Берега Лены весьма слабо исследованы, ими необходимо заняться...
Теперь ему будет легче. Он писал в Петербургский горный департамент о плохой оснащенности своих экспедиций. И ему пошли навстречу — выслали порядочную сумму на снаряжение. Теперь он купит нужные книги, новый микроскоп и непременно инструменты. Ведь он все еще работает с тем случайным, далеко не полным набором, который был в его распоряжении во время Закаспийской поездки. И фотоаппарат купит, столь необходимый для путешествий...
Вероятно, департамент так расщедрился потому, что за опубликованную работу «Закаспийская низменность» Обручев награжден Малой золотой медалью Географического общества.
Что это? Захлопали двери, громко радостно заговорила няня, ей отвечает внушительный бас акушерки... Неужели кончено? Да, да, он слышит писк, нежный, слабый, точно котенок плачет за дверью!
Владимир Афанасьевич вскочил с места, выждал еще несколько минут, шагая по кабинету и стараясь обуздать свое волнение, наконец, решил: «Теперь можно!» — и бросился в спальню.
Лиза, уже прибранная, очень бледная, улыбалась ему. А на руках у акушерки...
— Поздравляю с сыном. Прекрасный мальчик.
— Позвольте... Как мальчик?
— Мальчик, Владимир Афанасьевич, — умильно заговорила няня. — Второй сыночек!
Обручев не мог скрыть разочарования.
— Дайте его мне! — услышал он слабый голос Лизы. — Посмотри, Володя, какой он... Богатырь, сибиряк! Теперь я полюблю Сибирь, потому что он здесь родился. Вот увидишь, он будет сильным, крепким, как... как саянский кедр.
Владимир Афанасьевич улыбнулся этому сравнению и наклонился над ребенком.
Елизавета Исаакиевна быстро оправилась, младенец чувствовал себя прекрасно, и жизнь семьи, нарушенная рождением «саянского кедра», как шутя называл Обручев Сережу, вошла в обычную колею.
Оказалось, что «карлик на вершине величественной горы» вовсе не одинок. Об этом Владимир Афанасьевич писал матери:
«Этот год особенно богат научными экспедициями. Геолог Черский обследует отдаленнейшие районы сибирского северо-востока, где реки Колыма, Индигирка и другие катят свои волны в Ледовитый океан. Зоолог Вагнер путешествует по Забайкалью и Байкальскому озеру, чтобы наблюдать за жизнью животных водных глубин. Ботаник Коржинский отправился в Амурский край и, проезжая через Иркутск, сделал нам несколько интересных докладов по геоботанике. Целая археологическая экспедиция направляется в Монголию для исследования развалин Каракорума, главного города Чингисхана. Экономист Семевский должен поехать на золотые прииски Олекмы — Витима, чтобы ознакомиться с положением тамошних рабочих. И, наконец, я тоже скоро двинусь в путь, на этот раз в северную часть Олекминско-Витимского округа, где находятся лишь небольшие золотые прииски, разделенные громадными просторами девственных лесов».
Владимир Афанасьевич интересовался и будущими работами профессора Вагнера по изучению глубоководной фауны Байкала и исследованиями археологов в развалинах Каракорума, найденных два года назад Ядринцевым. Но самым важным казалось ему путешествие Черского. Этот путешественник и геолог был человеком трудной судьбы. В Сибири он очутился давно, его выслали сюда после польского восстания 1863 года. Здесь Черского сдали в солдаты. Он вынес долгую и горькую службу, не растерял ни энергии, ни живого интереса к науке. Одно это уже подвиг. Но, едва освободившись от казармы и подневольного положения, Черский взялся за изучение окрестностей Омска, потом исследовал озеро Байкал... Результатом его четырехлетних работ была первая геологическая карта озера-моря. Проездом из Петербурга, где ему разрешили теперь жить, на Колыму Черский побывал в Иркутске и виделся с Обручевым. В 1891 году Иван Дементьевич выглядел пожилым, усталым человеком, хотя ему еще не было пятидесяти. Но, едва начав говорить о том, что его занимало, он преображался, лицо молодело. Спорить с ним было нелегко.
Черский, так же как и известный климатолог Воейков считал, что в Сибири не было четвертичного оледенения, как в Европе и Северной Америке.. Климат в Сибири континентальный, больших скоплений снега здесь быть не могло. Обручев не соглашался с этим. Кропоткин очень доказательно описывал следы древних оледенений на Ленских приисках, и собственные наблюдения привели Обручева к тем же выводам. Черский уверяет, что ледники могли существовать только на высочайших горах Сибири, но в золотопромышленном округе самые высокие горы не превышают 700—800 саженей.
Они долго спорили, наконец Черский сказал, что хотя он не видел в Прибайкалье убедительных следов оледенения, но в Тункинских Альпах, возможно, могли существовать ледники, правда небольшие... Впрочем, он, вероятно, займется этим вопросом там, на Колыме....
Распрощались дружелюбно. Черский уехал. Пусть сопутствует ему удача! Вид у него недостаточно здоровый для трудной и долгой экспедиции.
Жена на этот раз не могла сопровождать Владимира Афанасьевича. Она с детьми оставалась на даче под Иркутском. Но без товарища Обручев не остался. И товарищем его стал очень необычный человек, какого, пожалуй, можно было встретить только в Сибири.
В музей Восточно-Сибирского отдела частенько захаживал некто Кириллов. Не молодой, но крепкий и статный, этот человек не блистал образованием. Однако Кириллов прекрасно набивал чучела животных и птиц, умел засушивать растения и составлять гербарии. Он различал зоологические и даже энтомологические виды и роды, а главное, нежно любил природу. Был он и хорошим охотником.
Обручев не раз говорил с ним и узнал, что Кириллов бывший жандармский унтер-офицер. Долгое время он надзирал над политическими ссыльными, постепенно понял благородство этих людей и как-то безоговорочно им поверил. Лишенные привычной работы ссыльные старались заполнить время чем-то полезным. Одни изучали повадки птиц, другие занимались ботаникой, третьи интересовались животными тех мест, где судьба определила им жить. От них-то Кириллов и выучился всему, что знал, полюбил природу и естественные науки.
Такой человек мог быть хорошим спутником. К тому же Иркутскому музею не хватало экспонатов, представляющих животный и растительный мир Олекмо-Витимского округа. Поэтому когда Обручев предложил взять с собой Кириллова как коллектора, все нашли, что это очень удачная мысль.
Бывший унтер в самом деле оказался превосходным спутником. Они выехали из Иркутска в начале мая. Еще стояло половодье, но ехать пришлось на лошадях до Жигалова, где можно было нанять лодку. На этот раз Владимир Афанасьевич убедился, что сибирская природа в некоторых местах действительно напоминает кавказскую. Тарантас катил по узкой, сильно размытой дороге. По одну сторону возвышалась отвесная скала. С нее в любую минуту могла сползти лавина щебня или обрушиться увесистая глыба. По другую сторону пенилась вздутая мутная река, кое-где настолько заливавшая дорогу, что колеса были покрыты водой. Кириллов всякий раз, усаживаясь в тарантас, крестился, да и у Владимира
Афанасьевича сердце подчас замирало. Однако до Жигалова путешественники добрались здоровыми и невредимыми.
Лодку достали, а лодочника решили нанять, чтобы избежать смены гребцов на каждой станции. Плыли только днем, так как Обручеву нужно было внимательно обследовать берега. Часто останавливались, и Владимир Афанасьевич лазал по скалам со своим молотком. Кириллов ловил бабочек, стрелял птиц, выискивал жуков и ящериц. А гребец покуривал, отдыхая, и с удивлением следил за непонятными действиями своих пассажиров. Судя по всему, он считал их людьми несерьезными. Что может понадобиться взрослому разумному человеку на диких берегах, где нет ни золота, ни водки?
Обручев впервые занялся фотографией и снимал интересные скалы, речные пейзажи и уголки леса с обязательной фигурой Кириллова на первом плане.
Май выдался дождливый и холодный, как нередко бывает в Сибири. Иногда, чтобы отбить интересный образец, приходилось карабкаться по скользким мокрым камням и часами работать под дождем.
До Витима добрались только через три недели, зато материал был собран богатый. Как и в прошлом году, на пароходе доплыли до Бодайбо, а .там начались странствия по приискам.
Еще в минувшее лето почти на каждом прииске Обручев встречался с управляющим. Обычно это бывший конторщик, из тех, кто посмышленей и умеет угождать хозяину. Постепенно он выслуживается и становится главной фигурой прииска. Практически он знает горное дело, но не имеет никакого образования, и всякое вмешательство науки в добычу золота для него только досадная помеха. Если на прииск приезжает геолог, управляющий встречает его неприветливо. Свалится как снег на голову такой приезжий, от него не отделаешься — он облечен властью, находится на государственной службе. Устраивай его на ночлег, заботься о кормежке, ищи ему лошадей и проводников, а будет ли толк от его приезда — сомнительно-
Обручев уже привык к такому отношению и не ждал ничего иного на Тихоно-Задонском прииске, когда пришел знакомиться с главным управляющим, недавно приглашенным на работу Ленским товариществом.
Навстречу ему поднялся сухощавый человек с живыми глазами.
— Горный инженер Грауман, — отрекомендовался он. — Добро пожаловать.
«Первый горный инженер на должности управляющего прииском, — подумал Обручев, — хорошее начинание!»
— Очень, очень рад вас видеть, — продолжал Грауман, — наконец-то у нас будет работать геолог! Ждем от вас большой помощи. Выяснить происхождение наших россыпей давно пора.
Эти несколько слов несказанно обрадовали Владимира Афанасьевича. Наконец-то нашелся управляющий, да еще главный, который понимает, как нужны прииску геологические работы. Очевидно, здесь дело пойдет легко.
Он разговорился с Грауманом и стал развивать перед ним свои взгляды на происхождение россыпей. Управляющий слушал внимательно, и Обручев так увлекся, что не заметил, как в комнату кто-то вошел.
— Позвольте вас познакомить... — сказал Грауман. — Это горный инженер...
Владимир Афанасьевич обернулся.
— Шварц! Ты?
— Обручев! Вот встреча!
Шварц! Старый товарищ по Горному институту! Оказывается, он тоже недавно приглашен сюда. Товарищество Ленских приисков поняло наконец, что с кустарным способом работ нужно покончить, что только наука может правильно поставить добычу золота. Надо спасать прииски, они явно хиреют...
— Мы теперь широко ставим новые разведки, — говорил Шварц, — вот ты посмотришь. И новую богатую россыпь открыли. Конечно, все это только начало, но кое-что уже сделано. Гидравлический метод вводим...
— А! Это интересно! Уже идет такая добыча?
— Как же! Большую водоотводную канаву провели от Ныгри, чтобы дать воду гидравлике. Я с тобой сам везде побываю... А теперь расскажи, как живешь. В Иркутске? Вот как! Женат?..
Владимир Афанасьевич побывал на новых работах, где тремя брандспойтами размывали наносы.
Хотя долина реки Ныгри представляла собой сплошные разрезы, но кое-где еще сохранились целики. Отыскивать их в разных местах долины было сложно, поэтому полный перемыв породы был выгоден. Вода поступала из новой канавы, и толстые струи безостановочно били в борта старых разрезов.
В устье реки Безымянки Обручев обратил внимание на то, что две россыпи лежат в близком соседстве друг с другом, но на разных уровнях. Он установил, что более глубокая россыпь образовалась на дне долины, а лежащая выше была террасовой, значит более древней. Такие террасовые россыпи он видел на реке Накатами. По-видимому, еще до нашествия ледников происходили поднятия. Из-за них уклоны рек стали круче. Реки начали сильнее разрушать долинное дно, прокладывая себе путь. Россыпи размывались и перемещались с водой в новые русла, а те, что оставались на старых местах, очутились на террасах. Обручев предложил специально искать террасовые россыпи в долинах рек, и совет его был принят с благодарностью.
Однако пока что Грауман и Шварц были исключением. Не успел Владимир Афанасьевич отъехать от Тихоно-Задонского прииска, как встретился с привычным недоверием. На прииске Нижнем, принадлежащем Ратькову-Рожнову, нельзя было углубить шахты из-за напора воды. Обручев нашел на соседнем с Нижним прииске террасовую россыпь и понял, что продолжение ее нужно искать на участках Ратькова- Рожнова. Там, несомненно, обнаружится золото и не будет воды. Но управляющий не обратил никакого внимания на это предложение и не поставил разведку там, где советовал Обручев. Только через 15 лет, как узнал впоследствии Владимир Афанасьевич, там нашли богатую россыпь.
А на прииске «Золотой бугорок» Обручева даже не допустили в шахту. Хозяин сказал, что она ремонтируется, но это была явная ложь.
С удивительными порядками приходилось встречаться на приисках. В долине реки Бульбухты на небольшом прииске не видно было настоящей работы, только золотничники копошились в старом разрезе. Очевидно, дела владельца шли из рук вон плохо, но вид у него был совершенно довольный и преуспевающий. В небольшой конторе стояли в ряд огромные бутыли с водкой, настоянной на красном перце и мяте. Обручев быстро понял, в чем дело. У хозяина нет средств для настоящей разведки и добычи золота. Он живет тем, что продает своим рабочим водку в обмен на добытый ими металл. Бедняки, целый день копаясь в разрезах и отвалах, отдают всю свою добычу за спиртное. Да и спиртное ли это? Вероятно, в бутылях гораздо больше бульбухтинской воды, чем водки, а перец и мята, обжигая глотку, создают впечатление крепости.
Таких «золотопромышленников» было немало. Они делали заявку на участок, для виду производили какие-то мелкие работы, а сами торговали водкой или открывали лавку, где рабочим приходилось покупать все, в чем они нуждались. Других лавок поблизости нет, значит, сколько ни запросит хозяин, поневоле заплатишь...
Арендатор прииска в долине Большого Балаганаха довольно любезно встретил Владимира Афанасьевича, пригласил его к завтраку и похвалился горстью золотых зерен.
— Нашли, представьте себе, в старой казарме. Бывают же такие случаи!
— Позвольте-ка! — Обручев осмотрел золотые зернышки. — А ведь это не золото.
— Как не золото? Что вы!
— Уверяю вас. Это сплав олова, меди и свинца. После плавки его сбрасывают в воду мокрой метлой, и он распадается на такие зернышки. Похоже на золото по форме и цвету, но, смею уверить, вас обманули. Вы лучше избавьтесь от этих зерен поскорее, как бы ревизия на них не наткнулась. Вас же заподозрят в мошенничестве.
Арендатор был совершенно убит. Завтрак прошел в унылом молчании.
Обручеву было ясно — хозяева таких маленьких и невыгодных приисков часто скупают золото, украденное рабочими более крупных и богатых предприятий. Покупают, конечно, по дешевке, ведь укравшему нужно поскорее сбыть свой опасный «товар». А купивший сдаст это краденое золото государству по настоящей цене. Арендатор был наказан по заслугам.
Управляющие приисками, не разрешали Владимиру Афанасьевичу заходить в казармы рабочих, беседовать с ними. Дело геолога — шахта и разрез.
Но горя и беды, как говорят, не скроешь. Обручев многое видел, и положение рабочих на больших приисках ужасало его.
На прииске в долине речки Кигелан Обручев встретился с комиссией горного надзора. Расследовалось дело о гибели одного из рабочих. Он задохнулся в шахте после пожога — костра для оттаивания вёч- ной мерзлоты. Этим способом пользуются на мелких и далеких приисках, лежащих среди леса. Возле больших предприятий лес давно вырублен, и там взрывают мерзлую породу динамитом.
Комиссия состояла из инженера, врача и исправника. Они приехали на прииск со свитой казаков. Им хотелось поскорее закончить расследование, и они назначили разбор на вечер того же дня. Владимир Афанасьевич был приглашен в понятые.
Возле шахты, где случилось несчастье, поставили стол и табуреты, зажгли факелы. Одного за другим допрашивали свидетелей. Кругом толпились жители поселка. Пляшущие пятна света, мрачные, испитые лица... Обручеву казалось, что он видит какую-то средневековую сцену.
Дело, было простое. Слишком простое и обычное для этих мест. Вечером в шахте подожгли уголь, а шахты не закрыли. Полагается, чтобы до утра в нее никто не входил, а к. утру пожог догорает. При хорошей вентиляции газы рассеиваются, а при плохой скапливаются в забоях, где можно и угореть и задохнуться. Обычно, перед тем как войти в забой, туда бросают пучок зажженной соломы, чтобы узнать, нет ли там газа.
На этот раз шахту не закрыли, думая, что рабочие спустятся туда только утром. Но вышло иначе.
В кабаке шел большой кутеж, пропивалось золото, найденное днем. Как всегда, пить оказалось уже не на что, а в долг водки не давали. Попробовали выпросить аванс — управляющий отказал: деньги только за золото, таков уговор. И вот пьяный смельчак спускается в шахту: авось пофартит...
Утром товарищи нашли его уже мертвым. Видимо, он задохнулся сразу же после спуска.
Владимир Афанасьевич видел труп этого несчастного, его принесли с ледника, где он лежал до следствия. Никаких знаков насилия не нашли и решили, что покойник виноват сам. Администрации сделали выговор за то, что не закрыли шахту, и приказали уплатить семье погибшего пособие.
Это «простое» дело и необычное его разбирательство так угнетающе подействовали на Обручева, что и на другое утро, когда его лодка тихо плыла по реке, сверкающей на солнце, он все еще не мог успокоиться. Он смотрел на нежные розовые краски утра, на зеленые круглые горы, великолепные черные скалы и думал, что благословенная земля, которая родит хлеб, розы и вино, превращается в этом краю золота в дикое нагромождение щебня, глины, песка, становится для человека губительной и беспощадной.
Повидал Владимир Афанасьевич и еще одну разновидность людей, близких к приискам. Пробираясь по лесной тропе с конюхом, он увидел, что какой-то человек, прячась в кустах, со страхом на него смотрит. Подъехали ближе. Оказалось, что путник не один, с товарищами. Обручев хотел с ними заговорить, но они стремительно бросились в чащу. Где-то поблизости забулькала вода, должно быть, беглецы торопливо переходили ручей вброд.
— Что с ними?»— удивился Владимир Афанасьевич.
— Спиртоносы! — засмеялся конюх. — Испугались ваших пуговиц да фуражки, подумали, не исправник ли едет с конвоем...
Обручев успел заметить на спинах убежавших Странные продолговатые мешки. Оказалось, что это резиновые баллоны со. спиртом. Обычно контрабандисты носят спирт в плоских флягах, их удобно прятать под одеждой, но у этих, видно, был оптовый заказ...
Однажды Обручев с несколькими спутниками расположился на отдых в красивой долине. Его товарищи пили чай у костра, а он поднялся на скалу с геологическим молотком, чтобы взять образцы пород.
Ему послышался вдали конский топот, сначала он не обратил внимания на это, потом насторожился. И тут со свистом и гиканьем к лагерю подскакал отряд казаков.
— Ни с места! Стрелять будем!
Недоумевающий Обручев спустился вниз. А там уже шел обыск. Казаки увидели пасущихся коней и решили, что сейчас накроют контрабандистов. За конфискованный спирт или незаконно провозимое золото охране хорошо платят, и казаки надеялись заработать. Но в мешках у людей, распивающих чай, оказались, как выразился казачий старшой, «ничего не стоящие камни». А когда со скалы спустился и подошел человек в форменном мундире, ловцам спиртоносов пришлось извиниться и уехать.
Только в тайге, вдали от этих тяжелых впечатлений, Владимир Афанасьевич чувствовал себя счастливым.
Коварные моховые болота скрывали под ярким зеленым бархатом трясины. Пробираться по ним приходилось по узким полусгнившим гатям, бедой грозил каждый неуверенный шаг коня. Донимал гнус. Два раза Обручев чуть не расстался с жизнью, когда лошадь, поскользнувшись на мокрой глине, падала вместе с ним. Долго потом каждая жилка отзывалась болью на малейшее движение. Но все это пустяки в сравнении с теми радостями, что дарила природа. Даже опасные и тревожные минуты были не лишены своеобразной прелести. «Каждый день открывает новые чудеса мироздания», — писал впоследствии Обручев о своих таежных странствиях.
Сделаны ценные наблюдения, собрано много образцов... Все яснее он видел лицо края. Теперь можно составлять общий геологический обзор.
Он нашел новые признаки древнего оледенения четвертичного периода. На южном склоне хребта Кропоткина, в бассейнах рек Бодайбо и Вачи они были отчетливо видны и, как правило, сопровождались глубокими золотоносными россыпями. Эти россыпи, покрытые слоем месинки, с валунами и обломками горных пород образовались еще до первого оледенения. Там, где следов ледника нет, россыпи гораздо беднее, ледниковые отложения не сохранили их.
Окончательно ясен стал главный источник ленского россыпного золота — серный колчедан и тонкие прожилки кварца.
На основании этих выводов можно уже дать практические советы золотопромышленникам: искать глубокие россыпи там, где местность подвергалась оледенению, обращать непременное внимание на вкрапления серного колчедана и не разведывать золото в молодых эпигенетических участках речных долин; оно окажется не там, а под склонами долины.
Последним ярким впечатлением от поездки было знакомство с окружным горным исправником в Бодайбо. Это был такой грузный толстяк, что верховая лошадь не выдерживала его веса, и он разъезжал по приискам в тарантасе. Говорили, что исправник бывший гвардейский офицер. Он прокутил все, что имел, наделал долгов, был вынужден уйти из полка и поступить на службу в полицию — презираемый среди офицерства и гражданского населения род войск.
В Бодайбо Обручеву рассказали, как однажды дерзкие спиртоносы положили в тарантас бочку со спиртом, накинули на нее офицерскую шинель с погонами и, не таясь, повезли спирт на Успенский прииск.
Когда горная охрана окликнула их, ямщик попросил казаков говорить потише. «Господин исправник спит и приказал не будить его до приезда на Успенский». Охрана заглянула в тарантас, но бочка в шинели вполне сошла за толстобрюхого исправника, и спирт безнаказанно довезли до места.
Из Бодайбо Обручев с Кирилловым поплыли в лодке вниз к селу Витим, чтобы там сесть на пароход. Ночи были уже холодные, приближалась осень...
В Иркутск, к семье! Как там поживают Лиза, Волик и «саянский кедр», такой еще маленький, что любой кустик кедрового стланика выше его?..
Моей души предел желанный...
Ясный сентябрьский денек 1892 года. На улицах Кяхты, как всегда, оживленно и шумно. Прохожие с любопытством смотрят на коляску, выезжающую из ворот дома Лушниковых. Ну и кони! Во всей Кяхте таких не найдешь... Да ведь и богаче лушниковской фирмы вряд ли другую отыщешь.
За коляской верховые... Куда же это они отправляются?
— Никак лушниковский зять с компанией! — говорит пожилой купец, шествующий с приказчиком в Гостиный двор.
Сняв картуз, он раскланивается и, не удержавшись, спрашивает:
— Пикничок задумали соорудить? Поздновато... время не летнее.
— Гостя провожаем! — отвечают из коляски. — В дальний поход человек идет.
Купец надевает картуз и, продолжая свой путь, бормочет:
— Видно, тот, с бородкой, уезжает, что гостил у них...
Коляска и всадники долго едут по ровной просторной степи, замкнутой вдалеке горами, мимо редких монгольских юрт, мимо светлого озера Гилянор. Уже смеркается, когда въезжают в сосновый лес.
— Вон она, вон ваша палатка, Владимир Афанасьевич! И ваш переводчик Цоктоев, видите?
На берегу речки — добротная двухскатная палатка. Возле нее костер. Три человека машут руками и кричат.
— Сюда, сюда!
— Ужинать, ужинать скорее! Давайте припасы! А шампанское где? Прежде всего выпить за здоровье отъезжающего!
Шумный веселый ужин. На костре жарят шашлыки. Хлопают пробки шампанского. Пьют за здоровье Обручева, желают благополучного возвращения. Поход предстоит ему нелегкий... Шутка ли — два года вдали от родины, от семьи.
— Темно уже, братцы! Когда-то до дому доберемся... Давайте прощаться. Ну, легкого пути, Владимир Афанасьевич!
— У бродяг и охотников обычай другой, — отвечает Обручев. — Доброго друга провожают с утра до вечера, а с вечера опять до утра.
— Нет, пора, пора! Хоть вы нам и добрый друг, да не бродяга и не охотник, а путешественник...
— Значит, и то и другое...
Хлопает последняя пробка, бокалы наполняются искристым вином. Руку на счастье, друг! Счастливого пути!
Со смехом и шутками компания уезжает. Обручев остается один.
У костра пьют чай возчики и его переводчик Цоктоев. Тихо плещется река, вершины сосен шумят от ветра. Владимир Афанасьевич устраивается в своей новой палатке. Она сделана из толстого тика и подбита бумазеей. В ней должно быть тепло в холодные ночи. На этот раз Обручев снаряжен заботливо и обдуманно. С ним большие легкие чемоданы конструкции Пржевальского; для книг и инструментов — вьюки; запасное платье, обувь, патроны, порох, свечи в сундуках на повозке... В палатке — складной столик, за ним можно работать и есть.
Немного грустно после отъезда веселых приятелей... Он долго сидит у входа в палатку, прислушивается к плеску реки, к шуму сосен...
Давно ли, кажется, в своем иркутском кабинете он спрашивал жену:
— Неужели скоро четыре года, как мы в Сибири?
— Ты просто не замечаешь времени за работой, — отвечала Елизавета Исаакиевна. — Ведь сделано очень много, Володя. Припомни-ка все свои поездки... А сколько ты здесь написал!
Она была права, его разумная Лиза. Сделано немало.
Отчет о второй поездке в Олекмо-Витимский край, как и первый, напечатан в «Известиях Восточно-Сибирского отдела». Закончена и большая работа о древнепалеозойских осадочных породах Ленской долины. Это итоги тех изысканий, которыми он занимался во время путешествия в лодке по Лене. Но писать о золотых приисках можно еще и еще... Он мечтает непременно составить геологическую карту Ленских приисков и других сибирских золотоносных районов.
Кроме того, за эти четыре года написано еще двенадцать отдельных статей по материалам поездок.
Немало... И очень мало по сравнению с тем, что задумано.
Он решил, что летом 1892 года поедет в Западный Саян и Урянхайский край. Дмитрий Александрович Клеменц — после отъезда Потанина правитель дел в Восточно-Сибирском отделе — не раз говорил о полной неизученности этих мест. Самому Клеменцу удалось там побывать, но заниматься научной работой он тогда не имел возможности. Дмитрий Александрович человек авторитетный, работа отдела при нем идет не хуже, чем при Потанине, в Иркутске с ним считаются. Когда он предложил Обручеву поехать в эти неисследованные земли, Карпинский не стал возражать. Основные сведения по Олекмо-Витимскому округу получены. Ехать туда снова пока не нужно, а Урянхай действительно совершенно не изучен...
Самого Обручева эта поездка тоже привлекала. Ведь Урянхай недалек от Центральной Азии, а она по-прежнему, как в юности, волнует и зовет его.
Клеменц долгое время жил в Минусинске и с директором Минусинского музея — Мартьяновым — был связан годами совместной работы. Он написал Мартьянову о предстоящей экспедиции, и тот обещал нанять проводников и лошадей. Все складывалось удачно, Обручев был готов к отъезду.
И как удивительно все изменилось в одну минуту!
Последние дни в семье, последние ночи под домашним кровом. И в одну из этих ночей громкий пронзительный звонок в дверь. В доме переполох... Телеграмма! Неужели с мамой что-нибудь?..
— Что такое? От президента Географического общества великого князя Николая Михайловича?
Удивленный Обручев распечатывает телеграмму и в волнении опрокидывает стул.
«Научная экспедиция Потанина в Китай и Южный Тибет снаряжена... Географическое общество желает единодушно, чтобы вы сопровождали экспедицию в качестве геолога. В случае вашего согласия немедленно...»
«В случае согласия»! Разве он может не согласиться? Азия! Чудесная, долгожданная Азия! Какое неожиданное волшебное исполнение желаний!
Он счастлив. Он не знает, что делать от радости. Бежать на телеграф, к Клеменцу, к Карпинскому? Как дожить до утра, чтобы начать действовать?
А утром — разговор с Лизой. Она в ужасе. Расстаться на два года? Китай — неизвестная, опасная страна... Мало ли что может случиться с путешественником... Он погибнет там, в далеком Китае, а она даже не будет знать, что его уже нет на свете.
Владимир Афанасьевич утешает, успокаивает жену. Мало-помалу, видя его радость, она перестает плакать, но начинает просить, чтобы он взял ее с собой.
— Лиза, Лиза, ты забываешь о детях... Сережа так мал, он не может без тебя... А брать их с собою немыслимо, невозможно. Если ты не хочешь оставаться в Иркутске, я отправлю тебя в Петербург. Это будет правильнее всего, ведь через два года здесь может работать уже другой геолог, и мне не придется сюда возвращаться. Согласись, голубушка, пойми, что такой путь не под силу женщине.
Он ни словом не обмолвился, что, по его предположениям, с Григорием Николаевичем, как обычно, поедет Александра Викторовна. Лизе совсем не нужно об этом знать.
После долгих слез, раздумий и разговоров она согласилась.
Обручеву было известно, что в Петербурге Потанин успешно работал и сумел в один год написать обширный двухтомный отчет о прошлой поездке. О предполагаемой новой экспедиции он тоже знал, но никак не думал, что будет принимать в ней участие.
В Петербург полетели телеграммы, письма. Было решено, что он выедет из Иркутска в августе и тогда же отправит семью в столицу. Лето оставалось свободным, и он мог спокойно готовиться к своей ответственной экспедиции.
Он немедленно написал петербургскому книготорговцу, уже не раз выполнявшему его поручения. Ему необходимы книги, ведь, кроме первого тома «Китая» Рихтгофена и работ Пржевальского, он о Центральной Азии ничего не читал. Ему очень быстро прислали все тома «Китая» и другие нужные работы, а из Географического общества он получил труды Потанина и Пржевальского.
Обручевы сняли чудесную дачу под Иркутском. Жили в березовой роще, на мельнице возле пруда. Детям было там хорошо. Лиза ездила раз в неделю в город за почтой и провизией, а он целые дни просиживал в беседке, читал, делал выписки, намечал планы будущих работ. Утром и вечером выезжал в лодке ловить рыбу и часто добывал крупных щук и окуней. Снаряжение для экспедиции готовилось в Иркутске.
Страшновато было отправлять Лизу с детьми в Петербург на лошадях. Сереже полтора года, Волику еще нет и пяти. Пересадки, ночевки на станциях... Молодая женщина без спутников....
Но, кажется, он прекрасно вышел из положения. Горное управление четыре раза в год отправляло в столицу золото для Монетного двора. Все полученные с приисков самородки и шлиховое золото в Иркутской лаборатории превращалось в слитки. Их везли в деревянных ящиках на повозках с рогожным верхом. Караван из 12—15 повозок обычно сопровождался начальником и двумя казаками. Но чтобы народу в караване было больше, разрешалось брать пассажиров. С караванами охотно ездили студенты и вообще небогатые люди. За проезд с них ничего не брали.
С таким обозом он решил отправить жену и детей. В управлении уверяли, что путь совсем безопасен. Казаки надежны, злоумышленники знают, что ящики с золотыми слитками прикованы ко дну повозок и быстро ими не завладеть... За последние несколько лет не было ни одного нападения на караваны.
Лиза не возражала. Но последний взгляд ее, когда обоз уже тронулся, он не может забыть. Была в нем и печаль, и ласка, и... упрек. Или это ему только показалось? Порой он спрашивает себя, не слишком ли беззаботно доверил три драгоценные жизни двум казакам и всем превратностям долгого пути? Ведь дорога продлится больше месяца, а дети так малы...
Впрочем, Лиза предприимчива и мужественна. Конечно, и она и дети доедут благополучно!
Через неделю он отправился в путь и на этот раз увидел всю ширь Байкала, пересекая его на пароходе. Раньше ему приходилось наблюдать только часть озера — Малое море. Это было во время поездки на остров Ольхон.
Дальше ехали по купеческому тракту, так называется дорога, проложенная кяхтинскими купцами для перевозки чая из чайной столицы — Кяхты. Там, в Кяхте, он должен был остановиться в доме Лушникова, богатого чаеторговца. Он знал, что дом этот так же гостеприимен, как и богат. У Лушниковых останавливались Пржевальский на пути в Центральную Азию, Потанины, Ядринцев и Клеменц во время своих путешествий.
Но, конечно, явиться к незнакомым людям ни с того ни с сего было бы неудобно. Как удачно вышло, что в Иркутске он познакомился с Иваном Ивановичем Поповым, женатым на дочери старого Лушникова!
Попов работал в иркутской газете и Восточно- Сибирском отделе Географического общества. Приветливый, милый человек... Но в прошлом его есть некоторая таинственность. Ходят туманные слухи, что Попов, скромнейший Иван Иванович, — один из самых бесстрашных революционеров. Говорят, он был так законспирирован, что деятельность его не вскрылась на следствии, когда его арестовали. В Сибирь его отправили только по подозрению «в причастии»... Если бы жандармы знали о нем всю правду, не избежать бы ему долгосрочной каторги, а то и смертной казни.
Рассказывают также интересные подробности о женитьбе Попова. Он был сыном бедняка и всю жизнь нуждался. Полюбил курсистку Лушникову и сделал ей предложение, девушка согласилась. Он знал, что отец ее какой-то сибирский купец, но мало ли в Сибири мелких купцов... Когда его выслали и он с женой отправился в Сибирь, его поразили великолепные лошади и медвежьи шубы, высланные тестем навстречу молодым. Измученные долгим зимним путем, они поздним вечером добрались до Кяхты и после горячей бани сейчас же крепко уснули. А проснувшись утром, Попов увидел себя во дворце. Драгоценные ковры, красное дерево, великолепные картины, дорогая китайщина... Только тут он узнал, что женился на дочери крупнейшего кяхтинского миллионера.
Тесть его был весьма просвещенным человеком, в молодости дружил с декабристами, многочисленным служащим жилось у него хорошо, он не жалел денег на всякие общественные начинания. Зятя встретил очень ласково...
Возможно, все это так и было. Старик Лушников действительно сказочно богат, очень образован и прост в обращении.
А какое необыкновенное место Кяхта, эта слобода Троицко-Савска, но слобода, полностью подчинившая себе город. Она соседствует с бескрайними степями Монголии, а рядом с ней вырос китайский город — Маймачен. Здесь смешались русская, китайская и монгольская культуры. Кяхта — резиденция крупных чаеторговых фирм. Сюда тянутся бесконечные караваны из Китая. Мерно покачиваясь на высоких ногах, позванивая медными боталами, мягко вышагивают верблюды по длинному пути через степи и горы и несут в Кяхту тюки с китайским чаем. Здесь происходит «перевалка» товара. В Гостином дворе чай сортируют, тюки, или «цыбики», зашивают в сырые бычьи шкуры шерстью внутрь, чтобы товар не подмок в дороге, и отправляют его в Россию. Весь китайский чай идет через Кяхту, и байховый — рассыпной и плиточный — прессованный. И пьет его вся Россия: душистый цветочный подается в прозрачных фарфоровых чашечках на аристократических приемах, кирпичный заваривается в крестьянских избах, в монгольских юртах, северных чумах...
Когда караваны с чаем приходят из Китая, в Кяхте начинается оживление. Во дворах у купцов суета, ревут верблюды, ржут маленькие степные лошадки, тут повозки, коляски, пестро раскрашенные китайские паланкины, люди с длинными коромыслами, на которых висят корзины... Снуют русские молодцы — служащие купеческих фирм, монголы в красных и желтых кафтанах, китайцы в синей бумажной одежде...
Из открытых окон белого особняка слышится музыка. Кто-то уверенно, с блеском играет сонату Бетховена, а у ворот того же дома тянет свою монотонную песню сидящий на корточках монгол.
— Здесь найдете все, — говорил Обручеву Попов, — культуру европейца и быт кочевника... Каменную бабу с непонятными надписями перед зданием женской гимназии, шампанское высшего качества и кислое кобылье молоко, трюфели и вяленое мясо, вытащенное из-под потника седла, парижский туалет от Ворта и меховой кожух, который его владелец не снимает всю жизнь.
Кяхту называли поселком миллионеров. В самом деле богачей здесь немало.
В доме Лушниковых, где было собрано, кажется, все, что есть ценного и интересного в мире, Обручева встретили приветливо, радушно. И старики Лушниковы и Попов с женой, приехавшие в гости, были к нему очень внимательны. И дни, проведенные в этом доме, пронеслись быстро, как один.
Пока в Кяхте готовилось его снаряжение, он успел съездить по поручению Карпинского на Ямаровский минеральный источник. Там, в долине реки Чикоя, природа была куда приветливей и красивей, чем на мрачных берегах Лены и Витима.
Он исследовал геологию окрестностей источника и с любопытством присматривался к населению. По Чикою жили казаки Забайкальского войска, русские, но похожие на монголов. Издавна осев здесь, они часто женились на бурятках. Народ был живой, способный. Но особенно заинтересовали его «семейские». Так здесь называли староверов, когда-то выселенных в эти места из-за Урала. У них запрещались водка и табак. Жили в крепких чистых домах, большими семьями — отсюда и прозвание. Сыновья, женившись, не уходят от отца, хозяйствуют вместе. В иных семьях за стол садится ежедневно сорок-пятьдесят человек. А люди, как на подбор, рослые, сильные, белозубые... Таких «добрых молодцев» и «красных девиц», пожалуй, только здесь и встретишь.
Он осмотрел минеральный источник, решил, что курорт организовать здесь стоит: красивые окрестности, насыщенная углекислым газом вода... Хорошие места для отдыха и лечения.
Довольный этой приятной поездкой и удачной охотой, он вернулся в Кяхту и был огорошен депешей из Восточно-Сибирского отдела. Сообщали о смерти Черского на Колыме.
Вот и кончились странствия Ивана Дементьевича! Недаром он казался таким усталым! Обручев тут же написал некролог по памяти, книг Черского в Кяхте не было, и отправил его в отдел вместе с отчетом об осмотре Ямаровского источника.
Поздно уснул Владимир Афанасьевич в эту ночь. Нечего скрывать от себя — тревожно за Лизу с малышами... Но впереди Монголия, Китай, вожделенная Азия!
На рассвете его разбудили. Начался поход.
Сосновые боры в равнинах, густые, мрачноватые... Запах смолы, зеленый рассеянный свет... Потом по речным долинам вверх, через голые хребты и опять вниз... Через реки вброд. На каждом перевале опознавательный знак, приношение горным духам — «обо» — груда камней и воткнутые в камни палки с флажками. А флажки — то обрывки тряпок, то пучки конского волоса, то шелковые шарфики, смотря по достатку или благочестию путника.
Пробуждение на заре, завтрак, кормежка коней... Долгий дневной путь. Двуколки с вещами медленно ползут по дороге, а Обручев с Цоктоевым верхами, то обгоняя обоз, то отставая. До обеда немало обнажений пород осмотрено и описано, собраны образцы... В полдень — отдых. Но палаток не раскладывают. Наскоро кипятится чай, вынимаются холодные закуски. Лошади пасутся, пока люди отдыхают. Потом снова путь до вечера. Тут уже ставятся палатки, варят ужин. Обручев делает записи в дневнике, чертит карты... Спать ложатся рано, завтра вставать с солнцем...
В этом путешествии Владимир Афанасьевич впервые ведет подробные записи в дневнике. Прежде, полагаясь на свою память, он довольствовался записными книжками. Но хотя память превосходная, все же при составлении отчетов всякий раз начинались затруднения. Одно записано слишком кратко, интересные подробности уже нечетко вспоминаются, другое плохо понятно ему самому, третья запись стерлась, и буквы едва можно разобрать. Нет, только ежедневная подробная расшифровка в дневнике всего отмеченного днем в записной книжке, когда впечатления еще свежи, сохранит полностью весь добытый материал. К тому же дневник лежит во вьюке и путешествует более безопасно, чем книжка. Она может и потеряться и подмокнуть при переправе через реку...
На девятый день путешествия, перевалив через хребет Тологохту, увидели Ургу[10]. Собственно, Урга представляла собою два города — монгольский и китайский. А между ними в степи стоял дом русского консульства. Там и поместилась экспедиция.
Здесь нужно было заново снаряжать караван для дальнейшего путешествия. Предусмотрительные и заботливые Лушниковы и тут помогли. Владимир Афанасьевич смог спокойно доверить эти хлопоты приказчику одного кяхтинского торгового дома. Отсюда представители кяхтинских фирм переправляли товар в Кяхту, а китайские караваны, сдав свои грузы в Урге, порожняком возвращались на родину. С таким караваном и должен был Обручев ехать дальше. Нужно закупить и продовольствие. Пока свершались все эти дела, Владимир Афанасьевич осматривал город.
Он уже познакомился с несложным бытом монголов за девять дней пути до Урги. Бывал в степных юртах, где пол застлан войлоком, у стен стоят сумы с одеждой, посредине горит огонь в тагане, а на низеньком столике,- единственном предмете меблировки, расставлена посуда. Более богатого убранства ни в одной юрте Владимир Афанасьевич не видел. Он пил с монголами кирпичный чай с молоком, заправленный маслом и мукой, ел хурут — творожные сырки, луковицы сараны, редко-редко — мясо.
Так же проста одежда — синие бумажные штаны и рубаха, халат, а зимою баранья шуба, теплые сапоги и шапка.
Все состояние монгола — скот. И стада у богатых людей огромные — несколько тысяч голов, а у бедняков десяток тощих овец. Но есть и такие, у которых вовсе нет своего скота, они пасут чужой.
Обручеву интересно было поглядеть на жизнь монгольского города, ведь Урга — резиденция духовной и светской власти. Здесь живет китайский губернатор — амбань, а в самом большом из монастырей — глава духовенства — гэгэн, нынешнее воплощение Будды. Во множестве подворий, обнесенных заборами, размещаются монахи — ламы, их в Урге около четырнадцати тысяч. Много в монгольской столице и русских торговых фирм, вернее их представителей; одни переправляют чай в Кяхту, другие распространяют по Монголии разные русские товары.
Обручев удивлялся множеству нищих, стаям голодных облезлых собак. Встречаться с ними вечером в пустынном месте было небезопасно, случалось и нападали на человека, как волки...
На улицах невероятная грязь. В сравнении с Ургой даже Бухара представлялась ему опрятным городом.
Он бывал в храмах, его поразил огромный позолоченный бурхан в кумирне Майдари, он видел юрту, где судили преступников, перед ней для устрашения жителей сидели осужденные в тяжелых деревянных ошейниках.
Повсюду возвышались субурганы, которые иначе зовутся ступами. Это памятники каких-нибудь исторических событий и гробницы лам.
«Какое множество бездельников!» — с раздражением думал Обручев, глядя на молодых цветущих людей в монашеской одежде. Сколько их было в городе! Благодушно улыбаясь, скромно опуская глаза, они осторожно пробирались по грязным улицам.
Возле города высилась священная гора Богдо-Ула. Вырубать на ней лес и охотиться было запрещено. Специальные стражи следили за выполнением этого закона.
Владимир Афанасьевич вместе с секретарем консульства поднялся на эту гору. Геологический молоток пришлось оставить дома, божеству могло не понравиться, что на его горе со стуком дробят камни. Обручев только осмотрел выходы гранитов и даже не пожалел о том, что не может отбить образцы. На горе было удивительно хорошо. Высокие лиственницы уже стали лимонно-желтыми, осины полыхали красным, кусты — багряным пламенем. Непуганые животные совершенно не боялись людей. Грациозные косули проходили возле них, птицы спокойно сидели на ветвях и не вспархивали, подпуская к себе совсем близко. На горе жили и лисы, и волки, и рыси, и олени- маралы. Среди голой скучной степи гора Богдо-Ула казалась волшебным садом, и Обручеву хотелось еще раз подняться туда и побродить там подольше. Но к отъезду все уже было готово, и задерживаться не имело смысла.
Первый раз в своей жизни он отправлялся в путешествие в таком странном экипаже. На двуколку, запряженную двумя верблюдами, ставился короб с дверцей и двумя окошечками. В нем можно было лежать и сидеть, поджав ноги. Можно было есть и писать — имелся откидной столик. Этот экипаж сопровождался двумя лошадьми и целым караваном верблюдов. Устав от верховой езды, Обручев забирался в короб. Особого тепла в нем не было, но по ночам Владимир Афанасьевич не замерзал, хотя ноябрьские морозы доходили уже до 15—20 градусов. Ветер не задувал свечу, и можно было работать, правда, чернильницу приходилось по временам держать над свечой, чтобы отогреть чернила, но Обручева это не смущало.
Он, как всегда, много работал днем, а по вечерам сортировал образцы и вел дневниковые записи. Иногда удавалось и почитать. У него с собой был «Китай» Рихтгофена, книги Пржевальского, Потанина, даже Вальтер Скотт и Брет-Гарт.
Сидя в своем коробе, закутанный в теплое одеяло, он порой отрывался от работы или книжной страницы, освещенной слабым огоньком свечи. Кругом расстилалась бесконечная степь, покрытая свежей солью выпавшего снега. Ветер со свистом гнул сухие стебли трав. Пофыркивали верблюды. Из палатки, где ночевали Цоктоев и проводники, доносились глухие голоса. Он ощущал в себе столько мира и покоя, что ему хотелось кому-то признаться, как он счастлив.
Счастлив в этой безлюдной степи, оторванный от близких, от друзей, затерянный в огромном незнакомом краю? Счастлив, имея от всех сокровищ и благ жизни эту тесную лубяную коробку, свечу и книгу?
Да, счастлив! Иначе не назовешь чувство, переполняющее душу.
Днем он расспрашивал проводников о названии местностей, которые проезжал, и удивлялся уменью народа отбирать для названия самые характерные признаки. Холм с отвесно торчащими из него камнями назывался Цзараеж, Хара-Ниру — черные холмы, Боро-Тала — ветреная равнина. Как это верно названо!
Сначала вокруг разбегались невысокие горы или холмы замыкали котловину, по которой шел караван. Потом началась однообразная плоская равнина.
— Тут начинается Гоби, — сказал проводник.
Гоби? Пустыня Гоби! «Гоби или Шамо», как часто пишут на картах. Неужели он идет по этой земле, о которой столько думал?
По-китайски «шамо» значит «песчаная пустыня», но эта земля вовсе не была пустыней. Верблюды и лошади щипали на привалах жесткую высохшую траву, люди находили колодцы с водой... Это степь, а не пустыня!
Проводник объяснил, что Гоби по-монгольски — это всякая местность, где нет леса, пышной растительности и проточной воды. Настоящая пустыня встречается только кое-где и имеет свое особое название.
День за днем — степь. Взгляду не за что зацепиться. Плоская ровная степь. Лишь изредка цепи невысоких гор, скорее холмов, прорезают ее. Кое-где выходы базальта, красные глинистые обрывы или плоские столовые горы. Они еще сравнительно молоды и образовались из осадков, отлагавшихся в озерах и впадинах этой древней суши. Такие образования характерны для Центральной Азии.
Центральная Азия — мечта юности! Сбывшаяся мечта!
Чем дальше к югу, тем беднее становилась растительность, но все же от недостатка корма ни верблюды, ни даже лошади не страдали. Вода, правда, стала мутной, солоноватой, встречались и совсем соленые озера.
Однажды, копаясь в обрыве плоскогорья, Владимир Афанасьевич нашел осколки каких-то косточек. Кости в таких молодых отложениях? И кости, как ему кажется, позвоночного животного... Надо подробней рассмотреть этот обрыв, просто начать здесь раскопки.
Он сбежал с обрыва, хотел крикнуть монголам, что хочет устроить дневку, но караван ушел так далеко вперед, что верблюдов уже не было видно. Пришлось сесть на лошадь и скорым ходом догонять попутчиков. Он усердно понукал коня, но присоединился к каравану очень нескоро. А найденные осколки словно жгли карман, on все время вынимал и рассматривал их. Ему казалось, что он прошел мимо какого-то замечательного открытия[11].
Три недели тянулся путь через Гоби, и вот, наконец, монгольское плато кончилось. Караван стоял у обрыва, которым завершалась бурая степь, а впереди внизу виднелись острые зубцы гор и под ними яркие клочки полей, рощи, селения, извивающиеся долины рек. Перед Обручевым открылся таинственный Китай.
Далеко уходила по степи Великая стена, здесь она казалась низким валом. Местами вал взбирался на холмы и на вершине возвышался башней. Когда-то на этих башнях горели сторожевые огни или вспыхивало яркое пламя тревожных сигналов. Трудолюбивый земледельческий Китай ограждал себя этой стеной от набегов вольных кочевников.
Караван стал медленно спускаться вниз по крутой дороге. Переход через Монголию был закончен.
Дальше шли по долине среди китайских фанз, огородов и фруктовых садов. Миновали шумный торговый город Калган. Здесь Владимиру Афанасьевичу пришлось пересесть на носилки с крышей и занавесками. Такая будка устанавливалась на длинных жердях, а концы жердей прикреплялись к упряжи мулов. Багаж тоже переложили на мулов. Вещи привязывались к двухсторонней лесенке, перекинутой через круглое седло.
По долине реки Ян-Хе, вперед, к длинной горной цепи, синевшей вдали! Какие удивительные места! Северный склон хребта Антилопы, как называется горная цепь на правом берегу реки, был сложен лёссом и поднимался высоко над водой. На левом берегу — холмы из вулканических пород... Потом перевал Лао-Дун-Бей — «ребра старого дракона»... Камни, что торчат из горных склонов, в самом деле напоминают гигантские ребра. А ниже — селение Шан-Хуа-Юань. Это значит «высокий цветник». Когда-то в древности здесь разводила цветы императрица Сао.
Началось узкое ущелье. Проехать может только одна повозка. Встречные долго ждут перед ущельем. Высокими зубцами ощерилась гора Цзи-Мин-Шань. На ней множество одиночных скал, и к ним лепятся легкие здания кумирен с причудливыми крышами. Вокруг зеленые рощи. Все это похоже на сказку. Недаром эти места вдохновляли китайских поэтов. Обручев вспоминал что-то давно прочитанное: «Там, где тропинка исчезает, как птичья дорога в небе...»
После ущелья началась людная дорога, встречались караваны, повозки, всадники, носилки. Потом новый хребет Гун-Ду-Шан, и снова Великая стена взбегает на отроги.- Она сложена из тесаных каменных плит. Проводник объясняет, что здесь среди гор камня много, а на западе, где его нет, стена лёссовая и поэтому сильно разрушена. На скалах кое-где видны барельефы и статуи Будд, священные формулы: «Ом мани падме хум!» — «О сокровище лотоса!»
Караван проходит через пять ворот из гранита и мрамора, украшенных фигурами божеств, лотосами и надписями на нескольких языках, и вступает в заселенные равнины. Хорошо возделанные поля, частые деревни, близко Пекин.
Здесь работы для геолога нет, и Обручев, сидя на носилках, может спокойно любоваться местностью. Но от покоя он далек. Все ли благополучно у Потаниных, застанет ли он их в Пекине?
Высокие зубцы пекинских стен. Караван идет вдоль этой ограды древнего города, потом через широкие ворота вступает в столицу Небесной империи.
Пестрота одежд, толчея, резкие звуки каких-то музыкальных инструментов... Но сейчас некогда дивиться всему, что мелькает перед глазами. Дальше, дальше, в русское посольство!
На большой площади, тенистой от высоких густых деревьев, два низких каменных дома. Караван останавливается. Обручева любезно встречает секретарь посольства.
— Прошу сюда. Комната вас ожидает.
— Скажите, а Потанин...
— Григорий Николаевич прибыл. Он поместился в другом доме.
На крыльце Потанин, Александра Викторовна, их спутники.
— Добро пожаловать, Владимир Афанасьевич! С благополучным прибытием!
Забуду ли... кремнистые вершины,
Гремучие ключи, увядшие равнины,
Пустыни знойные...
Путешественник не привлекал к себе особого внимания. Он был одет по-китайски, в серый халат с черной курточкой поверх и черную шелковую шапочку с красным шариком. Так одевались обычно миссионеры европейцы, а к ним в Китае привыкли.
Но случалось, что костюм не помогал. Где-нибудь в глуши, куда еще не заезжали иностранцы, люди смотрели на путешественника с откровенной злобой, плевали ему вслед и с негодованием кричали:
— Заморский черт!
Русая, совершенно некитайская бородка чужака особенно не нравилась провинциалам. Из-за нее он часто слышал и другое нелестное прозвище.
— Рыжий дьявол!
Едва он входил в отведенную ему комнату на постоялом дворе, как туда набивалась толпа. Люди внимательно и серьезно следили за тем, как чужеземец разбирает вещи, моется, ест. Если он просил их уйти или его переводчик монгол осторожно оттеснял любопытных к двери, они искренне обижались. Почему чужак лишает их занятного зрелища? Почему не позволяет смотреть? Разве ему не все равно, быть одному или с людьми? Он просто злой человек!
Когда любознательных удавалось выставить из комнаты, они облепляли окна, часто вместо стекол затянутые бумагой. В бумаге одна за другой появлялись дырочки, а к ним приникали полные жадного интереса глаза.
Постепенно Обручев привык к пристальному вниманию людей и не смущался им. Спасибо, что Григорий Николаевич посоветовал одеться по-китайски.
— Некоторые миссионеры даже косу отпускают, чтобы больше походить на местных жителей, право! — уверял Потанин.
— Ну, цвет моей косы, пожалуй, только повредил бы мне, — смеялся Обручев.
Хлопотливые, но приятные дни провел Владимир Афанасьевич в Пекине. Радостно было повидать старых друзей. Правда, Александра Викторовна чувствовала себя не совсем хорошо, и врач советовал ей остаться в посольстве. Больная уверяла, что ее просто растрясло в монгольской повозке, оттого и пошаливает сердце, скоро все пройдет, но была грустна.
— Мне все кажется, что я не вернусь из этого путешествия, —- сказала она как-то Обручеву.
— Что вы, Александра Викторовна! С таким настроением ехать нельзя. Вам нужно остаться в Пекине.
— Нет, я Григория Николаевича одного не отпущу, его оберут, обманут... И ни слова ему, слышите?
Разговор этот встревожил Владимира Афанасьевича.
Григорий Николаевич с Обручевым бродили по Пекину. Многое в этом древнем городе казалось им удивительным и почти нереальным.
Стоя на высокой городской стене, выложенной широкими плитами, и глядя на бесконечные черепичные крыши, они слушали нежное прерывистое посвистывание, идущее как будто сверху. Обручев думал, что где-то висит эолова арфа[12], но Григорий Николаевич объяснил, что китайцы привязывают к хвостам голубей маленькие бамбуковые свистки; когда птицы летают, свисток наполняется воздухом, и слышится дрожащий тонкий звук...
На холмах Си-Шань они любовались чудесным парком, великолепной мраморной лестницей, богато изукрашенными воротами и храмом Пи-Юн-Сы — «Пятьсот шесть Будд». Позолоченные статуи изображали Будду в различные моменты его жизни. Отовсюду глядели то веселые, то суровые лица, и когда после этой поездки Обручев лег спать, то перед его глазами замелькали благосклонные глаза Будды, его гневно сдвинутые брови, меланхолическая улыбка...
А в храме спящего Будды лежала на боку обыкновенная статуя, и казалось: ее просто опрокинули. Но рядом стояли огромные туфли, чтобы убедить прихожан: божество, конечно, легло спать, если сняло обувь...
Интересно было и просто ходить по городу, глядеть на работу уличного цирюльника, на торговцев съестным, на оживленную толпу. Немало встречалось оборванных людей, просивших подаяния. Один мост так и назывался «Мостом нищих», и Обручева предупредили, чтобы он остерегся подавать милостыню кому-нибудь из них: набросятся все остальные. Владимир Афанасьевич, видя, что жители Пекина относятся к нищим совершенно равнодушно, недоумевал, чем живут эти люди...
Но отдавать много времени прогулкам они не могли. Потанины усиленно готовились к своей дальней экспедиции. Собирался в дорогу и Обручев.
Для него придумали особый шифр. На этом условном языке он мог сообщать посольству о своих затруднениях. Ему казалось это пустой выдумкой. Шифрованные телеграммы! Кто, кроме международных аферистов в плохих романах, прибегает к ним? Но Григорий Николаевич сказал, что Обручев когда-нибудь поблагодарит за эту предосторожность.
Деньги Владимир Афанасьевич получил переводом из Географического общества. Было их немного. Тратить следовало осторожно. Серебряные и золотые монеты принимались только в больших городах, где живут вместе с коренными жителями европейцы. Внутри страны в ходу серебряные слитки разного веса и еще чохи. Эти кружочки из латуни, с отверстием посредине, нанизываются на бечевку. Так как одна такая монетка стоит 1/4 русской копейки, то связка чохов в три рубля была очень увесиста. Экспедиционные и личные деньги Обручев обратил в чохи и серебряные слитки. Чтобы отрубать и взвешивать кусочки серебра, он приобрел специальный топорик и маленькие весы.
Беда была с переводчиком. Нанимаясь на работу, хитрый Цоктоев уверил Обручева, что знает китайский язык, а выяснилось, что ему известны только такие слова, как чай, лошадь, корм, вода... Это знал и Владимир Афанасьевич, попросить себе ужин и ночлег на постоялом дворе он мог. Но ему был нужен переводчик для более сложных переговоров. Однако ни в католической, ни в православной миссиях Пекина никого найти не удалось. Цоктоев остался в экспедиции.
Перед Новым годом в русском посольстве был устроен бал. Там блистали туалетами и русские дамы и жены служащих в американском, английском, французском посольствах... У Владимира Афанасьевича не было фрака, он забился в угол залы и не выходил оттуда весь вечер, но с удовольствием следил за танцами. Музыка, цветы, нарядные женщины... Нескоро ему придется увидеть все это!
А в окна глазели собравшиеся во дворе китайцы. И, судя по их поведению, и танцы и сильно декольтированные дамы казались им очень нескромными.
Наутро после этого бала группа Потанина отбыла из Пекина. Григорий Николаевич и его спутники шли к границе Тибета, в провинцию Сычуань, а оттуда должны были переправиться через восточный хребет Куэнь-Лунь. Встречу с- Обручевым назначили через год в Сычуани.
— Через год, Александра Викторовна!—крикнул напоследок Обручев, и Потанина с улыбкой помахала ему рукой.
Владимир Афанасьевич отправлялся в город Ланьчжоу, чтобы оттуда начать исследование горной местности Наньшань. Он мог идти по более короткому пути, но по нему уже прошел Рихтгофен, и Обручев выбрал другой маршрут, по окраине Ордоса — монгольской страны.
Он выехал из Пекина в крытой двуколке на огромных колесах, другая двуколка была занята Цоктоевым и проводником. Тяжелые повозки шли так медленно, что больше сорока-пятидесяти верст в день проезжать не удавалось.
Постоялые дворы были бедны и грязны. Еда а них — пшенная каша, больше похожая на суп, и гуамянь — вермишель из гороховой муки. Низкая лежанка из глины — кан — топилась со двора, и, пока комната прогревалась, постояльцы мерзли. Выручала иногда жаровня с горящими шариками из лёсса и угольной пыли. Но такие шарики удавалось достать только там, где поблизости были угольные копи...
Когда дорога повернула с равнин на высокое плоскогорье, у Владимира Афанасьевича началась работа — он собирал образцы, осматривал скалы. Они кое-где попадались по пути, но основная почва была та же, что и на равнине, — лёсс. Иногда дорога Пролегала в столь глубоких ущельях меж высочайших лёссовых стен, что было удивительно, как люди прорыли такую траншею в лёссе. Но она и не была прорыта. Веками топали по лёссовой почве копыта лошадей и мулов, вертелись колеса, и постепенно дорога все углублялась, а поднятая пыль уносилась ветром, и, наконец, образовалось это ущелье. Оно так узко, что кое-где в нем делают боковые площадки, иначе встречные повозки не могут разминуться. Но чаще, подъезжая к такой траншее, возчики громко кричат, чтобы предупредить едущих навстречу. -
«Недаром национальный цвет китайцев — желтый,—думал Обручев, глядя на этот желтозем. — Лёсс порист, хорошо фильтрует воду, содержит много извести и разных солей, очень плодороден. Дает и строительный материал, — ограды, кирпичи, черепица делаются из лёсса. И само жилище можно устроить даже не из него, а просто в нем».
Он видел целые поселки, -выкопанные в лёссе, и останавливался на таких пещерных постоялых дворах. Стены и потолки комнат не нуждаются ни в каких подпорках, лёсс очень плотен. Отапливаются помещения канами. В лёссовых домах тепло зимой и нежарко летом. Рядом с жилыми комнатами в толщах лёсса устраивают и помещения для домашних животных.
Подходя к горам, на одном постоялом дворе путники должны были переменить оси у телег. Дальше колеи дороги становились шире, следовало раздвигать колеса у повозок. Но путешественники поступали более остроумно — снимали оси, оставляли их здесь со своей меткой и надевали на повозки более широкие. На обратном пути снова происходил обмен.
Горы... Перевал... Еще перевал... В один из дней пути — облако - на горизонте. Ближе, ближе... Вот уже пыльная туча заволокла все кругом, но в воздухе совсем тихо. Только когда уже в двух шагах ничего нельзя было разглядеть, с северо-запада подул ветер. Оказывается, он гнал впереди себя тучу пыли и песков Ордоса. Такие бури обрушивались на путешественников не раз.
Высокие лёссовые холмы... С их вершин открывается хорошо знакомый пустынный пейзаж — барханные пески пустыни Ордос. А у подножия холмов проходит Великая стена. Здесь она сложена из лёсса, сильно разрушена, а местами ее захлестывают длинные языки сыпучего песка. Ясно, что во время постройки стены пески начинались гораздо дальше, чем теперь, иначе плохой защитой она была бы от кочевников... ее не стали бы тут строить.
Живут здесь китайцы, хотя места эти, примыкающие к Ордосу, считаются монгольскими. Но кто бы ни были жители, придется им, рано или поздно, покинуть свои дома и пашни, пустыня прогонит их отсюда.
Однажды Владимир Афанасьевич расположился на отдых на маленьком постоялом дворе и только принялся за скользкую темную гороховую лапшу, как в дверь постучали.
— Могу я войти? — спросил кто-то по-французски, и в дверях появился европеец в китайской одежде. — Я миссионер из Бельгийской миссии Сяо-чао, — сказал он. — Мы узнали, что на запад идет караван с европейцем во главе, и я выехал навстречу. Просим вас отдохнуть в миссии.
Это была удача. Вымыться, выспаться в хорошей постели и просто поговорить с людьми, которые понимают твою речь...
Миссия, то есть церковь, службы и жилые дома, расположилась близ реки Сяохэ. Владимир Афанасьевич думал прожить здесь день-другой, но задержался дольше. Было так удобно, живцов чистой теплой комнате, делать экскурсии по окрестностям. Его очень интересовало русло реки, глубоко врезанное в равнину; по обрывистым берегам можно было судить о геологическом строении Южного Ордоса. А в миссии хранился череп длинношерстого носорога, найденный в слоистом береговом лёссе.
«Как забрался так далеко на юг этот древний сибирский житель?» — думал Обручев, глядя на череп.
В последнее оледенение четвертичного периода длинношерстые носороги довольно густо населяли Сибирь, судя по найденным там костям... Но трудно было предположить, что здесь встретятся их следы. Если бы поставить раскопки! Возможно, нашлись бы кости четвертичных млекопитающих... Но нечего и думать! Денег мало, а земляные работы всегда стоят дорого.
Не успел караван покинуть гостеприимную миссию, как попал в песчаную бурю и двигался в сплошном тумане из мелких песчинок. Не спасали даже очки с боковой сеткой, песок больно бил по глазам, забивался в рот и нос. Однако китайцы говорили, что это всего лишь хуан-фын — желтый ветер, довольно безобидный. Вот когда поднимется хый-фын— черный ветер и вокруг станет совсем темно, тогда плохо...
Великая стена сопровождала путников по окраине Ордоса, то наполовину разрушенная, то едва заметная, то высокая, с хорошо сохранившимися башнями. Встречались города, когда-то могучие и грозные, а теперь заброшенные и малолюдные. Потом снова потянулась степь со стадами антилоп, которых монголы называют дзеренами, а китайцы — желтыми козами — хуан-янг. Когда Владимиру Афанасьевичу удалось сразить антилопу метким выстрелом, был праздник. Мясо ели редко.
Подошли к Хуанхэ — Желтой реке; она уже покрылась полыньями. Близилась весна, и лед вот-вот должен был тронуться. Он трещал и гнулся под ногами, но реку перешли благополучно, а на другой день лед пошел. Замешкайся путники немного, пришлось бы долго ждать окончания ледохода.
В городу Нинся расположились на отдых, а Обручев с Цоктоевым на двух мулах выехал осмотреть Алашанский хребет. Они долго ехали по голой пустыне, потом поднимались вверх по каменистому ущелью. Ночевали на постоялом дворе, приютившемся среди хаоса каменных глыб. Наутро снова начали подъем и к вечеру достигли перевала. А ночью повалил снег, и обратно возвращались, боясь потерять тропу, промерзшие и занесенные мокрыми хлопьями.
От Нинся шли вдоль Желтой реки. Было тепло, и крестьяне торопились с пахотой и севом. Сейчас сеяли «белое зерно», то есть пшеницу, кукурузу, просо. В июне, после уборки, посеют «черное зерно»— горох и фасоль. Их уберут в сентябре.
Над рекой проносились стаи уток и диких гусей. Они летели на север, и Обручев невольно следил за ними и думал, какой долгий путь им нужно преодолеть.
После веселых пашен вступили на окраину пустыни Тынгери — местность такую безводную, что в редких селениях путникам разрешали выпить воды и напоить животных только за деньги. Обвинять людей за это было нельзя. Они порой приносили воду из очень далеких источников.
И на северных отрогах Наньшаня было не легче. Ни леса, ни воды... Камень! Китайцы именуют всю систему этих гор Наньшанем, то есть южными горами, но многие хребты не имеют названий. Обручев дал северной цепи хребта имя Рихтгофена.
В городе Ланьчжоу оправдались предсказания Потанина: только шифрованная телеграмма в пекинское русское посольство и распоряжение из Пекина заставили местных чиновников отдать Обручеву давно переведенные ему деньги.
После десятидневной задержки из-за денег наняли новых возчиков с мулами и начали поход через горные цепи Наньшаня. Нередко на высоких перевалах отряд настигала сильная метель. Снежные вихри кружились на этих диких утесах. Словно сотни белых бесов вылезли из ущелий, где прятались до времени, а теперь пляшут и визжат, радуясь свободе. После такого бурана лёссовая почва размокала, обращалась в густую грязь, мулы скользили, ехать верхом становилось опасно, и Обручев шел пешком, помогая мулу и осматривая обнажения горных пород. Еле вытаскивая ноги из грязи, он часто работал под сырым снегом, на ветру, без горячей еды. Уставал до изнеможения, но, отдохнув за ночь, утром чувствовал себя снова бодрым. Как ему казалось, он стал горазда сильнее и выносливее, чем прежде.
Где возможно, он осматривал каменноугольные копи в горах. Преодолеть сопротивление начальства и самих рабочих было нелегко — считалось, что иностранец в шахте приносит несчастье. Но Владимир Афанасьевич упорно добивался своего. Часто ходы в шахтах были так узки, что он продвигался ползком в полной темноте. Все время слышался грозный треск породы — креплений не было почти никаких.
Он видел тяжелый труд шахтеров в России, но здесь было еще страшнее. Углекоп вытаскивал ежедневно на-гора сорок корзин угля и зарабатывал на русские деньги около трех рублей в месяц. А хозяин, продавая уголь, за два дня возвращал в свой карман месячную плату рабочего.
После этого тяжелого перехода по горам Обручев решил отдохнуть в городе Сучжоу. Здесь он остановился в доме очень интересного человека — бельгийца Сплингерда. У себя на родине Сплингерд был каменщиком, потом нанялся в услужение к одному миссионеру и вместе с ним приехал в Китай. Очень способный, он выучил трудный китайский язык и сопровождал Рихтгофена по всему Китаю как переводчик. Он сам при этом познакомился с бытом и нравами страны, и когда, по рекомендации Рихтгофена, стал агентом нескольких европейских торговых домов, то проявил столько ума и такта, что его оценили не только европейцы, но и китайцы. В то время когда Владимир Афанасьевич приехал в Сучжоу, Сплингерд был уже китайским мандарином. Он разбирал тяжбы и заведовал оспопрививочной станцией.
Обручев слышал об этом помощнике Рихтгофена еще в Пекине, но не ожидал, что встретит такой добрый товарищеский прием и узнает от своего хозяина столько интересного.
— Я видел почти всю страну, — говорил Сплингерд, — знаком с жизнью любого китайца, будь он уличный разносчик или мандарин... Кое-что смогу показать и вам.
Он был с Обручевым в китайской начальной школе, где черноволосые с фарфоровыми личиками дети сидели на полу за маленькими столиками. Макая кисточку в тушь, они выводили в тетрадях сложные значки. Оказывается, эти малыши писали изречение из Конфуция: «Честность, справедливость, приличия, мудрость, истина. Нужно держаться этих пяти главных добродетелей». Тех, у кого дело не ладилось, учитель награждал ударом бамбуковой трости по спине. Ребятишки сокрушенно кряхтели, но не плакали.
В городской тюрьме Обручев видел заключенных с прикованной к спине левой рукой. Правую оставляли свободной, чтобы узник мог готовить себе пищу. Тюрьма была грязная, тесная, множество арестантов носили кангу — тяжелый деревянный воротник. Сплингерд говорил, что следствие обычно ведется долго. Без взятки продажные судьи дела не решают.
— Главная беда Китая — продажность начальства, — сказал он. — Отсюда все беды. И я вас уверяю: так продолжаться не может. Будет переворот. Китайцы честный, трудолюбивый народ, они все повернут по-своему, и в стране утвердятся справедливые порядки. Мне не дожить, но вы почти вдвое моложе меня, вы увидите новый Китай.
Владимир Афанасьевич слушал сочувственно, но не думал тогда, сколько правды в этих словах.
Сплингерд был женат на китаянке, и весь его дом велся по китайскому образцу. Дети — семь красивых девушек и трое юношей — говорили только по- китайски.
Для Обручева устроили парадный китайский обед с бесконечной сменой блюд.
Владимир Афанасьевич попробовал и знаменитый паштет из сои, и соленые яйца, пролежавшие два года в земле, и суп из ласточкиных гнезд—блюда показались ему странными, но он все исправно съел. А Сплингерд сокрушался, Что не может попотчевать гостя супом из акульих плавников и трепангами. Что делать!.. Сучжоу далеко от моря.
После обеда был бой сверчков. Они дрались в большой чашке и, видно, очень ожесточились, кусая друг друга.. Под конец один сверчок выкинул из чашки другого и был признан победителем. Зрители волновались, подбадривали бойцов, держали пари... Обручеву показали жилище сверчков — чашка с крышкой, а в ней глиняный домик, крошечные блюдечки для воды и риса... Владимир Афанасьевич подумал, что этот бой сверчков — довольно невинная забава по сравнению с развлечениями европейцев — боем быков в Испании и петушиными сражениями во Франции.
Обручеву предстояло дальнейшее изучение Наньшаня. Для горных дорог нужны были не повозки, а вьючные животные. Сплингерд помог снарядить караван и даже отпустил с Обручевым старшего сына, чтобы приучить молодого человека к путешествиям.
Шли вдоль северного подножия хребта, потом свернули в горы. Пробирались по заваленным камнями и стиснутым утесами ущельям, порой таким узким, что верблюдов приходилось разгружать. С поклажей пройти они не могли.
Одолевали перевал за перевалом, и каждый день этого нелегкого путешествия был заполнен работой — сбором образцов, составлением карт...
Хребет Рихтгофена, хребет Толайшань, Дасюэшань, что значит большой снеговой хребет, Елашань и долина реки Шарагольджин, где жили уже монголы, замкнутая на юге еще одной горной цепью — хребтом Гумбольдта. Название было дано хребту его первооткрывателем — Пржевальским. Знаменитый путешественник считал эту горную цепь продолжением хребта Риттера. Но Обручев скоро увидел ошибку Пржевальского. В долине реки Халтын-Гол высится самостоятельный скалистый отрог, как бы оторвавшийся от хребта Риттера. Издали Пржевальский принял этот отрог за продолжение хребта.
Как во всякой дороге, постоянно досаждали путникам неожиданные помехи. Ночью пропали кони, и все разбрелись на поиски, а Владимир Афанасьевич стерег вещи и тоскливо думал, что на покупку новых лошадей денег нет, а вернуться пешком в Сучжоу — предприятие нелегкое. По счастью, лошадей нашли.
В другой раз Обручев, увлеченный геологической работой, отстал от каравана, не смог его догнать и ночевал с Цоктоевым в степи без одеяла и подушки. Только на другой день с трудом отыскали своих. Оказалось, что накануне по степи прошел военный монгольский отряд и затоптал следы каравана.
Проводник, взятый в Сучжоу, вернулся домой. Он уверял, что дальше не знает дороги. Найти нового не удавалось. Обручев держал направление на озеро Куку-Hop, но туда не соглашался идти ни один монгол — житель долины. Владимира Афанасьевича пугали, что тангуты — тамошние жители — непременно ограбят его, а то и убьют. Обручев плохо верил этим страшным рассказам. Он знал, что Пржевальский бывал на Куку-Норе не раз. Правда, у Пржевальского имелся вооруженный конвой, а в обручевском караване кроме револьверов — одна берданка да охотничье ружье...
Сошлись на том, что монголы проводят караван до ставки Цайдамского князя Курлык-Бейсе, а тот уже даст проводника в дальнейший путь.
И вот после почти трехнедельного перехода Обручев оказался на болотистой равнине реки, впадающей в озеро, где бродили, громко курлыкая, журавли. Оказалось, что журавль по-монгольски так и называется «курлык». Это имя носило и озеро, и самого князя, чей лагерь виднелся за рекой, звали Курлык-Бейсе.
К вечеру добрались до лагеря. Синие и белые палатки, кое-где воткнутые в землю копья с флажками — знак, что здесь помещается дзангин — старшина... На очагах варится ужин. Во всем этом виден относительный порядок, но само войско выглядит странно: люди одеты как попало — одни словно монахи-ламы, другие в ярких кафтанах, третьи в темных халатах. Кто в тюрбане, кто в соломенной шляпе, кто повязан платком...
Князь — мужчина лет сорока, с огромной бирюзовой серьгой в ухе, сидел в своей большой палатке на помосте, покрытом ковром. Перед ним на полустояли различные приношения. Видно, за день у него перебывало немало народу. Тут отрезы шелка и пачки свечей, бутыли с тарасуном — молочной водкой и жареная баранина на блюде, седла и кадушки с творогом, маслом и сметаной. Владимир Афанасьевич подумал, что если бы не помост, устланный дорогим ковром, не нарядный халат князя и его парадная шапка с павлиньим пером, Курлык-Бейсе выглядел бы совсем как торговец на базаре, разложивший перед покупателями свои товары.
Говорили с помощью Цоктоева и княжеского адъютанта. Князь, спросив о здоровье гостя и узнав, что ему нужен проводник, начал, как водится, бранить разбойников — тангутов и советовал или вернуться восвояси, или нанять у него большой конвой.
Обручев объяснил, что вернуться не может и денег для оплаты большого конвоя у него нет. Ему нужны два или три человека, чтобы проводник с ними мог возвратиться домой. А путешественники не боятся тангутов. У них есть оружие.
Князь обещал подумать и отпустил своих гостей.
Начало было не слишком обнадеживающим, но на другое утро к Обручеву явились адъютанты князя. Они интересовались оружием, которое помогает путешественникам не бояться тангутов. Ружья и револьверы привели их в восторг. Князю, видимо, сейчас же доложили о сокровищах чужеземца, потому что он прислал Обручеву приглашение на чай с просьбой захватить с собой оружие.
Владимир Афанасьевич пил у князя чай с молоком и солью, и мальчик-наследник собственной не очень чистой рукой сыпал в его чашку мелкие сухарики. Обручева очень соблазняла сметана в кадушке, молочных продуктов он не видел с самого начала пути, но зачерпнуть ее было решительно нечем, никаких ложек не полагалось. Он отважился черпать сметану лепешкой, которую ел, и все приняли это как должное.
После долгого осмотра оружия и переговоров Обручев продал князю берданку. Денег у него оставалось в обрез, а эта операция несколько исправила положение. Захворавшего верблюда удалось обменять с доплатой на двух лошадей. Были наняты два проводника. К отряду присоединился еще монгол Абаши, он возвращался на север, где была его родина. Князь выдал Обручеву охранную грамоту, и караван тронулся к дальним горам — обиталищу тангутов.
Унылую, покрытую то щебнем, то солончаками степь немного скрашивали перистые ветви тамариска, игравшие на ветру. Кое-где попадались монгольские юрты за глиняными оградами — жалкой защитой от внезапных нападений. На ночлегах лошади находили себе пищу, хоть и скудную.
С главной опасностью караван пока не сталкивался. Тангуты, которыми так пугали путников, не появлялись, и проводники князя Курлык-Бейсе уже собирались возвращаться. Владимир Афанасьевич хотел нанять новых в котловине Дабасун-Гоби. Там стоял небольшой монастырь, а Обручеву давно хотелось посмотреть на буддийское богослужение.
Старший лама повел гостей в храм, откуда доносились резкие звуки труб и барабанов.
Стены кумирни были увешаны изображениями божеств. На подушках, брошенных на пол, сидели ламы в желтых и красных одеяниях. Они били в литавры и дудели в длинные металлические трубы. А на красном троне посреди храма сидело живое божество — гэгэн, то есть воплощение Будды. Божеству было лет десять. Этот босой мальчик в красном халате сидел, не двигаясь и не поднимая век, но Обручев видел, как порой в его сторону скашивались живые черные глаза.
Трещали и чадили молитвенные свечи, громко молились ламы, послушники ударяли в большие гулкие барабаны, звонили в колокольчики.
Владимир Афанасьевич с жалостью смотрел на маленького гэгэна. Растет без матери, не знает ни игр, ни товарищей. Внешне окружен почетом и благоговением, а в сущности — бедный мальчишка... Что бы ему подарить?
Такие дети живут во многих кумирнях. Если гэгэй умирает, считается, что он скрылся, чтобы переменить земную оболочку. По каким-то признакам, известным только ламам, разыскивают нового гэгэна среди недавно родившихся младенцев, отбирают его у родителей и воспитывают в монастыре. Он становится приманкой для богомольцев и послушным исполнителем воли лам. А духовенство в Монголии пользуется большим почетом и, в сущности, держит в руках политику страны.
Гэгэн благословлял верующих, подносивших ему дары, поднимая смуглую детскую руку. Послушники надели на головы лам желтые остроконечные колпаки. Звуки всех инструментов смешались в оглушительном шуме, и служба кончилась.
Обручев был приглашен к ужину и вдоволь поел мяса в этот вечер. Любезный и вкрадчивый старший лама расписывал перед ним бедность своего монастыря и упрашивал пожертвовать что-нибудь на украшение храма. Владимир Афанасьевич ответил, что денег у него нет и он едва сможет оплатить проводников. Хоть это была сущая правда, лама выслушал недоверчиво и после этого разговора потерял всякий интерес к чужестранцу.
«Досадно, что нет с собой никакой игрушки или книжки с картинками для этого паренька, для гэгэна», — думал Обручев.
Он порылся в багаже, нашел жестяную коробку с конфетками-монпансье и послал гэгэну. Спутник каравана Абаши передал, что мальчик очень доволен подарком, и скромно добавил, что присоединил к этому дару от себя еще кусочек серебра, чтобы ламы не сочли путешественника скупым.
Двинулись дальше на восток с тремя новыми проводниками. Меньше трех, по словам ламы, нанимать было нельзя: впереди тангуты.
Шли по голой степи, пересекали горные отроги и увидели, наконец, с высоты перевала Сагастэ нежную голубизну легендарного озера Куку-Hop — мечты многих путешественников. По-монгольски «куку» и значит «голубой». Цвет воды был очень яркий и чистый. Целых два месяца добирался сюда Обручев из- за всяких задержек и отклонений от прямого пути. А рассчитывал он достичь озера в четыре недели.
Невдалеке от передала чернели тангутские палатки. Владимир Афанасьевич был предупрежден, что тангуты никогда не трогают людей, оказывающих им доверие. Поэтому, спустившись с перевала ниже, он приказал разбить лагерь вблизи от стойбища.
Китайцы и монголы обычно сбегались толпой посмотреть на чужеземца. Тангуты вели себя сдержанней. Пришли только три человека, с достоинством выпили предложенный чай и внимательно выслушали Абаши. Он рассказал им, что Обручев большой начальник и его ждут не дождутся в Синине китайские чиновники, которым эти тангуты считались подвластными.
Вечерело. Воздух стал холоднее. Послышалось разноголосое блеянье — с гор спустилось стадо овец и яков. Женщины со множеством мелких косичек, украшенные ожерельями из металлических бляшек, принялись доить яков. Русскую крестьянку, наверно, испугали бы эти большие черные и лохматые коровы, но здесь яки очень распространены. Они дают превосходное молоко, не боятся холода и великолепно ходят по горным тропинкам Тибета.
Палатки тангутов не походили на монгольские юрты. Крытые толстой черной материей — тангуты сами ткут ее из шерсти яков, — они поддерживаются кольями. Крыша — плоская, и в ней отверстие для выхода дыма. Очаг глиняный. Убранства почти никакого. По стенам палаток сложены штабеля аргала — сушеного навоза для топки, и на этом барьере разложена одежда, продукты, домашняя утварь. Но в каждой палатке обязательно устроен невысокий помост, и на нем фигурки богов.
Сами тангуты показались Обручеву похожими на цыган: смуглые, безбородые, с черными волосами. Одевались они в короткие черные халаты и толстые шерстяные чулки, внизу обшитые кожей.
Ночь прошла совершенно спокойно, и наутро отряд стал спускаться к озеру.
На берегах Куку-Нора Владимир Афанасьевич занялся привычной работой, а потом рыбной ловлей и провел здесь два дня, отпустив проводников. Затем караван снова продолжал свой путь. Все было благополучно.
Однако столкновение с тангутами все-таки произошло. Только не так, как представлялось в воображении.
Путешественники спускались с перевала на хребте Потанина, когда увидели палатки тангутов. Обручев, осматривая выходы горных пород, отстал и шел позади отряда. Он задумался и, услышав совсем близко от себя хриплый яростный лай, вздрогнул. Перед ним бесновались огромные псы с поднявшейся дыбом шерстью на мощных загривках. Из попыток Владимира Афанасьевича пройти мимо, не обращая на собак внимания — иногда это помогает, — ничего не получилось. Псы наскакивали и не давали дороги. Обручев в досаде огляделся: караван ушел вперед, а тангуты — хозяева собак — стояли совсем близко и с интересом смотрели на него.
— Уберите псов! Слышите? Отзовите собак!
С тем же успехом он мог взывать к утесам. Тангуты не понимают по-русски, но разве неясен смысл его слов? Нет, никто не трогается с места, только посмеиваются. А самый большой пес так наскакивает, что, чего доброго, вцепится в горло.
Владимир Афанасьевич вынул револьвер и выстрелил в собаку. Она с визгом отбежала. Остальные тоже отступили. Караван при звуке выстрела остановился, и Обручев догнал своих.
Но тангуты, до сих пор совершенно равнодушные к тому, что происходило, вдруг пришли в волнение. Мужчины с палками и женщины с большими ножницами для стрижки овец окружили путешественников. Они громко кричали и хватали верблюдов за поводки. Выяснилось, что раненая собака издохла и тангуты не хотят пропускать караван, пока им не отдадут двух верблюдов.
Толпа вела себя очень угрожающе. Но никто из тангутов среди шума и гама не заметил, как Обручев шепнул молодому Сплингерду:
— Скачи что есть силы в Донгыр. Проси прислать подмогу.
Юноша ударил плеткой коня, тот рванулся и понесся вскачь. Тангуты увидели свой промах, закричали, но догнать всадника было уже нельзя.
Абаши кое-как переводил. Оказалось, что в убийстве собаки обвиняли Цоктоева, потому что в руках у него была двустволка.
— Это неправда. Я убил собаку, — спокойно сказал Обручев и показал свой револьвер, — Здесь у меня еще пять пуль.
Тангуты притихли, стали переговариваться между собой. Потом сказали, что отпустят караван за одного верблюда. Обручев ответил, что верблюда отдать не может. Абаши, горячась, доказывал, что китайский начальник из города скоро пришлет солдат им на выручку. Тангуты согласились отпустить путешественников за половину вьюка, им опять отказали. Женщины с ножницами разошлись по палаткам, мужчины говорили уже гораздо спокойней. Когда сказали, что отпустят чужаков за кирпич чаю, Обручев искренне пожалел, что даже этого пустяка у него нет. С каким удовольствием он отдал бы им и чай и деньги! Ему вовсе не хотелось убивать пса — сильное, красивое животное. И тангуты, наверно, тоже не хотели, чтобы собака искусала его. Они просто, как дети, смотрели на даровое представление. Порадовать бы их чем-нибудь...
Но денег не было, не было и чаю. Пришлось выдержать роль до конца и снова твердо и решительно отказать.
— Тогда уходите отсюда сейчас же! — сказал старший из тангутов.
Отряд тронулся. На душе у Владимира Афанасьевича было скверно.
В городе узнали, что начальство обещало молодому Сплингерду выслать отряд солдат, но они еще только собираются выступать. Начальник был очень доволен, узнав, что все обошлось благополучно и поход можно отменить.
После короткого отдыха снова путь по хребтам Наньшаня — теперь по восточной их части. Верблюды по этой крутизне не прошли бы. Их удалось продать и купить мулов.
В долине реки Датунхэ китайские мусульмане — дунгане рыли золото. Обручев знал, что ему не разрешат посмотреть шахту — чужой приносит несчастье, но он выбрал время, когда рабочие разошлись, и спустился по веревке в узкий колодец. Пройдя по кривому штреку, он увидел то же примитивнейшее устройство и полное невнимание к условиям работы, что и в угольных копях.
По ущелью караван спустился с гор в долину, и, вступая в обжитые, распаханные места, Обручев не раз с сожалением оборачивался к оставленным горным цепям. Не хотелось уходить от просторов и тишины горных долин, от резкого свежего воздуха высот, от величия заснеженных пиков в тесноту и пыль населенных мест.
Владимир Афанасьевич вернулся в Сучжоу, сдал Сплингерду сына, который в путешествии выказал выносливость и сметку, отдохнул в гостеприимном доме. Ему удалось написать и отправить в Географическое общество отчет о последнем походе и получить оттуда деньги для второго года путешествия. Были куплены новые верблюды и лошади, насушены сухари, и он снова отправился в путь, на этот раз к восточной окраине Тибета, на встречу с Потаниными.
Пашни, селения и сады становятся все реже, появляются барханы, а вдали открываются ровные вершины Бейшаня. Туда, в горы! Снова вздохнуть полной грудью!
Эта цепь хребта безымянна, и Обручев дает ей имя. Отныне она хребет Пустынный.
А горные породы этого хребта так разнообразны, что изучать их приходится немало дней, заполненных безоглядной работой. Здесь в первый раз Обручев видит корку пустынного загара на камнях — блестящий черный налет. Он затягивает скалы и щебень, скрывая их настоящий цвет. Кажется, никогда за все свои путешествия Владимир Афанасьевич не видел такой угрюмой и бесплодной местности. Траурная пустыня!
У молодого торгоутского князя в урочище Бейли-Ван наняли проводника — старого ламу и пошли к Алашани, по маршруту, пролегавшему между путями Потанина и Пржевальского. Это был не самый короткий путь в Восточный Тибет, но Обручев выбрал его, чтобы увидеть совсем неизвестную часть Монголии.
Но недалеко от реки Эцзин-Гол Абаши стал жаловаться на нездоровье. Владимир Афанасьевич осмотрел его. Лицо вздулось, покраснело, температуpa высокая... Похоже на оспу. И Цоктоев так думает. Верно, Абаши заразился на последней стоянке, когда ходил к торгоутам пить чай. Что же с ним делать?..
Обручев нанял для больного юрту, оставил ему денег, лекарств, лошадь и письмо к Сплингерду с просьбой помочь Абаши вернуться домой. При больном остался молодой рабочий, нанятый в Сучжоу. Он не пожелал ехать дальше и обещал ухаживать за Абаши.
Сразу двое выбыли из каравана. Остались Цоктоев и старый лама. Мало!.. Тем более, что лама стар, а Цоктоев ленив. Жаль расторопного, славного Абаши. Но он крепок, авось выздоровеет. А как они будут справляться с работой? Ну что ж, он сам будет помогать ставить палатки, развьючивать и снаряжать в путь верблюдов, готовить пищу... Как бы ни приходилось трудно, лишь бы двигаться вперед!
Шли по солончаковой безводной пустыне. В стороне остались развалины какого-то древнего города. Велико было искушение покопаться в них. Правда, археологические изыскания в его планы не входят, но интересно было бы... Впрочем, что они могут сделать втроем?
Это был мертвый город Хара-Хото, впоследствии раскопанный путешественником Козловым.
Работать приходилось много, Владимир Афанасьевич сильно уставал. Но не это его заботило. Плохо себя чувствовал Цоктоев. По вечерам он стонал и охал, а лама монотонно молился над ним. Что делать, если он совсем расхворается? Может быть, и у него оспа? Владимир Афанасьевич был полон тревоги.
Однако ни высокой температуры, ни волдырей, характерных для оспы, у больного не было. Обручев решил дать ему изрядную дозу слабительного, и Цоктоев сразу повеселел. Болезнь как рукой сняло.
Караван пересекал долины и невысокие горные цепи Центральной Монголии. Сильно морозило, и на холмах лежал снег. Путешественники топили аргалом маленькую железную печурку. Цоктоев смастерил ее еще в Сучжоу.
Так прошли через пустыню Галбин-Гоби и вышли на левый берег Желтой реки, к резиденции Сантохо. Лошади так устали от долгого пути на тощем пустынном пайке, что, приближаясь к резиденции, Обручев шел пешком и тянул коня за собою.
Миссионеры, как обычно в Китае, рады были видеть европейцами Обручев с Цоктоевым отдохнули у них. Пришли в себя и животные. Тем временем Хуанхэ замерзла, и можно было перейти на другой берег. Лед хорошо окреп, люди и лошади могли переходить спокойно, но широкие ступни верблюдов скользили по льду. Для «кораблей пустыни» пришлось целый день работать, посыпая песком тропинку на льду.
Миссионеры дали двух новых проводников. На пути сразу встретились интересные для Владимира Афанасьевича красные холмы, сложенные третичными отложениями с выходами гипса. Не успев отъехать от миссии и десяти верст, Обручев остановил караван на ночлег, чтобы спокойно поработать в этих местах. А через несколько дней красные холмы стали перемежаться с фиолетовыми, зеленоватыми и желтыми. Таковы были цвета слагающих их глин, мергелей и песчаников.
Кратковременный отдых в миссиях не прогонял уже прочной усталости. Обручев путешествовал без перерывов целый год. Но работал он по-прежнему много и^сам удивлялся, как держится. Усталость усталостью, а закалился он основательно.
Пестрые холмы не были пустыней. Здесь встречались и юрты, и колодцы, и кое-какой корм для лошадей и верблюдов. Но скоро путешественники вступили в сыпучие и безводные пески Ордоса...
Долгий однообразный поход. Наконец подъем, затем спуск через северную цепь хребта Цзиньлиньшань, и перед праздником Нового года Обручев входит в город Хойсянь.
Здесь есть бельгийская миссия, где, конечно, путешественника приютят. Можно будет отоспаться в тепле, по-настоящему вымыться... Пока длятся новогодние праздники, выехать не удастся, хорошо бы за это время написать и отправить отчет о пути через Ордос.
Но самое главное — его, наверно, ждут письма. От Лизы из Петербурга, из Иркутска, может быть, и от Потанина с уточнением их близкой встречи.
В Китае почти не бывает праздников. Правда, присутственные места не работают два раза в месяц, но вся остальная жизнь в эти дни не нарушается. Лавки торгуют, люди трудятся, дети учатся. Зато новогодние праздники длятся почти две недели. В преддверии наступающего года люди ходят по улицам с разноцветными фонарями, дома и лавки украшены светящимися транспарантами. Громко хлопают хлопушки, взлетают к небу ракеты. Карнавал бывает очень веселым. В кумирнях же приносят жертвы богам и духам предков.
Следующие дни ходят с визитами к знакомым, приезжают друг к другу гостить родственники, люди бывают в театре, все развлекаются кто как может.
В последние дни — опять карнавал. Великолепные процессии ряженых ходят под музыку по улицам, их зазывают в дома и угощают. Разноцветные фонари на палках образуют всевозможные фантастические фигуры.
За окном комнаты Обручева плыл в мягких вечерних сумерках необыкновенно красивый дракон с изумрудной светящейся головой, лиловым туловищем и янтарным хвостом. Процессия двигалась, и туловище дракона плавно извивалось.
Здесь уже начиналась весна, термометр держался на нуле, и в саду миссии ворковали горлицы.
А Владимир Афанасьевич не замечал ни великолепного дракона, ни робкого дыхания весны. Он без конца перечитывал письмо, извещавшее, что Александра Викторовна Потанина умерла в пути еще осенью, что тело ее перевезено в Кяхту и там похоронено, что убитый горем Григорий Николаевич вернулся в Россию... Обручеву не нужно идти в глубь провинции Сычуань, на место условленной встречи. Он должен продолжать свои исследования Центральной Азии.
У ног его дымились тучи,
В степи взвивался прах летучий.
«Я исследовал степь и пустыню Гоби, сыпучие пески Ордоса, прошел по всей стране лёсса в Северном Китае. Я побывал на хребте Алашанском, исследовал горные цепи Наньшаня и Восточного Куэнь-Луня, видел берега озера Куку-Hop. Я прошел по всем оазисам провинции Ганьсу. Проследил течение реки Эцзин-Гол, пересек гористую Хамийскую пустыню, Центральную Монголию. Таким образом, мне удалось продолжить исследования Рихтгофена в глубь Центральной Азии далеко на север, северо-запад и запад. Вдоль Восточного Тянь-Шаня я вышел в Кульджу.
Это было трудное путешествие. Летом нас донимала жара, зимой морозы. В пустыне мы пили скверную воду. Однообразно, а иногда и скудно питались. На грязных, тесных китайских постоялых дворах не удавалось отдохнуть.
Пожалуй, больше всего я страдал от своего одиночества: ведь кругом меня не было ни одного русского человека. Долгие месяцы я был оторван от родины, редко мог получать даже известия от своей семьи. Иногда бывало очень тяжело физически и тревожно. Только горячий интерес к работе, страсть исследователя помогли мне преодолеть все лишения и трудности».
Так сдержанно и немногословно писал Владимир Афанасьевич о своих странствиях по Центральной Азии.
Он нимало не преувеличивал трудностей пути. Наоборот, в его рассказе они занимали немного места. Иногда он Проговаривался. Например, сожалея, что не попал в горы Богдо-Ула в Восточном Тянь-Шане — это было в конце второго года путешествия, — он признался, что у него совсем не осталось физических сил, так он устал, что вся его обувь изорвалась, вся бумага пришла к концу и ярлыки для образцов породы он писал на каких-то обрывках.
Но уже, наверное, никому, кроме себя самого, он тогда не признался, что, несмотря на всю усталость, на всю тоску по жене и сыновьям, до боли жаль было свободной жизни, вольных просторов, одиноких своих раздумий... Жаль Азии, по-прежнему таинственной. Ведь осмотрена небольшая сравнительно часть...
Да, небольшая... Пройдено всего двенадцать тысяч семьсот семьдесят верст от Кяхты до Кульджи.
На протяжении почти девяти тысяч верст он вел непрерывную маршрутную съемку, ежедневно вычерчивал карту, а подробные геологические исследования постоянно велись на пути в одиннадцать тысяч верст. Огромный труд! Из этих пройденных, отмеренных, вышаганных тысяч верст более пяти тысяч пролегали по местам, где никогда еще не бывали путешественники-европейцы.
Образцов горных пород собрано семь тысяч. О каждом отдельном походе написан отчет. Очень удачен его новый метод — писать и отсылать отчеты сразу же, по горячим следам, во время установок для отдыха и снаряжения новых караванов. Все они уже напечатаны в «Известиях Географического общества»... А вернувшись, он сделает устный доклад и напишет большой общий отчет...
Обо всех этих итогах, выводах, результатах путешествия думал Владимир Афанасьевич в Омске, где ему пришлось дожидаться, пока не станет Иртыш, Сибирская железная дорога уже дошла сюда, но вокзал был выстроен на левом берегу, а Обручев по почтовому тракту прибыл на правый берег и должен был ждать ледостава, чтобы перейти реку.
Он снова и снова мысленно возвращался к своим возражениям Рихтгофену. Нет, не только Рихтгофену, но и Пржевальскому и Потанину. Все они считали, что внутренняя, самая низменная часть Гоби образована отложениями третичного моря Ханхай. Море это упоминается в старых китайских летописях. А котловины степей, отделенные друг от друга горами, заполнены лёссом. Лёсс — продукт выветривания ближайших гор. Эту желтую пыль — результат распада горных пород — дожди и ветры сносят с хребтов в котловины.
Нет, нет, ошибся Рихтгофен! Он ведь самой Центральной Азии не видел, был только на ее окраине. Там он наблюдал котловину, заполненную лёссом, и сделал свои выводы о строении всей огромной территории.
А что, если в Центральной Азии нет никаких морских третичных отложений? Путешествие по Бейшаню, по Восточной и Средней Монголии наводит его на такие мысли. Что, если не существовало никакого моря Ханхай и Центральная Азия — древняя, очень древняя суша? Косточки, найденные им в Восточной Монголии, безусловно, могут принадлежать позвоночному животному. Возможно, что не осадки древнего моря, а озерные или наземные отложения скопились во внутренней Гоби. И котловины заполнены вовсе не лёссом, а этими отложениями озер юрского, мелового, третичного периодов, а то и еще более древними породами — осадочными и изверженными.
А лесс не оседал в котловинах Центральной Азии. Ветры уносили его из пустыни на окраины; он накоплялся в местах, где климат более влажный, и образовывал толщи, как в Северном Китае. Там действительно лёсс скрыл, завалил весь древний рельеф...
Выводы Рихтгофена о геологическом строении провинций Чжили и Шаньси дополнены. А Шеньси и Ганьсу, восточные цепи Куэнь-Луня, Наньшань, Ордос... Об их строении до сих пор ничего не известно.
Да, сделано много, но сколько хочется сделать еще! Восточный Тянь-Шань непременно надо обследовать...
Он уже был на пути к дому, уже далеко позади остались лёссовые увалы и скалистые ущелья, а оторваться от них мыслью все еще не мог. Вспоминал, как он в Наньшане сделал дневку, чтобы осмотреть ущелье, и внезапно повалил невероятной густоты снег. Он шел без перерыва двое суток, и путешественники оказались в ловушке — ни вперед, ни назад, — ничего не видно в крутящихся хлопьях, тропа потеряна. Работать нельзя. Тогда Обручев Завернулся в доху, стал читать Вальтера Скотта, и эта книжечка карманного формата, где описывались битвы и погони в горах Шотландии, удивительно успокоила его...
А подъем с китайскими охотниками на высокий хребет Толайшань! Сначала дождь, потом снег... Верхом подниматься по крутому логу невозможно, лошадь спотыкается на скользких, запорошенных снегом камнях. Он пытается идти пешком — тяжело, высота большая, воздух разреженный, дышать нечем... Ему кажется, что подъему не будет конца, лезут будто бы на самое небо, вот сейчас нырнут в тучу... И все-таки перевал взят, хоть высота почти такая, как у Монблана[13].
А эти удивительные «карманы», пещеры, ниши в толще гранита на Бейшане!.. Какие странные каменные конфигурации создает выветривание! Именно здесь он снова утвердился в правильности своего мнения: лёсс образуется тут, но не накопляется. Нигде нет лёссовых увалов, но всюду видны коренные породы, они, разрушаясь, дают пыль. А уносится ветрами эта пыль далеко, к озеру Лоб-Нор.
Но какой же силы бывают ветры! Эта «долина бесов» полностью оправдывает свое название.
Караван шел по пьедесталу Восточного Тянь- Шаня, то есть по той полосе валунов, ила, гальки, песка, которые приносятся с гор потоками и постепенно образуют высокий вал отложений, опоясывающий весь горный хребет.
Невдалеке от селения Ляодунь стали на ночлег, соблазнившись тем, что в какой-то впадине, где, вероятно, долго стояла вода, зеленела растительность, и верблюды могли найти себе пищу. Раскинули лагерь, но ветер, дувший в этот день с утра, превратился в ураган, и испытанная обручевская палатка, которую два года обдували все ветры Монголии и Китая, тут начала трещать и рваться по швам. Пришлось спешно искать прибежища на постоялом дворе.
В селении Ляодунь Обручеву рассказали, что бури в этих местах, особенно летом, очень часты. Ехать нужно по длинной, но безопасной дороге. Короткий путь по «долине бесов» невозможен.
По рассказам, прежде через эту долину пролегала хорошая дорога, там были колодцы и возле них станции. Но редкому каравану удавалось пройти благополучно. Ветер срывал крыши со станционных зданий, швырял с гор не только щебень, но и крупные камни, величиной с большую луковицу. Казалось, что с неба падает со страшным шумом каменный дождь, ревели раненые верблюды, кричали люди. От каравана иной раз ничего не оставалось.
В начале прошлого века был отправлен по этой дороге из Пекина в Восточный Туркестан большой обоз. Везли серебряную казну, ее сопровождали войска и несколько чиновников. Весь этот караван погиб, на -поиски были высланы военные отряды, но не нашли ничего. Люди, животные, серебро исчезли бесследно. Разгневанный богдыхан приказал уничтожить этот путь. Колодцы были засыпаны, станции разрушены, а дорогу долго били палками и цепями. Отныне ездить по ней запрещалось. Но тот, кто проходил здесь, видел необыкновенно странные обрывы гор. Ветер избороздил их глубокими впадинами, лабиринтами, котловинами. В процессе развевания многие обрывы из красного песчаника стали похожи на демонов, драконов, приобрели сходство с фигурами людей и животных. Одно место «долины бесов» называется Сулгассар — волшебный город.
Много лет спустя, уже в конце жизненного пути, Обручев в своей повести «В дебрях Центральной Азии», написанной по воспоминаниям об этой стране, говорил:
«Когда совершенно стемнело и только тусклая луна освещала ваш путь, жуткое впечатление от пустыни еще усилилось. То и дело появлялись какие-то странные формы и сочетания их, сменяя друг друга: то видна была рука с грозящим пальцем, то зажатый кулак, то уродливая фигура с кривым носом, зияющей пастью, то скорчившаяся в комок, сгорбленная крючком фигура. К нашему счастью, ветер был слабый, и завывание его среди неровностей почвы не удручало. Но можно было представить себе, что делалось в этой долине бесов при сильном ветре, не говоря уже об урагане, который заставил бы лежать неподвижно людей и животных в течение долгих часов».
Вероятно, тем, что бури на южных склонах Тянь- Шаня очень сильны и часты, объясняется полировка на скалах и щебне. Ветер с такой силой швыряет песчинки, что они делают блестящими покрытые пустынным загаром камни. Пустынный загар — мучение для геолога. Все богатство, все разнообразие строения горных пород скрыто под блестящей темной коркой. Сколько склонов облазил он, стуча молотком по каждому выступу пород, чтобы определить состав!
Зато каким незабываемым зрелищем наградила его пустыня, когда он однажды утром глянул на нее! На западе и юге освещенная косыми лучами солнца черная поверхность искрилась яркими синими огоньками, а на востоке лежала угрюмым траурным полотнищем.
Обручев мог бесконечно вспоминать все чудеса, виденные за два года в путешествии. Он сумел бы объяснить любое из них, но не переставал им удивляться. Сколько раз он думал о том, что человек, постигающий всю великую сложность окружающего мира, способен и удивляться, и радоваться, и приходить в восторг там, где равнодушный невежда, для которого все просто, будет пребывать в самодовольном безразличии.
— Иртыш стал!
Эта радостная весть разнеслась однажды утром по правому берегу, и вечером того же дня Обручев вместе с другими пассажирами, ожидавшими ледостава, перешел реку и сел в поезд.
«Домой! Домой!» — стучали колеса, и под их однообразную, но приятную музыку Владимир Афанасьевич спал. Спал, как спят только в детстве, глубоко, без сновидений, блаженно, в самом сне радуясь теплу и покою. После двухлетних скитаний необыкновенно отрадно было сознание, что не нужно вскакивать с рассветом, что отошла забота о проводниках, верблюдах, инструментах, образцах, что все собранные коллекции заботливо упакованы и отправлены, а о<н едет налегке. И лежит не на острых холодных камнях, не в палатке, стонущей от ветра, не на раскаленном, а потом быстро остывающем кане в каморке постоялого двора, а на верхней полке мягко подрагивающего вагона, с каждой минутой приближаясь к России, к Петербургу, к семье.
Радостное свидание произошло в ноябре 1894 года. Все были здоровы. Лиза показалась ему расцветшей, хотя жилось ей не так легко, как он предполагал. Выплачивали Елизавете Исаакиевне не все его жалованье, как обещали, а только половину. Тревожить мужа ей не хотелось. Едва ли он сможет, находясь в горах и пустынях, как-то исправить положение. Старалась экономить как могла, да спасибо верному другу Иде, та поддерживала сестру.
Чуть ли не со слезами на глазах Лиза говорила об отношении к ней Мушкетова.
— Подумай, Володя, ведь он меня совершенно не знал, а заботился о нас, как родной человек. Помогал, успокаивал... Как только получал от тебя весточку, приходил сказать. А если долго не имел вестей, справлялся, не получила ли я писем.
Обручев был так растроган и полон благодарности к своему учителю, что не сразу ответил.
— Он и для меня сделал очень много... Писал, поддерживал, на каждую работу присылал отзыв, выхлопотал добавочные деньги для продолжения экспедиции.
Дети так выросли и изменились, что их было трудно узнать.
— Ты не учитываешь, что такие малыши очень сильно, меняются в короткое время, — говорила Елизавета Исаакиевна. — Ведь Волику, когда мы расстались, пяти не было, а теперь ему скоро семь, он научился хорошо читать. Сереженька уезжал из Сибири совсем крошечным, а теперь смотри, какой он великан.
Трехлетний «великан» первые дни дичился отца. Обручев понимал, что ребенок не помнил и не мог его помнить, и все-таки огорчался. Помогли «волшебные ножницы», как сказала Елизавета Исаакиевна, вернее сохранившееся с детских лет умение Владимира Афанасьевича вырезывать из бумаги фигурки животных.
— Лошадка! Коровка! Киса! — восторженно вскрикивал малыш и, окончательно покоренный гордым бумажным петухом, потянулся к отцу.
Обручев думал, что будет отдыхать, отдыхать... Ни о чем не станет заботиться, наверстает весь недосып, неугрев, непокой странствий. А оказалось, что он прекрасно отдохнул уже в дороге. В Петербурге было некогда. Он готовился к докладу о своей экспедиции на общем собрании Русского географического общества. Доклад прошел с большим успехом. Говорили, что Обручев значительно пополнил и уточнил многое в физической географии и геологии Центральной Азии, открыл новые хребты, изучил Наньшань и впервые установил различие между западной и восточной частями хребта. На западе — высота, сушь, пустынность, сильная разветвленность хребтов, на востоке — горы ниже, климат влажнее, вершины сглаженней, растительность богаче, хребты более слитны... Впервые выяснена орография этой колоссальной, на тысячи километров протянувшейся горной системы.
Владимир Афанасьевич становился известным исследователем Азии. Он сам не сразу осознал, как это случилось, но не мог не заметить, с каким уважением произносится его имя в ученых кругах, как считаются с его мнением. Очень удачно прошел и его второй доклад в Минералогическом обществе о процессах выветривания и развевания в Центральной Азии.
Тут пришлось много говорить о сыпучих песках и лёссе, о его происхождении и о том, как он распространяется. Поправки, внесенные Обручевым в теорию Рихтгофена, были признаны всеми. Географическое общество присудило Владимиру Афанасьевичу премию имени Пржевальского.
Подготовка к докладам, общий отчет о путешествии отняли всю зиму. Петр Петрович Семенов предложил Обручеву дополнить известное сочинение Карла Риттера «Землеведение Азии». Петр Петрович — вице-президент Географического общества. Благодаря ему труд Риттера переводится на русский язык и издается в России. Но это обширное исследование нуждается в дополнениях. Многое в книге Риттера уже устарело. А Обручев располагает самыми свежими, только что добытыми сведениями.
Дело нужное, но заниматься им в эту зиму Владимир Афанасьевич решительно не в состоянии. Может быть, потом, на досуге...
— А ты серьезно веришь, что у тебя когда-нибудь будет досуг?_— пряча улыбку, спрашивала Елизавета Исаакиевна.
Да, пожалуй, досуг — это именно то, чего ему в жизни не суждено узнать.
Железная дорога по сибирским просторам растет. Через величавые реки — Обь, Енисей, Иртыш, Амур будут переброшены мосты. «Переброшены» — легкое слово, означающее легкое действие. Бросок — миг. Но из скольких мигов складываются долгие месяцы труда тысяч людей, чтобы сибирские реки-украсились мостами?
Для строящейся дороги нужно искать уголь, воду... Уже не один геолог, как несколько лет назад, будет работать в Сибири. Партии исследователей посланы в Уссурийский край, в Среднюю и Западную Сибирь. Кто же будет руководить работой в Забайкалье и Приамурье?
— Конечно, вам нужно ехать в Сибирь! — сказал бы Ядринцев.
Сказал бы... но не скажет. Николай Михайлович недавно умер, так и не успев порадоваться открытию железнодорожного пути через Сибирь.
— Ты не хотела бы вернуться в Иркутск, Лиза? Право, мы там неплохо прожили четыре года.
— Почему ты спрашиваешь? — Елизавета Исаакиевна тревожно смотрит на мужа. — Тебе самому этого хочется? Признайся.
— Видишь ли... •
— Говори прямо. Тебя опять посылают в Сибирь?
— Я ведь полюбил Сибирь, ты знаешь... Сейчас там идут большие важные работы. Не хочу стоять в стороне... Предлагают поехать начальником горной партии года на три-четыре...
— И ты согласен?
Обручев улыбается.
Елизавета Исаакиевна долго молчит. Опять оставлять Петербург, родных... Терпеть сибирские неудобства... Но Владимир должен работать там, где ему интересно. Он знает, что делает.
— Во всяком случае, снова надолго расставаться я не согласна, — твердо говорит она. — Да и детям, пожалуй, в Сибири лучше, здоровее, чем здесь... Когда мы едем, Володя? Весной? Я буду готова.
Еще одно интересное событие произошло этой зимой.
В Лейпциге вышла книга на немецком языке — «Сибирские письма». Автор ее скромно укрылся под инициалами «О. О.». Предисловие было написано Паулем фон Кюгельгеном. Ни писателя, ни ученого под таким именем никто не знал.
Владимир Афанасьевич получил эту книгу по почте из Ревеля. Он перелистывал страницы, улыбался, порою смущенно качал головой, но, видимо, был доволен.
— Володя, что это? Неужели... Да, да, я поняла! Это твоя и Полины Карловны книга! Правда?
— Немножко и твоя, Лиза.
Еще в 1888 году, поселясь впервые в Сибири, Владимир Афанасьевич начал писать матери подробные письма о жизни на новом месте. Он описывал Иркутск, свои поездки, быт семьи.
Полина Карловна относилась к переезду сына в Сибирь с неодобрением и даже со скрытым ужасом. Ей казалось, что он едет на край света, в страну лютых холодов, где живут почти дикари и где по улицам городов чуть ли не бродят медведи. Сибирь, страна ссылки и каторги, тогда многим представлялась именно такой.
Но как человек умный, к тому же пишущий, Полина Карловна по письмам сына быстро поняла всю неверность своих прежних представлений. Край, где жили Обручевы и где им вовсе не плохо жилось, заинтересовал ее, тем более что Владимир Афанасьевич постоянно писал о большом будущем Сибири, о ее великолепных природных богатствах... Она решила обработать письма. Из них получится интересная книга. Тот, кто мало знает о Сибири и не станет читать специальных научных сочинений, с удовольствием прочитает простые и понятные записки своего современника, работающего в этом холодном краю и знающего Сибирь.
По просьбе матери Владимир Афанасьевич посылал ей вырезки из сибирских газет, рекомендовал книги. Она пользовалась работой Кеннана «Кочевая жизнь в Сибири», трудами Серошевского, Вруцевича...
До экспедиции в Китай Обручев аккуратно писал матери о своей иркутской жизни и поездках. Несколько писем после путешествия на Лену послала незнакомой свекрови и Елизавета Исаакиевна, выведенная в книге «Сибирские письма» под именем Нади.
Сначала письма публиковались в петербургской немецкой газете «Санкт-Петерсбургер Цейтунг». И вот теперь они вышли отдельной книгой. Предисловие было написано самой Полиной Карловной.
— Ну что, что ты скажешь? — спрашивала мужа Елизавета Исаакиевна.
— Я не со всем согласен, — отвечал Обручев. — Мама, видно, не всегда пользовалась достоверными источниками. Устарело уже тут кое-что... Ну и собственных ее рассуждений немало, наивных, женских... А в общем, конечно, приятно, что книга вышла.
— А это что? — Елизавета Исаакиевна показала на стихотворные строчки в тексте. — Неужели ты в письмах посылал маме стихи?
— Нет, это уж она... Своих любимых поэтов цитировала.
Владимира Афанасьевича огорчало, что мать до сих пор не видела детей, не знает Лизу. Писал он ей об этом не раз. Полина Карловна отмалчивалась. Но сейчас приглашение было получено. Обручевы отправились в Ревель.
Елизавета Исаакиевна перед этим свиданием волновалась, с тревогой ждала его и Полина Карловна. Она твердо знала, что сын, женившись на девице Елизавете Лурье, совершил мезальянс[14]. Невестка представлялась ей простушкой, существом малоразвитым, неинтересным. Правда, письма от нее приходили остроумные, видна была наблюдательность, чуткость. Но кто знает, что там писала она, а что сам Владимир...
А приехала вполне светская, спокойная, уверенная женщина. Она умела держать себя в обществе, говорила о любом предмете без затруднений, просто и изящно одевалась. При этом была очень скромна, приветлива — словом, вполне «хорошего тона». Преданная жена, любящая и разумная мать... А внуков Полина Карловна нашла очаровательными.
Обручев был доволен. Он видел, что Лиза произвела на мать хорошее впечатление. Вот только «эти очаровательные малыши» порой портили дело.
Завтрак в Ревеле всегда был почти священнодействием, а уж по случаю приезда сына с семьей и подавно. До серебряного блеска накрахмаленная скатерть, красивая посуда, блестящий кофейник, сливки, свежий хлеб, масло, крендельки — все так аппетитно, чисто, уютно. При всей скромности своей жизни Полина Карловна умела сделать стол нарядным...
Старший мальчик выпил кофе и вдруг перевернул вверх дном над блюдечком пустую чашку.
— Волик, что ты делаешь?
— Я смотрю, какая красивая чашка. Видишь, мама, цветочки...
— И у меня красивая! — вдруг звонко выкрикнул Сережа и тоже перевернул чашку вместе с налитым в нее кофе.
Испорчена серебристая скатерть, дамы спасают свои платья, полный беспорядок, Лиза чуть не плачет, а виновник катастрофы, кажется, очень доволен.
Но такие мелочи, конечно, не могут нанести ущерб бабушкиной любви к внукам.
Полина Карловна смягчилась по отношению к невестке. Близкими они не стали, по-видимому, всегда сказывалась память о долгом непризнании матерью избранницы сына, но внешне отношения были добрыми.
Провожали Обручевых в Петербург со слезами и поцелуями.
Семья выехала в Сибирь в мае 1895 года. Было тепло и ясно. Весь пароходный путь по Волге, Каме, затем по Оби и Иртышу был очень приятен. Реки еще по-весеннему полноводны, непогода не задерживала, и до Иркутска добрались гораздо скорее, чем семь лет назад.
Квартиру удалось найти опять на набережной Ангары. При доме был садик, это радовало Елизавету Исаакиевну, дети смогут все лето быть на воздухе, и не нужно, едва устроившись с квартирой, думать о даче.
Под началом Обручева состояли геолог Гедройц и горный инженер Герасимов. Работу решили поделить так: Гедройц обследует восток области и Нерчинский округ, Герасимов — западную часть, от Читы до Нерчинска, Обручев едет в Селенгинскую Даурию, изучает местность от восточного берега Байкала до Читы.
Владимир Афанасьевич покинул Иркутск в начале жаркого сибирского лета. О предстоящей работе он думал с удовольствием. Кажется, он становится таким же сибирским патриотом, как Ядринцев и Потанин. Как там Григорий Николаевич? По слухам, очень тяжело переносит свое одиночество. Живет в Петербурге, о новых путешествиях и думать не может и занимается понемногу только обработкой восточных легенд о сыне неба... Да, потерять такого друга, такую жену, какой была Александра Викторовна, поистине страшно...
Обручев пересек Байкал на пароходе и начал свой путь от Верхнеудинска[15] через хребет Цаган-Дабан. По дороге нужно было осматривать железные рудники, решать, стоит ли ставить возле них заводы. Была обследована вся будущая трасса по долине реки Хилок, потом он спустился в степную долину Ингоды и заехал в Читу. Здесь нужно было заручиться разрешением вице-губернатора нанимать для партии лошадей и ночевать на земских квартирах. Получив разрешение, Обручев поехал дальше, не задерживаясь в Чите. Город этот был похож на большую деревню. В центре несколько двухэтажных каменных домов, много низеньких деревянных домиков, тротуаров нет, песок засыпает улицы так, что ноги вязнут. Обручева удивляло странное название города, и ему рассказали не то шутку, не то легенду, будто бы когда-то в это место приехали переселенцы с Украины и отметили деревянными жердочками места, где будут строиться. А ветер повалил жерди, и, откапывая их из-под песка, люди с недоумением спрашивали: «Чи та, чи не та?»
Пришлось несколько раз пересекать Яблоновый хребет, и эти горы разочаровали Обручева. Собственно говоря, они были обрывом высокого плоскогорья. Издали хребет представлялся глазам путника ровным, невысоким валом. Поражающих воображение картин природы и каких-нибудь интересных приключений в этой поездке не было. Зато было много работы, и Обручев не заметил, как настала осень.
На следующее лето 1896 года Владимир Афанасьевич взял с собой в Даурию всю семью. Он устроил Елизавету Исаакиевну с детьми на паровой мельнице у своего знакомого Верхотурова близ берега Селенги. В этом году нужно было обследовать нижнее течение Хилка и Чикоя. Вся линия будущей дороги уже осмотрена, состав пород установлен. Теперь надо ждать скальных работ; когда будут вскрыты горные склоны, могут выясниться всякие неожиданности, а пока все, что можно узнать без глубокой разведки, уточнено. Владимир Афанасьевич решил, что будет этим летом совершать отдельные поездки и временами навещать семью.
Он ездил в повозке, лошадьми правил Иосиф — служащий Восточно-Сибирского отдела — толковый и приятный человек. За повозкой следовала телега с багажом, ею ведал нанятый в одной из деревень «семейский» крестьянин. Так работать было удобно. Если встречались интересные обнажения, к ним подъезжали близко, и, пока Обручев работал, повозка и телега ждали его. Когда ничего стоящего не попадалось, ехали рысью.
Комаров и мошки в Селенгинской Даурии не так много, и особенно страдать от этих кровососов ни людям, ни лошадям не приходилось. На земских квартирах в деревнях почти всегда было чисто, пол и лавки выскоблены, проезжим подают самовар, можно получить хлеб, молоко, даже яйца и мясо. По сравнению с путешествием по Китаю — райская жизнь!
Но работы было не меньше. За лето Обручев обследовал хребты Цаган-Дабан, Заганский, Малханский, Моностой и Хамбинский.
Возле станции Заиграевая на новом цементном заводе произошла приятная встреча. Помощником директора завода оказался товарищ Владимира Афанасьевича по Горному институту — инженер Крушкол. Хорошо было вспомнить прежнее время с однокашником, но от воспоминаний товарищи быстро перешли к сегодняшнему дню и к тому, что их особенно занимало, — к железной дороге. Она уже строилась по долинам рек Бряни, Илька и Аракижи.
Обручев побывал в этих местах, видел, как возводятся насыпи. Вокруг линии выросли балаганы из корья — временные жилища рабочих. Из разрезов, где виднелись слоистые — четвертичные, как определил Владимир Афанасьевич, пески, на телегах и таратайках свозили материалы для насыпи. В глухой тайге слышался людской говор, конское ржание, даже гомон детей и женский смех. Ребятишки и женщины сновали возле бараков.
По Хилку Обручев плыл в бате — выдолбленном бревне. Такая лодка очень неустойчива на воде, а Хилок к тому же река сплавная, непригодная для судоходства. Камни, пороги, быстрины... Иосиф не казался очень опытным рулевым и частенько говорил, что у него «вся душа в пятки ушла», когда громоздкий неповоротливый бат мчался на перекатах среди торчащих из воды острых камней. Но все десять дней пути по реке прошли благополучно, путешественники ни разу не перевернулись и даже не подмочили багажа.
В просторных долинах левого берега Селенги Обручев обследовал озера — соленое Селенгинское и Гусиное. Здесь сотрудник Обручева Герасимов вел разведку на уголь, но, хоть пласты и обнаружились, мощность их оказалась невелика.
Елизавете Исаакиевне очень хотелось увидеть, как работает ее муж в поездках. Она упросила Обручева взять ее с мальчиками на левый берег Селенги. Для этого вместо обычной повозки заложили тарантас, в котором семья приехала из Иркутска, и отправились. Первые часы поездки прошли прекрасно. Когда Обручев выходил из тарантаса для осмотра обнажений, дети бегали и играли возле дороги, а Елизавета Исаакиевна. следила за ними и ждала мужа. Но время шло, длинный солнечный день казался бесконечным, детей истомила жара, Елизавете Исаакиевне хотелось отдохнуть... А муж ее не знал устали. Он рассеянно отвечал на вопросы, прищурив глаза, всматривался во встречные холмы и постоянно кричал кучеру:
— Стой, Иосиф! Я здесь сойду.
А сойдя, надолго пропадал, работал под палящим солнцем и возвращался, чтобы через полчаса снова остановить лошадей.
К вечеру Елизавета Исаакиевна так устала, что с ужасом думала о завтрашнем дне. А как же должен был устать Володя! Ведь пока она сидела в тарантасе, он то карабкался по склонам, то спускался, работал молотком, приносил с собой груды камней.
Ночевали в земской квартире. Ужин дети получили хороший — была яичница, молоко, хозяйка поставила самовар, с собой кое-что захватили... Но спать пришлось на полу, мальчики вертелись, не могли заснуть — жестко. Владимир Афанасьевич посмеивался: «Тут перин не бывает». Сам он спал, как каменный.
А на следующую ночь, опять после трудного дня, устроились в палатке на берегу Щучьего озера. Тут уже ели что-то невообразимое. Иосиф варил кашу на костре, и она подгорела. Ночью было холодно, Сережа расхныкался, да и комары налетели, а Володя еще говорил, что в Селенгинской Даурии их мало.
Утром Елизавета Исаакиевна сказала мужу:
— Мы, пожалуй, вернемся на мельницу, Володя.
— Я думаю, что это будет самое разумное, — серьезно согласился Владимир Афанасьевич, но, не выдержав серьезности, засмеялся. — Значит, не вышло из тебя полевого работника, Лиза?
Обручеву пришлось съездить на Ямаровские минеральные воды, где он уже был однажды. На этот раз он поставил там разведку, чтобы выяснить происхождение источника и его мощность. Кончив эту работу, он поехал по тракту к переправе через реку Чикой. Отсюда было совсем недалеко до Усть-Кирана, где обычно жили на даче кяхтинцы. В это лето там отдыхали Лушниковы. Они писали Обручеву, приглашали приехать к ним, просили познакомить с женой. Владимир Афанасьевич договорился с Елизаветой Исакиевной, что она с детьми поедет к Лушниковым самостоятельно, а он присоединится к ним, кончив дела в Ямаровке. Но работы затянулись, и, когда Обручев приехал в середине сентября в Усть-Киран, никого там уже не было. Лушниковы уехали домой, а его жена с детьми — в Иркутск. Последовал и он за ними.
В этом году Обручев трижды пересек Заганский хребет. Эти высокие горы на востоке переходят в более плоские и широкие хребты Цыган-Хуртей. Здесь было много интересного для геолога. Еще в первую поездку он усомнился в правильности прежних взглядов на общее строение Забайкалья и окончательно утвердился в своих выводах после еще двух лет работы в Селенгинской Даурии.
День за днем уходили в уже прошедшее прожитое, пережитое, облетали, как листья с осенних деревьев, как листки с отрывного календаря.
Зимы в Иркутске были наполнены делом. Обручев редактировал журнал Восточно-Сибирского отдела Географического общества, обрабатывал материалы своих экспедиций и написал давно задуманную статью «О золотом деле в Восточной Сибири», напечатанную в газете «Санкт-Петербургские ведомости» за 1896 год, создавал специальную библиотеку при Горном управлении, составлял из собранных образцов коллекцию для музея Географического общества. Вместе с горным инженером Герасимовым он читал лекции по физической географии. Эти вечера сопровождались показом диапозитивов, раскрашенных самими лекторами, — кропотливая работа, но Обручев охотно занимался ею. На лекции нужно было привлечь больше слушателей, ведь они с Герасимовым решили на деньги, вырученные за билеты, купить для музея волшебный фонарь.
Общественная жизнь, которая в Петербурге текла где-то в стороне от Обручева, здесь, в Сибири, бурлила живым родником, и он чувствовал, что находится в главной струе этого родника.
Богатый золотопромышленник Сибиряков после бесед с Клеменцем решил организовать на свои средства большую экспедицию по изучению быта якутов. Все единодушно сходились на том, что сотрудниками экспедиции в основном должны быть политические ссыльные, живущие в Якутии. Они люди честные, независимые, образованные, на местную власть оглядываться не будут, от них можно получить правдивые и тщательно собранные сведения. С помощью Сибирякова исхлопотали согласие на это генерал-губернатора.
Организация работ должна была происходить в Якутске, и заняться этим делом решил сам Дмитрий Александрович Клеменц. Он уехал в Якутск, а правителем дел стал Обручев.
Работы прибавилось, но Владимир Афанасьевич ею не тяготился. Он любил Восточно-Сибирский отдел, любил музей и уже отдал им немало времени и сил. И помощники были хорошие. Он очень сошелся с лушниковским зятем — редактором иркутской газеты Иваном Ивановичем Поповым, с Шостаковичем, Герасимовым. Приятный человек был и Вознесенский — директор обсерватории. У него в доме почти каждое воскресенье собирались знакомые. Елизавете Исаакиевне нравилось там бывать.
Это все зимой. А летом опять Селенгинская Даурия. Повторный осмотр всей трассы. Сделано уже много скальных выемок, значит появился новый материал для исследований. Изучение месторождений угля, цементной глины, медной и железной руды... На восточном берегу Гусиного озера оказались богатые залежи угля, а на реке Курбе — притоке Уды — железная руда.
По Селенге Владимир Афанасьевич путешествовал в лодке: Иосиф — на веслах, Елизавета Исаакиевна в качестве пассажирки. Она решила ненадолго оставить детей с няней и принять участие в поездке. На Селенге было чем полюбоваться. Живописные скалы, красивые леса, веселые лужайки. Но Владимир Афанасьевич пережил и неприятные минуты. В месте впадения Чикоя в Селенгу, где очень сильное течение, лодку стало так швырять, что Обручев испугался за жену и даже велел ей надеть спасательный пояс. Но Иосиф не подвел и вывел лодку из опасного водоворота. Елизавета Исаакиевна вела себя очень мужественно, побледнела, правда, но казалась спокойной. Поездкой она осталась очень довольна и, возвращаясь к детям, благодарила мужа и Иосифа.
На правом берегу Чикоя Владимир Афанасьевич увидел большую площадь пустынных барханов и вспомнил Каракумы. И в других местах попадались барханные, пески. Обручев, вернувшись в Иркутск, написал статью о сыпучих песках Селенгинской Даурии. Нужно было немедленно обратить внимание на эту опасность и посадить здесь деревья. Река близко, растительность должна хорошо прижиться и в самом начале пресечь расползание песков.
На перевале через Яблоновый хребет, где прокладывалась новая дорога, обнаружились слоистые наносы. Обручев решил, что они оставлены озерами, когда-то занимавшими долины Селенгинской Даурии. Эти озера могли сообщаться через Яблоновый хребет с озерами долины Амура. Такие неожиданности радовали Владимира Афанасьевича, подтверждали сложившееся у него мнение о строении Забайкалья.
Работы партии шли к концу. Полную обработку материалов и подробный общий отчет он решил делать в Петербурге. Елизавета Исаакиевна покинула Иркутск весной 1898 года. Ей хотелось провести лето с родными и к приезду Владимира Афанасьевича найти квартиру.
Уезжала она с сыновьями на пароходе по Ангаре. Затем нужно было проехать на лошадях до станции, от которой шли уже регулярные поезда.
А Владимир Афанасьевич провел последнее лето в Селенгинской Даурии и вернулся ненадолго в Иркутск, чтобы ликвидировать квартиру, закончить неотложные работы, написать письма...
С 1891 года он был в оживленной переписке со знаменитым ученым Эдуардом Зюссом. Академик Зюсс жил в Вене, был уже стар, но еще много работал. Владимир Афанасьевич преклонялся перед его эрудицией, талантом прозорливых и остроумных обобщений. Еще не законченный труд Зюсса «Лик Земли» он считал настольной книгой каждого мыслящего геолога.
Обручев, конечно, писал Зюссу на образцовом немецком языке и высказывал в письмах соображения, которые не могли остаться чуждыми для ученого. Но не только этим были вызваны любезные и содержательные ответы Зюсса. Он прекрасно знал Обручева по его работам, переведенным на немецкий язык, и считал своего русского корреспондента выдающимся исследователем.
Зюсс очень хорошо понимал логику рассуждений Владимира Афанасьевича, и Обручев ценил возможность делиться с ученым своими взглядами, писать ему о своих сомнениях и о радости бесспорных открытий.
Сообщал он Зюссу и о выводах, к которым пришел за четыре года работы в Селенгинской Даурии.
Прежде об этой обширной области знали очень немного. Исследован был только Нерчинский округ, где давно уже велись горные работы. Единственно Черский интересно описал долины Селенги и Джиды, а частично — Чикоя и Хилка. Он считал, что Селенгинская Даурия — область очень древняя, что морских отложений в ней нет. Упоминал о том, что уровень воды в Байкале был когда-то очень высок и все впадины вокруг озера-моря были наполнены водой. Эти наблюдения не были убедительно разработаны Черским, но Обручев знал, что Зюссу Иван Дементьевич свои мысли сообщал.
Владимир Афанасьевич был уверен, что он нашел важнейшие доказательства правоты Черского, множество примет, указывающих на то, что Селенгинская Даурия — ядро Азиатского материка. Эта область сложена докембрийскими кристаллическими и метаморфическими сланцами. Много изверженных гранитов. При этом древние породы очень часто пересекают направление хребтов, а не простираются вдоль них. Это значит, что нынешний рельеф местности не зависит от древних движений земной коры, образовавших складки. Он создан гораздо позднее всевозможными сбросами и разломами. Морских палеозойских отложений здесь совсем нет. Очевидно, после того, как из кристаллических и метаморфических пород образовались складки, местность больше не покрывалась водой. Разломы постепенно разбили, расчленили ее. Образовались возвышенности — горсты и углубления — грабены. Происходили и извержения вулканов, лава заполняла трещины. Образовались жилы гранита и базальта. Во впадинах когда-то были большие озера, в них отложились угольные пласты. В четвертичное время впадины снова заполнялись водой.
Таких озер было много, некоторые сообщались друг с другом. По цепи их и проникали в пресноводный Байкал обитатели соленых морских пучин — губки и жители моря — тюлени.
Высокое залегание озерных отложений, найденных на перевале Яблонового хребта, объясняется тем, что сравнительно недавно, вероятно уже во время существования первобытного человека, здесь происходили постепенные поднятия.
Обо всем этом Обручев писал Зюссу.
Из Иркутска Владимир Афанасьевич уехал в сентябре местным поездом, который уже отправлялся от станции на левом берегу Ангары до Красноярска. В Красноярске — пересадка на регулярный поезд.
Эта на глазах Обручева возникшая железная дорога заставила его задуматься о неумолимом беге времени и о великих переменах, временем приносимых. Его старший сын ехал в Сибирь, барахтаясь в меховом мешке «сорок дней и сорок ночей», совсем по библии. Сейчас бойкий, смышленый мальчик, которому скоро пора в школу, уезжал в Петербург в комфортабельном вагоне железной дороги. Люди, десятилетиями мечтавшие об этой дороге, мгновенно привыкли к ней, словно она всегда была в их распоряжении. Его дорогая мать уже очень стара, и он сам не мальчик...
Но эти меланхолические, хотя и не лишенные приятности, размышления быстро улетучивались, когда Владимир Афанасьевич начинал думать о результатах своих четырехлетних исследований. Он не сомневался, что внесет серьезный вклад в общую историю Земли.
Видал он дальние страны...
Снежные вершины гор резко белеют на спокойной небесной голубизне. И на гладкой поверхности озера отражается цвет неба. Удивительно похож, оказывается, Цюрих на картинки, которые так нравились в детстве. Горы величественны и, суровы. Город, в кудрявых садах и виноградниках, уютен, наряден, башенки и дома правобережья издали кажутся игрушечными. Именно такие пейзажи, вероятно, и называются «живописными». Даже горы, несмотря на их грандиозность, выглядят прибранными, если сравнить, например, с Наньшанем...
Тихое, чистенькое кладбище... Ноябрь, но повсюду на аккуратных холмиках еще свежие осенние цветы. Дорожки посыпаны песком, везде порядок, чистота. Могилы очень «ухожены», как говорят в России, не то, что разор и запустение милых русских кладбищ...
Прислонившись к дереву, Обручев следит за тем, как устанавливают надгробье — простую плиту из полированного гранита. Работают люди привычно, быстро, не обращая внимания на иностранца в светлом пальто и мягкой шляпе.
— Все готово... Простоит до страшного суда. Благодарю.
— Вам спасибо, — тихо говорит Обручев.
Рабочие уходят, оживленно переговариваясь. Наверно, в кабачок зайдут пропустить по стаканчику после выгодного заказа.
Владимир Афанасьевич долго смотрит на гранитную доску, словно опять и опять читает русскую надпись:
Александр Афанасьевич Обручев
1862—1898.
Вот и брат Саша ушел! Так же тихо и незаметно, как жил. Ушел со всеми своими странностями. Таинственный язык, придуманный в детстве, нежелание учиться, одиночество... Все это уже никогда не получит объяснения.
Саша жил в Цюрихе на доходы со своего небольшого польского майората, нигде не служил, не обзавелся семьей. С родными переписывался редко и о себе сообщал немного. Владимир Афанасьевич знал: занимается он печатанием революционной литературы, но и эта деятельность шла как-то в стороне от эмигрантской общественности, от партий и кружков.
Получив известие о серьезной болезни брата, Обручев сейчас же выехал в Цюрих, но в живых Александра Афанасьевича уже не застал. Единственное, что он мог сделать — установить эту надгробную плиту. Саше она не нужна, как ничто ему уже не нужно, но для матери хоть какое-то утешение — знать, что могила в порядке.
Обручев надел шляпу и медленно пошел с кладбища. Никогда он не был душевно близок с братом, общались они редко. Но как невыразимо грустно сознавать, что Саши уже нет! Распалась большая сильная семья! Умерла бабушка Эмилия Францевна, отец, братья Николай и Александр, сестра Наташа. Остались он, Машенька и Анюта. Он — человек кочевой, хорошо, что сестры живут с матерью...
Задерживаться в Цюрихе нельзя. Нужно спешить домой. Как удачно получилось, что Лиза сумела найти квартиру недалеко от дома, где Геологический комитет устроил Забайкальскую партию! Он с Герасимовым и Гедройцем хорошо начали обработку материалов за четыре года исследований в Забайкалье. Но самое главное, конечно, монгольско-китайские изыскания. Этим нужно заняться в первую очередь. Их ждут и русские и зарубежные ученые. Ждет и Зюсс.
По пути в Цюрих Владимир Афанасьевич заезжал в Вену. Зюсс давно приглашал его к себе, но лишь теперь Обручев сумел воспользоваться этим приглашением.
Великолепная Вена — родина песен, веселых оперетт, легкой музыки — показалась Обручеву очень респектабельным и спокойным городом. Впрочем, у него не было времени внимательно осматривать достопримечательности. Запомнился собор святого Стефана, пышное барокко богатых кварталов, зелень парков, множество памятников и фонтанов, улица Рингштрассе, идущая кольцом вокруг центра. Все три дня, проведенные в Вене, были заняты разговором с Зюссом.
Обручев глубоко уважал своего знаменитого корреспондента. Его восхищала не только ученость, но и разносторонность Зюсса. Говорили, что он великолепный препаратор. Никто не умеет так, как-он, очистить от породы окаменелость, восстановить из осколков кость. Найденные в Монголии осколки, что так заинтересовали Владимира Афанасьевича, были посланы Зюссу. И в скором времени Обручев получил из Вены посылку. В коробочке лежал аккуратно завернутый в вату большой коренной зуб носорога. Зюсс сумел очистить крохотные впрессованные в мергель осколки от породы, собрать их и искусно склеить. Конечно, зуб мог сохраниться только в озерных континентальных, а не в морских отложениях. Значит, Рихтгофен ошибался, полагая, что в третичном периоде Монголия была покрыта морем.
Готовясь к встрече с Зюссом, Владимир Афанасьевич не раз думал, что ученому скоро семьдесят лет и утомлять его длинными научными беседами не стоит.
Но когда он позвонил в квартиру Зюсса в Африканском переулке и его проводили в скромную гостиную, к нему вышел поистине могучий старик. Да нет же, Зюсса и стариком назвать нельзя было! Высокий, с крупными правильными чертами лица, он выглядел свежим и бодрым. Серебряная густая борода, блестящие глаза, звучный голос. Какой же он старик!
— Обручев? — Он радостно протянул руку. — Я ждал вас. Очень счастлив, что нам, наконец, удалось встретиться.
Разговор начался так, словно хозяин и гость были давно знакомы. Собственно, так и было. Длительная переписка сблизила их.
Владимир Афанасьевич откровенно сказал, что не ожидал увидеть Зюсса таким молодым и крепким.
— Я действительно никогда не болею, — ответил Зюсс. — Кажется, единственный раз был болен, когда заразился оспой. Болезнь тяжелая, но у меня она прошла быстро и без последствий. Однако в молодости я был таким тощим, изнуренным, что казался людям неизлечимо больным. Меня принимали за чахоточного. И знаете, что меня закалило? Путешествия. Я все испытал: холода, проливные дожди, зной... Здоровье мое от этого не страдало. В шестьдесят лет я совершил очень нелегкую экспедицию в глубь Норвегии.
Стены небольшого кабинета были забраны до потолка черными книжными полками. В единственном свободном простенке Обручев увидел бюст Неймайера. Работы этого ученого-палеонтолога, автора знаменитой «Истории Земли», Владимир Афанасьевич очень ценил и, когда девять лет назад узнал, что Ней- майер умер, был искренне взволнован и огорчен.
Зюсс, видимо, понял мысли своего гостя.
— Неймайер — муж моей дочери Паулы, — сказал он. — Я его очень любил. Такой талантливый ученый! Многое он мог бы еще сделать...
Под бюстом на стене висела доска с коллекцией геологических молотков. Зюсс рассказал, что они принадлежали виднейшим геологам мира — исследователям разных стран. Эти заслуженные молотки много поработали в Африке, Америке, Австралии и других странах, а потом были подарены Зюссу.
— Я размышлял над вашими последними письмами, — заговорил ученый: — Выводы кажутся мне достаточно продуманными. Конечно, многое требует уточнений. И хоть переписка наша была очень активной, заменить непосредственную беседу она не могла. Но теперь-то мы поговорим!
И начался разговор, который продолжался три дня.
Еще в 1891 году, когда Владимир Афанасьевич послал Зюссу свой отчет о поездке в Олекмо-Витимский округ, Зюсс в ответном письме спросил, что думает Обручев о Сибирских складчатых дугах. Зюсс суммирует сведения о складчатых дугах всего мира, и, в частности, Сибирские представляются ему очень древними. Правда, они входят в общую систему дуг Центральной Азии и Гималаев, но там дуги молодые, в них собраны в складки и третичные отложения. Владимир Афанасьевич тогда не решился высказать какое-нибудь определенное мнение. Он был еще начинающим ученым и Сибирь знал мало. Но по вопросу, интересующему Зюсса, имелась статья у Черского. Обручев перевел ее на немецкий язык, сделал к ней примечания и послал ученому. Сам Зюсс никогда в Сибири не бывал, но к нему стекались сведения от всех путешественников по разным странам, в том числе и по Сибири. Взгляды Черского, дополненные другими исследованиями, были приняты Зюссом, и он опирался на них, излагая свои соображения о строении Сибири.
Обручев знал, что его товарищ Богданович тоже посылал Зюссу свои работы после экспедиции в Тибет с Певцовым в 1889 году.
На основании таких материалов и строился огромный труд Зюсса «Лик Земли». Но многое еще не было до конца ясно, например строение малоизученных Центральной Азии и Забайкалья. Поэтому сообщения Обручева живо интересовали Зюсса.
Старый ученый был неутомим, Обручев — счастлив тем, что его выводы и предположения поняты и оценены. Время шло для них незаметно. Строение Внутренней Азии обсуждалось подробно и горячо.
На столе была развернута большая карта Азии. Зюсс показал Обручеву область на границе Семиречья и Китайской Джунгарии:
— Посмотрите сюда. Эта часть Центральной Азии никому не известна по своему строению. Вы видите эти горные цепи? К чему они относятся — к Алтаю или к Тянь-Шаню? Этого никто не знает. Здесь непременно должны побывать русские геологи.
Обручев рассказал, что, возвращаясь из Центральной Азии, он проезжал по южной окраине этой местности и видел на севере горный хребет необычного вида. Ни острых гребней, ни отдельных вершин, только громадный ровный увал... Он был так не похож на близкую к нему горную цепь Тянь-Шанского Боро-Хоро, что Владимир Афанасьевич заинтересовался им. Но... он ехал на родину, спешил, был утомлен, задерживаться не мог. Конечно, эта область еще ждет своего изучения.
Время от времени Зюсса и гостя звали к обеду или чаю. За столом хозяйничала дочь Зюсса Паула — вдова Неймайера, переселившаяся после смерти мужа в отцовский дом. Жена ученого Термина Зюсс была больна.
В эти часы отдыха научные разговоры прекращались. Зюсс шутил, рассказывал кое-что из своего прошлого, говорил о революции тысяча восемьсот сорок восьмого года в Австрии, о своем аресте, о том, как на допросе ему предъявили его собственное письмо, написанное двоюродному брату в Прагу. В этом письме Эдуард Зюсс спрашивал, что думает брат о поднятии Средней Италии. Когда он объяснил, что речь идет о статье геолога Мурчисона, где говорится о горных поднятиях и вулканических трещинах, следователь был разочарован. Он считал, что речь идет о поднятии Средней Италии на революционную борьбу.
Но больше всего Зюсс говорил о своих путешествиях по Карпатам и Богемии, Альпам и Норвегии.
Поздно вечером Обручев уходил в гостиницу недалеко от квартиры Зюсса. К приезду русского ученого Зюсс заботливо приготовил для него номер. А когда Обручев, уезжая, хотел заплатить по счету, оказалось, что Зюсс уже все заплатил.
Это гостеприимство и дружелюбие трогало Владимира Афанасьевича, но самым дорогим для него были слова Зюсса:
— Вы оказали мне огромную помощь. Все, что люди прочитают в третьем томе «Лика Земли» о строении Забайкалья, будет написано только благодаря вашим сообщениям и советам. Безусловно, горные хребты на юге Восточной Сибири — ядро материка, к которому постепенно присоединялись складчатые горные системы. Ваш Черский бегло, а вы детально обосновали существование древнего темени Азии.
Это название поразило Обручева своей меткостью.
Возвращаясь домой в подавленном настроении после грустных дней в Цюрихе, он оживлялся, повторяя про себя: «Древнее темя Азии». Для него эти слова звучали так же призывно и таинственно, как музыка, услышанная им в Закаспийских пустынях десять лет назад.
В Петербурге Владимир Афанасьевич засел за работу над материалами последней экспедиции. Однако скоро они были отодвинуты в сторону. Предварительный отчет уже напечатан в книге «Геологические исследования и разведочные работы по линии Сибирской железной дороги». Вышли и составленные им карты. Более подробно все это можно описать позже. Он взялся за дневники путешествий по Центральной Азии.
Часто, сидя в своем небольшом кабинете, по скромности и множеству книжных полок похожем на кабинет Зюсса, он думал о недавней заграничной поездке.
Всегда его манили просторы родной земли. С юности он мечтал о путешествиях в такие уголки России, где еще никогда не стучал молоток геолога, никто не производил маршрутных съемок, не определял высоту гор, не собирал геологических коллекций. В какой-то мере эти мечты исполнились. Но многие области еще ждут исследований, и он надеется быть их участником. Однако не пора ли ему подробнее познакомиться и с геологией зарубежных стран? Год назад Парижская академия наук присудила ему премию имени Чихачева, Берлинское общество землеведения избрало его членом-корреспондентом, а он никогда не бывал ни в Париже, ни в Берлине. Разве не следует ему хотя бы бегло познакомиться с геологическим строением Франции, Германии, Швейцарии, побывать в геологических музеях этих стран, — ведь там собраны великолепные коллекции? Конечно, все это давно описано, и по литературе он со многим знаком. Но ведь каждый ученый — это Фома неверный, он все хочет увидеть сам.
И судьба пошла навстречу мечтам Владимира Афанасьевича. В 1899 году, летом, Горное ведомство послало его в интересную командировку.
Поехали всей семьей. Елизавета Исаакиевна вся светилась радостью, и муж ее понимал. Разве не показала она, как терпелива и вынослива может быть Женщина, разве в трудных сибирских условиях не сняла с него все домашние заботы, давая ему спокойно заниматься наукой, не ждала его возвращения из долгих путешествий, не давая воли своему беспокойству и одолевавшей ее тоске одиночества? Пусть она теперь развлечется.
Обручев устраивал семью где-нибудь в тихом уголке, а сам совершал экскурсии. В Швейцарии он путешествовал по Альпам — этой величайшей складчатости земного шара, познакомился с великолепными альпийскими лугами, но главным образом с ледниками, — они всегда его интересовали.
Он остался равнодушен к холодной и нередко безвкусной пышности берлинского центра и множеству военных памятников немецкой столицы, но с увлечением проводил дни в громадных залах Геологического музея.
Интересной для Обручева была встреча с Рихтгофеном.
Председатель Берлинского географического общества, профессор Фердинанд Пауль Вильгельм Рихтгофен, был, как и Зюсс, уже не молод. Выглядел он истым германцем — спокойное, несколько замкнутое лицо, холеный, любезный, но холодноватый. Зюссовской сердечности и простоты не было в его обращении, и обстановка его дома казалась более богатой и чопорной.
Однако Обручева он принял весьма приветливо и с интересом беседовал с ним. Говорили, конечно, главным образом о Китае, вернее о лёссе. Взгляды Обручева показались ему заслуживающими внимания. Вначале он возражал, но потом согласился с тем, что, зная только впадины Восточной Монголии, не побывав в Северном Китае, не видя центральных азиатских областей, где, по его представлениям, должен быть лёсс и где в действительности его не было, он не мог спорить с Обручевым. Рихтгофен считал, что Владимир Афанасьевич не может ограничиться своей работой «О процессах выветривания и раздувания в Центральной Азии». Следует продолжить и развить обручевскую теорию образования и накопления лёсса.
На Международном географическом конгрессе в Берлине Обручев сделал доклад о своих исследованиях в Забайкалье.
С удовольствием Владимир Афанасьевич опять посетил Вену. На этот раз удалось подробно осмотреть Геологический музей и снова провести несколько дней с Зюссом. Теперь Обручев не предупреждал о своем приезде и явился неожиданно. Он даже не сообщил никому в доме Зюсса, в какой гостинице остановился. Видя скромную жизнь ученого, он не хотел вводить его в лишние расходы.
После этой приятной поездки Обручев весь год работал над материалами по Центральной Азии и Забайкалью. Летом же снова получил командировку, на этот раз во Францию.
1900 год... Рубеж двух столетий... Всемирная выставка в Париже. Все чудеса техники, промышленности и искусства... Послан в Париж Обручев был для участия в Международном геологическом конгрессе, но немало часов провел на выставке.
Он привык с детства к свету керосиновой лампы, и теперь его восхищало яркое сияние электрических фонарей. А удивительные самоходные каретки — автомобили, фонограф Эдисона, воспроизводящий человеческую речь!..
Порой, устав от всего увиденного и услышанного, он бродил по Парижу, любовался сиреневой дымкой вечеров, мягко опускавшихся на город, великолепными парижскими перспективами, иллюминованным высочайшим в мире сооружением инженера Эйфеля. Он рылся в старых книгах у букинистов на берегу Сены, бывал в Сорбонне и Горной академии. Завершились эти насыщенные дни экскурсией участников конгресса в Овернь. Там Владимир Афанасьевич немного пришел в себя от множества впечатлений и окунулся в привычный мир. Геологи познакомились с областью молодых вулканических пород и остатков вулканов третичного и четвертичного периодов.
Может быть, эта овернская экскурсия так подействовала на Обручева, но к концу поездки он почувствовал, что, вернувшись домой, должен непременно выехать в новое путешествие. Он устал от кабинетной работы, да и от поездок по Европе, хотя и очень интересных. Пора опять в природу, в безлюдье, к новым открытиям!
В 1900 году вышел первый том дневников путешествия по Центральной Азии, Северному Китаю и Наньшаню, а в тысяча девятьсот первом — второй. Редактором этих книг и карт маршрутной съемки был Иван Васильевич Мушкетов.
Сибирские геологи освободились от работ, связанных с постройкой железной дороги, и Горное ведомство приступило к геологическому исследованию золотоносных районов Сибири. Весной 1901 года Владимиру Афанасьевичу предложили должность начальника Ленской геологической партии. Обручев знал эти места по своим прежним поездкам и решил, что вернуться туда будет интересно. Можно закончить наблюдения, прерванные путешествием в Центральную Азию.
Он поехал к своему бывшему преподавателю, ныне директору Геологического комитета, Александру Петровичу Карпинскому, чтобы договориться с ним о программе работ. Но Карпинский сказал, что план исследований этого района уже утвержден и Обручев должен произвести за лето геологическую съемку бассейна реки Бодайбо на всем ее протяжении.
— Но там ведь множество приисков, — возразил Обручев, —- ведется и шахтная и открытая добыча золота. Все это нужно осмотреть, изучить выходы коренных пород... Одному геологу за лето не справиться.
— Я ничего не могу изменить, — сухо отвечал Карпинский, — план утвержден, и его надо выполнять.
Обручев подумал, что составители плана подвели Александра Петровича. Очевидно, особенностей местности они не знали и действовали наобум, исходя из общей площади района и времени, отпущенного на летние работы. Теперь Горный департамент утвердил план, и Карпинский оказался в трудном положении.
— Хорошо, я попытаюсь справиться, — решил Владимир Афанасьевич. — Только возьму с собой двух помощников.
— Гм... А кто их будет оплачивать?
— Оплачу из тех денег, что дадут на поездку. У меня работал два года студент Лурье, определял шлифы горных пород Центральной Азии. И еще приглашу горного инженера Преображенского. Человек молодой, но побывал уже в Туркестане, имеет опыт полевой работы... Уверяю вас, что один я не справлюсь.
— Пусть будет так, — со вздохом согласился Карпинский.
Владимир Афанасьевич стал готовиться к отъезду на Ленские прииски.
В один из апрельских дней к Обручеву неожиданно приехал Иван Васильевич Мушкетов с каким-то незнакомым солидным человеком.
— Это профессор Зубашев — директор Томского технологического института, — представил Мушкетов гостя.
Зубашев предложил Владимиру Афанасьевичу вести в институте курс геологии.
— Мы хотели бы также назначить вас деканом горного отделения. Институт, как вы, вероятно, знаете, открылся всего год назад. Горного отделения у нас пока нет. Вообще организационной работы еще много, а ваши научные заслуги и энергия нам известны...
Обручев сказал, что педагогическая работа его пока не привлекает. Ему всегда казалось, что это удел пожилых людей, уставших от практической деятельности. А он еще хочет ездить, заниматься исследованиями.
Иван Васильевич, улыбаясь, смотрел на своего ученика.
— Я такого ответа и ждал от вас, Владимир Афанасьевич. — Но, во-первых, возьмите во внимание, что кафедра — в Сибири, где вам интересно продолжать полевые работы. Отказываться от них не придется, лето ведь в вашем распоряжении. А во-вторых, вы уже дважды могли занять кафедру в высшей школе и оба раза отказались. В Петровско-Разумовский сельскохозяйственный институт вас звали читать минералогию и геологию, да я предлагал доцентуру в Горном институте. Будете основывать школу сибирских геологов — задача почетная.
Обручев обещал подумать.
Но думал он недолго. Иван Васильевич горячо уговаривал принять предложение, и возможность воспитать поколение сибирских геологов там, где недавно он был первым и единственным, казалась и впрямь заманчивой.
Сыновьям пора учиться... Владимир уже держал экзамен в реальное училище и был принят. Значит, поступит во второй класс не в Петербурге, а в Томске, а Сергей станет первоклассником. Хорошо, что в Томске есть реальное. Обручев, как и отец его, — противник классического образования.
И, как в первый раз, Елизавета Исаакиевна повезет в Сибирь малыша — третьего сына Дмитрия. Он родился в тысяча девятисотом году, как раз перед отъездом Владимира Афанасьевича в Париж. Родители не знали, как назвать новорожденного. Отцу нравилось имя Дмитрий, матери — Андрей. Предложили старшим сыновьям выбрать имя брату.
— Пусть будет Дмитрий, — решил Волик. — Андреем соседского мальчишку зовут...
— А мы с ним всегда деремся, — добавил Сергей.
Крестным отцом Мити был Волик. Правда, «восприемнику» исполнилось только двенадцать лет, но за пять рублей священник согласился об этом забыть.
Семья стала в третий раз собираться в Сибирь.
Он смело сеял просвещенье.
Уйти из Технологического института пораньше никак не удается. Даже когда лекции кончаются, от студентов нет отбоя. К декану горного отделения в небольшой кабинет, загроможденный книгами, коллекциями, чертежами, набивается множество народа. На все вопросы нужно ответить, все недоразумения разрешить... Обычно Владимир Афанасьевич уходит из института уже под вечер, когда зажигаются фонари.
На Почтамтской людно. Студенты группами и в одиночку попадаются навстречу, перегоняют. Со всех сторон слышно:
— Добрый вечер, Владимир Афанасьевич!
— Здравствуйте, профессор!
И часто розовый первокурсник из тех, кто в аудитории тих и застенчив, здесь бойко бросает барышне:
— Это профессор Обручев... тот, с бородкой.
Владимир Афанасьевич не спеша идет домой.
Магазины светятся огнями, В кондитерской Бартельса тесно. К шести часам выносят горячие пирожки и бублики. «Основная пища студентов», — думает Обручев. «Сибирские номера для приезжающих»... Пространное объявление гласит: «Все удобства. Полное спокойствие и тишина. Гигиеническая кухня под наблюдением опытного повара. Просят извозчикам не верить, что нет свободных номеров».
«Оптовая торговля чаями — кирпичными, байховыми, плиточными». «Рыбно-гастрономическая, икорная и сельдяная торговля А. Ф. Калинина. Всегда полный ассортимент разной свежей сибирской и российской рыбы». А дальше такое перечисление всевозможных сельдей, икры, балыков и тешек, что у гурманов слюнки текут.
Да, Томск почистился, приукрасился... Впрочем, только в центре. А на отдаленных улицах по-прежнему в сумерки — ворота на запор, во дворах свирепые цепные собаки, по воскресеньям запах рыбных и капустных пирогов. Тут живет купечество помельче, чиновники.
Ученый Паллас, побывавший в Томске в тысяча семьсот семидесятом году, писал: «Ни одного места не видал я такого, в котором бы пьянство было толь обще и толь бы высокой степени, как в Томске».
А писатель Станюкович, сосланный сюда столетием позже, был поражен невылазной грязью томских улиц. Ему казалось, что здесь нужно носить «калоши до колен». Когда же он ближе узнал жизнь томских купцов и чиновников, он удивился ее нравственной грязи и писал: «Едят в Сибири до отвала, пьют до одурения, в клубе дамы откусывают друг другу носы и все поголовно от тоски сплетничают».
Улицы, кроме центральных, не мощены, фонари горят тускло, вечерами часто слышатся вопли: «Караул! Грабят!» На рабочих окраинах теснота, беспросветная нужда...
На Иркутск этот город не похож. В Иркутске интеллигенция организовалась давно, чуть ли не с тридцатых годов девятнадцатого, теперь уже прошлого, столетия. Помогли этому политические ссыльные — и русские и поляки... В Томске культурных людей всегда было мало.
Да и купцы... У иркутских капитал создавался исподволь, постепенно. Промышленники, богатея, начинали учить детей, появились такие, как Сибиряков, который чуть ли не все состояние отдал на культурные нужды города. А томские купцы разбогатели сразу, когда в Сибири началась «золотая лихорадка»; по большей части это люди темные, дремучие.
Конечно, университет всколыхнул жизнь города. За последние годы кое-что сдвинулось с места. Предприниматель и общественный деятель Макушин основал «Общество попечения о начальном образовании». Есть бесплатная библиотека, несколько народных школ, устраиваются лекции, вечера, спектакли... Все это возникло потому, что образовалась своя интеллигенция, которая привыкла бескорыстно работать. Доктор Пирусский организовал «Общество физического развития детей», Флоринский руководит «Обществом естествоиспытателей и врачей». «Общество по изучению Сибири» хотя и бедно, а все же понемногу работает, «Общество книгопечатания» собрало неплохую библиотеку...
Но всего этого бесконечно мало. Рабочие так замучены нуждой, что только немногие из них пользуются этими благами культуры. Большинству не до библиотек, лекций и концертов...
Еще в 1896 году томские рабочие-типографщики и студенты пробовали протестовать — выступление было подавлено жестоко.
В начале девятисотых годов опять бастуют все печатники города. В Томске много типографий, печатники — народ грамотный. Обручев знает, что кое- кто из его студентов руководит рабочими кружками, там читают газету «Искра»... А называется это общество учащейся молодежи и рабочих «Сибирской группой революционных социал-демократов». Из Петербурга приезжает кое-кто для руководства этой группой. Говорят, что скромная Анна Ильинична Елизарова[16], жившая в Томске зимой 1902/03 года, — крупный революционный работник.
Рабочие и студенты, безусловно, находят общий язык. Когда сто восемьдесят три киевских студента были отданы в солдаты и по всей России началась студенческая стачка, рабочие приняли самое живое участие в демонстрации. Они шли по улицам с революционными песнями, и было их гораздо больше, чем самих студентов...
Появились красные знамена и лозунги «Долой самодержавие!», «Да здравствует политическая свобода!». Царь потребовал, чтобы «беспорядки» были немедленно прекращены, и из Петербурга приехало множество начальства во главе с самим Плеве; в Томске арестовали шестьдесят семь студентов — кого отправили в тюрьму, кого — на поселение в якутские наслеги.
И сейчас молодежь и рабочие не спокойны. После «Кровавого воскресенья» — событий девятого января в Петербурге — трудно оставаться спокойным.
18 января состоялась новая грандиозная демонстрация. Впереди шел рабочий-печатник Кононов. Он нес красное знамя с надписью: «Долой самодержавие!» Кононов был тяжело ранен. Стреляли в упор. Когда он упал, знамя исчезло... Но люди сведущие говорят, что его поднял юноша — чертежник городской управы Костриков[17]. Владимир Афанасьевич не раз встречал его — невысокий, плотный, очень еще молодой. Лицо примечательное, полное спокойной решимости.
Двести человек было ранено, сто двадцать арестовано.
Но власти ничего не достигли. Через несколько дней весь город хоронил скончавшегося от ран Иосифа Кононова. Была выпущена прокламация «В венок убитому товарищу». Полиция не осмелилась мешать демонстрантам. По слухам, и здесь Костриков был во главе. Правда, через несколько дней его арестовали, но два месяца спустя пришлось выпустить — улик нет.
А из института многих исключили. Обручеву с великим трудом удалось отстоять нескольких человек. Начальство смотрит косо на эти хлопоты о студентах. Что же, он готов ко всему. Но то, что может, будет делать и впредь! Впредь... А что впереди? Никто не знает. Несомненно одно: настанет перелом. Может быть, не завтра, не через год, но скоро, скоро. Народ разбужен, его уже нельзя успокоить. И молодежь растет зоркая, смелая, она знает, чего хочет...
Такая молодежь должна иметь хорошую школу. Над этим он потрудился немало. Когда осенью тысяча девятьсот первого года начал работать, горного отделения еще не было. По существу, оно им создано. Теперь в отделении четыре специальности — геология, эксплуатационные работы, металлургия и маркшейдерское дело. Ему удалось пригласить великолепных преподавателей: Янишевского, А. В. Лаврского — племянника покойной Александры Викторовны Потаниной, Казанского, Тове. Все они хорошие знатоки геологии и горного дела.
Не минуло и года его томской жизни, как пришлось перенести большое горе. Внезапно скончался Иван Васильевич Мушкетов. Его, доброго и мудрого учителя, не стало... Не стало человека, который до сих пор направлял судьбу своего ученика. Каждое начинание Обручева было так или иначе связано с Мушкетовым. Теперь у него нет старшего друга, наставника. Он сам старший...
Иван Васильевич был всегда тружеником, к работе относился со щепетильной честностью и учеников своих заставлял работать так же. Мысли об этом помогли Обручеву оправиться от тяжелого оцепенения.
Приступив к руководству кафедрой, он стал по-своему строить преподавание геологии — общей и полевой, петрографии, курса полезных ископаемых. Пустил в ход свои коллекции, создал геологический и петрографический кабинеты, начал собирать библиотеку. В ней уже около трех тысяч книг по геологии и географии. И она будет расти. А его коллекция диапозитивов? Не в каждом столичном институте есть такая. Многие диапозитивы им самим нарисованы и раскрашены. Он работает без секретаря — сам готовит этикетки для образцов пород, сам составляет каталог библиотеки.
Времени мало... К лекциям он готовится очень тщательно и кропотливо — иначе не умеет. Труд этот себя оправдывает — на его лекции собирается всегда множество студентов, приходят из других отделений, бывают и горные инженеры.
Он всегда чувствует недостатки полученного образования; как часто приходилось досадовать на них и преодолевать в тяжелой работе! Он хочет, чтобы его ученики не знали этих неприятных переживаний. Он водит их в поле, заставляет овладевать практическими навыками с первого года обучения.
Порой приходится читать публичные лекции. Томская публика их любит... А Лиза всегда волнуется перед его выступлениями не меньше, чем он сам.
Видно, так уж он создан, что только в живой, горячей работе может легко дышать. Даже для того, чтобы встретиться со старым другом Потаниным, приходится выкраивать время. Григорий Николаевич недавно приехал в Томск, занимается здесь по-прежнему научной и общественной работой.
Педагогическая деятельность увлекла Обручева, он уже не представляет себе жизни без молодых внимательных лиц, звонких голосов, то робких, то требовательных вопросов...
Одно печально. Новые путешествия по Сибири, которые казались ему такими доступными в томских условиях, до сих пор остаются только мечтой. Лишь в 1901 году, весной, когда он впервые приехал в Томск, ему удалось осуществить задуманную поездку по реке Бодайбо со своими помощниками Лурье и Преображенским.
Пароходы ходили уже до Жигалова, и не было надобности плыть по Лене в лодке. А от Бодайбо до устья Накатами ехали по узкоколейной железной дороге.
Ленское товарищество за девять лет, что Обручев не был на приисках, стало первым в России по добыче золота. Это главный управляющий Грауман, старый знакомый Обручева, поднял дело на такую высоту. Но положение рабочих, как скоро убедился Владимир Афанасьевич, не изменилось, хотя Грауман пытался как-то улучшить их жизнь.
Геологи поселились на Успенском прииске. Обручев осматривал подземные и открытые работы, а его помощники исследовали склоны и водоразделы в долине Накатами.
После Успенского прииска перешли на Прокопьевский, потом на Надеждинский и новый Феодосьевский, где работала недавно введенная в строй электростанция.
В долине Бодайбо Обручев тогда нашел остаток сложенной когда-то ледником гряды из сглаженных валунов, гальки и песка.
У верховьев реки осматривали Верхнебодайбинский прииск, поднимались на гольцы хребта Кропоткина, а потом перекочевали в низовья.
Дружная и планомерная работа позволила закончить осмотр бассейна Бодайбо к концу августа. Обручев спешил к началу учебного года в Томск. С ним вместе уезжал Грауман. Он не поладил с Ленским товариществом и уволился. Владимира Афанасьевича очень огорчил уход с работы этого энергичного инженера и человечного начальника.
Все прежние представления Обручева об образовании россыпного золота подтвердились. Распространение золота в этом районе не связано с присутствием кварцевых жил. Их здесь много, но они или пусты, или бедны золотом. Однако кварцевые прожилки в коренных породах встречаются. Об этом говорят попадающиеся среди шлихового золота отдельные золотинки с кварцем. Золото содержится главным образом во вкраплениях серного колчедана.
Золотоносные пласты в своей нижней части имеют элювиальное происхождение, а с высотой постепенно обнаруживается их аллювиальный генезис. Видимо, золото вымывалось из серного колчедана грунтовой водой.
Россыпи, залегающие глубоко на дне долин, где местность подвергалась оледенению, очевидно, сохранились под пластами ледниковых и доледниковых осадков. Там, где оледенения не было, россыпи стали бедными от многократного перемывания.
На материале исследований была составлена первая геологическая карта золотопромышленного района.
В этом, 1905 году, наконец, появилась возможность организовать экспедицию. В смете Технологического института есть графа «Научные командировки». Обручеву предложили воспользоваться этими средствами. Куда ехать — он может решить сам. И он решил — на границу Семиречья и Китайской Джунгарии[18] — в те края, о которых ему говорил Зюсс.
Хорошо было бы взять с собой сыновей. Владимиру уже семнадцать лет, Сергею — четырнадцать. Пора им узнать, что такое путешествие. Конечно, неизвестно, как отнесется к этому Лиза...
Мысли о новой поездке овладели Обручевым, он поделился своими планами с женой.
Все обошлось благополучно. Правда, Елизавета Исаакиевна иронически спросила, не собирается ли отец взять с собой и Митю, но старшие пришли в восторг и начали ее упрашивать, обещая такие чудеса прилежания и послушания, если она согласится, что пришлось уступить.
В помощники он пригласил двух студентов-старшекурсников — Морева и Кожевникова, которые должны были проходить геологическую практику. В начале мая Обручев и четверо молодых людей выехали по железной дороге в Омск. Оттуда по Иртышу плыли на пароходе до Семипалатинска. Здесь, собственно, и начиналось путешествие — Владимир Афанасьевич хотел ознакомиться с Киргизской степью. На трех телегах с двумя возчиками решили доехать до первого китайского города Чугучака.
Проезд по почтовому тракту в Семиречье был не труден. Ночевали возле речек или колодцев, где лошади могли найти корм. Везли с собой удобные палатки, складной столик и табурет и даже складную кровать для Владимира Афанасьевича.
Владимир и Сергей вырвались на простор. Они радовались всему, что видели, но все приказания отца выполняли беспрекословно и, казалось, с интересом слушали его объяснения.
— Папа, неужели до нас в этой Джунгарии никто не бывал и ничья нога не ступала? — спрашивал Сергей.
— Нога-то ступала, и не одного человека, — серьезно отвечал Обручев, — только все проходили мимо. Видишь ли, Сережа, здесь были и Пржевальский, и Певцов, и Григорий Николаевич Потанин, и Роборовский. Только все они стремились вперед, в незнакомую и заманчивую Центральную Азию, а через Джунгарию шли быстрым маршем. Ну, а после долгого путешествия возвращались домой усталые... Опять не до Джунгарии. Так никто и не сделал подробного описания этого края.
— А ты сделаешь, да, папа? — увлеченно спрашивал Сергей.
— Постараюсь, — отвечал Владимир Афанасьевич, улыбаясь.
Заинтересованность сыновей радовала его, но студенты несколько огорчали. Днем он старался прививать им навыки геологических исследований, по вечерам учил писать дневники. Они все это выполняли, но как-то вяло, не зажигаясь.
Ехали по широким безлюдным долинам, пересекали цепи невысоких гор. Киргизская степь была однообразна. Мелкосопочник иногда прерывался более высокими горными цепями. Горы Аркат, осмотренные путешественниками, оказались интереснее. Нагроможденные друг на друга гранитные глыбы были сглажены выветриванием и походили на груды матрасов.
В городке, вернее деревне, Сергиополе напились чаю, закупили продукты, и мальчики впервые для себя открыли, что чай из самовара гораздо вкуснее, чем вскипяченный на костре. Потом по дороге, пересекающей западную оконечность хребта Тарбагатай, двинулись дальше, к Чугучаку.
В Чугучаке было русское консульство. Старый знакомый Обручева по Кульдже — консул Соков, предупрежденный письмом Владимира Афанасьевича из Томска, приготовил для экспедиции сносное жилье, выдал паспорта на китайском и монгольском языках и нашел проводников, татарина Гайсу Мусина с сыном Абубекиром.
Обручев хотел купить верблюдов, но Гайса резонно возразил, что верблюды весной линяют и, пока не отрастет шерсть, вьюки сильно натирают их почти голую кожу. В горах они будут сильно страдать от холода и дождей. Гораздо лучше нанять выносливых, и неприхотливых ишаков.
— У нас теперь совсем солидный караван, — шутил Обручев, — вместе с погонщиками десять человек, восемь лошадей и двадцать два ишака.
Караван вышел из Чугучака в начале июня. Пересекли мутную реку Эмель и стали подниматься в горы Барлык. Леса в этих горах не было, но тамариск, ива и лох густо затягивали долины. Кое-где в небольших речках Владимир Афанасьевич удил рыбу. Это было приятным вечерним отдыхом после жаркого трудного дня. Мальчики обычно готовили ужин и неплохо справлялись с этим делом. После работы над дневниками и сортировки собранных за день-образцов все укладывались спать, а Владимир Афанасьевич работал один при колеблющемся свете свечи.
С Барлыкских гор было видно большое озеро Ала-Куль. В него втекает несколько рек и не вытекает ни одной, но вода сильно испаряется и имеет горько- соленый вкус. Посреди озера высились скалы острова Арал-Тюбе. Озеро лежит к северо-западу от долины, называемой Джунгарскими воротами. Эти «ворота» отделяют Джунгарский Алатау от хребтов Барлык и Майли-Джаир. Здесь в холодное время года свирепствует порывистый ветер «ибэ». Теплый воздух из джунгарских пустынь во впадинах между горами смешивается с более холодным.
Владимир Афанасьевич рассказывал сыновьям, что, по киргизскому преданию, которое приводит Гумбольдт в своей книге «Центральная Азия», на острове -Арал-Тюбе есть пещера, откуда и вырывается злой ветер.
Когда-то измученные ураганами киргизы решили закрыть выход ветру. Они завесили пещеру бычьими шкурами, завалили камнями и радовались, думая, что их пленник навеки останется взаперти. Но ветер напряг все свои силы и разбросал камни. Он вырвался на свободу, набросился на людей и животных, сметая караваны прямо в воды озера.
— А она правда есть там, эта пещера? — спрашивал Сергей.
— Нет, геолог Шренк осматривал остров лет шестьдесят назад и никакой пещеры не нашел.
Путешественникам не пришлось страдать от ибэ: .летом он успокаивается. Но гряды мелкого, как кедровые орешки, щебня, несомненно, были наметены ветром с юга.
Около реки Кепели устроили дневку. Владимир Афанасьевич нашел кое-какие окаменелости в береговых отложениях и обрадовался возможности определить возраст пород Барлыка. Он занимался розысками, а студенты исследовали берега реки.
На привалах Владимир Афанасьевич рассказывал молодежи о прошлом Джунгарии. Эту область называли «Страной беспокойства». Испокон веков через нее шли племена и народы, переселявшиеся то с востока на запад, то с запада на восток... Здесь проходили орды Тимура — «железного хромца», когда он шел на завоевание Семиречья и Киргизской степи. Долго здесь не было оседлого населения, его вечно грабили и изгоняли захватчики. И сами они не могли удержаться в этих местах, вытесняемые новыми пришельцами.
— Когда-нибудь, — говорил Обручев, — железная дорога свяжет Москву и Пекин, и пройдет она через Пограничную Джунгарию.
— Кто назвал эту долину Джунгарскими воротами? — спросил кто-то из молодых людей.
— Дал это имя Мушкетов. По ней лежали пути из Средней Азии в Центральную.
После остановок и работы у озера Джаналаш, на речке Тахты и в предгорьях Джунгарского Алатау подошли к озеру Эби-Нур — самому низкому месту в Джунгарии. До сих пор озеро никем не изучалось. Вода его была соленая, даже горьковатая. Недаром киргизы называли его Ить-Шпескуль, что значит «Собака не пьет».
Обручев осматривал песчаные холмы, поросшие тамариском, и решил, что они могут возникать там, где сыпучего песка не так много и ветер прибивает его к растениям. Под их защитой и накопляется песок. У прочных густых кустов тамариска образуются высокие холмы, под низким хармыком — насыпи вроде могильных, под пучками чия — еще меньшие. Корни куста погибают не сразу, а только если песок не дает им дотянуться до влажного почвенного слоя. Растение начинает гибнуть, а вместе с ним разваливается песчаная куча. Этот тип песков не похож ни на барханный, ни на грядовый, ни на бугристый. Пожалуй, правильнее назвать его кучевым.
Довольно далеко от озера сохранились давнишние, когда-то накатанные прибоем береговые валы. Значит, озеро пересыхает, а прежде было очень большим.
Возможно, тогда все озера Джунгарских ворот соединялись в одно, а может быть, и Балхаш сливался с ним. Ведь недаром путешественники XIII века описывали большое море, вдоль которого они ехали очень долго.
От Эби-Нура отряд ушел в горы Майли. Там Обручев заинтересовался ступенчатым рельефом. В силу тектонических движений в одних местах произошли поднятия, в других — разломы. Горы Пограничной Джунгарии — это ступенчатые горсты —. поднятия, вытянутые в одном направлении, а долина Джунгарских ворот — грабен, иными словами, понижение, расчленившее горную цепь. Во многих местах Обручев находил в хребте выходы горных пород; нередко серые и зеленоватые сланцы и песчаники представляли собой сплошные обломки, покрывающие склоны.
— Точно великаны били громадными молотами, — говорил Владимир Афанасьевич студентам. — Какая-то каша обломков. Попробуйте определить простирание пластов... Это невозможно.
А вершины Майли оказались настолько ровными, что по ним проложены были дороги. Это представлялось необычным, но вполне понятным. Так как хребты оказались ступенчатыми горстами, их более высокие ступени сохранили ту ровную поверхность, которую имели ранее.
После обследования Майли решили вернуться в Чугучак, чтобы отдохнуть и закупить провизию. Обручев отправил студентов, Владимира и Гайсу короткой дорогой через Барлык, а сам с Сережей и всем караваном поехал по реке Кут вниз. Ему хотелось пересечь восточную часть хребта. Они без затруднений прошли по отрогам и поднялись на перевал Алтын-Эмель. А когда спустились и после ночевки пробирались по длинному ущелью, Владимир Афанасьевич нашел в породах много окаменелостей и по обыкновению так ими увлекся, что пришлось остаться в ущелье еще на одну ночь.
В равнине, куда группа Обручева спустилась на третий день этой поездки, их встретили все остальные, и они вместе прибыли в Чугучак. Владимир Афанасьевич после отдыха хотел заняться исследованием Тарбагатая, но студенты неожиданно заявили, что считают свою практику законченной и собираются ехать домой, чтобы отдохнуть перед началом занятий.
Всегда выдержанный и спокойный, Владимир Афанасьевич на этот раз рассердился.
— Я приглашал вас на все лето... — сказал он, и Владимир опасливо взглянул на него. Он знал этот тон и понял, что отец очень недоволен.
— Но задерживать вас я не намерен, — продолжал Обручев. — Я понял за это время, что геология вас абсолютно не интересует. Вы избалованны и изнеженны, а геолог должен быть вынослив и бесстрашен. Вы очень мало помогали мне в работе, вы не способны самостоятельно мыслить. Дневники ваши не представляют ничего интересного. Пересечение Барлыка описано из рук вон плохо... Уезжайте, я не буду о вас жалеть.
Студенты растерялись от этой отповеди, но решения не переменили и в тот же день уехали. Владимир Афанасьевич долго хмурился.
Он не забыл своего возмущения беспечностью молодых людей и много лет спустя с удовлетворением отметил в одной из книг: «Оба упомянутых студента геологами не сделались».
Поредевший караван снова направился в горы. Маршрутной съемкой занимались теперь Сергей и Владимир.
Знакомство с Тарбагатаем началось с небольших Бахтинских гор. Это была передовая цепь хребта, отделенная от главной понижением. Здесь среди утесов им открылась уютная долинка, где журчал чистый ручей, а в скалах Обручев нашел обнажения чудесного розового мрамора. Отсюда не хотелось уходить, и Сережа, оглядывая полюбившуюся ему долину, с искренним убеждением сказал:
— Вот дураки студенты, от такой красоты удрали.
На восточном конце Бахтинского кряжа была заимка Гайсы. Там путешественники ночевали.
После Бахтинских гор проехали населенную равнину и двинулись по долине реки Кара-Китат. Дорога поднималась вверх к перевалу Хабар-Асу. Путь становился все круче, шли медленно, а на ночлеге изрядно мерзли. Хотя стоял июль, на больших высотах уже ударяли морозцы.
Тарбагатай был таким же ступенчатым горстом, как многие горы Джунгарии. Вдоль гребня шла довольно широкая дорога, по которой обычно двигались кочевники. Этой дорогой проезжал Потанин и описал ее, поэтому Обручев избрал другой путь, и его отряд спустился с перевала Хабар-Асу к северу. Тут путешественники увидели, как кочевники казахи спускаются с высотной летовки, где стало уже холодно. Величественно шагали верблюды, неся на спинах войлоки, разборные решетки юрт и всякий домашний скарб. На этой поклаже восседали женщины в белых высоких головных уборах, с маленькими детьми на руках. Мужчины на конях гнали перед собой табуны лошадей йогурты мычащего и блеющего скота, а жизнерадостное племя мальчишек, тоже верхом, с криком и хохотом носилось вокруг.
Отряд прошел вдоль северного подножья Тарбагатая, а затем вторично пересек хребет.
Не раз во время путешествия отряд переходил границу и оказывался то в пределах Китая, то снова на русской земле. Охраны нигде не было, и, когда у перевала Кузеунь они выехали к таможенному посту, Сережа очень смеялся. Зачем людям ездить этой дорогой и платить пошлину за товар, когда его свободно можно перевозить через границу в другом месте?
Они осмотрели верховья реки Сары-Эмель, и Обручев не в первый раз за эту поездку убедился в ошибке существующих географических карт. Там, где был изображен большой горный узел, от которого в разные стороны расходились реки, оказалась котловина. В ней был расположен русский пограничный пост. Офицер и солдаты выбежали навстречу путешественникам. Для них было большой радостью повидать русских.
Здесь на посту Обручев оставил ишаков с их хозяевами и отправился на китайскую сторону, в горы Тепке. Спустившись с перевала, остановились на реке Дя-Мунгул, возле брошенной буддийской кумирни Матени. Вдоль реки выстроились высокие лиственницы, словно специально посаженные. Полоса деревьев выбегала из ущелья в хребте Саур. Вся местность с развалинами кумирни, где ухали совы, была полна тихого очарования. Эти лиственницы оказались последними. Дальше в горах встретятся только казачий можжевельник, кое-где береза, осина, верба.
От подножья высокой стены гор Саура, куда отряд пришел на следующий день, поднимались вверх по ущелью и видели ледниковые морены — валы серого щебня. Когда-то ледник спускался с вершин Саура до этих мест. Хотелось подняться до теперешнего ледника, его языки были хорошо видны на вершинах Мус-Тау, возвышающихся за вечными снегами Саура, но, конечно, это было не по силам экспедиции...
Осмотрели еще хребет Манрак, Здесь на северном склоне Обручев нашел третичные отложения с окаменелостями — остатками рыб. С Манрака спустились по ущелью и закончили свой поход в Зайсане, городке, похожем на украинское село с белыми мазанками и садами.
На прощание Гайса и Абубекир получили от Обручева в подарок по лошади и уехали в Чугучак, а Владимир Афанасьевич с сыновьями к концу августа прибыл в Томск.
Елизавету Исаакиевну и маленького Митю нашли в добром здоровье. Старшие сыновья окрепли и возмужали за лето. Владимир Афанасьевич, освеженный поездкой, несколько отошел от тяжелых впечатлений минувшей зимы и думал с новыми силами взяться за работу, но вскоре убедился, что эта видимость спокойствия обманчива. На тяжелые впечатления российская действительность никогда не скупилась.
За время отсутствия Обручева в Томске произошли очень серьезные события.
В июне и июле собирались митинги то в роще Каштак, недалеко от города, то в лесу на берегу реки Басандайки. На большой массовке около станции Межениновка была принята резолюция солидарности с восставшими рабочими Одессы, Лодзи, Иваново-Вознесенска, Сормова. С этой массовки возвращались в город многолюдной демонстрацией с пением революционных песен. Полиция была растерянна. Полицмейстер доносил губернатору: «Помешать войти в город Томск всей собравшейся массе и сорвать демонстрацию не удалось».
Пятого июля состоялся открытый, очень многолюдный митинг на могиле Иосифа Кононова, где поставили памятник на средства, собранные рабочими. И сейчас Же после этого митинга началась забастовка. Кончилась она победой рабочих. На многих предприятиях повысили заработную плату и выплатили пособие за дни забастовки. Из тюрьмы выпустили арестованных.
К осени Томск, Красноярск и другие города Сибири присоединились к революционному движению всей страны. Началась всероссийская, а в Томске — общегородская забастовка. Забастовали и высшие учебные заведения. Занятия в Технологическом институте прекратились.
Царский манифест от 17 октября никого не обманул. Томские большевики разъясняли рабочим, что обещанные царем демократические свободы — один обман, стремление выиграть время для разгрома движения.
20 октября по городу прошла необычная демонстрация. Говорили, что в соборе служил молебен сам архиерей, и после этого по улицам потянулись толпы ражих молодцов и бородатых мужчин с портретами царя и иконами. В рядах демонстрантов многие узнавали полицейских агентов, мясников, купеческих сынков и тех подозрительных личностей без определенных занятий, которые в обычные дни слонялись по городу и нередко скандалили близ питейных заведений. Многие и сейчас были явно подвыпивши.
— С иконами идут, как бы погрома не было... — услышал Обручев испуганный шепот и, обернувшись, увидел двух девушек-курсисток. Он знал, кто они:- темноглазая тоненькая — Оленька Кирнес, а вторая, с толстыми золотыми косами — Надя Сабурова, дочь врача. Часто он встречал их в театре, на Публичных лекциях, на улицах, всегда в одной и той же шумной и, по-видимому, очень дружной компании: его студент Борис Велин, невысокий медик Элиашберг, статный юрист Викилинский, еще какие-то барышни и молодые люди.
Владимир Афанасьевич хотел спросить девушек, на чем основаны их предположения, но они, узнав профессора Обручева, смутились и быстро отошли.
Обручеву самому очень не понравилась эта «патриотическая» демонстрация, и он вернулся домой с тяжелым сердцем.
Подсев к кроватке болевшего Миги, он стал играть с мальчиком в «китайские ворота» — настольную игру, очень любимую детьми.
Звонок прозвучал так резко и отрывисто, что Обручев, не ожидая, пока откроют, сам бросился в переднюю.
Это был Григорий Николаевич Потанин, взволнованный до того, что руки его дрожали, когда он пытался расстегнуть пальто.
— Григорий Николаевич, что с вами?
Обручев знал, что Потанину уже семьдесят лет, что он часто прихварывает. И в первую минуту подумал, что старик заболел.
Он заботливо помог ему снять пальто и ввел в комнату.
— Что делается, Владимир Афанасьевич, что делается! — громко и возмущенно заговорил Григорий Николаевич. — В управлении Сибирской железной дороги пожар, страшный пожар. Сейчас все скажу...
Передохнув, Потанин рассказал, что в этот день в управление пришли рабочие получать жалованье. Их там надолго задержали. А в театре возле управления шел митинг.
— Ну да, и у нас в Технологическом сегодня выборы.
— Так ведь начальство знает, кого выберут. Будущую городскую думу недаром называют революционным самоуправлением. Словом, охранники не дремали, вооружались... Говорят, епископ Макарий благословил их на расправу с рабочими. Демонстрацию блюстителей порядка видели сегодня?
— Видел, а что?
— А то, что эти молодчики в руках несли царские портреты, а в карманах оружие. Окружили управление и театр. Туда студенты кинулись из Технологического... боевая дружина, тоже с оружием... перестрелка началась. Сначала рассеяли черносотенцев, а потом к тем на помощь казаки подошли. Студенты и рабочие забаррикадировались в доме. Военный комендант туда прибыл, предложил сдаться, обещал, что всех живыми препроводят в тюрьму. Но они держатся твердо. Тогда погромщики ворвались в первый этаж, а все, кто был в доме, отошли на второй.
Потанин охватил голову руками и застонал.
— Ну, ну, говорите же!..
— В нижнем этаже из мебели и книг сложили костер и подожгли. Выйти из дома нельзя. Пожарным тушить запрещено. В тех, кто спасается на крышу или по водосточной трубе хочет спуститься, стреляют. А кто выбегает, оглоблями бьют... У каретника поблизости все оглобли растащили... Ваших там много, в окна видно... Борис Велин, Петров, Селихов... Медик этот черненький — Элиашберг — помощь подает раненым, сам ранен, кажется... Да куда же вы, Владимир Афанасьевич?
— Я пойду туда.
— Напрасно, голубчик, напрасно, не пропустят!
Но Обручев не слушал ни Потанина, ни Лизы,
в слезах выбежавшей в переднюю. Его ученики, рабочие гибнут там, задыхаются в дыму... Борис Велин, худой, высокий, с горящими цыганскими глазами, его студент... Обручев всегда думал, что в будущем оц станет замечательным геологом.
Горящее здание было тесно оцеплено войсками. Обручева и близко не подпустили. Он простоял вместе с плачущей, кричащей толпой за кольцом из серых шинелей до вечера. Осажденные перешли уже в верхний этаж. В каменном доме выгорали полы, двери, оконные рамы. Густо валил дым, вырывались языки огня.
Ночью боевая дружина договорилась с солдатами и через двор ушли те, кто уцелел. Охранники заметили побег и открыли огонь. Но студенты и рабочие с боем прорвались через стену осаждавших, унося раненых, уводя ослабевших.
Еще два дня бушевали в Томске погромщики. Святейший синод был доволен вдохновителем расправы — томским епископом Макарием. Он получил сан митрополита Московского.
А в бороде и шевелюре Владимира Афанасьевича появилось множество серебряных нитей.
Не в первый раз он тут явил
Души прямое благородство.
— Папа! Там впереди город!
Взволнованный Сергей подскакал к отряду, размахивая белой войлочной шляпой.
— Посмотрим, — Обручев подогнал коня. Усов, Гайса и Абубекир поспешили за ним.
Они спустились с горной цепи Хара-Арат. Тропа вилась меж скалистых невысоких гор и холмов, подернутых пустынным лаком. День уже угасал, и пышное солнце медленно кренилось к горизонту, обливая легкие облака розовато-золотым сиянием.
— Ну вот! Ты видишь, папа, видишь?
— Да, да... Удивительно. Только это не город, Сережа. Не человеческими руками все это воздвигнуто.
Всадники выехали из гор, и перед ними открылись ярко освещенные закатными лучами развалины. Высоко поднимались стройные шпили башен, приземистыми громадами стояли огромные квадратные здания.
— Улица! Смотрите! Сюда, сюда!
В город въехали по плоскому оврагу, и вправду похожему на улицу. От большого оврага ответвлялись более узкие — переулки. Вокруг высились башни, дома, колонны. Стены высотой в три-четыре сажени наверху заканчивались карнизами. Кое-где в стенах виднелись крепко засевшие шары.
— Ядра! Пушечные ядра! — заволновался Сергей. — Может быть, бомбардировка была?
Он с надеждой взглянул на отца.
— Да, — отозвался Обручев, — очень похоже. В стенах старых ревельских башен я видел такие. И все-таки люди здесь никогда не жили, и никакая бомбардировка не происходила.
— Но как же... Кто все это сделал?
— Ветер, ветер, Сережа.
— Полное впечатление города, — сказал Усов. — Дома светло-розовые, желтые, зеленоватые... Словно по-разному окрашены. Поразительно!
— Темно скоро станет, — перебил Гайса. — На ночь устраиваться надо.
По-видимому, Гайса и Абубекир неуютно чувствовали себя в этом фантастическом городе. Они все время оглядывались, будто опасались, что за ближайшей стеной притаился кто-то недобрый.
— Верно, — сказал Владимир Афанасьевич. — Давайте выедем на простор.
Но пока выехали из развалин на обширный солончак с буграми, покрытыми тамариском, совсем стемнело. Гайса потерял дорогу. Он беспомощно всматривался во мрак, ругался и досадовал на себя, но отыскать путь не мог.
— Ночуем здесь, — решил Обручев. — Воды и корма для ишаков и коней нет. Ну, что же делать, потерпят до завтра. Развьючьте их, только не отпускайте. А для чая вода у нас найдется?
— Чаю напиться хватит.
Запылал костер, сели ужинать. Ночь была очень теплая, тихая.
— Звездно как! — заметил Усов.
— Нам в этом году везет, — весело сказал Сережа. — Сколько чудес видели!
Обручеву нравилось оживление сына. Похоже, что Сергей по-настоящему будет любить путешествия и геологию.
— А ты все чудеса запомнил? — спросил он.
— Ну конечно! Голова великана, те глыбы точь- в-точь как два моржа... Гранитный огромный камень на четырех ножках, косые башни из песчаника, Шайтан-Обо...
— А ведь тот холм на Джаире действительно на шайтанские обо похож, — засмеялся Усов. — Такие громадные каменные шары друг на друга взгромоздить только шайтан мог...
— Не надо шайтан к ночи поминать, — боязливо заметил Гайса.
— Но самое замечательное — этот город, — продолжал Сергей. — Папа, неужели мы завтра уйдем отсюда?
— Успокойся. Пробудем сколько нужно, чтобы все осмотреть и изучить. А теперь спать! Я думаю, палаток ставить не стоит. Тепло.
Свое второе путешествие в Пограничную Джунгарию Обручев предпринял летом тысяча девятьсот шестого года. Всероссийская забастовка высших школ продолжалась. Владимир Афанасьевич был свободен и с наступлением тепла отправился в Чугучак. С ним были только студент Михаил Усов — талантливый юноша, с увлечением изучавший геологию, и пятнадцатилетний Сергей.
Зима этого года была тяжелая. Продолжались забастовки и митинги. В декабре узнали о московском вооруженном восстании, а вслед за этим — о красноярском.
И в Томске, конечно, вспыхнуло бы восстание. О нем многие говорили как о деле решенном, но правительство собрало свои силы и перешло в наступление. Начались обыски, аресты, расправы. Кого взяли зимой, кого в мае, как молодого Кострикова. Приказ Трепова[19] — «Холостых залпов не давать, патронов не жалеть» — в Сибири выполняли генералы Ренненкампф и Меллер-Закомельский. Множество людей было брошено в тюрьмы.
Разгул реакции не заставил Владимира Афанасьевича впасть в уныние. Настоящего положения вещей он, как человек, лично не участвующий в революционной борьбе, не знал, но его не покидала глубокая уверенность, что это не конец, что растут в стране молодые силы и придет час им действовать.
Но слышать каждый день о новых арестах и казнях было тяжело, невыносимо...
На самого Обручева все подозрительнее смотрел попечитель учебного округа Лаврентьев. Этот чинов- ник-сухарь невзлюбил Владимира Афанасьевича, как и многих томских профессоров. Вольнодумцы! В соборе ни в дни тезоименитств августейшего семейства, ни в двунадесятые праздники их не увидишь. С визитами к попечителю учебного округа не являются. Да еще этот Обручев выставляет кандидатуру Потанина в почетные члены Томского технологического института!
Потанину, видите ли, исполнилось семьдесят лет и лучшего знатока географии и геологии Сибири трудно найти. А что этот «знаток» находился под судом и следствием, в крепости сидел — это господин Обручев учитывает?
Попечитель учебного округа в докладной записке в министерство народного просвещения так и написал, что это избрание — «непростительная демонстрационная выходка».
Говорят, что Обручев, председатель Общества изучения Сибири, и здесь усердно ратовал за то, чтобы председателем был Потанин. Слава богу, тот сам отказался, решил, что лучше ему быть товарищем председателя. Понял, должно быть, что такой глава, как он, сразу навлечет на общество подозрение в неблагонадежности...
А то недолгое время, когда Обручев замещал уволенного и высланного директора Технологического института Зубашева! Немедленно воспользовался своим директорством... Под его председательством проходил совет института, на котором вынесли постановление ходатайствовать о приеме «число студентов женщин, а пока министерство будет решать вопрос, принять их как вольнослушательниц на первый курс сверх нормы. И ведь приняли! Двадцать три девицы были зачислены! Институтский совет и дальше пошел: признал изучение богословия для технологов не обязательным. Это все, несомненно, Обручев. Передают, что он не раз говорил, будто сам очень жалеет о времени, потраченном на изучение богословия в Горном институте.
А эти дерзкие фельетоны и статьи в томской газете, подписанные «Ш. Ерш»? Остроумно, конечно, по-французски получается «шерш» — ищи! Нечего искать. Кто не знает, что автор этих вещей Обручев!
Все, что думает и говорит о нем Лаврентьев, Владимиру Афанасьевичу было хорошо известно. Он понимал, что рано или поздно с ним сведут счеты, но вести себя по-другому не мог. Часто он слышал, что его называют скромным, простым, доступным, добрым, деликатным. Но те, кто не скупился на лестные эпитеты, часто не знали, что добрый и деликатный Обручев кривить душой не станет ни при каких обстоятельствах и самое грозное начальство не заставит его поступать вопреки убеждениям.
В путешествии он понемногу отрешался от всех томских событий и находил утраченное душевное спокойствие.
В Чугучаке по-прошлогоднему радушно встретил его консул Соков и опять сделал для экспедиции все, что было возможно. Трогательно обрадовались Гайса и Абубекир. Ни минуты не раздумывая, они согласились опять сопровождать путешественников.
Отряд пошел на восток по реке Эмель и пересек долину, отделяющую горы Барлык и Уркашар от гор, вернее плоскогорья Джаир. Здесь в ущельях им попадались интересные вулканические породы — мела- фиры. Они были чудесного темно-лилового цвета, а одна среди них в точности походила на голову великана с глазницами и ртом. Поднимаясь на самый верх ступенчатого Джаира, любовались причудливыми скалами, которые запомнились Сергею. В долине реки Ангырты видели бывшие золотые разработки, брошенные шахты и поселки. Обручев решил, что граниты Джаира, охлаждаясь на большой глубине, трескались и пропускали горячие пары и газы, насыщенные растворами кварца и золота. Они-то и отложились в трещинах, где образовались изломанные жилы кварца с золотыми вкраплениями.
Очень часто попадались слои песчаника, пропитанного нефтью, а у подножья Джаира Обручев нашел и выходы жидкой нефти и асфальтовые холмы, состоящие из уже выветрившейся затвердевшей нефти и песка. О том, что в Джунгарии имеется нефть, до сих пор никто из геологов не знал. Но оказалось, что здесь люди об этом богатстве осведомлены и даже собирают его, хотя и очень кустарно. Гайса рассказал, что в этих местах долго жил в одиночестве китаец, совсем как отшельник. Он обходил холмы, ложкой собирал из ям нефть и продавал ее людям из Чугучака. Они изредка приезжали за ней с большой бочкой. Нефтью смазывали колесные оси, жгли ее в светильниках, асфальтом заливали полы.
В поселке Чумпадзе видели золотопромывочную фабрику. Ее директор — китаец принял их на ночлег охотно и даже съездил с гостями на рудник, где Обручев не упустил случая спуститься в шахту. Как обычно, бедное, полуразоренное хозяйство...
Поднимались на перевал Салькен-Тай, затем по долине реки Кобу дошли до гор Семистай. Там видели следы древнего оледенения и чуть не были затоплены внезапно разлившейся от дождей рекой Кобук. Потом — горы Хара-Сырхэ и Хара-Арат, и вот они здесь, на этом солончаке, у стен странного города...
Экспедиция этого года, идет на редкость слаженно, спокойно и приносит много замечательного материала. Завтра исследование города... Сережа правильно сказал — чудо. Все время кажется, что действительно идешь по вымершему городу. Когда-то здесь шла жизнь, а теперь ни души, только ветер гуляет. «Где ныне мчится лишь эол — жилец небес», — вспоминает он Пушкина. Людей здесь никогда не было, а эол, мчась века и века, через дикие холмы, создал необыкновенный город... Так и нужно назвать это место — эоловый город.
Довольный так удачно придуманным названием, Владимир Афанасьевич крепко и спокойно уснул.
Встали все на заре. Прежде всего нужно было выбрать место для лагеря, позавтракать и напоить животных. Гайса повел их к востоку, где сравнительно недалеко от реки Дям виднелась большая роща. Он уверял, что там есть колодец.
Но вода сильно пахла тухлыми яйцами, была мутна и солоновата. Лошади и мулы, измученные жаждой, почти не притронулись к ней.
— Нет, так дело не пойдет, — сказал Усов.
— Зачем говорить «не пойдет дело»? — горячился Гайса. — Не только пойдет — побежит бегом. Сейчас чистить будем. Тут зимовка у калмыков. Теперь они в горы ушли на летовку, воду никто не берет, протухла... Давай, Абубекир!
Воду вычерпали до дна, покрытого густой, с отвратительным запахом грязью. Мускулистый, загорелый Абубекир разделся и, ухмыляясь, спустился в колодец с лопатой и ведром. Понемногу он вычерпал всю грязь и вновь набравшуюся воду. Подождали немного, и в колодец просочилась вполне сносная вода. Животные пили долго и жадно, а следующая порция воды, добытой из колодца, годилась и для чая.
— Ну, а теперь в эоловый город! — скомандовал Обручев. — Гайса, а как его здесь называют?
— Место называется Орху. И говорят, что город построили злые духи.
— Ну, так едем смотреть их постройки.
При дневном свете эоловый город казался не менее фантастическим, чем в сумерки.
Глинистый мелкозернистый песчаник — сравнительно мягкая порода. Поэтому выветривание и создало здесь столько удивительного. Никогда еще Обручев, повидавший в своих поездках немало причудливых «ветровых скульптур», не видел такого множества их в одном месте. Город занимал несколько километров. Он был прорезан улицами и переулками, выдутыми ветром. Были даже площади. В центре города возвышался большой откос, разрезанный ложбинами. Отдельные части его, неодинаковой высоты, походили на громады старого замка, с крышами разного уровня, с колоннами и бойницами. Близ этого «Замка хана» стояла большая квадратная башня. Ее назвали Бастилией. Было много «памятников», «часовен», «сфинксов». Одна громадная фигура напоминала сидящую закутанную женщину.
— Колдунья! — решил Сергей.
— А это наковальня, — указал Владимир Афанасьевич на башню с широким основанием.
— А. вот башня-седло, — продолжил Усов.
В серо-желтых и розоватых песчаниках было много известковых конкреций. Они имели вид круглых пушечных ядер, а твердый мергель образовывал карнизы на вершинах колонн и стен. Плитки прозрачного гипса на земле так напоминали осколки стекла, что люди невольно поднимали головы, чтобы увидеть окно с выбитыми стеклами.
На окраине приютилось «кладбище» — совершенное подобие часовни и мавзолеев вокруг нее. А в стороне от города, ближе к роще, где стоял лагерь, тянулась полуразрушенная стена и за ней какие-то постройки. Была видна даже дымовая труба. Вероятно, это место Певцов и назвал «фортом» на своей карте, снятой вблизи отсюда. Но близко к мнимому «форту» его экспедиция не подошла.
Несомненно, отложения, из которых образовался эоловый город, относятся к меловому периоду. Они не похожи на юрские и третичные породы, наиболее часто встречаемые в Пограничной Джунгарии. А множество конкреций доказывает, что здесь, несомненно, должны быть окаменелости. Известковые стяжения часто образуются вокруг какого-то органического тела или его остатков. Здесь же так много было и «пушечных ядер» и других конкреций разных форм... Обручеву и Усову, правда, ничего не удалось найти, кроме кусочков породы, сохранивших форму раковин пресноводных моллюсков. Когда-то эти створки моллюска были заполнены породой, потом уничтожились, но спрессованная порода сохранила их очертания. Однако Владимир Афанасьевич был совершенно уверен, что в будущем хорошо снаряженная экспедиция найдет здесь немало интересного.
Пять дней отряд простоял в тополевой роще. Утром отправлялись в город. Обручев фотографировал, описывал, собирал образцы, Сережа и Усов делали маршрутную съемку. Ни разу не видели в городе ни одного живого существа. Только там, где росли скудные кусты, порой шмыгали ящерицы, вспархивали мелкие птички, да на пыли переулков виднелись волчьи следы. Мертвая тишина, пустыня...
Около города опять нашли асфальтовые жилы. Нефть застыла в многочисленных трещинах. Асфальт был не такой, как в холмах Джаира, — более твердый и хрупкий. Он хорошо горел, плавился в огне и давал много копоти. Подкидывая в костер черные блестящие комки, Владимир Афанасьевич не помышлял о том, что этот асфальт через несколько лет будет назван обручевитом.
Уезжать из эолового города очень не хотелось, но путешественников ждали новые места.
Двинулись по реке Дям, изучая ее терние. На три дня останавливались близ выхода Дяма из ущелья хребта Салькен-Тай и занимались коренными породами, в которых нашли пласты угля. Владимир Афанасьевич увидел здесь прекрасно сохранившиеся отпечатки растений юрского периода и очень жалел, что не может увезти камень с оттиском большого хвоща, но такую тяжесть нельзя было взять с собой. Потом изучали горы Уркашара и Коджура, ночевали на высотах, где их пробирало холодом. Владимир Афанасьевич охотился на горных индеек — уларов. Иногда разделялись — Сергей шел на реку Эмельчик искать окаменелости, Усов на гору Коджур, Обручев — в долину к истокам реки Кобук. По горной гряде Кайкан дошли до высоты Джилантель, что значит «змеиный язык».
Массив Коджур и северная часть Уркашара в самом деле были похожи на пасть огромной змеи, а из нее высовывался, словно язык, Джилантель. Отсюда по долине Эмеля дошли до Чугучака. Путешествие кончилось.
«Экспедиция 1906 года дала мне гораздо больше интересных наблюдений, чем первая. Я познакомился с золотыми рудниками Джаира, с асфальтовыми холмами и жилами, с юрской угленосной свитой, с оригинальным эоловым городом, с долиной реки Кобук и высокими ступенями Уркашара. Но мало были изучены посещенные во время первой экспедиции хребты Барлык и Майли, манил к себе еще Джаир с его своеобразными особенностями, а обширная впадина между Уркашаром, Джаиром и Кара-Аратом, часть которой называлась пустыней Сырхын, требовала дополнительных исследований, чтобы можно было дать более полную характеристику зарубежной части Пограничной Джунгарии. Нужно было сделать по крайней мере еще одну экспедицию».
Так писал Обручев о своих странствиях по Джунгарии. Но пока о новой поездке нечего было и думать. Средства, отпускаемые на экспедиции, у Технологического института очень невелики. Два года ими пользовался Обручев, теперь очередь других профессоров. Надо подождать.
Занятия в институте после долгого пропуска возобновились, дела много. Окружающая жизнь не радует. Карательные отряды на Алтае, в Томске продолжаются аресты. Да, отдохнуть не мешает... Владимир Афанасьевич старался вспомнить, когда он, собственно, отдыхал, и не мог. А Елизавета Исаакиевна в последнее время особенно упорно настаивала на отдыхе, и его всякий раз поражали нередко повторяемые слова: «Ты уже не молоденький»...
Сын Владимир окончил реальное училище и был принят в Томский технологический институт, Ему тоже следует сил набраться.
Ну хорошо, они поедут куда-нибудь к Финскому заливу, поближе к Полине Карловне.
Поехали в Шмецке под Нарвой. Были там задумчивые, пахнувшие смолой и солнцем сосны, мягкий береговой песок и спокойные воды Балтики. Но...
Владимир Афанасьевич писал статью о Пограничной Джунгарии для географического журнала. В экскурсии по окрестностям с сыновьями он, конечно, ходил, нельзя ведь не знать, на какой земле живешь, но ни в каких развлечениях не участвовал.
Летний отдых пролетел незаметно, и снова начались лекции, подготовка к ним, статьи, переводы... Проходят годы в этой работе, а ее не становится меньше. Или права восточная поговорка — один добросовестный, усердный человек выполняет на земле больше, чем двадцать равнодушных и ленивых?
В редкие свободные часы Владимир Афанасьевич делал прогулки по окрестностям Томска и сетовал на го, что не мог подробно изучить интересные обнажения высокого правого берега Томи. «Обычное явление, — с горечью писал он, — изучение того, что находится под самой рукой, — откладывается все время и в конце концов не совершается». Однако основное строение берега он уяснил себе.
В 1908 году Обручев организовал геологическую летнюю практику в окрестностях Красноярска для студентов, перешедших на последний курс. Ему хотелось впоследствии составить геологическую карту этих мест, интересных по своему строению, и он надеялся, что практика будет началом работы. Студенты осматривали низовья речки Базаихи, изучали толщи кембрия и докембрия, потом перебрались ближе к красноярскому чуду — «столбам» — скалам из гранита и сиенита, всегда привлекавшим множество туристов.
Очень высокие голые громады действительно имеют форму столбов, но каждый свою. И название у каждой свое. «Чокмак» вылезает громадным грибом из горы; «Столб второй» как бы сложен из отдельных каменных плит; «Перья» — ряд сомкнутых наклонных скал, заостренных к вершинам; «Подушки» — на самом деле гора каменных подушек; «Дед» — голова старика...
Лагерь был устроен на тихой лужайке, откуда начиналась дорога к столбам. Тут Владимир Афанасьевич познакомил будущих геологов и горных инженеров с устройством палаток разных типов: монгольских — похожих на двускатную крышу, турецких — конусовидных с одним поддерживающим шестом, датских — домиков со стенами под крышей в два ската и японских — шестигранных с куполом. Шумная молодая компания разместилась в этих походных жилищах.
По утрам все разделялись на группы по два человека, получали задания, инструменты и отправлялись в маршрут. Делали геологическую съемку, собирали образцы, составляли топографические карты и вели записи. Владимир Афанасьевич и его лаборант Гудков обходили студентов и помогали им. Служитель институтского геологического кабинета в это время варил обед. Вечером писали и проверяли дневники, нумеровали и описывали образцы пород.
В бурные дни 1905 года «столбисты» — так называли молодых любителей скалолазанья, проводивших свой летний досуг на «столбах», водрузили на одной из вершин красный флаг. Он гордо реял по ветру, словно ободряя красноярцев. Тогда же в самых неприступных местах были выведены красной краской революционные лозунги. Жандармы долго бились, чтобы снять мятежный стяг и уничтожить крамольные надписи, но так и не смогли стереть все. На большой высоте Обручев и его ученики видели крупные красные буквы лозунга «Долой самод...».
Многие студенты, ездившие на «столбы», вспоминали годы спустя об этой летней работе под руководством Владимира Афанасьевича. В своих отзывах о нем все сходились: требователен, суров к лентяям, но бесконечно участлив и полон доброго внимания к тем, кто работает с увлечением.
Лето 1909 года принесло радость. Удалось вырваться из угнетающих тисков реакции, особенно заметной в университетском городе, на волю, в кочевую независимую жизнь. Осуществилась третья поездка в Джунгарию. С Обручевым поехал снова Михаил Антонович Усов, теперь уже окончивший институт и оставленный при геологической кафедре, будущий ученый. Сын Сергей, приехав домой на каникулы, — он уже обучался естественным наукам в Московском университете, — тоже захотел ехать с отцом, решив самостоятельно вести маршрутную съемку.
Очень расположенного к Обручеву консула Сокова в Чугучаке уже не нашли, он перевелся служить в Россию, но его преемник встретил экспедицию доброжелательно. Гайса и Абубекир радостно приветствовали старых друзей и оживленно стали готовиться к новой экспедиции, покупали лошадей, ишаков, заготовляли продукты.
На этот раз отряд по степи дошел до ручья Сары-Булак в западной части Барлыка. Здесь расстилались заросли камыша, подле них и поставили палатки. Невдалеке виднелся китайский пограничный пост, но когда Обручев заглянул туда, то оказалось, что бдительные стражи крепко спят. Только к вечеру они проснулись и пришли к путешественникам. Их угостили чаем и баурсаками, еще не успевшими зачерстветь. Эти шарики из теста, зажаренные в жире, были в большом ходу у путешественников — они годились вместо печенья к чаю, а иногда и вместо хлеба.
По долине Сары-Булака поднялись на перевал через Барлык и долго обследовали эти горы, то сходя в седловины, то обходя отдельные вершины, то взбираясь на них, затем спустились в долину реки Тасты, где Обручев нашел остатки морены древнего ледника. В пути он осматривал растительность и заметил, что ель в лесах Барлыка сплошь голубая, тяньшанская, а лиственницы, как на Тепке, Сауре, Уркашаре, нет совсем. В Джунгарии растет и голубая ель и лиственница — типичное дерево Алтая, но они не соседствуют, их владения отделяются друг от друга Тарбагатаем и Коджуром, где растет единичными купами, похожими на клумбы, только казацкий можжевельник.
В горах Кер-Тау между хребтами Барлык и Майли было много интересных наблюдений, в ущелье, по которому шли, видели множество обнажений, а на гребне — снеговые поля и каменные россыпи. Росли тут только лишайники и мхи. Огромный кар — углубление на высоте горного склона — хранил в своей глубине гряды щебня и пятна снега. Обручев решил, что здесь когда-то начинался большой ледник, простиравшийся до долины реки Чурчут.
По хребту Майли шли более западным путем, чем в первой экспедиции. Сначала пересекли район раздробленных в кашу горных пород и, выйдя в долину реки Суур, пересекли среднюю ступень хребта. Обручев понял, почему Майли издали казался ему совсем ровным: хребет состоял из трех ступеней, все они были тускло-желтого цвета и на большом расстоянии казались одним широким увалом.
Горы Майли были старательно изучены, и путешественники решили, что по составу горных пород они довольно однообразны. Следовало бы еще раз побывать на Джаире. Этот хребет гораздо интересней. Сначала поднялись на высшую ступень Джаира и шли по кочевой дороге, потом повернули вниз по реке Четь-Бегуты и выяснили, что Майли и Джаир разъединены большим разломом, по которому пролегает китайский тракт. Обручев и Усов все время делали самостоятельные экскурсии в сторону от главного пути.
После мелкосопочника и неглубоких, усыпанных щебнем котловин очутились в полосе настоящей пустыни и там увидели странный одиночный холм. Этот черный конус резко выделялся на ровной поверхности. Несколько дальше стоял второй такой же. Оказалось, что первый был сложен твердой кремнистой породой и казахи откалывают куски ее для огнив, почему холм и называется Чокмак-Тас. «Чокмак» по-казахски — «кремень». Второй холм был из черного змеевика. Обручев установил, что обе возвышенности — массивы ультраосновных пород и расположены на разломе, по которому из недр могли подниматься изверженные породы.
Из Джаира вышли по долине реки Дарбуты, теперь пересохшей, и направились по гладкой черной пустыне к горам Кара-Арат. Тут установили, что эти горы были когда-то соединены с южной ступенью Джаира, но река Дям размыла хребет, пробивая себе русло.
Идя на восток к Кара-Арату, решили вновь посетить эоловый город. Владимир Афанасьевич удивил своих спутников великолепной памятливостью путешественника. Они вышли к городу с другой стороны, но он безошибочно привел караван в рощу, где останавливались три года назад, и нашел место старой стоянки.
Здесь все было по-прежнему. И удивительный город .встретил их тем же молчанием, пустынными улицами, покрытыми мелкой пылью со следами дзеренов и волков, угрюмыми башнями и дворцами, в которых никогда не жили люди.
Это место стало для путешественников родным, они узнавали уже знакомое и открывали новое.
«Первоначальное расчленение свиты мезозойских отложений восточной окраины Орху было создано деятельностью воды — проточной и стоячей...» — писал об эоловом городе Обручев.
«Но главную работу в настоящее время производит ветер, которому помогают атмосферные осадки — редкие, но сильные дожди. Эти деятели расчленили свиту мезозоя, врезая в нее многочисленные лога, превращая последние в овраги, разрезая столовые высоты на отдельные холмы — башни и столбы, т. е. останцы, которые постепенно разрушаются и дальше.
Ветер работает повсюду, где находит благоприятные условия: сдувая зерно за зерном из пластов рыхлого песчаника в отвесных Обрывах, стенах, башнях, он постепенно уносит громадные толщи в виде песка; поддуваемые пласты твердых глин и многочисленные твердые конкреции постепенно выдаются все больше и больше среди рыхлых песчаников, и, наконец, конкреции вываливаются, нависшие части твердого пласта глины или песчаника открашиваются и откалываются, и на время восстанавливается вертикальность данного участка обрыва. Колебания температуры помогают отделению песчинок, распадению глин. Так постепенно уменьшаются, тают эоловые столбы, башни, но вблизи возникают новые, на краю столового холма, на откосе уступа между двумя оврагами создается новая башня; толстая башня постепенно превращается в тонкую, а последняя в столб; лишившись, наконец, увенчивающей его плиты более твердой конкреции или пласта песчаника, столб заостряется сверху и превращается в обелиск, последний понижается и притупляется. При наличности большого количества твердых конкреций башня превращается в столб более прихотливой формы.
Но этот процесс, по-видимому, идет очень медленно, несмотря на силу и обилие ветров. Доказательством этого могут служить два снимка, сделанные с одного и того же объекта с промежутком в три года. Сравнение очертаний обеих эоловых форм 1906 и 1909 гг. показывает, что за три года последние не претерпели существенных изменений».
На обратном пути подошли к озеру Улусту-Нор. Певцов отметил его на своей карте и писал, что в озеро впадает большой ручей Улусту-Булак. Ручья уже не нашли, он пересох, и лишь маленький источник журчал на его месте. Не было и озера, только впадина тянулась на несколько километров. С путешествия Певцова прошло девятнадцать лет.
Заросли сухого камыша покрывали бывшие заливы, и Владимир Афанасьевич не мог отказать себе в удовольствии поджечь камыш. Огонь быстро побежал по сухим стеблям, и Обручев, отъехав немного в сторону, сфотографировал горящий камыш.
— Папа это любит, — сказал Сергей на удивленный возглас Гайсы.—Он ведь всегда в походе жжет валежник, без костра вечером приходит в плохое настроение...
По маршруту Певцова прошли западную часть пустынных, «печальных», как называл их Обручев, гор Кара-Арата. Унылая черная пустыня, кое-где серые такыры, щебень, никакой растительности.
Пустыня Сырхын-Гоби отделяет Кара-Арат от хребта Семистай. Это бель, то есть пьедестал Семи- стая, образованный из пролювия, вынесенного потоками. Пустынный подъем порадовал путешественников раскраской пород — то бурой, то красноватой, то белой, то желтой и, наконец, черной от пустынного загара.
Близ горы Сейнык оказалось много выходов юрских пород. Пласты песчаников и сланцев были опрокинуты — более древние лежали поверх молодых. Здесь в обрывах с разноцветными полосами можно было видеть разрез юрской свиты, а так как одни пласты были твердыми, а другие мягкими и скорее подвергались разрушению, здесь образовалось много интересных фигур выветривания вроде грибов, столов, черепах.
Теперь Обручев окончательно уяснил себе характер Джунгарского горообразования.
Участки древней палеозойской складчатости перемежались с долинами, занятыми когда-то мезозойскими озерами. Юрские отложения, лежавшие на дне этих озер, под действием сил сжатия в пустыне Сырхын-Гоби были прорваны в послеюрское время длинным и узким клином палеозойского основания. Юрские отложения вертикально встали вдоль палеозойского клина по обе стороны хребта Хара-Сырхэ. Но к западу клин горы Сейнык не прорвал всю юрскую толщу, а приподнял ее и образовал «ящичную», или сундучную, складку, иными словами, гору в виде ящика или сундука.
Уходили с Сейныка через западную часть горы. Прошли мимо огромной каменной глыбы «Голова великана», спустились по руслу реки Дям и снова видели скалу Кызыл-Гэгэн-Тас, о которой Гайса еще в первое путешествие рассказывал, что какой-то молодой гэгэн так усердно служил Будде, что, наконец, решил броситься вниз с этой скалы, уверенный, что божество за праведную жизнь спасет его и не даст разбиться. При огромном стечении народа он спрыгнул, распахнув, словно крылья, широкие рукава красного халата, и, конечно, погиб. По другой версии, молодого гэгэна сбросили вниз ламы, которым он не хотел подчиняться. Как бы то ни было, скала получила название «Кызыл-Гэгэн-Тас» — «Камень красного гэгэна».
Еще раз побывали на хребте Барлык и на южном склоне цепи Каранын-Тау. Здесь Обручев увидел большие скопления лёсса и понял, что песчаная пыль приносится ветром с берегов озер Ала-Куль и Сассык-Куль.
Хребет пересекли по перевалу Чолак и собрали там много девонских окаменелостей. Путешествие окончилось осмотром горы Тюльклю, стоящей отдельно от Барлыка.
Три года странствий по Джунгарии привели Владимира Афанасьевича к выводу, что ни один из хребтов этой страны не относится к системе Алтая. И Тарбагатай и Манрак-Саур принадлежат к складчатым киргизским горам. А Барлык и Майли-Джаур, несомненно, продолжают цепи Джунгарского Алатау — северной части Тянь-Шаня. Никакого «горного узла», показанного на картах, в действительности нет. Горы Джунгарии в палеозое были складчатыми, но в начале мезозоя подверглись денудации, то есть были размыты, а продукты их выветривания унесены водой. Они превратились в волнистую равнину, а когда вновь началось горообразование, равнина пересеклась разломами и превратилась в горы с горстами и грабенами. В грабенах образовались озера, отложения которых относятся к юрскому периоду. При более молодых движениях земной коры горсты поднялись выше, озера в грабенах исчезли, и юрские отложения собрались в складки, кое-где превратившись в ящичные горы.
Оледенения происходили в Пограничной Джунгарии в начале четвертичного периода. Первое было очень сильным, и с гор тогда спускались мощные ледники. Второе оледенение оказалось слабее, при нем ледники покрывали только верхние части гор. Климат, влажный после оледенения, постепенно становился все суше.
Из полезных ископаемых Джунгарии интересны золото в кварцевых жилах Джаира и в россыпях на Майли и Тарбагатае, уголь между Уркашаром и Джаиром и выходы древнего карбонового угля на Барлыке и южном склоне Тарбагатая. Асфальт образует холмы на южном подножье Джаира и в эоловом городе Орху. Нефть, вероятно, находится в пермских или верхнекарбоновых отложениях в Джаире. Отложения эти очень древние, лежат на большой глубине, и та нефть, что выходит на поверхность, проникает из них в верхние слои пород.
Труд был проделан огромный. Обручев выяснил историю геологического развития, палеогеографию и современное состояние почти неизвестной доселе области. Первые два тома дневников джунгарских исследований были выпущены в свет в Томске. Усов составил описание горных пород, а новую карту Пограничной Джунгарии сделал Сергей Обручев. Владимир Афанасьевич очень гордился первым научным успехом сына; но хвалил его, как всегда, сдержанно.
— Представьте себе, Сергей сделал очень недурную карту, — говорил он знакомым.
Педагогическая работа по-прежнему заполняла все время. Обручев стал популярнейшим профессором Томска.
В 1910 году горный инженер Грауман, старый знакомый, работавший теперь в Российском золотопромышленном обществе, предложил Обручеву произвести экспертизу золотого рудника Богомдарованного[20].
Стояла осень, занятия в Технологическом институте уже начались. Владимир Афанасьевич очень досадовал: все лето он провел в Томске, не торопясь готовил к печати второй выпуск геологической карты Бодайбинского района и описание к ней. Что бы Грауману предложить эту поездку летом! Теперь он ехать не может. А дело важное. Золотые россыпи в Сибири уже сильно иссякли. В последнее время все большее внимание обращается на коренные месторождения. Богомдарованный принадлежит богачу Иваницкому. О причудах этого золотопромышленного магната рассказывают удивительные истории. Говорят, что он въезжает на рудник под музыку. Впереди него на особой тройке едет оркестр. А если приезд случается весной или осенью, когда улицы рудничного поселка тонут в грязи, из конторы выносят штуку малинового или бирюзового атласа и расстилают дорогую материю по слякоти. Хозяин шествует в контору по атласной дорожке. Но что думать о чудачествах этого самодура! Видимо, дела его пошатнулись, потому что он хочет продать свой рудник золотопромышленному, обществу. Ехать надо в горы Кузнецкого Алатау. От Томска неблизко... И думать об этом нечего... Впрочем, есть выход, ведь можно произвести экспертизу во время зимних каникул!
И в декабре, едва студентов распустили на отдых, Обручев с Усовым выехали из Томска. До станции Итат — поездом, а дальше на лошадях в кошеве, обитой рогожей. Закутанные в тяжелые дохи, укрытые тулупами, пассажиры неподвижно сидели в глубоких санях, молчали и только по густым облакам пара от их дыхания можно было понять, что они живы.
В селе Чебаки отогрелись, поужинали горячими пельменями, переночевали и утром поехали дальше вдоль заметенных снегом гор, а потом по замерзшей реке Собаке. Нрав у Собаки был строптивый, неуживчивый. Летом она кипела и бурлила, сорвавшись с гор, зимой замерзала неровно со внезапными торосами и полыньями. То и дело приходилось сворачивать на берег и нырять по ухабам выбитой обозами дороги или вылезать из саней и, спотыкаясь, шагать по обледенелому берегу.
Рудник стоял на склоне долины горного ключа. Над ним нависли горы, возносящие до облаков снежные вершины.
Обручев и Усов спускались в шахты, осматривали при свете свечи забои, восстающие ходы — проложенные снизу вверх — и гезенки, из которых кварцевая жила вынимается сверху, так, что ход постепенно удлиняется книзу. Кварц казался то белым, то голубоватым, то желтым, иногда он шел в породе ровной толстой полосой, порой жила превращалась в тонкий шнурочек, или «проводник», ведущий к новому утолщению. Кое-где блестели крупинки золота, в других местах в кварце змеились тонкие золотые ветки или виднелись желтые пятна, точно кто-то горчицей помазал. В иных забоях уже не работали, считая, что жила там выклинилась — исчезла.
Действуя буром и тяжелым молотком, рабочие пробивали в кварце отверстия — шпуры. В них вставлялись патроны с динамитом. По вечерам, когда рабочие расходились, запальщик поджигал один за другим бикфордовы шнуры и, отбегая подальше, считал в отдалении взрывы.
Владимир Афанасьевич видел только что введенные в работу пневматические молоты. Он понимал, что такое бурение шпуров происходит гораздо быстрее, но адский грохот, наполнявший забой, показался ему губительным для здоровья рабочих.
Детальная экспертиза Обручева очень помогла золотопромышленному обществу. Рудник был признан многообещающим, и его купили у прогоравшего владельца.
А через год общество предложило Владимиру Афанасьевичу принять участие в экспертизе других предназначенных к продаже рудников. Ехать нужно было в Семипалатинскую область. Рудники находились в средней и восточной частях Калбинского хребта — продолжения Алтая.
Хребет этот был уже отчасти знаком Обручеву, пересекавшему его в 1905 году по пути из Джунгарии. Но геологией этих гор он не занимался, и известно о ней было мало. Прежние описания устарели, новых почти не было. Следовало не только изучить прииски, но и выяснить особенности хребта.
Владимир Афанасьевич пригласил в помощники горного инженера Павлова и сына Сергея с его товарищем Орловым.
От Омска на пароходе прибыли в Усть-Каменогорск. Здесь Обручев навестил ссыльнопоселенца Михаэлиса, автора статей о древнем оледенении Алтая и Тарбагатайского хребта. Бывший «сотрясатель основ» был уже очень стар. Он не вернулся в Петербург, когда кончился срок его ссылки, и остался доживать свой век в Сибири. Однако выглядел он вполне бодро, казался жизнерадостным, и Владимир Афанасьевич с удовольствием беседовал с ним.
Отряд переправился через Иртыш и начал изучение хребта. Ехали по долинам рек Уланки, Канайки, Кызыл-Су, Каинды, Дженама... Побывали в рудничных поселках Акджал, Сарыджал, Казан-Чункур, на Удалом, Давноожидаемом, Вознесенском...
На Казан-Чункуре Обручеву показали древние выработки, где были найдены орудия давным-давно умерших рудокопов: каменные молотки, песты, жернова и светильники. Все эти вещи относились к неолиту. Значит, уже тогда первобытные люди добывали здесь золото.
Возле этих разрезов — две могилы и каменная плита с изображениями. Две человеческие головы грубого рисунка, тонкий силуэт человека и каменные козлы на бегу с подогнутыми передними ногами и в покое с гордо поднятой головой. Рисунки сопровождались надписями, несколько напоминающими китайские иероглифы. Вероятно, поэтому старые выработки звали здесь китайскими, хотя китайцы в этих местах никогда не обитали.
Древние изображения оленей, козлов и коней видел Обручев и на скалах горы Калмык-Тологой.
Переезжая с рудника на рудник, а после окончания экспертизы делая экскурсии по горам, Владимир Афанасьевич решил, что Калбинский хребет по существу — комплекс кряжей горных групп и плато. Иногда они связаны между собой, иногда разделены долинами. На востоке горы круче, вершины заостренней, долины глубже, здесь больше ущелий, обрывов, скал. На западе рельеф мягче, сглаженней. При сильных движениях земной коры образованные в конце палеозоя горы были уничтожены, а затем снова возникли в третичном периоде уже благодаря иным движениям — дизъюнктивным, то есть перемещениям по разломам. По-видимому, на правом берегу Иртыша — на Алтае эти разломы и перемещения были более резкими, на левом затихали. Поэтому Калбинский хребет лишен характерных признаков молодых складчатых гор, которые обычно тянутся параллельно друг
Другу в виде цепей, разделенных продольными долинами.
И здесь в южной части хребта Владимир Афанасьевич видел обилие лёсса. На самом хребте его было немного, а в предгорьях высокие обрывы показывали сплошной неслоистый лёсс. Очевидно, он был принесен из песков Коттон-Карагай. С этой «керчи», что по-казахски значит «плохая земля», ветер гонит пески, и они отлагаются вдоль Иртыша, а пыль лети г дальше, к южному подножью Калбинского хребта. Горы преграждают свободный путь ветрам, и лёсс оседает здесь.
Эта поездка снова направила мысль Обручева к образованию складчатых дуг, о которых он когда- то переписывался, а потом говорил с Зюссом. Горный Алтай, как считал Зюсс, был «молодым теменем Азии», и его складчатые дуги «алтаиды» распространились по Азии и Европе. Все это интересно уточнить.
Но время наступало такое, что о поездках нечего было и думать и научная работа не могла идти спокойно.
Тяжелую руку реакции чувствовали все. Сильно уменьшился заработок рабочих. В Сибири стало еще больше, чем прежде, английских и американских фирм. Западные предприниматели захватывали понемногу сибирское маслоделие, лесной промысел, золотые прииски... «Золотым дном» — Сибирью — иностранный капитал давно интересовался, а теперь при попустительстве русских министров все сильнее прибирал к рукам богатства страны. Рабочим иностранных фирм жилось очень тяжело.
Высшая школа была в руках черносотенного министра Кассо.
Томский университет просил об открытии новых факультетов. Попечитель учебного округа Лаврентьев отказался поддержать это ходатайство. Когда же оно все-таки дошло до верховных властей, на него ответили отказом из-за «финансовых затруднений» страны.
Высшие женские курсы, открытые в Томске и называемые «женским университетом», работали вопреки воле начальства, и девушкам, кончавшим курсы, было очень нелегко получить работу.
Строгости по отношению к студенчеству росли. Высшую школу, как писали томские студенты в своей листовке, хотели превратить в отделение департамента полиции.
Многих известных профессоров — любимцев молодежи — отстраняли от преподавания. Из Московского университета Кассо уволил ректора, его помощника и проректора — профессоров Мануйлова, Мензбира и Минакова. В знак протеста сто двадцать пять профессоров и доцентов, в их числе Тимирязев и Лебедев, заявили о своем уходе. Снова начались студенческие забастовки, аресты, высылки.
И в квартире Обручевых однажды после полуночи раздался громкий звонок. Обыск...
Пришли к сыну Владимиру. Долго рылись в его бумагах. Ничего не нашли. Но Владимир — секретарь студенческого забастовочного комитета. Ему предписали выехать «за пределы города Томска».
— Какой произвол! — возмущался Владимир Афанасьевич. — Знаешь что, поезжай-ка в пределы города Москвы, к Сереже, будешь учиться там.
Въезд в Москву и Киев Владимиру был тоже запрещен. Однако он все же уехал к брату, только жил некоторое время без прописки.
В Томском технологическом институте была сходка. Полиция окружила здание и переписала всех выходивших. Триста семьдесят студентов исключили. Этого Обручев не мог стерпеть. Он горячо протестовал в совете института, обращался к томскому депутату Государственной думы, где только мог, хлопотал за опальную молодежь.
Один из лучших учеников Обручева — Борис Велин, уже однажды исключенный из Технологического института и через несколько лет благодаря хлопотам Обручева принятый вновь, сумел на этот раз спастись. Он с группой товарищей ушел со сходки через служебный ход. Увидев его невредимым, Владимир Афанасьевич обрадовался. Во что бы то ни стало ему хотелось помочь будущему талантливому геологу. Велину необходимо закончить высшее образование.
Как-то, застав Велина одного в аудитории, Обручев сказал ему:
— Вы вот что... До окончания курса осталось недолго. Поберегите себя хоть сейчас.
— Попытаюсь, Владимир Афанасьевич, — усмехнулся Велин.
У молодого человека был глуховатый тихий голос, но черные глаза светились таким глубоким и непримиримым блеском, что Обручев подумал:
«Как же! Побережется такой!..»
Неожиданно в Томск приехала ревизия. Двое петербургских чиновников из министерства просвещения долго изучали дела Технологического института. Наконец двум профессорам и одному преподавателю предложили подать прошения об отставке, а Владимиру Афанасьевичу — перейти в другую высшую школу. Но сделать это Обручев не мог.
После стольких экспедиций и множества напечатанных трудов он не мог получить ученую степень, так как окончил Горный институт, а ученые степени тогда давались только питомцам университетов, следовательно, он не имел права занять кафедру в университете. Людям казалось странным, как это он, человек уже не первой молодости, не позаботился об ученом звании. Но в этом был весь Обручев. Он думал о деле, а не о своем устройстве в жизни.
Владимир Афанасьевич продолжал ходить на лекции. Взбешенный Лаврентьев сообщил в министерство о непослушании Обручева, и крамольному профессору предложили подать рапорт об отставке.
Нелегко было Обручеву обращаться с просьбой к попечителю учебного округа, но он себя переломил. Довести последний курс до выпуска, принять у студентов экзамены и защиту дипломных проектов, выпустить в жизнь новое поколение геологов и горных инженеров — вот чего он хотел, вот о чем чуть ли не со слезами просили его ученики.
Но тут Лаврентьев отплатил за все шпильки и колючки «Ерша».
Скорее удалить из Томска этого смутьяна! Он не задержал обручевского рапорта до конца учебного года, как просил Владимир Афанасьевич, а немедленно дал ему ход.
В половине марта 1912 года был получен приказ министра об отставке Обручева. Владимир Афанасьевич прекратил занятия и стал готовиться к отъезду из Томска, где проработал двенадцать лет.
А в начале апреля страшная весть пришла с берегов Лены. В бастующих рабочих стреляли. Двести семьдесят человек убито, двести пятьдесят ранено...
Обручеву представлялись знакомые прииски. Надеждинский, где произошла кровавая расправа... Андреевский — «прииск кулевых шаровар», как его звали. Рабочие из мешковины, из кулей одежду шили. На Андреевском и началась забастовка. Феодосьевский, Тихоно-Задонский, Утесистый... Какую нужду и страданье он там видел! Всегда была страшна жизнь ленских шахтеров. Грауман пытался что-то сделать — не смог. А с тех пор как прииски перешли к барону Гинзбургу, а фактически к иностранному акционерному обществу «Лена-Голдфилдс», рабочим стало еще тяжелее. Теперешний главноуправляющий Белозеров — самодовольный наглец... Это он сказал циничные слова: «Я их так заставлю работать, что от лошадей останутся кожа да кости, а от рабочих нос да глаза». И вот чем это все кончилось...
В Технологическом институте снова была сходка. Студенты пытались выйти на улицу, демонстрацию разогнали.
На этот раз Борис Велин не уцелел, его исключили без права поступления в высшую школу. Обручев пытался защищать, но теперь, когда он сам стал «опальным», его почти не слушали.
Солнечным весенним днем Владимир Афанасьевич остановил на улице девушку с толстыми золотыми косами.
— Мне нужно сказать вам несколько слов.
— Пожалуйста, профессор, — девушка смотрела на Обручева слегка испуганно и сочувственно. Как и вся томская молодежь, она, конечно, знала о его участи.
— Ведь вы, если я не ошибаюсь, невеста Бориса Велина?
— Да, вы не ошиблись.
— И зовут вас...
— Сабурова, Надежда Георгиевна.
— Так вот, Надежда Георгиевна, я Бориса отстоять не мог, хотя и очень старался.
Девушка вспыхнула.
— Мы так благодарны вам, Владимир Афанасьевич, за то, что вы помогли ему вновь поступить. Я давно хотела сказать вам... Не решалась подойти. А что на этот раз не вышло... Ведь это не от вас зависит. Я понимаю...
— Благодарить не за что. Надо подумать, что делать теперь. Я предложил Велину ехать инженером на Анжеро-Судженскую копь. Он согласен. Только платить ему будут половинное жалованье, ведь он инженер без диплома.
— Да, я знаю, он говорил мне. Спасибо вам.
— Но Анжерка, милая барышня, место глухое. Тяжеловато Борису там будет одному. Вы думаете ехать с ним?
— Непременно. — Девушка перестала смущаться й открыто взглянула на Обручева. — Я буду там учительствовать. На днях наша свадьба.
— Прекрасно. Именно это я и надеялся услышать. Теперь я за Велина спокоен. Люди вы молодые, дельные, дождетесь лучших времен. Непременно дождетесь. Желаю вам счастья.
Он крепко пожал руку девушки.
— Владимир Афанасьевич, а вы, вы сами?..
— Я в отставке. Уезжаю в Москву.
— В отставке в сорок восемь лет? Такой ученый, как вы?..
— О, вы и возраст мой знаете? Ну, что делать! Постараюсь и я дожить до лучших времен. Будьте счастливы.
До конца своих дней Надежда Георгиевна помнила этот разговор.
Среди рассеянной Москвы...
Когда-то Григорий Николаевич рассказывал, как Бакунин помог ему... Сам Потанин немало помогал Обручеву на первых порах работы в Сибири, помогал и советами и примером. Так оно и идет... Если каждый знающий и ученый поможет одному-двум, а те, в свою очередь, кому-нибудь помогут... Это уже не напрасно прожитая жизнь. А придет время — всем будет помогать государство, правительство свободной страны.
Но и тогда доброе мудрое слово старшего, больше видевшего, будет драгоценно для молодых, неопытных...
Он знал, что неопытные, молодые любят его, верят, слушают не только как педагога, преподающего им навыки и знания, необходимые для работы. Нет, они учились у него любить эту работу, понимать ее великое значение для страны, учились видеть в труде геолога поэзию, красоту, учились понимать природу, узнавать ее тайны, равнодушным недоступные.
Все это кончилось! Нет у него учеников, нет вокруг внимательных молодых глаз...
Он скучает по своим студентам, чувствует себя неуютно, неприкаянно оттого, что не нужно идти на лекции, входить в переполненную аудиторию, слышать дружное «Здравствуйте, Владимир Афанасьевич!».
Ему очень тяжело без преподавания. Себе-то можно в этом признаться. Елизавете Исаакиевне он своих настроений не выдает. Она и так не может успокоиться после того, что произошло.
А жизнь в Москве складывается в общем неплохо. Опальный профессор получает двести пятьдесят рублей пенсии. Жить приходится скромно — сто пятьдесят рублей нужно платить только за квартиру, но он никогда и не жил широко. Квартиру нашли на Арбате, в тихом Калошином переулке. Сергей и Владимир, раньше жившие у знакомых, теперь переехали к родителям. Митя поступил в частную гимназию Флерова. Семья опять вместе. Все было бы хорошо, если бы не постоянные мысли о Томском технологическом. Как там без него?
Преподавать в другой высшей школе он не может. Нет ученой степени, да и в министерстве просвещения он теперь занесен в «черный список» как неблагонадежный. Идти на казенную службу? Нет, это его не привлекает... Он правильно решил поселиться в Москве. В столице его могли бы привлечь к службе старые знакомые.
У него есть другая работа. Ведь уже почти тридцать лет он путешествует. Столько накопилось записей, дневников, необработанных наблюдений. Вот чем нужно заняться в первую очередь.
Сейчас у него достаточно досуга, чтобы дать научное обобщение всем своим наблюдениям, сделанным в путешествиях по Средней Азии, Китаю и Сибири. Он стал общепризнанным авторитетом не только по геологии, но и по географии этих стран. Оледенение Сибири, металлогения сибирского золота, геологическое строение Забайкалья, происхождение лёсса — вот основные вопросы, занимающие его.
После выхода из печати первого тома «Пограничной Джунгарии» он публикует «Сыпучие пески Селенгинской Даурии и необходимость их скорейшего изучения» и «Геологические исследования в Калбинском хребте», готовит к печати «Кучевые пески как особый тип песчаных скоплений». Впереди — «Орографический и геологический очерк Юго-Западного Забайкалья», второй и третий томы путешествий по Джунгарии...
Уже сто пятьдесят напечатанных трудов его увидели свет. Сколько их будет еще? Он публикует свои работы в виде монографий, статей, карт в специальных изданиях, таких, как «Труды», «Записки», «Известия» различных институтов, ученые ежегодники и журналы.
А путешествий, конечно, он не оставит. Ближайшая поездка будет на золотые рудники Сибири.
Едва успев устроиться в Москве, Обручев с семьей уехали на Кавказ в Боржом и провели там лето. Туда и прислало Российское золотопромышленное общество свое предложение посетить золотые рудники Кузнецкого Алатау и Забайкалья для экспертизы.
Владимир Афанасьевич уехал в половине августа.
Рудник Берикульокий занимал долину речки Сухой Берикуль. Россыпь здесь была найдена давно, добывали золото почти семьдесят лет. Порой попадались отдельные золотинки угловатой формы, к ним примешивался кварц, да и в плотике, то есть поверхности коренных пород, на которой залегает россыпь, встречались гряды кварца с хорошим содержанием золота. Было ясно, что коренное месторождение находится где-то близко от россыпи и прииск следует переоборудовать в рудник. Действительно, на дне долины нашли большую кварцевую жилу и начали добывать из нее золото.
Обручев установил, что главная жила уже сильно выработана. Будет ли толк от новых разработок? Следует ставить глубокую разведку, а это, конечно, невыгодно товариществу. Другие эксперты, видимо, были такого же мнения, и общество от покупки рудника отказалось. Позже Владимир Афанасьевич узнал, что хозяин все-таки произвел разведку, были открыты новые жилы, и рудник еще долго давал золото.
Из Берикуля через станцию Тяжин, Иркутск и Читу доехал до Дарасуна на реке Ингоде. Обручев не отходил от вагонного окна. Было очень интересно увидеть Ангару, Селенгу, хребет Цаган-Дабан, реку Хилок. Знакомые места! Как будто совсем недавно он шагал здесь, изучая Селенгинскую Даурию. Должно быть, верно говорят, что земля, по которой много ходил человек, хранит отзвук его шагов. Во всяком случае, Обручев с волнением глядел на эту землю.
А на одной из станций ждала радость. В вагонном коридоре раздался голос.
— Владимир Афанасьевич, где вы?
Это был Михаил Антонович Усов, извещенный телеграммой, что Обручев просит помочь ему составить геологическую карту Забайкальских рудников.
От станции Дарасун на почтовых лошадях стали добираться до рудника Евграфовского. В этой части Восточного Забайкалья Обручев не бывал. Природа казалась ему скучнее, чем в Селенгинской Даурии, а край менее населенным, но приятно было сознавать, что он снова в Сибири.
Стан рудника оказался довольно большим поселком — с конторой, фабрикой, где извлекалось золото, жилыми домами и церковью. Тут встретились с другими экспертами — Лебедевым, Тихоновым, Журиным. Владимир Афанасьевич знал их по прошлым экспертизам и был доволен, что придется работать с ними снова. Люди честные, добросовестные, таких не подкупят. Ведь экспертиза предназначенного для продажи рудника — дело сложное. Хозяин стремится сбыть с рук свое предприятие, заинтересован в хорошем отзыве экспертов и хочет или задобрить их, или обмануть. Преподносятся дорогие подарки, а то и попросту солидные денежные куши.
Если администрации ясно, что с подкупом к экспертам не сунешься, есть другое средство, например «подсаливание» забоев, когда в ружейный патрон закладывают не дробь, а шлиховое золото. После выстрела оно разлетается и остается на стенках забоя. Часто золото подсыпают в шурфы или в уже взятые пробы.
Но от рудника к руднику новости распространяются быстро. Характер экспертов, прибывших на Евграфовский, видимо, был хорошо известен администрации. Никто и не подумал подступиться к ним со взяткой.
Усов и Сергей Обручев, приехавший несколько позднее, ездили по окрестностям рудника, собирали материал для геологической карты, а Владимир Афанасьевич осматривал шахты. С горящей свечой в руке он ходил по штольне в полверсты длиной, пробирался по штрекам и узким ходкам.
Как-то после дня работы под землей он вышел из штольни на склон горы. По-осеннему нарядный молодой лесок покрывал все взгорье. Мелкие золотые листья, которые дети зовут «копеечками», тихо кружились в мягком предвечернем воздухе. Обручев вздохнул полной грудью, посмотрел на небо, тоже по- осеннему темно-голубое, высокое и чистое. Ему вдруг страстно захотелось жить, работать, ездить еще и еще по родной прекрасной земле. Здесь, в глухом забайкальском углу, он почувствовал, что тоска последних месяцев отходит, смягчается. Пусть по воле чиновников и мракобесов он в отставке, но это его не убьет. Сил еще много, рука тверда и владеет оружием. Пусть его оружие — только геологический молоток и перо, но и они многое могут сделать.
Владимир Афанасьевич видел, как эксперт Лебедев добывал из забоев пробы для анализа. Всех, кто работал в забое, попросили уйти, чтобы никто не мог подсыпать золото в пробу. Стены забоя обмыли водой из шланга, разостлали большой брезент, эксперт отметил на стене широкую полосу, и рабочий с молотком и зубилом начал выбивать кварц по намеченной полосе. Кварцевые осколки собрали с брезента в мешок, привязали к нему ярлык с номером забоя и горизонта. Эксперт сам унес мешок в лабораторию, где кварц растолкли в больших чугунных ступах под наблюдением химика, приехавшего с экспертами.
Полученный порошок разложили по маленьким мешочкам. Один шел в лабораторию рудника, другой — с целой партией таких же мешочков — отправили в Петербург, где пробу анализировали в лаборатории Российского золотопромышленного общества, третий сохранялся как контрольный. Лабораторию запирали, и ключ эксперт уносил с собой. Однако эти предосторожности не всегда помогали. И на этот раз они не помогли. Ночью кто-то, очевидно управляющий рудником, побывал в лаборатории. Видимо, он влез через окно или, может быть, имел второй ключ от двери. Так или иначе, но в пробе, посланной в Петербург, оказалось неправдоподобно большое содержание золота. Было ясно, что металл подсыпала чья- то щедрая и неопытная рука.
По своему обыкновению, Владимир Афанасьевич пожелал осмотреть уже выработанные горизонты. В провожатые был дан штейгер, хорошо знавший эти заброшенные выработки. Могильный холод охватил их, когда открылась массивная дверь, защищавшая оставленные работы от любителей легкой наживы. Ведь в старых забоях всегда можно найти немного золота.
Начало штольни было хорошо закреплено, дальше крепь выгибалась то коленом, то дугой, стойки были сломаны, верхние переклады — огнива — сплющены. Плесень, словно белый мох, покрывала деревянные крепи, но воды было так мало, что эксперты удивлялись. С каждым шагом все причудливей и сложней становились белые узоры на огнивах и перекладинах, и скоро обследователи поняли, что это иней. А дальше вся крепь стала казаться мраморной, и огоньки свечей дробились и сверкали в снежных кристаллах. Наконец сплошной лед заполнил штольню и так сузил ход, что пришлось ползти, держа перед собой зажженную свечу.
Вечная мерзлота, характерная для Забайкалья, оттаяла, пока на горизонте производились работы, а когда люди ушли, влага из проникавшего сюда воздуха стала осаждаться инеем на крепи и, наконец, заполнила льдом всю выработку. Здесь прекрасно сохранилась крепь, не оседали скованные мерзлотой породы, не капала вода...
Обручев побывал на фабрике, где руда в дробилке раздавливалась стальными зубцами. Мелкие куски кварца проваливались в нижний этаж, где дробились уже в ступах. Владимира Афанасьевича заинтересовал этот процесс, и впоследствии он писал о нем: «Казалось, что чудовище, скрытое под полом, жадно раскрывает пасть, хватает куски белого сахара, грызет и глотает их днем и ночью».
Кончив работу..на Евграфовском руднике, поехали по долине реки Или на Евдокие-Васильевский прииск, где работали так же. Усов и Сергей Обручев уходили в маршруты и описывали обнажения горных пород, а Владимир Афанасьевич осматривал открытый разрез.
При дневном свете на воздухе работать было нетрудно. Но не добыча рассеянного золота интересовала экспертов. По-видимому, тут было коренное месторождение, причем весьма необычное.
Большой разлом пересекал гранитный массив. Раздробленные куски гранита вдоль трещин снова потом сцементировались, иными словами, превратились в милонит, а милонитовый пояс ушел под Грищевскую гору, видимо, остаток бывшего вулкана. Золото здесь встречалось в самородках и содержалось в серном колчедане, рассеянном в вулканической брекчии — обломках гранита и других пород, связанных глиной. Когда-то вулканические газы вырвались на поверхность из бокового жерла вулкана. Они вынесли наружу раздробленный гранит, а самородное золото и серный колчедан из горячего газа и паров отложились в воронке вулкана.
Геологам, обследовавшим раньше это месторождение, было неясно, как оно возникло. Владимир Афанасьевич, зная, что многие месторождения Венгрии, Северной Америки и Новой Зеландии непосредственно связаны с вулканами, заподозрил и здесь такой случай. Он был уверен, что Грищевская гора с ее плоским куполом была когда-то вулканом и в ней находится еще более богатое месторождение.
Описание Евграфовского рудника было напечатано Минералогическим обществом, а статья об Илинском месторождении увидела свет много позже.
Вернувшись в Москву, Владимир Афанасьевич продолжал обработку для печати своих научных трудов. Жизнь шла тихо и размеренно. Он ежедневно прогуливался по арбатским переулкам, тенистому от вековых лип Пречистенскому бульвару, изредка ходил с женой в театр. Большой радостью для него была встреча с Правосудовичем — старым товарищем по реальному училищу, ныне инженером путей сообщения. Они стали навещать друг друга.
Жила в Москве и тетя Маша — Мария Александровна Бокова-Сеченова. Она давно похоронила Ивана Михайловича, получала небольшую пенсию. У нее собирались иногда гости, и среди них было немало интересных людей — певица Антонина Васильевна Нежданова, художники, музыканты. До старости Мария Александровна сохранила ясный ум, веселый характер, уменье живо, интересно спорить. Владимир Афанасьевич изредка виделся с ней, а Владимир и Сергей Обручевы с удовольствием бывали у нее.
С Полиной Карловной Владимир Афанасьевич, как всегда, регулярно переписывался. Теперь с ней жила только дочь Маша, преподавательница русского языка. Анюта недавно уехала во Францию изучать французский. А сподвижник Чернышевского — Владимир Александрович Обручев, вернувшись из-за границы, сначала жил в Одессе, где работал в Русском обществе пароходства и торговли, потом в Петербурге. В 1912 году он умер, после него остались вдова и дочь Вера.
Шли годы... Постепенно уходили из жизни старшие в роду. Да и работа так поглощала Обручева, что он все меньше и меньше общался с близкими.
Когда и как Владимир Афанасьевич так сильно простудился, он и сам не знал, но в конце года заболел тяжело. Сначала болезнь казалась обыкновенной простудой, но температура не падала, больной слабел, и, наконец, врачи объявили, что у него воспаление легких.
Елизавета Исаакиевна терпеливо ухаживала за мужем, пунктуально выполняла все предписания докторов, но Обручеву лучше не становилось. Врачи уверяли, что легкие его ослаблены от ночевок на сырой земле, туманов, дождей, метелей, с которыми он постоянно встречался в экспедициях. Владимир Афанасьевич не верил этому. Он знал, что путешествия всегда делали его здоровым, закаляли, вселяли бодрость.
Однако он не поправлялся, мучительные хрипы не давали дышать, ночами он не спал, полулежа на высоко поднятых подушках, и тоскливые мысли, что разладилось железное здоровье, никогда не подводившее до сих пор, осаждали его.
Приближалась весна, и доктора сказали, что больной не вынесет длительной сырости. Ему нужно немедленно, до наступления таянья снегов, уехать туда, где тепло и сухо.
Елизавета Исаакиевна оставила хозяйство на Надежду Ивановну, бывшую Митину няню, и увезла больного мужа за границу. С ними поехал Митя.
Даже всесильное южное солнце не сразу восстановило силы Обручева. В Нерви близ Генуи он не поправился. Только на курорте Бадкиссинген в Баварии ему стало лучше, и он начал выходить на прогулки. Здесь к Обручевым присоединились старшие сыновья, и они всей семьей закончили поездку. Сначала побывали в Саксонской Швейцарии, потом жили на приморском курорте Кранце, возле Кенигсберга.
Горный и морской воздух, прогулки, а главное, отдых от постоянной работы принесли свою пользу. К осени 1913 года Владимир Афанасьевич смог вернуться в Москву, но хронический «фокус» в легких остался у него после этой болезни на всю жизнь.
Конечно, избавившись, наконец, от затяжного недуга, Обручев не думал, что отныне всегда будет подвержен простудам, что каждый легкий бронхит может превратиться в воспаление легких. Его опять тянуло в путешествие, вновь он думал о странствиях.
Та Москва, которую он видел, казалась ему городом, помешанным на удовольствиях. Люди веселились больше, чем когда-нибудь. По вечерам на Арбате влажным блеском переливались огни. За стеклами магазина «Цветы из Ниццы» нежно лиловели альпийские фиалки, ржавые и зеленоватые щупальца хризантем свивались в плотные клубки. Теплым запахом молотого кофе обдавало прохожих у магазина Реттере, сверкали драгоценности в витринах ювелиров. К ресторану «Прага», откуда неслась надрывная музыка румынского оркестра, с шиком подкатывали лихачи. И по Арбату, куда-то в прозрачную вечернюю даль, неслись горячие рысаки в синих шелковых сетках, увозя нарядных женщин, лихих офицеров, стройных лицеистов. Это был сравнительно тихий Арбат. А на Петровке, на Кузнецком, на Тверской богатство города, веселье, беззаботность казались еще громче, ярче, наглее.
От этой бездумной, легкой, под легкостью прячущей какой-то надрыв жизни хотелось уйти в природу, подышать чистым воздухом леса и гор.
Еще после поездки по Калбинскому хребту он стал мечтать об Алтае. Живя в Томске, поехать туда было совсем не сложно, но Обручева удерживали некоторые деликатные соображения.
Алтайский округ был собственностью царя и его семьи и находился в ведении так называемого «Кабинета его величества». Подведомственная «Кабинету» группа геологов под началом профессора Иностранцева уже несколько лет занималась изучением края. Отчеты об исследованиях Кузнецкого бассейна и Салаира были напечатаны, а профессор Поленов начал изучение геологии высокогорного Алтая — средоточия интересов Обручева. Если организовать свою экспедицию, получится, что он хочет вмешаться в работу других, пытается конкурировать с ними.
Не поехать ли на свой счет? Он не возьмет никаких обязательств, не станет снаряжать большую экспедицию. Поедет налегке, как турист. Наверно, Сергей не откажется сопровождать отца... Хорошо бы пригласить и Усова...
Геологическую съемку он производить не будет, чтобы не соприкасаться в работе с Поленовым. Ему важно ознакомиться с тектоникой Алтая.
По литературным данным выходит, что Алтай — древняя складчатая страна, но Зюсс и теперь, как раньше, называет в своих письмах Алтай «молодым теменем Азии», считает, что там, на западной окраине «древнего темени Азии», в конце палеозоя начались складкообразовательные движения. Он называет «Алтаидами» — дочерьми Алтая — те горные цепи, что распространились по всей Азии, сначала на юго-запад, как Тянь-Шань, потом на восток до Индо-Китая и Хингана, затем на запад в Европу и дальше в Северную Америку и Африку. Эти цепи имеют дугообразную форму, выпуклую на южной стороне, в их составе вместе с молодыми отложениями присутствуют и более древние, но и те и другие залегают в одних и тех же хребтах.
Сам Обручев, исследуя Калбинские горы, решил, что они возникли в связи с молодыми движениями земной коры, поднимаясь по разломам, на востоке очень энергично, на западе — слабее. Но ведь Калбинские горы на востоке продолжают Алтай. Если Зюсс прав, то высокие хребты Алтая тоже созданы молодыми движениями. Вот это-то и нужно проверить.
Елизавете Исаакиевне очень не хотелось отпускать мужа в поездку. С таким трудом удалось поставить его на ноги, а он после тяжелой болезни снова собирается бродить по болотам, спать на холодных камнях... После своего неудавшегося опыта полевой работы Елизавета Исаакиевна считала экспедиционную жизнь сплошным мучением. Как хорошо и уютно, когда Владимир Афанасьевич дома! Правда, он и тут себя не бережет, засиживается до поздней ночи. Но здесь она все же имеет возможность как-то регулировать его режим. Может, наконец, помогать ему.
Ее четким красивым почерком были переписаны многие страницы работ Обручева.
1914 год принес горе. Умер Дмитрий Александрович Клеменц, скончался и знаменитый ученый Эдуард Зюсс. Больно поразила эта смерть Обручева. Его товарищ Богданович написал некролог, а Владимир Афанасьевич, зная, что никогда не забудет Зюсса, дал себе слово непременно написать о нем книгу. Эта смерть окончательно утвердила Обручева в намерении ехать на Алтай. Теория Зюсса должна быть проверена.
Отец и сын Обручевы приехали в Томск з середине мая и остановились у Гудкова. Приятно было снова ходить по улицам города, ставшего родным, узнавать институтские новости, встречать знакомые лица.
Владимир Афанасьевич интересовался судьбой не только своих учеников, но и всей известной ему томской молодежи. Ему рассказали, что Борис Велин хорошо работает на Анжеро-Судженскнх копях, получая половинное жалованье. Молодая жена с ним, преподает в школе. Задорная Оленька Кирнес вышла замуж за высокого юриста Викилинского, а маленький медик Элиашберг, тот, что самоотверженно перевязывал раненых в горящем доме Сибирской железной дороги, давно стал врачом. Где сейчас молодой чертежник Костриков, Обручеву узнать не удалось. Россия велика... В каком-нибудь городе или селе делает свое дело сильный молодой борец за народное счастье.
Из Томска вместе с Гудковым выехали пароходом. Шли медленно, пароход тянул огромную баржу. Обручев разглядывал места, где не смог побывать, живя в Томске, слишком трудно было до них добираться. А посмотреть их стоило. На крутом правом берегу Томи видны были глубоко врезанные долины рек, скалы палеозойских известняков и сланцев. Жаль, что нельзя походить по ним...
Сожалея об этом, он улыбался про себя. Сколько уже скопилось в памяти уголков природы, которые он не мог подробно осмотреть, хоть и был близко! Конечно, и эти палеозойские отложения будут мучить его, и неожиданно ночью вдруг уколет мысль: «Эх, а те сланцы и песчаники на Томи!.. Так и не добрался до них!»
На руднике Тельбес, где Гудков работал, он с гордостью показывал своему учителю шурфы и глубокие канавы. Там виднелась то почти черная руда — магнитный железняк, то адамелит — изверженная порода темно-зеленого цвета, содержащая железняк.
Владимир Афанасьевич пересмотрел все коллекции, собранные Гудковым и его группой, совершил несколько экскурсий по окрестностям. Кругом было много штоков — цельных рудных тел. Для работы большого металлургического завода, который здесь собирались ставить, нужны были все эти месторождения. Каждое в отдельности рудой было небогато.
Гудков остался на руднике, а Обручевы поплыли по реке Тельбес в узкой, выдолбленной из дерева лодке — бате, и Обручев вспоминал свое путешествие в такой же лодке по реке Хилку. Давно, давно это было! В тысяча восемьсот девяносто шестом... Тогда приходилось все время быть начеку, переправляясь через быстрины, следить за выходами пород на берегу, осматривать их, приставать к берегу, сверять путь по компасу, заносить на карту извилины реки. «А теперь, — писал Обручев впоследствии, — я плыл беззаботно, любуясь видами берегов, скалами разного вида и цвета, зеленью кустов и деревьев».
Бат, легко скользя по воде, вошел в реку Мундыбаш, а потом в Кондому. Кончилась эта приятная поездка возле деревни Кузодеевой, где путники пообедали и наняли лошадей до Бийска. Выехали перед вечером, в пути провели ночь и утром въехали в серый деревянный, похожий на село город. Впрочем, в центре его стояло двухэтажное здание гостиницы. В ней и поместились, на пристани получили свои ящики и чемоданы, прибывшие сюда из Томска пароходом, и попросили служителя гостиницы отыскать ямщиков для поездки в глубь Алтая.
— Поедем до первого большого села, а там найдем других ямщиков, — сказал Обручев.
— Мама просила, чтобы ты ночевал по возможности в селах, — осторожно напомнил Сергей.
— Это ни с чем не сообразно, Сережа. В комнатах духота, клопы, мухи, блохи... И ямщикам приятнее ночевать в поле, сена лошадям покупать не надо... Зачем же мы брали с собой палатку? На постоялом дворе ее ставить?
Сергей не спорил.
За широкой Бией начался Уймонский тракт. Плоские холмы по ёго сторонам когда-то были речными дюнами. Они давно сгладились и поросли соснами. Впереди виднелся Алтай. Издали он казался сплошным, но, когда к нему подъехали ближе, выяснилось, что широкие долины рек разбивают хребет на группы гор — Бобырган, Сурьян, Степанова сопка... На Мохнатой сопке виднелись гранитные скалы, и Владимир Афанасьевич подумал, что эти выходы массивных гранитов и не постепенное, а резкое окончание гор показывают, что по северной границе Алтая проходит большой разлом.
В горах дорога то поднимается вверх по просторным долинам Каменки, Песчанки, Ануя, Чарыша, то вьется по горам к перевалу и снова спускается в долины более узких речек. Русские деревни, пашни и луга чередуются с лесами, скалистыми склонами гор и юртами алтайцев. На горных вершинах уже лежит снег, и они называются здесь «белками», как и вечно белые горы, вздымающиеся выше. На высоких склонах путники часто попадали на альпийские луга, заросшие сочной яркой травой, темно-синими бокальчиками горечавки — генцианы и желтым алтайским аконитом.
Дорога меняла свой вид, широкий тракт стал узким горным путем,а в долине реки Коксу превратился в «Синий бом» — тропу с поднимающейся над ней отвесной стеной гор. Потом началась сухая Уймонская степь. Здесь Владимир Афанасьевич заинтересовался невысоким длинным валом с плоским верхом, местами разорванным выемками. Вал был песчано-галечный с валунами, и Обручев решил, что это гряда или оз, возникший в то время, когда ледник спускался сюда с Катунских Альп или с Теректинского хребта.
Обычный маршрут туристов должен был привести путешественников в село Уймон, там обычно нанимали проводников для восхождения на Катунские Альпы. Но Обручев решил в Уймон не заезжать.
— Меня интересует тектоника Алтая, — сказал он. — Для этого нужно пересечь как можно больше хребтов, а не лазать по ледникам и пытаться взойти на Белуху. Поедем в село Котанду. Томские геологи говорили, что там легко найти проводника до Кош-Агача.
В Котанде действительно нашли двух проводников с четырьмя верховыми и двумя вьючными лошадьми и запаслись провиантом. Пока шли сборы, Сергей сделал экскурсию в глубь Теректинского хребта, где нашел явные следы молодых разломов и сбросов.
— Ага, шесть страниц густо исписал! — говорил Владимир Афанасьевич, просматривая свой дневник, данный Сергею для записей. — Хорошо поработал!
Из Котанды двинулись через северные отроги Катунских Альп до реки Аргута, потом до устья Кара-Кема — Черной реки, а оттуда в Южно-Чуйские Альпы до Кош-Агача.
Через Катунь переправлялись на пароме и дальше шли по лесам, любуясь высокими земляными пирамидами на обрыве реки. Валунная глина, крепко спаявшая щебень и валуны, не поддавалась размыву и образовала эти пирамиды. Порой нужно было переходить вброд бегущие с гор реки, и делать это можно было только ранним утром. Позднее начинали таять ледники на горах, реки наполнялись, и быстрое течение могло сшибить с ног коней. На берегу Ак-Кема — Белой реки — очень рано остановились на ночлег, чтобы утром встать пораньше и переправиться на другой берег.
По крутому подъему вышли на плато, покрытое луговой альпийской растительностью, здесь спустились в долину Аргута, чья зелено-голубая вода замутнена ледниковым илом, и прошли до устья Иедыгема, текущего с Менсу — большого ледника Белухи. Сергей Обручев поднимался по долине этой реки до ледника, а Владимир Афанасьевич обследовал морены в устье реки. Очевидно, ледник Менсу когда-то доходил до самого Аргута и целиком покрывал большую гору типа «бараньего лба». В прошлом ее обточили льды, теперь же она обросла частым лесом.
По длинному ущелью Узун-бом Аргут течет двенадцать верст. Пройдя этот гранитный коридор, переправились на правый берег Аргута. Начался дождь, и потоки воды обливали всадников, проезжавших под деревьями. Сергей беспокоился за отца, но Владимир Афанасьевич невозмутимо продолжал работать. Позднее он написал несколько строк об этом дожде: «В такую погоду геологу трудно работать, трава мокрая, утесы мокрые, косогоры скользкие, дождь мочит записную книжку, пока наскоро отмечаешь наблюдения, мочит образчики, и, наконец, после нескольких часов работы промокаешь сам до нитки, несмотря на непромокаемый плащ и высокие сапоги».
А выше на перевале повалил снег, и, только когда спустились ниже к реке Джело, удалось развести огонь, согреться и поесть горячего.
По долине Чаган-Узун, впадающей в Чую, дошли до Чуйской степи. Сергей поднимался до перевала через восточную часть Южно-Чуйских Альп, сам Обручев оставался в степи, покрытой щебнем и галькой. Трава здесь росла очень мелкая и только во впадинах становилась высокой и сочной. Порой встречались большие каменные глыбы, когда-то принесенные ледниками. Находил Обручев и тонкослойный ил с обломками створок моллюсков. Чуйская степь в межледниковую эпоху была, конечно, озером, и в него стекали талые воды ледников.
По степи дошли до Кош-Агача. Отсюда следовало идти на Северный Алтай, но Владимир Афанасьевич решил изменить маршрут. Ему не нравились проводники. Они совершенно не хотели считаться с интересами ученого, и с ними постоянно приходилось спорить относительно маршрутов.
— С туристами привыкли ездить! — сердился Обручев. — И, конечно, командовали ими: здесь ночуй, туда не сворачивай. Заедем на Северный Алтай, там ни проводников сменить, ни лошадей найти. А по Чуйскому тракту есть станции и села. По тракту и пойдем. Тут тоже придется пересечь несколько хребтов.
Тракт пролегал по долине Чуй. Эта старинная торговая дорога в Северо-Западную Монголию не была легкой, но таратайки проезжать по ней могли.
Возле Красной горки — горы, сложенной из красноватых пород, Обручев нашел интересные обнажения, дальше множество морен. Следы оледенения встречались всюду. А на высоком плато, прорезанном ущельями, Владимир Афанасьевич установил, что грабены на среднем течении Катуни и в Курайской степи связаны между собой разломом, по которому проложила себе путь река Шавла.
Тракт поднялся на Аршанту — выступ Курайского хребта, русские ямщики зовут этот выступ Аржаной горой. Потом дорога круто спустилась в долину и ушла далеко от реки. Проводники объяснили, что дальше Чуя бежит по глубокому ущелью, где дорогу проложить было нельзя.
Широкую долину, по которой текли реки Мюен и Чибит, Обручев определил как доледниковую долину Чуй. Ее крутые склоны были разделены боковыми долинками, и она изгибалась большой дугой. Наверно, огромный ледник во время последнего оледенения спустился вниз, завалил моренами долину Чуй, и река прорыла себе другой путь. Все ущелье Чуй, выше устья, Чибита — явно молодое, послеледниковое.
За станцией Чибит тракт снова возвратился в Чуйскую долину. Здесь склоны правого берега местами круто спускались к реке. Дорога шла по косогорам вдоль белых и сероватых известняков — древних коралловых рифов палеозойского моря, как определил Обручев.
Из узкого ущелья в крутых горах вырывается речка Иня. Здесь тракт снижается по откосу террасы, сложенной из гравия, тонкослоистого песка, гальки, а порой и крупных валунов. По этой террасе дошли до перевоза через Катунь, потом поднимались на перевал через гору, делящую долины Большого Еломана и Большого Улугема.
После новых переправ, перевалов и долин дошли до селения Онгудай, где можно было получить письма и газеты, в первый раз после отъезда из Томска.
Пока Сергей хлопотал о чае, Владимир Афанасьевич ушел на почту. Возвратился он не скоро, неся большую пачку газет, и казался таким бледным и усталым, что Сергей сбежал ему навстречу с крыльца заезжей избы.
— Что случилось, папа?
— Война, Сережа... Война с Германией.
Отец и сын долго не спали в эту ночь.
— Сегодня только тридцатое июля, — с досадой говорил Сергей. — Еще целый месяц можно было бы ездить...
— Да, — соглашался Владимир Афанасьевич. — Но все-таки нужно возвращаться в Москву. Конечно, мама и Митя не одни, с ними Владимир, но... его ведь могут взять в армию.
— Значит, Восточный Алтай не увидим?
— Не увидим... А из хребтов Западного мы перевалили через все, кроме Холзуна.
— Он как будто и описан очень мало.
— Совершенно верно. Вот и пойдем отсюда на Холзун, а через Омск домой. Это и быстрее будет, чем добираться до Бийска, а потом до Томска.
На этом и порешили.
Тракт привел путешественников по долине реки Урусул, в которую с севера спускаются узкие скалистые отроги, к селу Теньга. Тут с Чуйским трактом простились. Он побежал на север, а Обручевы по долинам Урусула и Иоло поднялись на невысокий перевал в Коргонских горах и спустились к селу Абай. Тут расстались с проводниками. Они уехали к себе в Котанду, а отец с сыном уложили в ящики все собранные коллекции, отправили их домой по почте и наняли новых проводников с лошадьми.
От радости, с которой Владимир Афанасьевич начал это алтайское путешествие, не осталось и следа. Мысли его беспрерывно возвращались к войне, к новым огромным испытаниям народа.
На третий день пути, когда он, покачиваясь в седле, задумался о том, что сейчас происходит на фронте и когда можно будет узнать об этом, его лошадь споткнулась на болотистом лугу, вероятно ступив на кочку. Обручев упал вместе с ней и так сильно ушиб палец на правой руке, что не смог управляться ни с молотком, ни с компасом. Писать тоже было невозможно. Пришлось передать все наблюдения и записи Сергею.
— А я уж буду только созерцателем, — пошутил Владимир Афанасьевич, но Сергей понял, как этот досадный случай огорчает отца.
Они долго поднимались на хребет Холзун по склону, покрытому лесом. Возле речки Хаир-Кум Обручев вспомнил, что здесь утонул пять лет назад геолог Петц, которого он знал.
Постепенно лес редел, лиственницы исчезли. Кедры еще долго держались, но великолепные стройные стволы их изогнулись и ветви вытянулись к юго-во- стоку. Можно было представить себе, какая свирепая пурга задувает тут зимою, уродуя деревья. Еще выше пошли засохшие изломанные стволы и между ними снежные пятна.
А после этих мрачных высот нужно было снова спускаться и идти через угрюмую «чернь» — пихтово-еловый лес и такое высокое разнотравье, что пушистые метелки травы покрывали пешего человека с головой. На ночлеге едва удалось вытоптать в зарослях место для палатки.
После многих подъемов и спусков добрались до перевала. Отсюда открывались необозримые цепи гор. Острые, очень далекие на востоке, заросшие чернью на юго-западе, высокие вершины Острая и Столбуха на юге...
Вниз шли по березово-пихтовому лесу, по долинам, где встречалось все больше пасек и заимок, потом начались пашни и покосы и, наконец, первая деревня, где отпустили алтайцев и наняли лошадей до пристани Вороньей. Там уже грузился пароход.
Владимир Афанасьевич не считал свое путешествие вполне удачным. Он не побывал в восточной части Алтая и очень жалел об этом. Но подтверждение своих мыслей о тектонике Алтая он получил полное. Конечно, алтайский рельеф создан сбросами и разломами, а вовсе не складками. Складчатой горной страной Алтай был после движений земной коры в конце палеозоя. Но потом эрозия и денудация, то есть процессы размывания и смыва разрушенного материала, сгладили, почти сравняли высокие хребты. А дальнейшие движения создали разломы, разбили горы на отдельные группы и глыбы, они надвигались друг на друга, происходили сбросы, стали возникать горсты, разделенные грабенами. Те гряды, что поднялись особенно высоко, оказались более изрезанными, ведь чем выше, тем более ощутима работа ветра, воды, жары и холода. Более низкие горы расчленены меньше, они гораздо шире, вершины их похожи не на конусы, а на купола. А еще ниже лежат высокие плато мягких очертаний, покрытые альпийской растительностью. Правы Зюсс и Обручев: Алтай молодая, а не древняя, сбросовая, а не складчатая горная страна.
На реках Аргуте, Иедыгеме, Чуе Владимир Афанасьевич видел явные следы древних оледенений, до сих пор еще не описанные путешественниками. Еще со времен первых своих работ на Ленских приисках Обручев считал, что Сибирь, как Европа, подвергалась четвертичному оледенению. С этим были не согласны Черский и климатолог Воейков, но Кропоткин еще в семидесятые годы прошлого столетия утверждал, что оледенение в Сибири было. И вот сейчас Обручев видел новые доказательства этого мнения. На Алтае до сих пор сохранилось немало ледников, конечно, в древности оледенение было гораздо более мощным. Признаки его находил и профессор Сапожников, томский коллега Обручева.
Все эти наблюдения, обобщенные и научно обработанные, найдут место в новой статье. И назовет ее Обручев «Алтайские этюды».
Планы новой работы перемежались с тревожными размышлениями о войне до тех пор, пока Владимир Афанасьевич не нажал кнопку звонка своей московской квартиры и не услышал ликующий возглас Мити, открывшего дверь:
— Папа! Папа приехал!
А за Митей спешила Елизавета Исаакиевна, протягивая мужу руки.
— Володя! Сережа! Как я рада, что вы вернулись!
Страна героев и богов
Расторгла рабские вериги...
Война громыхала где-то далеко, точно колоссальная, нечеловеческими руками созданная машина. Она перемалывала ежедневно тысячи жизней. Через Москву без конца шагали солдаты. И, глядя на их лица, то суровые, степенные, то совсем по-детски округлые и простодушные, каждый понимал, что и те и другие будут захвачены страшными зубцами этой машины и редкий уцелеет.
Фронтовые дела не радовали.. В городах появлялось все больше измученных людей с серыми лицами. Это были беженцы. Первые успехи русских, взятие Перемышля, удачные операции в Карпатах стоили больших жертв. Взятый русскими Львов был вновь у противника, Галиция потеряна...
Люди говорили вслух о засилье немцев при дворе и на командных должностях в министерствах. Соотечественники царицы чувствовали себя в России прекрасно. Говорили о непонятной недостаче оружия, снарядов, теплой одежды в войсках, о том, что старые опытные военные перебиты в первый год войны, а молодое плохо обученное пополнение неопытно и неумело. Винили военного министра Сухомлинова в плохой работе оборонной промышленности и снабжения войск. Многие считали, что Сухомлинов, как и вся царицына партия, держит руку Германии и, больше того, продается врагам. Ходили анекдоты о слабости, нерешительности, легкомыслии Николая. С возмущением передавались слухи о всесильном «старце» Григории Распутине, обворожившем «немку», как называли царицу.
В эти недели и месяцы, тяжелые для каждого человека, преданного родной стране, единственным успокоением Владимира Афанасьевича была работа. Он знал, что Россия будет жить, несмотря ни на что, и ее молодому поколению предстоят большие дела. Чтобы справиться с ними, нужны знания.
Человек, получивший среднее образование, грамотно пишет, обладает сведениями по мировой истории, по математике и французскому языку. Но о геологии он не имеет никакого понятия. Так и вырастает человек, ничего не зная о Земле, на которой живет. А ведь начала геологии можно преподнести читателю понятно и интересно.
После работ «Заметки о следах древнего оледенения в Русском Алтае» и «О тектонике Русского Алтая», входящих в «Алтайские этюды» и напечатанных в журнале «Землеведение», «Геологического обзора золотоносных районов Сибири» Обручев начал писать научно-популярные работы. Печатались они в журнале «Природа». И каких только тем не касался Владимир Афанасьевич! Тут были и «Морские фонтаны Гавайи», и «Новый сибирский метеорит», и «Происхождение Телецкого озера», и «Древние вулканы в Южной Африке». Написаны все эти вещи очень просто, они доступны даже неподготовленному читателю, но писать их Обручеву было нелегко. Ученому, привыкшему говорить о своем предмете без скидки на квалификацию читателя, без боязни употреблять специальные термины и принятые в научных сочинениях выражения, всегда трудно излагать свои мысли понятно, не упрощая их. Конечно, помогли тут и ранние литературные увлечения Владимира Афанасьевича и его газетная работа в Томске.
Не связанный ни службой, ни обязательными поездками, Обручев мог теперь позволить себе заниматься тем, что было ему интересно. Как-то раз он снял с книжной полки «Путешествие к центру Земли» Жюля Верна и вновь перелистал страницы, волновавшие его в детстве. Великолепно! И теперь, после стольких лет, эту книгу можно читать с увлечением. Но, конечно, Жюль Верн не придерживался, а может быть, и не хотел придерживаться строгой научности. По жерлу погасшего вулкана проникнуть в глубь Земли нельзя, ведь оно забито окаменевшей лавой. А когда герои возвращаются обратно на деревянном плоту, выбираясь на поверхность Земли из кратера действующего вулкана! Они плывут по кипящей воде, потом даже по жидкой лаве. Это никак невозможно.
А что, если написать для молодежи книгу на той же основе, но без столь вольных допущений? Эта мысль увлекла Владимира Афанасьевича, и он не раз возвращался к ней. Ему вспомнилась гипотеза, которую защищали некоторые ученые в старое время: Земля имеет пустоту внутри, и там, в этой пустоте, — свое светило, свой растительный и животный мир. Почему не воспользоваться старым, давно отвергнутым наукой предположением?
Так началась работа над первым научно-фантастическим романом Обручева «Плутония». Его герои проникают внутрь Земли и находят там ископаемую флору и фауну. Они охотятся за мамонтами, встречают длинношерстого носорога, гигантских оленей, саблезубых тигров и даже археоптериксов и динозавров. Конечно, все эти давно вымершие существа были описаны с полной научной достоверностью, книга могла хорошо познакомить читателей с прошлыми обитателями Земли.
Эта работа приносила Обручеву не испытанные прежде радости. Его увлекала собственная фантазия, подсказывая новые и новые приключения. После «Плутонии» он начал «Землю Санникова».
Обручев писал в своем втором романе о приключениях политического ссыльного Горюнова. Его герой попадает на Землю Санникова. Это остров, потухший вулкан среди полярного, покрытого льдами моря. Там великолепная природа — ведь вулканическое тепло согревает почву, «зеленеют лужайки, сверкают зеркала озер», растут не только лиственница и береза, но и тополь, черемуха, шиповник... А живет здесь вольное племя онкилонов...
Ученые долго бились над решением загадки — существует ли в действительности Земля Санникова. Многие пришли к выводу, что земля эта — исчезающий остров — состоит из ископаемого льда, чуть прикрытого песком. Такие острова могут уничтожаться, когда лед разрушается, и возникать снова...
Обручев иначе решил загадку и рассказал о ней увлекательно, с хорошей писательской выдумкой, совершенной точностью в описаниях природы.
Но заниматься только научной фантастикой в трудные военные годы он не мог. Излюбленная наука — геология — не в почете. А между тем она необходима стране. Может быть, сейчас, в военное время, когда геологи способны помогать фронту, на нее обратят больше внимания? Так возникли статьи чисто прикладного значения: «Роль геологии на театре военных действий», «Роль геологии в развитии производительных сил России».
Летом 1915 года Владимир Афанасьевич был на Кавказе. Ему поручили осмотреть медные месторождения недалеко от селения Казбек. Это его третья поездка на Кавказ — первый раз он был в Тифлисе, второй — лечился в Боржоме. Обручев с наслаждением бродил по окрестностям Казбека и жалел, что Кавказ — чудесный, редкий по красоте край — он не изучал.
А годом позже его попросили взять на себя разведку минерального источника в долине реки Качи в Крыму. Туда он поехал вместе с Елизаветой Иса- акиевной и двумя младшими сыновьями. Владимир был на военной службе.
Крым оказался мягче, приветливее Кавказа. Исследование углекислого источника, проверка его каптажа не заняли много времени. Можно было отдохнуть, побродить по интересным местам...
Зрел на солнце виноград. По горам бродили белые стада овец. Величавый пастух подолгу стоял неподвижно, опираясь на длинный посох. Долину Качи замыкали округлые, поросшие лесом холмы. К осени среди слегка пожухлой зелени яркими кострами вспыхивали красные кусты мадрача. А за холмами синели горы. Синели, голубели... Сказочный край. Синегория...
— Я вижу, тебе очень нравится Крым, — говорила мужу Елизавета Исаакиевна.
— А тебя это удивляет?
— Не удивляет — здесь чудесно. Но что именно ты пленился Крымом,— странно. Ты всегда любил пустыни и сибирскую тайгу.
— Пустыня, конечно, место .замечательное, — отвечал Владимир Афанасьевич, не обращая внимания на улыбку жены. — Но я уже не в том возрасте, когда тянет в пустыню. Жить там, во всяком случае, неуютно. А Сибирь за мою к ней любовь так щедро меня наградила морозами, метелями, ветрами, что теперь хочется отогреться. Выбрать уголок потише, поскромнее, где нет курортников, и поселиться... Как бы здесь работа пошла! Сколько еще дневников, к которым я не прикасался, неразобранных коллекций!..
Елизавета Исаакиевна соглашалась, что это было бы неплохо. Но когда осенью Владимир Афанасьевич стал проектировать перевозку в Крым своей библиотеки и коллекций, она задумалась.
— Время трудное, Володя. Войне конца не видно... Трудновато становится с продовольствием... Удобств тут никаких... Боюсь, что и голодно и холодно здесь будет.
Подумали, погрустили о несбывшейся мечте и вернулись в Москву.
Жизнь там стала гораздо строже, озабоченнее. На улицах встречалось много инвалидов. Изменился тип военных — и офицеров и солдат. Прежнюю молодцеватость, лихую военную выправку можно было увидеть лишь изредка. Серые, измученные лица, потертые шинели, в глазах тоска и порой ожесточение, как замечал Владимир Афанасьевич. Даже «сестрички» — сестры милосердия в серых форменных платьях с красным крестом на груди и с белой косынкой — изменились. Розовые лица, кокетливо выпущенные из-под косынки локоны, слегка подкрашенные губы, подчас бойкая французская речь — все, что отмечало в сестре барышню из состоятельного дома, почти исчезло. Иногда еще подкатывала такая «сестричка» с земгусаром[21] к ресторану «Прага» в черной каретке автомобиля или на рысаке, но это уже было редкостью. А строгие, сосредоточенные девушки или пожилые женщины с грубоватыми обветренными лицами, настоящие фронтовые «сестры», встречались. Обычно они сопровождали раненых с забинтованной головой, рукой на перевязи или кое- как передвигающихся на костылях. Продукты стало трудно доставать, чего москвичи прежде не знали. У булочной выстраивались очереди, магазины часто оставались полупустыми, и Надежда Ивановна, ведавшая обручевским хозяйством, шумно ликовала, когда ей удавалось купить хорошее мясо или желтое, душистое «парижское» масло.
Владимир Афанасьевич к этой стороне жизни был равнодушен. Как в походах он безропотно неделями питался пресной дзамбой и черствыми баурсаками, так и дома довольно безразлично съедал то, что подавали на стол. Кажется, единственно, что он любил, — это колбасу и порой спрашивал:
— Надежда Ивановна, а колбаски не удалось достать?
Елизавете Исаакиевне, хозяйке экономной, но привыкшей хорошо кормить .семью, эти лишения доставляли много неприятных минут.
— Я боюсь, что ты не сыт, Володя, — виновато говорила она.
— Досыта наедаться вредно, Лиза, — отвечал Владимир Афанасьевич. — Из-за стола надо вставать с ощущением, что ты мог бы и еще поесть.
Но Сергей и Дмитрий с их здоровыми молодыми аппетитами отцовской теории не придерживались.
А войне действительно, как говорила Елизавета Исаакиевна, не было видно конца.
Знаменитый «брусиловский прорыв» в шестнадцатом году изменил положение. Русские войска на юго- западе стремительным натиском прорвали австрийский фронт во многих местах на протяжении трехсот пятидесяти километров, взяли больше четырехсот тысяч пленных, вот-вот снова возьмут Львов. Об этой блистательной удаче говорили все, восхваляли героизм русского солдата и военный талант генерала Брусилова. Но такой крупный военный успех другими фронтами не был поддержан, Брусилова не любили при дворе за независимый тон, отсутствие искательства. Так бесчисленные человеческие жертвы оказались напрасными... Стало ясно, что Россия войну проиграла.
А дальше события стали развиваться с невиданной быстротой. Убийство Распутина, смятение двора, смена министров, полный упадок хозяйства... Общее глубокое недовольство правительством, усталость солдат, желание мира во что бы то ни стало...
Владимир Афанасьевич по тысяче неуловимых признаков знал, что в стране ведется тайная умная разрушительная работа, что вера в «батюшку царя» в народе подорвана окончательно, что как солдаты-фронтовики, так и рабочие и интеллигенция готовы к революции.
Он с волнением ждал дальнейших событий и все же был потрясен, когда однажды утром Елизавета Исаакиевна с необычным блеском в глазах сказала ему, что только что говорила по телефону со своей приятельницей.
— Она спросила, знаю ли я новости. Я ответила, что не понимаю, о чем она говорит. Тогда она помолчала и сказала почему-то по-французски: «Il n'y a pas de roi».
— Что? Что такое? Царя больше нет!
Владимир Афанасьевич вскочил и бросился на улицу. Об отречении Николая знали еще немногие, и на жизни города это событие пока не отразилось. Манифест появился на следующий день.
Однако первая радость быстро поблекла. Что Временное правительство руководить страной не способно, очень скоро поняли почти все.
В эти смутные, тревожные дни он получил письмо от сестры Маши. Она писала, что осталась одна. Полина Карловна скончалась.
Давно уже Обручев не виделся с матерью, давно отвык от нее, в путешествиях и трудах утерял отрадное чувство единения с ней, крепкой спаянности, неразрывной близости. Но чтил он ее всегда, и теперь, после горестного известия, встали перед ним картины детства, юности...
Из Томского технологического института Владимир Афанасьевич получил телеграмму. Институтский совет поздравлял его «по случаю поворота жизни страны» и приглашал вернуться к преподаванию. Отрадно было сознавать, что прошедшие пять лет не стерли память о нем, но снова ехать в Сибирь было уже не по силам.
Опального профессора помнили в Сибири. А он помнил своих опальных учеников. Старался разузнать, где они, что делают, иным посылал рекомендательные письма, других устраивал на работу. В Томском технологическом получили его письмо: «Вспомните о Борисе Велине. Он остался без диплома, хотя фактически окончил институт. Пять лет он добросовестно работает как горный инженер, а труд его вознаграждается лишь на пятьдесят процентов».
Письмо Владимира Афанасьевича подействовало. Велин получил диплом об окончании Технологического института.
Но эти приятные события не могли заслонить печального сознания, что «поворот жизни страны» не таков, каким он должен быть.
Сначала Обручев присматривался к новым порядкам и только иронически удивлялся, как много и как патетически говорит Керенский. Многословие и напыщенная театральность всегда претили скромной и искренней натуре Владимира Афанасьевича. А немного времени спустя он уже понял ясно и бесповоротно, что должна произойти другая революция и к власти придут большевики. Только они правильно понимали — народу нужны прежде всего мир и земля.
Но когда это случится, он не знал. Не знали и многие московские жители, почему в холодноватый и тусклый октябрьский вечер по улицам проносится столько грузовиков с солдатами. Люди в шинелях, с винтовками, вплотную друг к другу стояли в машинах. Куда они отправлялись? Неужели на фронт? Но фронта фактически уже не было...
В маленьком театрике на Тверской шел концерт Вертинского. Изысканный Пьерро, раскланиваясь с публикой, высовывал из-за черного бархатного занавеса бледное лицо с трагическим изломом бровей. Работали кинематографы, были открыты рестораны. Правда, кормили там плохо и дорого, но еще находилось немало любителей посидеть за бутылкой вина, послушать музыку. А грузовики, ощетинившиеся штыками, все ехали и ехали, и по улицам, молчаливые, темные, двигались колонны рабочих.
О том, что вооруженное восстание в Петрограде закончилось победой партии Ленина, москвичи уже знали, и большинство о низложенном правительстве Керенского не жалело. Но не всем было известно, что в ночь на 28 октября юнкера заняли Московский Кремль, почтамт и телефонную станцию, что они начинают наступление на центр города, что красногвардейцы и рабочие подготовлены к этому и вооружены.
Бои начались в центре Москвы, продолжались на Пресне, в Дорогомилове, у Никитских ворот, в Хамовниках, Замоскворечье, Лефортове, во всех районах города... Возле ресторана «Прага» на Арбате тяжело ухали орудия, рвались ручные гранаты, трещали выстрелы... Обручев пытался выйти из дома, но вооруженный человек, стоящий на углу, предложил ему вернуться обратно.
Постепенно бои откатывались дальше, кое-где еще раздавались одиночные выстрелы. 2 ноября отряды Красной гвардии заняли Кремль. Пришла настоящая революция.
Владимиру Афанасьевичу не пришлось решать вопроса, за кем он пойдет. Он никогда не принимал участия в политической жизни страны, научная работа поглощала его целиком. Но он очень хорошо знал, для кого работает.
С детских лет он помнил рассказы о дедушке Александре Афанасьевиче — его судили за участие в «Обществе военных друзей». О Николае Николаевиче Обручеве — он отказался усмирять восставших поляков и говорил, что не желает иметь отношение к «братоубийственной войне». А дядя Владимир Александрович, сосланный на каторгу за распространение прокламаций... Тетя Маша, Сеченов, Боков, седой полковник на пограничном посту Тахта-Базар, политические ссыльные в Сибири... О благородстве этих людей не приходится говорить.
И с другой стороны — тупые, по-казенному мыслящие чиновники и сановники... Попечитель учебного округа Лаврентьев, министр Кассо... Жадное и чванное купечество... Оголтелое самодурство золотопромышленников вроде Иваницкого, шествовавшего по коврам, разостланным поверх уличной грязи... Управляющий Ленскими приисками Белозеров...
Все, что он делал в жизни, он делал не для них! Ему было важно, чтобы его преподавание нравилось студентам, а не Лаврентьеву, хотелось, чтобы изыскания на Лене и Витиме помогли нищим шахтерам, а не Белозерову и барону Гинзбургу, он с радостью отдавал бы свои знания таким «дикарям», как добрый Гайса, но не собратьям князя Курлык-Бейсе...
И когда через несколько дней после Октябрьских боев знакомый профессор озабоченно спросил: «Что же вы теперь думаете делать, Владимир Афанасьевич?», Обручев спокойно ответил: «То, что делал всегда, — служить России. Народной России...»
Здравствуй, племя
Младое, незнакомое!..
10 октября 1923 года Владимиру Афанасьевичу исполняется шестьдесят лет.
Юбилей празднуют скромно, дома, в семейном кругу. Голодные и холодные годы позади. Елизавета Исаакиевна равными кусками режет великолепное изделие Надежды Ивановны — пирог с капустой.
— Твое здоровье, папа!
— Здоровья тебе, Володя! И удачи в работе.
Владимир Афанасьевич с улыбкой смотрит на жену и сыновей. С легким звоном встречаются над столом бокалы...
После обеда молодые Обручевы расходятся по своим делам. Владимир Афанасьевич и Елизавета Исаакиевна остаются одни.
— О чем задумалась,. Лиза?
— Так, ни о чем. Старые мы уже с тобой. Жизнь почти прошла.
— А я иногда думаю, что теперь только она началась.
— Много ведь всего было.
— Да, не мало. Но поверь, что много и впереди. Хорошего и плохого, всякого.
— Ты идешь в академию? Сегодня можно было бы и отдохнуть...
— .Нет, нужно идти. Впрочем, время у меня еще есть. Надо ответить на анкету. Прислали, просили не задерживать...
Анкету прислали из Центрального института труда. Задача ее — выяснить связь между научной квалификацией ученых, стажем их работы и личными вкусами, склонностями, способностями.
Обручев четко выводит фамилию, имя, отчество. В графе «Возраст» пишет: «Исполнилось 60 лет», отвечает на вопросы о среднем и высшем образовании.
Далее в анкете спрашивается: «С какого возраста вы стали иметь постоянный заработок?» Ответ: «С 17 лет». «Основная профессия и специальность?» — «Горный инженер; специальность — геология». «Побочные занятия?» — «Литературная работа». «Сколько лет занимаетесь основной профессией?» — «37 лет». «Место работы?» — «Московская горная академия (профессор) и Московское отделение Геологического комитета (геолог)».
Ответив на вопросы о педагогической и исследовательской деятельности, Владимир Афанасьевич перечисляет свои важнейшие печатные труды.
— А теперь, Лиза, я сам себе отметки должен ставить. Вот ведь что придумали!..
— Как отметки? Это интересно! Покажи.
Обручев, слегка задумываясь над каждым вопросом, ставит цифры.
«Память вообще? — В школьный период — 5 в период зрелости — 4
Зрительная память? Воображение?... Сообразительность?... Изобретательность?...»
— 5
— 5
— 4
— Тут, пожалуй, можно с чистой совестью пятерку поставить, — говорит Владимир Афанасьевич. — Из каких только положений не выходил... Значит:
«Изобретательность... Внимание... Сила воли...»
— 5
— 5
— 3
— Что ты, Володя? Это у тебя-то сила воли «три»? Ты такой упорный...
— Это другое дело, Лиза. Следующий вопрос — «Настойчивость». Вот тут, пожалуй, я стою пятерки. Ну, а «Решительность» — не больше «четырех». «Активность — живость характера»... Гм... В молодости- то не больше тройки была, а сейчас — «два». Большего моя живость не стоит.
Елизавета Исаакиевна смеется, но не спорит.
— Так... Математические способности... В школьные годы — пятерка, сейчас — тройка. А филологические? В юности, безусловно, «пять», теперь... Не выше «четырех», во всяком случае... Ну, с этим покончено. Склонности и антипатии. Те же отметки... «Как вы относитесь к нижеперечисленным отраслям деятельности и знания?»
«Философия — 2. Любимый автор — Конфуций. Нелюбимый — Ницше».
— А помнишь, в какой моде когда-то Ницше был? — перебивает Елизавета Исаакиевна.
— Мне, Лиза, эта философия «сильной личности» всегда претила. На ее основе много подлости делалось и делается. Естественноисторические науки — «пять». Любимый автор — конечно, Зюсс. Изящная литература — «четыре». Любимцы — Щедрин, Лев Толстой, Короленко, не люблю Маяковского. ,
— Молодежь им очень увлекается.
— Я его. не понимаю, — отрезал Владимир Афанасьевич. — Изобразительные искусства — «четыре». Люблю Верещагина. Азия у него превосходна. А не люблю всех этих кубистов, лучистов. В музыке люблю Шопена, Грига, а плохо отношусь к Вагнеру. Очень много шуму, Ницше под стать... Из театров люблю Московский Художественный... Еще что? Торгово-промышленная деятельность — «два», «два», бесспорно! Сельское хозяйство — «четыре». Техническая деятельность — «три». Военное дело — «единица».
— Володя, ты сам сын офицера!
— Может быть, тут и сказались детские впечатления. Отец служил еще при Николае Первом, потом при Александре Втором — все тяготы тогдашней муштры прошел и сыновьям запретил идти на военную службу. Нет у меня к ней никакой склонности... Ну, а последние графы: физический спорт — «четыре», азартные игры — «два». А «Избранная вами исследовательская деятельность» — круглое «пять», и как искусство, и как наука, и как профессия... Все! Справились с божьей помощью. Будь здорова, Лиза, я ухожу.
Елизавета Исаакиевна подходит к окну и следит за уходящим мужем. Совсем седой... Сильно похудевший. От этого особенно заметен его небольшой рост... Нет, Владимир Афанасьевич не выглядит моложе своих лет и не кажется очень крепким... Немало поработал, мог бы уже устать от кочевой жизни, от долгих часов за письменным столом... Но велики его душевные силы! И он прав — после Октября его работа наполнилась новыми замыслами, новыми свершениями. Пожалуй, так насыщенно, так полно он не жил даже в молодые годы. Только бы не изменили ему бодрость и энергия!
Жизнь Обручева в советское время вовсе не была праздником. Но это была разумная трудовая жизнь, к которой стремится каждый честный и знающий человек.
На первых же порах молодая Республика Советов должна была заботиться о дальнейшем развитии своего хозяйства. И на многие отрасли русской экономики только теперь обратили внимание. Очень мало до сих пор было известно о богатствах русских недр. Это Обручева всегда возмущало. Ныне он знал, что богатства эти, наконец, будут служить людям.
Владимир Афанасьевич начал работать в Высшем совете народного хозяйства как геолог. Взятый советской властью размах, уменье далеко заглядывать вперед, забота о правильном использовании народного добра восхищали его.
Осенью 1918 года Обручев уехал в Донбасс. Его командировали туда для обследования месторождений угля и цемента. На обратном пути он должен был остановиться в Харькове. Туда хотела приехать к родным Елизавета Исаакиевна с сыном Дмитрием.
Владимир Афанасьевич выполнил задание, приехал в Харьков и застал там своих. Елизавета Исаакиевна была очень встревожена. Белая армия и немецкие оккупанты отрезали Харьков от Москвы. Возвратиться домой нельзя. Следовало как-то устраиваться с работой, пока фронт не будет прорван. Обручевы не могли обременять брата Елизаветы Исаакиевны, он жил очень скромно.
Ученые Харькова радушно встретили Владимира Афанасьевича, и вскоре Харьковский университет присвоил ему степень доктора наук «honoris causa», то есть без защиты диссертации. А вслед за этим Обручев получил предложение занять кафедру геологии в Симферопольском университете.
Это был выход из трудного положения. Кроме того, в Крыму в это время жил сын Владимир. Его туда командировали как работника Московского продовольственного комитета. В Ялте со своею матерью жила его жена.
Владимир Афанасьевич знал, что Таврический университет был задуман как здравница. Предполагалось, что в нем будут учиться студенты, которым по состоянию здоровья нужно жить в южном климате. Царское правительство долго решало этот вопрос, но так до своего свержения и не решило его. Университет открылся уже после Февральской революции и вначале получил в свое распоряжение царские дворцы в Ливадии и Массандре, но потом его перевели в Симферополь. Там было беднее и теснее.
Обручеву предстояло читать курс физической геологии и наладить работу геологического кабинета. Впрочем, кабинета еще не существовало. Правда, помещение уже отвели, но ни единого экспоната! Все нужно создавать с самого начала.
Трудно сказать, как поступил бы на месте нового профессора кто-нибудь другой. Но Владимир Афанасьевич стал действовать «по-обручевски». Иначе он не умел.
Приехали в Крым весной. Времени до начала занятий оставалось много. Если бы свободно передвигаться по Крыму! Конечно, за лето он собрал бы превосходные коллекции. Но об этом и думать нечего. Идет гражданская война. Не то чтобы выезжать в другие районы, но и отходить далеко от деревни Кикинеиз, где семья поселилась, небезопасно.
— Ты опять в поход, Владимир Афанасьевич? — спрашивала Елизавета Исаакиевна. — Ради бога, осторожней! Ведь кругом банды... И что ты один можешь сделать? Все это напрасный труд.
— Что успею, то и сделаю. На голом месте курс нельзя начинать.
Обручев бродил по окрестностям и возвращался нагруженный образцами. Вокруг Кикинеиза залегали триасовая и нижнеюрская свиты. Собрать богатую коллекцию едва ли удастся... Ну, там видно будет!
Он отбивал небольшие куски пород, обрабатывал их так, чтобы все они были одинакового размера и формы. Тишина, безлюдье, сухой треск цикад умиротворяюще действовали на него. Вдали голубела гряда Крымских гор, хорошо виден был Ай-Петри. Вот куда бы добраться!
Волны так обтачивают гальку, что собрание этих камушков великолепно объясняет работу моря. Как обидно, что нельзя побывать возле древнего вулкана Карадага! Рассказывают, что там на берегу можно найти прекрасно обточенные морем сердолики, халцедоны, яшмы...
Осенью во двор старого военного госпиталя в Симферополе, где разместился геологический факультет, въехали две тяжело нагруженные подводы.
Каждая запряжена парой сильных коней. А на подводах ящики, ящики... Нет им конца!
Уже одно появление нового профессора с таким солидным грузом учебных пособий заинтересовало студентов. А когда узнали, что профессор сам отбил и собрал каждый камушек, не один юноша пожалел, что ничего не знал об этой работе и не смог помочь Обручеву.
Но добровольные помощники были нужны и теперь. Студент Щербаков — ассистент Обручева[22] занялся библиотекой, первокурсник Федорович[23] — позже он стал препаратором кабинета — готовил коробки и лотки для коллекций, а Владимир Афанасьевич надписывал этикетки для каждого образца. Работа начиналась дружно. Студенты с нетерпением ждали первой лекции.
Ожидание их не обмануло. Ничего внешне эффектного в этом профессоре не было. Ни навыков блестящего оратора, ни особой выразительности интонации, ни звучного, хорошо поставленного голоса, ни меткого остроумия. Но после лекций Обручева каждому казалось, что он только что вернулся из увлекательного путешествия в природу, постиг то, о чем никогда не думал прежде, постиг и запомнил.
Пожалуй, не найти такого ученика Обручева, который не вспоминал бы его с признательностью и восхищением.
Борис Александрович Федорович так пишет о нем: «Лекции были просты по изложению, каждая мысль и каждое положение вытекали из примеров, показанных на таблицах, либо подтверждались образцами. Ничего не было сказано такого, что надо было брать на веру, все было осязаемо, видимо и потому необыкновенно просто, ясно и доказуемо. Это великий дар — так разбираться в сложнейших проблемах строения и формирования земной коры, чтобы донести их до любого слушателя с предельной ясностью. Здесь не было ни малейшего элемента упрощенчества, а было лишь раскрытие максимальной простоты и закономерности природы, постигаемое в процессе глубочайшего проникновения в ее тайны. Каждая лекция заканчивалась подробными ответами на вопросы студентов.
Курс физической геологии читался оба семестра 1919/20 учебного года, и я могу засвидетельствовать, что он один был целым университетом геологических и географических знаний. Он являлся источником настолько образного и наглядного знакомства с природой изученных Владимиром Афанасьевичем пространств, что когда через сорок лет (в 1957—1959 годах) мне доводилось повторять его маршруты по Джунгарии и Внутренней Монголии, изучать весь Синьцзян и проехать через весь Китай от Кульджи до Пекина, мне казалось, что я ездил по виденным мной лично и знакомым мне местам».
Велика должна быть образность и убедительность преподавания, чтобы через сорок лет ученый воспринял новые для него места, как известные, и «узнавал знакомые приметы».
Острое внимание ко всему, что он видел, и хорошо натренированная память всегда помогали Обручеву. Как часто известные и даже прославленные ученые, читая свой курс, приводят в пример все одни и те же, много раз использованные и в литературе и в преподавании случаи. А Обручев — верный ученик Мушкетова — продолжал метод Ивана Васильевича — подтверждать любое положение науки рассказом о том, что видел сам. И таких рассказов у него было множество.
В следующем году Обручев, кроме физической геологии для новичков, начал читать полевую геологию, предмет, уже читанный в Томске, но все же курс для России совершенно новый. Теперь Обручев его расширял и работал над ним от лекции к лекции. Об-этой методике геологических исследований Борис Александрович Федорович рассказывает: «Ясно и просто излагал Владимир Афанасьевич все то, с чем встретится геолог во время изучения любых районов от Арктики и тундры до высоких гор, как снарядить и организовать работы с упряжкой собак, с караваном верблюдов, с вьючными оленями и лошадьми, на лодке и в пеших маршах? Чем питаться, как фиксировать увиденное, на что и в каких случаях обращать внимание, как и что изучать, какие могут быть трудности при исследовании самых различных толщ горных пород, месторождений, дислокаций и форм рельефа? Что может подсказать решение самых разнообразных вопросов и проблем? Все это было изложено сжато и целеустремленно. Можно прямо сказать, что этот курс объединял в одну стройную систему все необходимые географу и геологу знания — от элементов поваренной книги до философии. геологии, до советов, как прийти к решению сложнейших научных вопросов.
...Такое пособие могло быть советчиком в самых трудных условиях, когда геолог предоставлен самому себе, лишен возможности посоветоваться с товарищем, а отвечает не только за итоги долгой и трудной работы, но и за жизнь людей своего отряда. Предотвратить тысячи ошибок, уберечь жизни, сделать труд изыскателя наиболее целеустремленным и продуктивным — вот задача этого пособия. И с ней Владимир Афанасьевич справился так, как мог сделать это только он, все испытавший лично в самых трудных путешествиях».
Курс был создан. Об издании его в те годы нечего было думать, но Обручев не сомневался, что придет время, и «Полевая геология» увидит свет. Вероятно, он еще и еще будет работать над ней, улучшать, уточнять... Но такая книга необходима молодым геологам, и страна, конечно, даст им все, что нужно для удачной работы. Ведь только теперь геология выходит на широкую дорогу с той узенькой тропки, по которой шла до сих пор.
Это не переставало радовать Владимира Афанасьевича, делало легким его труд, помогало не обращать внимания на тяжести быта.
Оправдались опасения Елизаветы Исаакиевны — было и холодно, и голодно, и очень небезопасно. Несколько раз Крым переходил из рук в руки, и каждый приход белых сопровождался расправами с населением.
В Симферопольском университете собралось в те годы немало видных ученых. Многие приехали в Крым на летний отдых и не смогли возвратиться домой. Здесь был академик Палладии — специалист по физиологии и анатомии растений, академик Сушкин читал зоологию позвоночных и палеозоологию, академик Вернадский — один из создателей новой науки — геохимии — вел этот предмет и минералогию.
Владимир Иванович Вернадский создал в Ленинграде, а потом в Киеве, когда был президентом Украинской академии наук, Комиссию по изучению производительных сил. И здесь, в Симферополе, он решил организовать эту работу, справедливо считая, что царская Россия непростительно халатно относилась к природным богатствам страны. Необходимо, чтобы ученые, каждый по своей специальности, занялись всесторонним изучением месторождений полезных ископаемых, водных бассейнов, животного мира, растительности, почвы — словом, всего, на чем строится народное хозяйство.
Соображения эти полностью совпадали со взглядами Владимира Афанасьевича — он работал в такой комиссии в Москве и сейчас охотно принял в ней участие. Производил экспертизу Крымских угольных месторождений, изучал минеральные источники. Очень заинтересовался оползневыми процессами на южном побережье полуострова, где когда-то вместе со страшным оползнем рухнула в море целая деревня. И, верный своему правилу — всегда изучать не только далекие и неведомые земли, но и те уголки, в которых приходится жить, хотя бы недолго, он занялся геологией Крыма.
Оползни южного берега заставили его подробнее обследовать этот район, и он напечатал в местной газете статью о том, что на юге Крымского полуострова возможны грозные землетрясения. Выводы Владимира Афанасьевича многим казались необоснованными, но он был уверен в своей правоте.[24]
Осенью 1920 года пришла окончательная победа советской власти. Красная Армия победоносно заняла Крым. Почти вся страна освободилась от иностранных интервентов. Конечно, первой мыслью Обручевых было возвращение домой. Елизавета Исаакиевна сильно беспокоилась о Сергее. Он оставался в Москве, и вести от него приходили редко. Но Владимир Афанасьевич не мог уехать, не закончив своих лекций.
Вскоре он получил приглашение в Московскую горную академию, созданную, по мысли Ленина, в 1919 году, но уехал лишь в апреле, когда оба курса были прочитаны и студенты сдали экзамены. Провожала его молодежь с грустью и благодарностью.
И вот снова Москва! Горная академия... Именно о такой высшей школе мечтал Обручев. В справочнике для поступающих он писал о том, что эта школа может дать студентам:
«Юноша, ищущий высшего горного образования, может выбрать тот факультет, который соответствует его склонностям и способностям.
Если его интересует древняя история нашей Земли, тайны строения ее лика и развития органического мира, образования морей и материков, гор и долин, пустынь и вулканов; если его влечет мир камней с его своеобразными красотами и кочевая жизнь в поисках геологических документов — он поступит на геологоразведочный факультет.
Если его привлекают недра Земли с их богатствами, тяжелая и обильная опасностями ответственная служба рудничного инженера; многоэтажные подземные лабиринты, полные таинственного мрака; упорная борьба с врагами рудокопа — подземной водой, пожарами, взрывами, сбросами и сдвигами, прерывающими месторождение, он выберет горнорудничный факультет.[25]
Если же ему больше нравятся муравейники заводских зданий, дышащие жаром печи, переваривающие руду, огромные домны, изрыгающие огонь, подобно вулканам, гигантские валы, молоты и прессы, обрабатывающие раскаленный металл, — он пойдет на металлургический факультет».
Жилось еще трудно. Не действовало паровое отопление в домах, не было дров. Обогревались крохотными железными печурками — «буржуйками» и «пчелками». «Пчелка» деловито жужжала, наливалась жаром, отрадная теплынь разливалась вокруг, люди сбрасывали с себя тяжелые валенки, куртки и кофты, ложились спать согретые, но «пчелка» погасала, и холод быстро выгонял из комнат непрочное тепло. Где уж было ей, малышке, согреть промерзшие толстые стены добротных московских домов! Утреннее вставание было особенно тяжело, казалось, что вылезти из-под одеяла равносильно смерти. Но никто не помнил случая, чтобы Владимир Афанасьевич опоздал на лекцию.
Он читал на старших курсах «Рудные месторождения» и «Полевую геологию». Был деканом горного факультета, а потом и проректором, но работа в деканате отнимала очень много времени, и Владимир Афанасьевич обрадовался, когда освободился от нее.
Каждому опытному педагогу радостно видеть среди множества учеников особенно внимательных, любопытных, тех, кто слушает с жадным интересом, задает много вопросов и самостоятельно приходит к выводам, на которые учитель лишь намекает. Таких было немало, им Владимир Афанасьевич отдавал много времени и не жалел об этом. Его восхищало новое племя молодых людей, часто плохо подготовленных, но горящих желанием знать. Такие все преодолеют, всего добьются!
Евгений Владимирович Павловский[26] один из ближайших учеников Владимира Афанасьевича, проходивший затем аспирантуру под его руководством, рассказывает:
«Он вел два курса — полевой геологии и рудных месторождений. Лекции были интересны, но суховаты и, пожалуй, перенасыщены фактами. Правда, из этой огромной кучи фактов постепенно начали появляться обобщения, сразу привлекавшие внимание, освежавшие мозг и дававшие ощущение радости познания. Хорошо было также то, что «подача» фактического материала шла не только через слух, но и зрительно. Лекции обычно шли в полутемноте, в небольшой аудитории на третьем этаже «геологического корпуса», под монотонное гудение вольтовой дуги проекционного аппарата, и на экране в изобилии проходили перед нами геологические карты, разрезы, зарисовки обнажений, раскрашенные самим Владимиром Афанасьевичем, или же великолепные его фотографии, на которых мы видели куски природы Сибири, Монголии, Китая, Средней Азии и Западной Европы. Мы познавали нашу родину и неведомый еще тогда для нас огромный внешний мир, ощущали его бесконечную сложность и многообразие.
На экзаменах Владимир Афанасьевич был терпелив, немногословен и довольно снисходителен. Мы побаивались этих встреч, хотя и знали, что встретимся с объективным и спокойным судьей. Было как-то особенно неловко идти к нему на экзамен, не зная толком предмета. Было понятно всем, что напрасно отнимать время у такого человека нельзя. Мы знали, что в те годы Владимир Афанасьевич писал общеизвестные теперь руководства по рудным месторождениям, полевой геологии и усиленно работал над русским и немецким вариантами текста книги о геологии Сибири. Провалы на экзаменах были редким случаем.
В маленьком кабинете, где принимались зачеты и экзамены, царила атмосфера внешне спокойная, но полная большого внутреннего напряжения. Отвечали обычно вполголоса, а Владимир Афанасьевич слушал, слегка прикрыв глаза веками и окутываясь дымом благовонного «капитанского» трубочного табака. Дополнительные к билету вопросы задавались им далеко не всегда, только в случае каких-либо сомнений. Вопрос задавался спокойно и лаконично. Наиболее ценным был точный, но очень краткий ответ.
Своеобразно проходили экзамены по курсу полевой геологии. Входящий в кабинет получал от Владимира Афанасьевича рукописный, им самим приготовленный и раскрашенный экземпляр геологической карты. Требовалось сделать к ней один или два разреза по заданным линиям. Экзаменовались сразу три студента. Двое корпели над картами. Третий предъявлял свои разрезы. Как правило, если все было благополучно, то экзамен шел в полном молчании. Слышно было только дыхание, скрип пера Владимира Афанасьевича, делавшего отметки в зачетной книжке, и хлюпание никотиновой жижи в мундштуке его трубки. Вся процедура напоминала церемонию древнего религиозного обряда».
Владимир Афанасьевич придавал большое значение студенческой практике. Павловский вспоминает:
«Мы должны были проходить длительные многомесячные летние практики с первого же курса и ехали по своему выбору в любую доступную часть Советской России, на окраинах которой еще горело пламя ожесточенной войны с белогвардейцами и интервентами. Благодаря такой постановке дел в 1920 году я в составе группы студентов работал откатчиком, забойщиком, запальщиком в шахтах и карьерах Черемховского каменноугольного бассейна, ознакомился с его геологией, впервые увидел Байкал и Слюдянское месторождение флогопита».
О лекциях Обручева вспоминает и другой его ученик — горный инженер Селиховкин:
«Отчетливо вспоминается аудитория академии зимой 1921—1922 годов. Вдоль кафедры ходит профессор Обручев в теплом пальто и шапке. В аудитории холодно, как на улице. Лекция по геологии рудных месторождений. На экране сменяются разрезы, графики, формулы.
Аудитория — напряженное внимание. Заледеневшие пальцы едва держат карандаш, но неустанно записывают. Тихо. Очень холодно. В желудке пусто.
Вот профессор Обручев — теперь уже академик. Молодые, совсем юные глаза его как-то гармонируют с седой бородой и седой головой. Какая тишина на лекциях, как внимательно схватывается каждое слово человека, за свою жизнь отнявшего у старушки Земли не одну ревниво скрываемую тайну!
Мне Владимир Афанасьевич особенно дорог. Никто так много не дал для геологии золота, как он. В своей последующей практической работе я не раз прибегал к его трудам, не раз пользовался его советами. Весьма солидная часть тех многих десятков тысяч килограммов золота, которые добыты или найдены при моем участии, может и должна быть отнесена за счет замечательного теоретического прогноза Владимира Афанасьевича».
Трудное время, вспоминаемое В. В. Селиховкиным, миновало. Жизнь налаживалась. Владимир Афанасьевич получил хорошую трехкомнатную квартиру в здании Горной академии в начале Большой Калужской улицы. Туда переехали он с Елизаветой Исаакиевной, Митя и Надежда Ивановна. Квартира в Калошином переулке стала коммунальной, там поселились чужие люди. В ней остались Владимир к Сергей.
В тысяча девятьсот двадцать первом году Обручев был избран членом-корреспондентом Российской академии наук. И за этим почетным избранием последовали многие другие: Владимир Афанасьевич стал почетным членом Гамбургского географического общества, членом-корреспондентом Китайского геологического общества, в 1925 году получил вторично премию имени Чихачева от Парижской академии наук за работы по геологии Азии.
В эти годы он выпустил третью часть «Геологического обзора золотоносных районов Сибири», свой курс «Рудные месторождения» в двух частях, научно-фантастические романы «Плутония» и «Земля Санникова». Он опубликовал курс «Полевой геологии» и большой труд «Геология Сибири» на немецком языке. За эту работу .Обручев получил премию имени Ленина. Награда, связанная с именем Владимира Ильича, была ему особенно дорога.
Обручев с огромным интересом и уважением относился к деятельности Ленина. Его радовали высказывания Владимира Ильича о роли естественных наук в строительстве социализма и взятый Лениным курс на развитие производительных сил страны. Он считал, что труд Ленина «Материализм и эмпириокритицизм» имеет большое значение в научном творчестве всякого прогрессивного естествоиспытателя, будь он химиком, физиком, биологом или геологом. Владимир Афанасьевич следил за распоряжениями Ленина относительно Курской магнитной аномалии, изучения нефтяных залежей и месторождений горючих сланцев. Он знал со слов академика Губкина, что широкое промышленное освоение Урало-Эмбинского нефтеносного района было начато по инициативе Ленина.
Это внимание вождя народов к развитию естественных производительных сил страны, а следовательно, и к его науке — геологии — очень ободряло Обручева. Забота Ленина об ученых, создание специальной комиссии по улучшению их быта в трудные двадцатые годы трогали Владимира Афанасьевича, как и других советских научных деятелей.
Кончина Владимира Ильича была в жизни Обручева событием большим и скорбным. Он навсегда сохранил в памяти туманно-морозные январские дни, длинную извивающуюся очередь к Дому союзов, огромный мертвый лоб Ленина и слезы множества людей, пришедших проститься с вождем...
Нет, Владимир Афанасьевич не ошибался, когда говорил, что жизнь только начинается, хотя и встретил революцию пятидесятипятилетним человеком.
Как ученый, писатель, общественный деятель он только теперь работал так, как ему хотелось, и сознавал, что ни одна плодотворная мысль, ни одно его начинание не будет встречено равнодушно и казенно. Все — от скромного первокурсника до маститого академика — хотели работать для своей республики много, честно, плодотворно. Великое время, когда людскими поступками движут великие идеи!
Это празднично-деловое настроение подчас омрачалось. Он не мог уже, как в молодости, уходить в любимую природу, путешествовать... Теперь он планировал путешествия других, как старший геолог Геологического комитета, как член ученого совета Института прикладной минералогии и металлургии- Молодые работники теперь ездили по стране, вели разведки, изучали месторождения, а он проверял результаты их поездок. Вся геологическая служба страны, все успехи горной промышленности были ему известны. А в новых советских учреждениях, ведавших золотодобычей, — «Лензолото» и «Алданзолото» — он возглавлял разведочные отделы.
Самому Обручеву в эти годы приходилось довольствоваться поездками в полюбившийся ему Крым. Ездил он и в Кисловодск для лечения и доставлял немало беспокойства своим врачам, делая далекие экскурсии в горы.
В 1926 году удалось побывать во Владикавказе для осмотра Садонского рудника, месторождения цинка и свинца. С прежней неутомимостью ходил он по штольням и забоям и открыл продолжение рудной жилы, раньше не обнаруженное, хотя другие геологи считали этот рудник неперспективным.
Когда в Ташкенте собирался Всесоюзный геологический съезд в 1928 году, Владимир Афанасьевич, ни минуты не раздумывая, решил в нем участвовать. Тут он особенно почувствовал любовь и всеобщее уважение к себе. Участники съезда сердечно приветствовали популярнейшего геолога страны и единодушно избрали его председателем. Он работал в номере гостиницы над докладом о китайском лёссе, когда ему сообщили об этом избрании. Пришлось отложить подготовку доклада и приступить к руководству собранием.
Доклад Обручева о китайском лёссе слушали с огромным вниманием. А после съезда вместе с экскурсией геологов Владимир Афанасьевич ездил на места скопления лёсса, проехал всю Туркмению и увидел Каракумы через сорок лет после своего путешествия по этим краям.
Во время этой экскурсии снова вспыхнул старый спор о лёссе. Одни геологи, стоявшие за почвенное происхождение лёсса, уверяли, что он может образоваться из любого мелкозема в связи с химическими и биологическими процессами, происходящими в почве и зависящими от климата. Те же, кто, как и сам Владимир Афанасьевич, защищал эоловую теорию, считали, что лёсс — образование пылевое. Пыль приносится из пустынь в степь ветрами и, постепенно накапливаясь там под влиянием тех же химических и биологических факторов, превращается в лёсс.
В Ташкенте Обручев прежде не был. Старый город показался ему похожим на китайские города. Те же узкие улицы без мостовых, длинные ряды крохотных лавчонок и мастерских ремесленников, желтые глиняные дувалы, женщины в чачванах, с черной волосяной сеткой на лицах...
Но новый Ташкент был уже вымощен, на его широких улицах высились построенные большие дома, шелестели тополя, в тени их бежали арыки.
Побывал Владимир Афанасьевич на станции Ре- петек, где когда-то его застала песчаная буря. Бай- рам-Али, о котором он думал как о будущем курорте, стал таким курортом. В Самарканде Обручев просто не узнал новую часть города, так же как в Ашхабаде. «Только горячее солнце, несмотря на начало октября, напоминало мне о прежнем Ашхабаде», — писал он.
Из Красноводска на катере отправились на остров Челекен. Каспий был неспокоен, катер сильно качало, и экскурсантов мучила морская болезнь. Только шестидесятипятилетний Обручев гулял по палубе, пил чай и спокойно покуривал свою трубку.
— Завидная закалка! — сказал кто-то из геологов.
Сохранилась фотография Владимира Афанасьевича, сделанная в Ташкенте. Совершенно седой человек, старческая рука с ясно обозначенными венами придерживает трубку. А взгляд молодой, зоркий, хозяйский... Если бы и не видно было на фуражке геологической эмблемы — скрещенных молотков, все равно каждый узнал бы в нем закаленного путешественника, человека, привыкшего всматриваться в дали во время своих скитаний.
В западной части Челекен оканчивается над морем очень высоким крутым обрывом. В нем хорошо видны нефтеносные слои. Среди глинистой породы змеились пропластки затвердевшей нефти. Когда кончился сухой пляж, нужно было идти по морскому мелководью, и Владимир Афанасьевич, как другие участники экскурсии, снял ботинки, закатал брюки и по колено в воде пошел дальше.
На другой день ездили в повозках, запряженных верблюдами, — лошадям трудно передвигаться по сплошным пескам Челекена — к Розовому озеру. Вода в нем необычного вишнево-розового цвета и сохраняет свой оттенок даже налитая в стакан. Черное кольцо затвердевшей нефти окаймляет это удивительное озеро.
На обратном пути снова укачало всех, кроме Обручева.
Очень довольный поездкой, Владимир Афанасьевич отправился с другими экскурсантами в Баку, а оттуда, простившись с товарищами, — в Сочи, где его ждала Елизавета Исаакиевна. Ему предстояло лечение от ревматизма серными ваннами в Мацесте, и он благоразумно не рассказал жене о своей прогулке босиком по воде.
В начале 1929 года Владимир Афанасьевич был избран в академики. Академия наук находилась в Ленинграде. Пришлось оставить Москву и Горную академию. Он снова поселился в городе, где проходила его юность.
Дни, месяцы, лета проходят
И неприметно за собой
И младость и любовь уводят.
ГИН, ПИН и ПЕТРИН —
Все похожи, как один.
Камни тут и кости там,
Ископаемый все хлам...
Возглавляет весь костяк
Академик Борисяк.
Такой стишок был в ходу у молодых научных работников и аспирантов. Говорили, что сочинил его палеонтолог Ефремов.[27]
Таинственные названия расшифровывались очень просто. ГИН — Геологический институт Академии наук. Директором его был академик Обручев. ПИН — Палеонтологический институт, руководимый академиком Борисяком, а ПЕТРИН — Институт петрографии. Им ведал академик Левинсон-Лессинг.
Все три института разместились на Тучковой набережной в старинном здании таможни. Канцелярия была общей, и дела институтов вершил один секретарь — исполнительная и энергичная Ксения Михайловна Завадзкая.
На третьем этаже в конце широкого, очень гулкого коридора — кабинет Владимира Афанасьевича. Здесь все просто — в шкафах геологические коллекции, книги, рукописи. Посередине комнаты — бюро и вращающееся кресло. У окна — небольшой столик аспиранта Евгения Владимировича Павловского.
Обручев бывал здесь два раза в неделю. Приходил он всегда рано, до начала занятий, зажигал настольную лампу и начинал писать. Павловский вспоминает, что утренние часы проходили в молчании и сосредоточенной работе. Обручев курил свою трубку, шелестел листами бумаги, ни в какие разговоры не вступал. Он обрабатывал свои китайские дневники, писал сводку по четвертичному оледенению Сибири. Владимир Афанасьевич умел работать, ничем не отвлекаясь, очень подолгу и не любил, когда его отрывали от дела. Если с утра приходили посетители, он порой с тяжким вздохом откладывал перо и поворачивался вместе с креслом к собеседнику. Однако всегда внимательно слушал и давал немногословный, но исчерпывающий ответ.
В час дня Обручев включал электрический кипятильник, пил чай и завтракал. После этого перерыва начинался прием посетителей. Когда разговор бывал интересен, а особенно если касался геологии Сибири или Центральной Азии, Владимир Афанасьевич оживлялся. Но как только посетитель уходил, он немедленно снова начинал работать, и на выдвижной доске бюро росла пачка исписанных листков бумаги.
После рабочего дня в Академии наук Владимир Афанасьевич уезжал домой. Путь был не близкий. До вокзала на трамвае, затем пригородным поездом до Гатчины.
Когда Обручевы приехали в Ленинград и немного огляделись, Елизавета Исаакиевна сказала мужу:
— А ты знаешь, не хочется мне жить в городе. Видно, возраст такой, что тянет на природу, к деревьям, цветам, животным... Не поселиться ли нам где-нибудь под Ленинградом?
Этот план понравился и Владимиру Афанасьевичу.
Удалось купить в Гатчине дом с садом. Елизавета Исаакиевна впервые в жизни занялась сельским хозяйством. Хлопот было много, но много и радостей, доныне неизведанных. С тех пор как Владимир Афанасьевич стал академиком, материальные заботы отступили. Можно было позволить себе многое из того, что раньше казалось недоступным. Ее утешало, что корова дает густое молоко, что смешные пушистые шарики-цыплята катятся за наседкой, весной яблони покрываются бело-розовыми хлопьями цветов, а под осень сгибаются под грузом яблок — сладкого белого налива и крупного штрифеля. Правда, за цыплятами охотились соседские кошки, а дачный сторож — овчарка Леди была деликатна, как настоящая леди, и совершенно не переносила жары. Душными ночами она забиралась в прохладную кухню, а мальчишки безжалостно разворовывали яблоки. Но все это были мелочи...
Огорчало другое: здоровье как-то резко ослабело. Любая перемена погоды вызывала такое сжатие сердца, что каждый раз становилось страшно, не конец ли это. Врачи плохо помогали, у них был один припев: «возрастное...» По совету знакомых Елизавета Исаакиевна обращалась даже к доктору-психиатру, но он сказал, что на барометрическое давление оказать влияния не может.
И все-таки годы в Гатчине были мирными и приятными. Летом сад пестрел цветами, дом был уютный. Сыновья, жившие в Ленинграде, съезжались к родителям на дачу.
Владимир похоронил первую жену, умершую в Ялте от туберкулеза, через несколько лет женился снова и работал в Ленинградском отделении Института прикладной минералогии. Сергей после нескольких очень удачных путешествий по рекам Индигирке и Ангаре работал в Академии наук. Дмитрий, палеонтолог, специалист по ископаемым рыбам, переехал в Ленинград еще раньше, поступив на службу в Научно-исследовательский геологоразведочный институт.
По хозяйству Елизавете Исаакиевне помогала все та же Надежда Ивановна, постаревшая, но еще деятельная. Эта бесконечно преданная семье Обручевых женщина следовала за ними всюду и давно уже стала своим человеком. Всем трем сыновьям Владимира Афанасьевича она говорила «ты» и нередко отчитывала их своим украинским говорком.
— Володя, ты шо задумался? Обед захолодает.
— Сережа, почему ты без калош? Захворать охота?
Особенно Надежда Ивановна любила своего питомца Дмитрия.
Иногда к Обручевым приезжал погостить кто-нибудь из родственников Елизаветы Исаакиевны, вдова ее покойного брата или младшая сестра Софья. Очень радовала первая внучка Наташа, дочь Владимира.
Но самым главным в жизни семьи всегда была работа Владимира Афанасьевича. Никакие развлечения и удовольствия не должны были ей мешать.
Кабинет гатчинского дома чем-то напоминал кабинет Зюсса. Впрочем, вероятно, все рабочие комнаты настоящих ученых — людей, заботящихся не о красоте и моде, а лишь о том, чтобы удобно было работать, имеют между собою сходство. Книги поднимались до потолка. Их было множество, но благодаря систематической расстановке Обручев всегда быстро, почти не глядя, находил то, что ему нужно. Над столом висели портреты Мушкетова и Зюсса. Они сопровождали Владимира Афанасьевича во всех его переездах из города в город. На письменном столе был строгий порядок. Хаоса, нагромождения рукописей, книг, таблиц Обручев не выносил. В стаканчике — хорошо отточенные карандаши. Писать Владимир Афанасьевич любил на небольших листках бумаги. Пачка таких листков всегда лежала наготове. Никаких безделушек, украшений, сувениров. Но когда Елизавета Исаакиевна ставила на стол небольшую вазочку с каким-нибудь цветком, Обручев бывал доволен.
Здесь он работал целыми днями. С утра садился за «Историю геологического исследования Сибири». Пришло время окончательно оформить и привести в порядок этот труд, начатый очень давно, еще в молодые годы в Иркутске. Всю жизнь Обручев регулярно пополнял его, следя за всеми печатными работами по вопросам сибирской геологии и получая материалы о новых наблюдениях непосредственно от геологов-сибиряков.
Первый том содержал рефераты о сочинениях, вышедших еще в семнадцатом и восемнадцатом столетиях, путешествиях первых исследователей Сибири — послов в Китай — Байкова и Спафария. Дальше — Гмелин, Паллас, Георги и Великая Северная экспедиция капитана-командора Витуса Беринга.
Во втором томе Обручев помещал исследования первых русских геологов, изучавших Сибирь, — Чихачева, Щуровского, Гельмерсена.
Третий период — Кропоткин, Маак, Меглицкий, Чекановский, Черский, чье имя было особенно дорого Владимиру Афанасьевичу.
На рубеже двадцатого столетия, когда уже начал работать Государственный геологический комитет, путешествий стало гораздо больше, и каждое из них прибавляло новые знания к сибироведению: Преображенский, Иностранцев, Краснопольский и люди, близкие самому Обручеву, — Карл Иванович Богданович, Герасимов, Клеменц...
Это было далеко не все. Дореволюционных работ Обручев насчитывал 5 284. Но они не составляли и половины всего, что вышло после Октября, хотя годы гражданской войны были, конечно, бедны и путешествиями и печатными научными трудами.
Все огромное значение этого поистине колоссального труда невозможно охватить. Пожалуй, лучшую характеристику дал ему сам Обручев, называя это издание «настольной справочной книгой каждого геолога, петрографа и палеонтолога, так или иначе интересующегося Сибирью; но и исследователи других специальностей — минералоги, географы, почвоведы, геоботаники, горные инженеры нередко будут пользоваться им».
«Насколько я знаю, — продолжал Обручев со своей всегдашней скромностью, хотя знал он совершенно точно, — подобного справочника не имеет до сих пор ни одна страна. Сибирь будет первой в этом отношении».
Продолжал работать в то время Владимир Афанасьевич и над «Геологией Сибири». Эта книга впервые была издана в 1926 году в Германии на немецком языке, и за нее Обручев получил Ленинскую премию. В Советском Союзе тогда она могла выйти только в сокращенном виде. Такой сводный вариант под названием «Геологический обзор Сибири» увидел свет через год после выхода немецкого издания. А теперь Владимир Афанасьевич готовил для печати полный текст «Геологии Сибири», дополняя и расширяя свой труд. Работа была задумана как трехтомное исследование. В первой книге Обручев давал описание самых древних формаций докембрия и нижнего палеозоя. Во второй должны быть отражены средний и верхний палеозой, а в третьей — мезозойская и кайнозойская эры.
С утра, «на свежую голову», как он всегда говорил, Владимир Афанасьевич писал. После прогулки р и обеда переходил к более легкой работе — читал I диссертации, писал отзывы на книги и рукописи, рецензии, рефераты. Вторая прогулка перед вечером иногда заменялась работой в саду. По вечерам он обычно отвечал на письма, а их всегда было множество. Почтальон чуть ли не треть своей сумки оставлял на обручевской даче. Писали ученые со всех кон- 5 -цов света, писали геологи из Сибири, Крыма, Украины, Дальнего Востока, Севера — из самых дальних j. уголков страны и из-за рубежа. Писали бывшие ученики, спрашивая совета, делясь наблюдениями. Писали студенты — будущие геологи и горные инженеры и, наконец, школьники — читатели научно-фантастических книг. Многие подростки так искренне верили в действительное существование Плутонии и Земли Санникова, что просили взять их в новую экспедицию по этим замечательным местам. Они будут хорошо учиться, слушаться учителей и родителей, не обижать младших... Обещания давались самые пылкие, лишь бы не отказали.
Владимир Афанасьевич отвечал на все письма сам, а в предисловиях к переизданиям своих романов старался объяснить юным читателям разницу между реальной жизнью и научной фантастикой. Но предисловия читали не все, и письма от желающих испытать невероятные приключения по-прежнему приходили. Это несколько огорчало Владимира Афанасьевича.
— Экие невнимательные! — говорил он. — Ведь, кажется, ясно написал. Нет, мы в их возрасте были серьезнее. Никому в голову бы не пришло писать Жюлю Верну, чтобы взял на «Наутилус».
Так, разделяя свою ежедневную работу на три части, Владимир Афанасьевич успевал делать очень много. Недаром впоследствии Усов говорил, что результат его дневных трудов не меньше, чем. у целого учреждения.
Только поздно вечером, уже на сон грядущий, Обручев позволял себе читать художественную литературу. Азартных игр он никогда не любил, недаром в анкете выразил свое отношение к ним двойкой, а винт, занимавший в прежние времена один вечер в неделю, теперь заменили пасьянсы.
На конференции по изучению четвертичного периода, организованной Академией наук в 1932 году, Обручев выступал с докладом. Он опровергал мнение академика Берга, считавшего лёсс почвенным образованием, а через год выпустил в свет работу «Проблема лёсса», где характеризовал все существующие взгляды на происхождение лёсса и убедительно защищал свою эоловую теорию.
После конференции ученые отправились на экскурсию по различным местам Союза для осмотра четвертичных отложений. Владимир Афанасьевич проделал только часть пути, от Ленинграда до Кисловодска. В Пятигорске он руководил экскурсией на гору Машук и легко добрался до вершины, где прочитал целую лекцию.
Административная работа никогда не увлекала Обручева. Относился он к ней внимательно и добросовестно, входил во все мелочи, иначе он просто не умел работать. Но всегда чувствовал, что обязанности руководителя Геологического института отнимают у него время, нужное для научных трудов. Он все чаще и чаще говорил, что жить ему, судя по всему, остается лет десять-пятнадцать и необходимо закончить все начатые и намеченные работы. В 1933 году он освободился от руководства ГИНом и хотя часто бывал в Академии наук, но уже только как академик.
Ему очень хотелось, чтобы сын его Сергей, уже тогда доктор наук, продолжил начатое отцом изучение Сибири. Но 'Сергей Владимирович исследовал северо-восточную часть Сибири, а также Южное Прибайкалье, где отец его не бывал. Взять на себя изучение геологии Сибири в целом он не согласился.
После ухода Обручева из ГИНа жизнь в Гатчине шла еще более тихо и замкнуто.
30 января 1933 года Владимир Афанасьевич с утра уехал в академию. Елизавета Исаакиевна, как всегда, занималась домашними делами, но в середине дня, выйдя зачем-то из комнаты, вдруг вскрикнула:
— Что это? Я падаю в обморок!
Она потеряла сознание.
Софья Исаакиевна, ее сестра, уложила больную, послала Надежду Ивановну за доктором Докукиным. Тот не скрыл, что положение тяжелое. Удалось по телефону разыскать Владимира Владимировича. Он сообщил о несчастье братьям, поручил им достать шприц и необходимые лекарства, сам же кинулся в Академию наук к отцу.
Обручева вызвали с совещания. Решили, что он немедленно поедет в Гатчину, а сын дождется лекарств и привезет их. Но, как ни спешил Владимир Афанасьевич, он уже не застал свою подругу в живых.
Эта смерть была так внезапна, и муж покойной и сыновья были так к ней не подготовлены, что не сразу смогли поверить. Все казалось, что это еще не конец. Может быть, глубокий обморок.
Но их слабые надежды не оправдались. Через два дня Елизавету Исаакиевну похоронили на гатчинском кладбище.
Владимир Афанасьевич был совершенно подавлен. Он как-то сразу постарел, с явным усилием отвечал на вопросы, тяжело задумывался. Человек волевой и сильный, он внешне держался спокойно, однако близкие видели, чего ему это стоило.
Он старался не оставлять себе ни одной свободной минуты, работал сверх меры. Иногда удавалось ненадолго забыться, но потом тоска завладевала им с новой силой. Внезапно возникающие воспоминания, необычайно яркие и живые, преследовали его. Среди напряженной работы он вдруг с поразительной ясностью видел смеющуюся загорелую Лизу на лодке, посреди залитой солнцем широкой сибирской реки. Она представлялась ему закутанная, дремлющая в розвальнях на долгом пути в Иркутск, или он слышал неповторимые интонации ее голоса, когда она совсем недавно подсмеивалась над его пристрастием к научно-фантастическим романам и говорила Павловскому, стараясь казаться серьезной:
— Вы знаете, Евгений Владимирович, в «Руднике Убогом» у Владимира Афанасьевича даже любовь изображена. Как будто он в этом что-то понимает.
Лишиться жены, сорок пять лет разделявшей с ним радости и горести, было невыносимо тяжело. А сознание, что Елизавета Исаакиевна жена исключительная, подлинный друг и помощник, делало потерю еще страшней.
В один из этих печальных дней Владимир Владимирович Обручев, стоя в кабинете отца и глядя на ряды книг, написанных Владимиром Афанасьевичем, сказал:
— Много во все это и маминого труда вложено, правда, папа?
Владимир Афанасьевич как-то испуганно и скорбно взглянул на сына и ни слова не сказал, только несколько раз быстро кивнул. Владимир Владимирович понял его глубокое волнение и перевел разговор на другое.
Ученик Обручева Евгений Владимирович Павловский вспоминает, что в это время Владимир Афанасьевич казался очень сухим и замкнутым, стараясь спрятать свою боль. «Работал он, — говорит Павловский, — с особым ожесточением, особенно строго и неумолимо соблюдал железный порядок своего десятичасового рабочего дня, не давая себе ни малейшей возможности поддаться угнетающему тяжелому состоянию духа, ежеминутно как бы приказывая себе не опускать рук».
Эти короткие строчки многое говорят о характере Обручева.
Владимир Афанасьевич продолжал жить в Гатчине. Хозяйство вела верная Надежда Ивановна. Все шло так, как при Елизавете Исаакиевне, но душа из дома ушла. Несмотря на внимание сыновей, на заботы родственниц покойной жены, Обручев чувствовал себя одиноко.
Но работа его шла по-прежнему. Он председательствовал на Первой конференции по изучению производительных сил Бурят-Монгольской АССР. Конференция подводила итоги научно-исследовательских работ в стране. Владимир Афанасьевич выступал с докладом о геологическом строении Бурят-Монголии.
На сессии ученого совета Казахского филиала Академии наук Обручев говорил о месторождениях нефти в Восточном Казахстане.
Был Владимир Афанасьевич выбран председателем и на Всесоюзной конференции по изучению вечной мерзлоты.
Вопрос этот интересовал Обручева давно. Впервые он встретился с мерзлотой на Ленских золотых приисках и с тех пор не упускал из внимания.
В Европейской части Союза вечная мерзлота встречается лишь на севере Урала и Печорского бассейна. А в Сибири, главным образом Восточной, громадные пространства оттаивают только сверху, на глубине одного-двух метров лежит' мерзлый грунт.
Еще в семнадцатом веке появились сообщения о вечной мерзлоте на Енисее и Таймырском полуострове. В восемнадцатом столетии мерзлоту обнаружили в Якутии и Забайкалье. Во льдах нашли сохранившиеся трупы мамонта и носорога. Европейские ученые плохо верили, что земля даже летом может быть замерзшей в «странах, где произрастают кустарниковые растения».
В 1830 году якутский купец Шергин попытался вырыть колодец, а это дело невозможное в районах вечной мерзлоты. Там воду берут из рек, ручьев и родников. Шергин вырыл глубокую шахту, но вечную мерзлоту пробить не смог, однако произвел температурные наблюдения и послал их в Академию наук. Это и была первая попытка изучения мерзлоты. Затем наблюдения над мерзлотой вел путешественник Миддендорф, впоследствии — Черский, Толль, Толмачев. Когда началось строительство Сибирской железной дороги, с мерзлотой пришлось серьезно считаться. Инженер-мерзлотовед Богданов тогда писал: «Расплывались откосы, садились здания, расползались стены, испрашивались кредиты на их починку и пристройку новых частей, регулярно начинавших разрушаться в свою очередь, и никто не думал о необходимости практической выработки наилучших способов работ и наилучше приспособленных к местным условиям типов сооружений, чтобы уничтожить самую причину хронической платы за недостаточную осведомленность в особенностях местной природы».
Пришлось по необходимости заняться изучением вечной мерзлоты инженерам-железнодорожникам и работникам золотодобывающей промышленности. Были открыты многие пункты распространения вечной мерзлоты, стали выяснять температур вечно мерзлой толщи, определяли мощность деятельного, то есть оттаивающего летом, слоя, изучали земледельческие возможности в районах вечной мерзлоты. Но всего этого было мало.
Народному хозяйству мерзлота приносит большой вред. Мешает обрабатывать почву, сеять хлеб, находить воду, строить здания, проводить дороги. Все это мало беспокоило царское правительство. Тогда многие районы Сибири не были заселены совсем, а в иных жили племена, занимавшиеся охотой, не знающие ни земледелия, ни строительства настоящих домов, ни прокладки дорог.
Во время мировой войны изучение мерзлоты остановилось. В первые годы советской власти оно тоже Подвигалось слабо.
Но в 1927 году вышла книга Михаила Ивановича Оумгина «Вечная мерзлота в СССР». Это была сводка всех сведений о мерзлоте. В годы пятилеток многие безлюдные районы, где распространена мерзлота, начали быстро развиваться. Нужно было незамедлительно и планомерно изучать это явление.
Страна Советов начала строить полярные станции у Северного Ледовитого океана. Один за другим возникали новые города, люди разведали множество месторождений полезных ископаемых. Появилась нужда и в строительстве, и в дорогах, и в воде для новых поселений, и в развитии сельского хозяйства на местах, чтобы новоселы не привозили издалека все нужные продукты.
Борьба с мерзлотой стала очень важной задачей практической жизни, а значит и науки. Связь науки с жизнью обозначилась только в советское время, когда науке пришлось решать жизненные вопросы. Обручеву эта черта была особенно близка и дорога. Владимир Афанасьевич за свой долгий век провел в кабинете за письменным столом больше времени, чем кто-либо другой из служителей науки, но «кабинетным» ученым никогда не был. Все, что он делал, все, что писал и изучал, имело цели практические, служило жизни народа.
Еще в 1930 году в Академии наук была образована Комиссия по изучению вечной мерзлоты. Зачинателями этого дела стали академик Вернадский и мерзлотовед Сумгин, а главой комиссии — Обручев.
Сначала в комиссии работали только Владимир Афанасьевич, Сумгин и еще один сотрудник. Но постепенно работа расширялась, состоялось несколько конференций, привлекались к делу инженеры, дорожники и агрономы.
Обручев относился к изучению мерзлоты очень горячо. Когда какое-то малосведущее начальство пыталось ликвидировать комиссию, Владимир Афанасьевич очень взволновался и написал немало докладных записок, доказывая необходимость этой работы.
«При том хозяйственном и промышленном освоении Востока и Севера, которое происходит невиданными темпами до наших дней, — писал он, — изучение вечной мерзлоты ни в коем случае нельзя сокращать, а следует во много и много раз расширить, предоставив исследователям в этой области широкую инициативу и как можно больше возможностей. А поэтому нельзя по чисто формальным причинам ликвидировать комиссию».
Стараниями Обручева и других ученых комиссия закрыта не была, и деятельность ее становилась все шире.
Огромный план ученых трудов, намеченный для себя Обручевым, постепенно реализовался. За первым томом «Истории геологического исследования Сибири» увидело свет третье дополненное издание «Полевой геологии» в двух томах. Нужда в этой книге была так велика, что через год последовало еще одно издание — четвертое. Вышел третий том «Пограничной Джунгарии» и второй том «Истории геологического исследования Сибири». А сколько статей на самые разнообразные темы в Большой Советской Энциклопедии, в научных сборниках, сколько карт, рефератов, рецензий!..
Нет, работа Владимира Афанасьевича не останавливалась, несмотря на его тяжелое душевное состояние.
И сам, покорный общему закону,
Переменился я.
В Гатчину приехала гостья — высокая худая женщина с проседью в стриженых волосах. В молодости, наверно, была красива, это видно и сейчас, когда ей под пятьдесят.
Знакомство началось с Ялты. Там жили родители первой умершей жены Владимира Владимировича. В 1918 году у них поселилась больная дочь с мужем, а Ева Самойловна Бобровская бывала в доме.
Перед тем как устроиться в деревушке Кикинеиз, Владимир Афанасьевич и Елизавета Исаакиевна недолго жили в Ялте и познакомились с Евой Самойловной.
Она была одинока. С мужем несколько лет назад рассталась. Жила в Симферополе, затем переехала в Москву, воспитывала сына, работала статистиком в Совете профессиональных союзов.
Приехав по делам в Ленинград, она встретилась с Владимиром Афанасьевичем. Он пригласил ее в Гатчину. Всегда внимательный к людям, и к приезжей отнесся радушно. Приятно было видеть, как гостья умело хозяйничает за чайным столом, ставит цветы в давно пустующие вазы. С ее появлением в доме стало как-то теплее, уютнее. Она не докучала длинными разговорами, не была навязчива и оказывала Обручеву множество мелких повседневных услуг, а он так долго был их лишен.
Ева Самойловна уехала, но, когда Владимиру Афанасьевичу приходилось бывать в Москве, он с ней виделся, а в начале 1935 года, вернувшись из очередной поездки, сказал сыновьям:
— Мы с Эвой, — он говорил не «Ева», а «Эва», — решили пожениться.
Академию наук в то время перевели из Ленинграда в Москву, переехал и Обручев.
В столице он получил квартиру; окна ее выходили на заднюю сторону Большого театра. Здесь поселились Владимир Афанасьевич с Евой Самойловной, старший и младший сыновья с семьями. Только Сергей Владимирович остался в Ленинграде.
Второй поздний брак... В нем всегда есть что-то грустное. Он не согреет ни детским смехом, ни милыми каждому заботами об устройстве своего гнезда. Брак без тяжелых разлук, нетерпеливых ожиданий, ликующей радости встреч... Еве Самойловне суждено было узнать Владимира Афанасьевича в ту пору его жизни, когда человека на каждом шагу подстерегают болезни. Хворал он часто, потому что простужался в жаркой московской квартире с теплоцентралью. Но, в любой час проснувшись от кашля, он встречал беспокойный взгляд Евы Самойловны и слышал тихий голос:
— Тебе что-нибудь нужно, Владимир Афанасьевич?
Она была заботливой преданной подругой, очень тщательно входила во все мелочи хозяйства, оберегала здоровье мужа, следила за его режимом.
В доме, где жили Обручевы, когда-то размещались артисты императорских театров. Здесь было темновато, огромный массив Большого театра не давал солнцу проникать в окна. Но просторно — потолки высокие, комнаты большие. Кабинет Обручева очень походил на гатчинский. Те же лица Мушкетова и Зюсса на портретах, те же высокие шкафы с книгами.
Постоянные гриппы и воспаления легких заставили Владимира Афанасьевича послушаться врачей и бросить курить. Ему очень трудно было отказаться от спутницы его путешествий — трубки. Все время казалось, что чего-то недостает, по привычке он искал коробку с табаком, своим любимым «капитанским». Но Ева Самойловна была настороже...
Однако выпадали такие дни и недели, когда Обручев чувствовал себя хорошо и не отказывался от мирских удовольствий. У сына Владимира по четвергам собирались гости. Обычно немного танцевали, потом пили чай в большой столовой, и Владимир Афанасьевич часто выходил к столу.
С внучкой Наташей у него были приятельские отношения, но, всегда занятый, он не мог отдавать ей много времени. Погладит по головке, спросит, как дела, и скажет:
— Ну, иди, Наташенька, мне надо работать.
Иногда Обручев гулял с Наташей в Александровском саду. Один раз дедушка и внучка чуть не попали под машину, но дома никому об этом не сказали.
Случалось, что Владимир Афанасьевич в свободную минуту вырезал для Наташи бумажных зверей — искусство, когда-то веселившее его младших сестер, позднее сыновей... А для подросшей внучки он аккуратно собирал марки. Писем всегда приходило много, и коллекция марок у Наташи была богатая.
Изредка навещали знакомые. Бывал Евгений Владимирович Павловский с женой — талантливым геологом Натальей Васильевной Фроловой. Умная, живая Наталья Васильевна была ученицей Обручева по Горной академии и очень тепло относилась к своему учителю. Они подолгу беседовали, порой вместе раскладывали пасьянсы, а когда Наталья Васильевна и Павловский закуривали, Обручев с удовольствием дышал табачным дымом, выходя в переднюю, куда удалялись курильщики. Евгений Владимирович Павловский пишет в своих воспоминаниях:
«Ева Самойловна, отправляя Владимира Афанасьевича на заседание в Наркомат нефтяной промышленности, заботливо одевает его в теплое пальто, закутывает шею вязаным шарфом и строго наставляет меня не разговаривать в машине, чтобы не простудить Владимира Афанасьевича. Под влиянием этих напутствий мы молча спускаемся по лестнице, садимся в большой «персональный» обручевский автомобиль. Не успеваем мы обогнуть Большой театр, как Владимир Афанасьевич, сурово посмотрев по сторонам, неожиданно подмигнул, расстегнул пальто и, вытащив откуда-то пачку хороших папирос, уверенным жестом вскрыл ее и предложил Накурить. Дымя папиросами, мы стали обсуждать проблему байкальской нефти».
Работал Обручев всегда много, и когда был здоров, и когда лежал в постели. Он занимался «Историей геологического исследования Сибири», готовя к печати очередной том, писал полемические статьи, споря с профессором Тетяевым о «древнем темени Азии», заканчивал «Геологию Сибири», писал рефераты о научных работах, а получал он их множество и от советских и от зарубежных ученых.
В 1936 году умер президент Академии наук Александр Петрович Карпинский. Он был первым президентом, выбранным на этот пост уже в советское время. Карпинского очень любили. Имя его как ученого ставили в один ряд с такими корифеями геологической науки, как Лайелль, Мурчисон, Зюсс. Но Александр Петрович был не только «отцом советской геологии», не только блестящим знатоком любой области в своей науке, но человеком образованным очень широко. Он умер почти девяностолетним, и до последних дней работал, интересовался литературой, новинками искусства, промышленностью страны. Карпинский был тонким знатоком музыки, великолепно знал языки. И при этом он лучился добротой. Ненавидя небрежность, лень, он всегда готов был помочь тому, кто добросовестно работает, искренне любит науку.
Обручев особенно сильно чувствовал эту потерю. Александр Петрович был его профессором в Горном институте. Тридцать лет он читал там историческую геологию, петрографию и рудные месторождения. И позднее Владимир Афанасьевич все время соприкасался по работе с Карпинским — директором Геологического комитета. Наконец академия... Вся жизнь прошла рядом...
Хоронили старейшего академика очень торжественно, у кремлевской стены на Красной площади. Владимир Афанасьевич с трибуны Мавзолея Ленина говорил речь от геологических учреждений страны. Он рассказал об огромных заслугах Карпинского: его труды уяснили строение и историю развития Русской платформы, помогли разгадать тайны уральских недр, он руководил геологическими исследованиями Сибири. «В лице Александра Петровича Карпинского, — сказал Обручев, — Всесоюзная академия наук и многочисленная семья советских геологов потеряли ученого мирового значения, а Советский Союз — общественного деятеля, преданного социалистическому строительству, и человека высоких душевных качеств».
Он вспомнил об участии Карпинского в работах Международного геологического конгресса. Седьмая сессия состоялась в 1897 году в Петербурге. Тогда Александр Петрович, как директор Геологического комитета, много занимался подготовкой и организацией сессии, а также экскурсией членов конгресса по России. Экскурсией на Урал руководил он сам.
В будущем году семнадцатая сессия конгресса снова соберется у нас. Александр Петрович, как почетный председатель Оргкомитета, снова принимает участие в ее подготовке. Но ему не суждено было встретить после сорокалетнего промежутка иностранных геологов на родной земле и показать им мощный расцвет геологических наук в Советском Союзе.
Грусть от этой потери долго не оставляла Обручева. Перелом в его настроении произошел, когда он стал собираться на Алтай.
В Академии наук шло изучение производительных сил различных районов Советского Союза. Изучался и Алтай, и еще в 1934 году была организована Алтайская конференция. Рассматривались экономические возможности Большого Алтая, то есть и собственно Алтая, и Калбинских гор, и гор Иртышского левобережья, и Кулундинской степи. После конференции были снаряжены экспедиции для знакомства с сельским хозяйством, животноводством, лесоводством и геологией края. Теперь Обручеву предложили съездить на Алтай, чтобы ознакомиться с экспедиционной работой на местах и провести в Ойрот-Туре[28] отчетное совещание. Правительство Ойротской автономной области пригласило академика Обручева отдохнуть на курорте Манжерок.
Владимир Афанасьевич и помыслить не мог об отказе. Конечно, он поедет! Алтай его всегда интересовал. Да и Сибирь посмотреть после двадцатидвухлетнего перерыва ему очень хотелось. .
Но Ева Самойловна твердо заявила, что лишь в том случае согласится на поездку мужа, если она будет сопровождать его. Обручев, подумав, согласился.
В конце июля выехали из Москвы, на два дня останавливались в Новосибирске. Город все еще строился. Он возник вместе с железной дорогой через Сибирь и считался молодым, но черты будущей сибирской столицы были уже ясно видны. За одну ночь доехали из Новосибирска до Бийска, и Владимир Афанасьевич вспомнил, каких трудов стоило прежде это путешествие.
На бийском вокзале Обручевых встретил председатель исполнительного комитета Ойротии. В легковой машине их повезли на курорт Манжерок.
Машина быстро неслась по берегу Катуни, мимо холмов. Ева Самойловна впервые была на Алтае, все вокруг занимало и радовало ее, а Владимир Афанасьевич думал о том, что поездка в машине приносит геологу мало пользы. По старой привычке хотелось внимательно рассмотреть каждый пригорок, а тут одна картина мгновенно сменялась другой, и сосредоточиться было невозможно.
Первые лесистые высоты Алтая быстро придвигались. Обручев не отрывал глаз от них. Свернули с тракта, горы стали выше, шум реки слышнее... Вот и Манжерок!
Курорт состоял из нескольких отдельных коттеджей и большого главного здания. Обручевым отвели скрытый соснами домик с террасой. Чай, обед и ужин им приносили, персонал был очень внимателен, всем хотелось, чтобы гость из Москвы хорошо отдохнул.
Но Обручев понимал отдых по-своему. Со следующего дня он начал обходить окрестные горы, чтобы выяснить геологию курорта. Он установил, что Манжерок стоит на высокой террасе, сложенной древними наносами Катуни. Возле курорта был большой тихий залив, а выше и ниже его шумели пороги. В заливе застревали бревна, поодиночке сплавляемые вниз, и лесосплавщики крючьями возвращали их в фарватер реки.
Владимир Афанасьевич полюбил ходить в одиночестве к нижним порогам. Здесь близко к воде теснились скалы, а посредине реки из воды высовывались каменные рифы. Порог назывался Манжерокскими воротами.
Сидя на берегу, Обручев вслушивался в шум воды, смотрел на извечную битву ее с камнем. Битва эта не прекращалась никогда, и Владимир Афанасьевич думал, что рано или поздно текучая вода — вещество легкое, казалось бы неустойчивое, все же разрушит твердые, неподвижные камни. Так могучий напор молодой жизни разрушает окаменелые устои и предрассудки — религию, власть денег, национальную рознь, засилье старых обычаев...
Обручев участвовал в экскурсиях на левый склон долины Катуни, где на высокой террасе синело большое озеро. Оно не имело стока и питалось подземными ключами.
Очевидно, еще со времен оледенения в озере сохранилось редкое водяное растение — чертов орех. Вкусные орехи прятались в черной кожуре с шипами, похожими на рога и когти.
Побывал Владимир Афанасьевич на месторождениях киновари, открытых геологами Западно-Сибирского геологического управления. Ехали по Чуйскому тракту, он превратился теперь в прекрасную автомобильную дорогу, но эта часть его раньше была Обручеву незнакома. Останавливались недалеко от Семинского перевала в лесу, ночевали в палатке, варили ужин в походной кухне, и все это напоминало Обручеву его былые походы. После перевала пошли уже знакомые места — села Туехта и Онгудай, долина Большого Улугема и великолепная дорога через горы, перевал между Улугемом и Еломаном. Прежние узкие бомы были расширены и превратились в безопасные дороги, через Катунь переправлялись по новому цепному мосту. Потом Обручев увидел белые бомы, теперь тоже широкие, удобные, Аржаную гору, и опять сюрприз — новый мост через Чую. Здесь, экскурсию встретили геологи Западно-Сибирского геологического управления.
Рудник киновари находился высоко, на одном из косогоров гряды, залегавшей между долинами Чуй и Чаган-Узуна. Подниматься туда нужно было верхом. Обручев с грустью согласился с доводами Евы Самойловны, что это ему уже не под силу, и остался в поселке. Ему приносили образчики руды, и он их рассматривал.
Но, несмотря на это лишение, Владимир Афанасьевич был доволен экскурсией, хотя говорил, что если бы не путешествие 1914 года, у него в памяти остался бы «калейдоскоп быстро сменяющихся картин, как в кинотеатре». Старые впечатления, подкрепленные новыми, ожили, а новые были очень приятны. Благоустройство дорог, мосты, удобные переходы радовали Обручева.
Недели две спокойно отдыхали в Манжероке, затем поехали на мраморные месторождения, открытые экспедициями Академии наук и Геологического управления.
Отправились на машинах вверх по Катуни, мимо сел Чепеш, Узнезя, Анос, где еще жил в то время великолепный знаток Алтая — живописец Гуркин[29]. Любовались порогом Телдекпень, где широкая река превращается в узкий канал, прорывающийся с шумом и ревом через темные скалы. Отдыхали на лужайке, заваленной крупными валунами. Эти каменные глыбы в давние времена спустились с Катунских Альп вместе с ледником.
Чтобы достичь места добычи мрамора, нужно было переправляться на другой берег. Машины остались на лужайке, а экскурсанты сели в лодки, и Владимир Афанасьевич удивлял всех своей ловкостью и смелостью. На другом берегу ждали повозки. В долине реки Ороктой осмотрели уже покинутый стан мраморщиков, видели белые и розовые обломки камня. Но выходы мрамора оказались гораздо выше на гористых склонах, куда экскурсанты взбираться не стали..
На обратном пути возле села Чемал осматривали великолепные естественные ворота в скалах; через них, кипя, проталкивала свои воды Катунь. А на прогалине соснового бора стоял дом отдыха. Обручев вспомнил, что многие томские профессора ездили сюда на отдых, и запоздало пожалел, почему не приезжал в Чемал в те далекие дни.
В августе Обручевы переехали в Ойрот-Туру. Владимир Афанасьевич участвовал в работе конференции. Геологи Академии наук и Геологического ч управления докладывали об экспедициях по Ойротии, о геологии Алтая, его ископаемых богатствах — золоте, киновари, марганце, мраморе. Выступали животноводы и мичуринцы, разводящие на Алтае ягодные, плодовые, овощные культуры.
Обручев в своем заключительном слове сказал, что когда-то исследователи Алтая очень безнадежно отзывались о его ископаемых богатствах. Советское правительство, однако, не доверилось этим пессимистическим выводам. Были предприняты новые изыскания, и они дали прекрасные результаты. Но это далеко не все; Алтай подарит людям еще много богатств.
Полный впечатлений от красоты алтайской природы, в конце речи он заговорил о туризме. Молодежь и теперь часто приезжает сюда для дальних походов, а с годами туризм непременно будет развиваться.
— Нигде больше в Сибири нельзя найти такого сочетания красивых горных цепей со снегами и ледниками, альпийских лугов, скалистых ущелий, бурных рек с порогами и водопадами, больших и малых озер, мрачной елово-пихтовой черни на востоке и светлых лиственничных лесов на западе.. Туризм может составить крупную статью дохода Ойротии. Но нужно проводить хорошие дороги к интересным местам, строить гостиницы, а около ледников и на альпийских лугах — избы — убежища для ночлега. Надо готовить проводников для восхождения на ледники и горные вершины, издавать карты и путеводители.
Вернулся в Москву Владимир Афанасьевич освеженный, бодрый, подышав целебным воздухом гор. Он был очень доволен поездкой и экскурсиями, но все повторял, что геолог, желающий изучить край, не должен с комфортом ездить в машинах. Только в пеших маршрутах или верхом на лошади можно действительно увидеть все, что интересно исследователю.
Семнадцатая сессия Международного геологического конгресса — большое событие в жизни советских геологов. Она состоялась летом 1937 года. В ней участвовали тысяча восемьсот советских и четыреста сорок иностранных геологов. От фашистских в то время стран — Германии и Италии делегатов не было.
Заседания конгресса происходили в Академии наук, ее институтах, в Московской консерватории. Президентом был академик Губкин, вице-президентом и главой советской делегации — Обручев.
О мировых запасах нефти докладывал академик Губкин. Факты, приведенные в выступлениях советских нефтяников, показали, что нефтяная геология Союза заняла одно из первых мест в мире.
В угольной секции слушались доклады об угольных бассейнах СССР и других стран. Было отмечено, что советские геологи правильно основывают работы по углям на происхождении угленосных толщ. Успехи Советского Союза и в угольной геологии оказались огромными.
Работали на конгрессе и другие секции: докембрия, пермской системы, геологии Арктики. Делегаты обсуждали проблему связи тектоники с магматическими образованиями и формированием рудных месторождений; занимались вопросами тектоники Азии, геохимии и применения геофизических методов.
По каждой теме было прочитано пятнадцать-двадцать докладов, с разных сторон освещающих вопрос. Выступали и советские и иностранные ученые. Сам Владимир Афанасьевич говорил об изучении докембрия Сибири, а Сергей Владимирович Обручев рассказал о тектонике северо-востока Азии от Верхоянского хребта до Чукотского полуострова и Камчатки.
Члены конгресса были на большой выставке ископаемых богатств Союза, устроенной в залах консерватории, в Палеонтологическом музее, в Центральном геологоразведочном музее Ленинграда. Перед конгрессом и после него ездили на экскурсии в Карелию, Донецкий бассейн, на Украину, в Крым, на Урал, на Кавказ и в Сибирь.
Владимир Афанасьевич всегда считал, что ученый должен работать, зная, что делают в области его науки соотечественники и зарубежные коллеги. Нельзя заниматься обособленной темой, не учитывая всех новейших открытий и исследований в смежных вопросах. Движение науки вперед сильно замедляется, если ученый работает замкнуто, без связи с наукой других стран.
Он был очень доволен конгрессом и не без гордости говорил, что советские ученые продемонстрировали перед мировой наукой свои огромные успехи, достигнутые за годы советской власти.
В 1938 году Академия наук очень торжественно отметила семидесятипятилетие Обручева и пятидесятилетие его научной деятельности. Владимир Афанасьевич был награжден орденом Трудового Красного Знамени. Горному факультету Томского индустриального института присвоили имя Обручева, а Комитет по изучению вечной мерзлоты преобразовали в Институт мерзлотоведения имени Обручева.
Чествовали юбиляра на общем собрании Академии наук в Доме ученых под председательством президента Владимира Леонтьевича Комарова. Владимир Афанасьевич сделал доклад о своих джунгарских путешествиях. Был он строг, сосредоточен, но любовь и уважение к нему ученых и молодежи заметно его трогали. В фойе устроили выставку работ Обручева, а вечером был банкет. Председательствовал Комаров, но Обручева единодушно выбрали тамадой, и он справлялся со сложными обязанностями распорядителя пира очень хорошо.
В речах и статьях того времени говорилось о необыкновенном энтузиазме Обручева, любви его к науке, заслугах перед советской геологией.
«Несмотря на свой огромный авторитет, — писал академик Иван Михайлович Губкин, — В. А. Обручев отличаётся исключительной теплотой и скромностью характера. В его постоянном общении с молодыми научными работниками ощущается искреннее желание и активная роль в создании боевой, смелой и высококвалифицированной смены молодых специалистов. Но в этой теплоте мы не найдем попыток «замазывания» допущенных ошибок или либерального к ним отношения. Там, где дело касается искажения научной истины, там, где в той или иной форме допускаются элементы лженаучных извращений, В. А. Обручев проявляет абсолютную непримиримость».
К этому времени Владимиром Афанасьевичем было написано более тысячи трехсот печатных листов научного текста и более двух тысяч рефератов о достижениях советской геологии.
Академик Ферсман, говоря об этом поистине огромном труде, особо отметил значение работ Обручева по геологии Сибири, как его собственных, так и классифицированного им «грандиозного научного материала о полезных ископаемых Сибири». Ферсман считал, что после этих трудов Обручева по Сибири широкие пути откроются перед новой наукой — геохимией, что вся работа Владимира Афанасьевича — призыв к дальнейшему изучению края. А весь путь Обручева — не только призыв, но и «урок, пример для молодого поколения».
«Все геологи Союза учились под руководством Владимира Афанасьевича, — писал его ученик Михаил Антонович Усов. — «Полевая геология» и «Рудные месторождения» отразили целую эпоху в развитии геологии».
Наряду с этими серьезными трудами Владимир Афанасьевич писал много статей и рецензий, и они отражают всю широту его интересов. В журнале того времени «Детская литература» была напечатана статья Обручева о научной фантастике. «Фантастику любил уже первобытный человек, — писал он, — об этом можно судить по сохранившимся на скалах и стенах пещер рисункам». В статье говорится о легендах и сказках народов, еще недавно не имевших своей письменности, о мифах древней Греции, о библейских сказаниях. Дальше Обручев пишет о несомненной пользе научно-фантастической литературы для молодого читателя. Благодаря ей он знакомится с дальними странами, неизвестными ему животными и растениями, различными народностями, их жизнью и обычаями. Он получает сведения о законах и явлениях астрономии, физики, биологии и других наук.
Владимир Афанасьевич говорил о силе положительного примера. Обычно герои научно-фантастических романов смелы и благородны, полны энергии, отважно борются с природой, преодолевают опасности... Такой герой способен увлечь подростка и вызвать желание подражать ему.
Обручев признавался, что сам сделался путешественником и исследователем Азии благодаря чтению романов Жюля Верна и других авторов. «Они,— писал он, — пробудили во мне интерес к естествознанию, к изучению природы далеких малоизвестных стран».
В нашей стране, считал Обручев, молодежи, участвующей в грандиозном размахе строительства, нужны научно-фантастические романы о дальнейших успехах науки и техники, о новых достижениях человека, проникновении в земные недра, освоении Арктики, морских глубин, о межпланетных полетах.
Через сорок шесть лет после путешествия в Китай вышла книга Обручева «От Кяхты до Кульджи». В ней Владимир Афанасьевич популярно и увлекательно рассказывал о труднейшей из своих экспедиций. Он ничего не забыл. Подробности путешествия оживали на страницах книги. Недаром биограф Обручева Ингирев пишет о могучей памяти ученого, пронесшей почти через полвека «мельчайшие детали... вплоть до красного шарика на черной шапочке мандарина».
Обручев вступал в свое четвертое двадцатипятилетие. Силы его уменьшились с возрастом, но планов по-прежнему было много и желание работать не остывало.
Чему, чему свидетели мы были...
От затемненного московского вокзала поезд отошел очень тихо, словно медлил, неохотно покидая столицу, или неуверенно нащупывал путь.
Он долго выбирался на простор, пробиваясь среди множества военных составов, платформ с орудиями, Товарных вагонов и порожняка, ждавшего погрузки. На станциях подолгу не давали отправления. В сумерках проводники тщательно задергивали темные шторы на окнах. В коридорах скупо светили синие лампочки.
Шел второй месяц войны. С 22 июня 1941 года, дня, навсегда памятного для тех, кто его пережил, все изменилось. И перемена была такой скорой и значительной, что не сразу укладывалась в сознании.
В этом году Владимир Афанасьевич получил Государственную премию первой степени за свою трехтомную «Геологию Сибири». У него сразу оказалось много денег — двести тысяч, и распорядился ими он по-своему. Пять тысяч послал в Томск для распределения среди нуждающихся студентов Индустриально- го института, пять тысяч — Краеведческому музею в Кяхте и столько же библиотеке музея краеведения в Иркутск. Глубоко он был привязан к тем местам, где работал не один десяток лет и много странствовал, где ему удалось раскрыть столько прежде неизвестного в геологии этого обширного и богатого края. Позднее, когда разразилась Великая Отечественная война, большую сумму он передал в фонд обороны.
Летом Владимир Афанасьевич и Ева Самойловна жили на даче по Казанской дороге — 42-й- километр от Москвы. Как всегда, Обручев много работал, делал небольшие прогулки. Чувствовал себя бодро. Когда приходилось ездить в Москву, нередко вместе со старшим сыном Владимиром шагал на станцию, и Владимир Владимирович не всегда поспевал за отцом.
Со всем этим было покончено в одно воскресное солнечное утро. Обручев с женой мирно пили чай на террасе, когда послышались необычно скорые шаги и сын Владимир, живший неподалеку, сообщил, что только что по радио сказали о нападении фашистской Германии на Советский Союз.
Владимир Афанасьевич знал, что война будет жестокой и долгой. Фашизм не остановится ни перед чем, чтобы завоевать столь обширное «жизненное пространство», как Россия. Впереди бесчисленные жертвы и невзгоды, но советский народ не может не победить. В это Обручев верил твердо.
Перебрались в Москву и стали жить так, как жили все в те трудные дни начала войны, — от одной сводки с фронта до другой. О себе думать не хотелось.
Но Родина думала о своих ученых. После первой же бомбежки правительство решило эвакуировать из Москвы академиков. Мозг страны должен работать без помех.
Обручев даже не вслушался в первые слова Евы Самойловны об эвакуации. Куда он поедет на старости лет? Бомбежки его не пугают. Он будет продолжать свое дело. У старшего геолога страны еще есть силы. Именно сейчас его знания могут понадобиться.
Но когда Владимир Афанасьевич понял, что разговор идет не о его личном желании, а о деле решенном, он покорился.
Часть научных учреждений отправлялась в Казань, часть — в Ташкент. Местопребыванием академиков был назначен курорт Боровое в Казахстане. Тихое место, прекрасная природа, санаторные условия жизни...
Обручев готовился к дороге безучастно. Он полностью доверил сборы Еве Самойловне, но заботливо упаковал все материалы по пятому тому «Истории геологического исследования Сибири» и портфель журнала «Известия Академии наук, серия, геологическая». Вместе с академиком И. М. Губкиным и А. Д. Архангельским он был основателем этого издания в 1936 году, а с 1939 года стал его ответственным редактором. К этим своим обязанностям он относился очень внимательно и серьезно. Всегда ратовал за широкий обмен опытом между учеными и радовался, когда в «Серию геологическую» поступали рукописи от геологов, работающих в разных концах страны.
Таким же погруженным в свои мысли и равнодушным к окружающему оставался Владимир Афанасьевич в дороге. Он не оживился, когда поезд, миновав центральные районы, пошел быстрее, когда сняли затемнение и станции, как в. мирные времена, стали встречать пассажиров приветливыми огнями.
Но вот Свердловск. На вокзале — представители областного партийного комитета и городского Совета. Они приехали спросить, не желает ли кто-нибудь из академиков остаться для работы в Свердловске. Квартиры будут предоставлены.
Владимир Афанасьевич преобразился. Урал — кузница оружия для фронта, средоточие многих месторождений полезных ископаемых. Где быть геологу во время войны, как не на Урале? Отсюда можно руководить разведочными партиями... Сейчас, как никогда, необходима хорошо поставленная разведка недр Урала и Сибири.
— Мы останемся здесь, Эва, — коротко сказал он.
Многие советские геологи решили остаться в Свердловске. Ученые-патриоты легко пожертвовали удобствами курортной жизни в Боровом. Главное сейчас — не отдых, не собственный комфорт. Здесь, на Урале, они будут полезней фронту. Так думал Обручев. Так думали президент Академии наук Комаров, академики Ферсман, Образцов, Струмилин, Байков.
Пока несколько растерявшиеся жены и домочадцы пытались выяснить, чем вызвана столь внезапная перемена планов, вещи были выгружены на платформу, ученые дружески простились с товарищами, и поезд тронулся дальше.
Владимиру Афанасьевичу предоставили небольшую двухкомнатную квартиру на улице Луначарского, не очень далеко от центра. В военное время в городе, куда ежедневно прибывали эвакуированные, отдельная квартира, да еще с ванной, была роскошью. Так и расценил свое устройство Обручев. Ева Самойловна постаралась по возможности сделать уютным временное жилье, а Владимир Афанасьевич немедленно установил строгий порядок своих занятий. С утра, как он привык за долгие годы, Обручев писал, затем выходил на небольшую прогулку.
Уральские морозы и метели давали себя знать. Как-то молодые научные сотрудники встретили Обручева на улице. Стоял сильный мороз, а Владимир Афанасьевич был обут в легкие ботинки.
— Владимир Афанасьевич, почему вы не в валенках?
— Я не мерзну. Уверяю вас, мне совсем тепло.
Но Обручев так торопливо поднимался по лестнице в свою квартиру, что ему не поверили. Конечно, прозяб, и сильно, только признаваться не хочет.
Решили поговорить с Евой Самойловной. Она откровенно сказала, что валенки очень нужны, но сейчас достать их невозможно.
Молодые люди рассказали об этом начальнику Главного управления по разведке черных металлов.
— Да, нехорошо получается, — сказал он. — Обручев — отец наших геологов, работает на оборону, несмотря на свои годы... Надо помочь.
Валенки были посланы Владимиру Афанасьевичу, и он стал выходить на прогулку тепло обутый.
Вторая половина дня отдавалась посетителям. Их было много. Новые обязанности требовали постоянного общения и с сотрудниками Академии наук и с геологами промышленности.
В Свердловске Обручев был избран академиком- секретарем. Так называлась должность руководителя определенного цикла наук в академии. Владимир Афанасьевич был академиком-секретарем Геолого- географического отделения. Вся работа по изучению наиболее перспективных месторождений полезных ископаемых велась под его руководством.
Фронт требовал оружия. На Урале, кроме местных, начинали работать металлургические и химические заводы, эвакуированные с прифронтовой полосы. Украина, занятая врагом, не давала ни угля, ни железной руды, ни марганца, нужного домнам. Надо было срочно находить новые рудные месторождения.
Свердловск стал штабом огромной армии геологов. Разведочные партии выезжали отсюда в разные районы Урала, Сибири, Средней Азии. Владимир Афанасьевич направлял геологов туда, где, по его мнению, стоило производить разведку. Без его экспертизы не начиналось ни одно строительство горнопромышленных предприятий. Его прогнозы о залегании железных, алюминиевых, марганцевых руд оправдывались один за другим. По указанию Обручева были открыты и разведаны многие месторождения.
Работал Владимир Афанасьевич в созданной при Академии наук Комиссии по мобилизации ресурсов Урала, Казахстана и Сибири для обороны страны.
Квартира Обручева превратилась в учреждение. У него дома каждую неделю происходили заседания Отделения геолого-географических наук. Здесь же собирались и члены комиссии. Без конца приходили геологи. Одних Обручев напутствовал перед поездкой, другие, вернувшись в Свердловск, являлись рассказать о своей работе, третьи хотели разрешить какое-то недоумение.
Однажды двое геологов попросили рассудить их спор относительно происхождения магнетитовых руд. Одному казалось, что они связаны с основными породами, другой уверял, что в их образовании участвовала кислая гранодиоритовая магма. Обручев, выслушав обоих, сказал:
— По-моему, сейчас имеет значение не происхождение этих руд, а то, что их нашли. Они нужны фронту. Месторождение необходимо как можно скорее изучить и передать промышленности. А генезисом руд займемся позднее.
Сам всегда аккуратный и точный, Владимир Афанасьевич не терпел небрежности в других. Особенно не любил он опозданий. Если посетитель опаздывал, Обручев начинал нервничать и, когда тот являлся, вынимал часы и без раздражения, но очень веско сообщал, сколько времени ему пришлось ждать. Таким требовательным он был ко всем и одинаковым тоном делал замечания самому скромному служащему и академику.
Порой к Обручеву заходил сосед по лестничной площадке, всегда любезный и спокойный, чисто выбритый, президент Академии наук Владимир Леонтьевич Комаров — «первый ботаник Советской страны», как его называли. Но великолепный знаток русской и мировой флоры был в то же время географом и геологом. Недаром, прослушав на одном заседании его рассказ о Камчатке, друг Обручева — Карл Иванович Богданович сказал:
— Пожалуй, пока мы дождемся выступлений геологов, ботаники уже расскажут нам всю геологию Камчатки.
Президент Академии наук нередко совещался с Владимиром Афанасьевичем по поводу работ геологических партий. Они обсуждали вновь открытые месторождения, говорили о поисках полезных ископаемых.
Бывал иногда у Обручева обитатель другой ближайшей квартиры — удивительный человек Александр Евгеньевич Ферсман. Он казался персонажем детской волшебной сказки. Круглое лицо, круглая фигура, весь круглый, как хлеб. И как хлеб, добрый и нужный каждому. При виде полного человека у многих невольно возникают представления о тяжести, медлительности, неповоротливости. А у Ферсмана полнота была легкой, он говорил и двигался почти стремительно. Голубые круглые глаза смотрели на .собеседника весело и внимательно. В этой внимательности тоже было что-то детское, похожее на ожидание: сейчас он скажет что-то интересное. Улыбка Александра Евгеньевича часто походила на улыбку круглолицего румяного мальчика. Щедрость, широта, душевное богатство — вот впечатление от Ферсмана.
Любимый ученик знаменитого геолога и минералога Вернадского, Ферсман вместе со своим учителем создал увлекательную науку — геохимию, науку совершенно новую, нигде ранее на земном шаре не существовавшую. До ее появления минералы рассматривались как нечто раз навсегда данное, как комплексы, созданные в готовом виде природой. Геохимия подошла к ним как к результату сложнейших химических процессов, происходящих в земной коре за многие миллионы лет ее существования. Ученый, умевший говорить о мертвом камне, как о живом цветке, поэтично и проникновенно, Ферсман — крупнейший специалист по полезным ископаемым — работал в свердловский период рука об руку с Обручевым.
Однажды к Владимиру Афанасьевичу пришла сотрудница издательства, эвакуированного из Москвы. В Свердловске ей предложили наладить выпуск геологической серии «Известий Академии наук». Она шла к маститому ответственному редактору, робея и думая о том, как тяжело будет теперь добывать материал для журнала. Но Обручев сразу успокоил ее, вручив объемистую папку с рукописями. Что журнал будет выходить и во время войны, он не сомневался ни минуты. А материал есть, на несколько номеров хватит! С этого дня новая сотрудница журнала тоже стала частой посетительницей квартиры на улице Луначарского.
По вечерам Владимир Афанасьевич по раз навсегда заведенному правилу писал рецензии, отвечал на письма, работал над научно-фантастической повестью «Коралловый остров».
Он с пристальным вниманием следил за событиями на фронтах Отечественной войны. Часто хмурился и, прослушав вечерние последние известия, молча уходил в кабинет. А когда в военных действиях произошел перелом, Владимир Афанасьевич после сообщений по радио молодел, становился разговорчивым, оживленным. «Иначе не могло быть», — говорил он.
Изредка Обручев выезжал на полевые работы. Старший научный сотрудник Госэкономсовета Адамчук рассказывает, что при обследовании Пышминского колчеданного месторождения «молодые геологи, сопровождавшие Владимира Афанасьевича, приходили в восхищение, едва поспевая за академиком, который с удивительной легкостью буквально летал по отвалам разработок, перепрыгивая с одной глыбы на другую, отбивая молотком заинтересовавшие его образцы пород. «Ну и дорвался!—с удивлением говорили они. — Никак за ним не угонишься!»
Такие вылазки Владимир Афанасьевич мог позволять себе не часто. Он похварывал. Воспалением легких болел несколько раз и поправлялся только благодаря заботливому уходу Евы Самойловны.
Но сделано на Урале было много. Мудрое руководство изысканиями открывало новые и новые ресурсы драгоценного сырья. «Он сами недра поднимает на победу», — говорил о Владимире Афанасьевиче Ферсман.
Здесь на Урале Обручев закончил свой многолетний труд «История геологического исследования Сибири»— венец его работ по сибирской геологии. Писал он в это время и монографию «Внутренняя Монголия», обрабатывал записи путешествий по Туркмении и Джунгарии для популярных изданий.
Научная жизнь страны не прерывалась. В 1942 году в Свердловском доме Советской Армии состоялась юбилейная сессия Академии наук, посвященная двадцатипятилетию советской власти.
Владимир Афанасьевич выступил на сессии с докладом «Геологические науки в СССР за 25 лет».
Он рассказал об очень скромных успехах русской геологии до 1882 года, когда был создан Геологический комитет, о более планомерном геологическом изучении страны трудами комитета и о быстром развитии исследовательских работ в советское время.
— Площадь исследований, отпущенные на них средства и число полевых геологических партий в СССР, больше, чем в самых крупных капиталистических странах, — сказал Владимир Афанасьевич.— Теперь вся территория Союза обследована геологами, даже полярные острова Северной Земли и Врангеля, высокие Памирское и Армянское нагорья...
Обручев характеризовал успехи минералогии, петрографии, палеонтологии, стратиграфии, тектоники, мерзлотоведения, инженерной Геологии и прикладной геофизики. Он подвел итоги открытий черных, цветных и редких металлов, рассказал о месторождениях редких элементов и нерудных ископаемых — бокситов, цветных и драгоценных камней, горючих ископаемых— угля, нефти, горючих сланцев, торфа.
— Наш Союз силами героической Красной Армии и работой всего населения в тылу успешно сдерживает напор врагов, несомненно одержит победу и освободит Европу от фашистского «нового порядка». Эта труднейшая борьба за культуру и мир была облегчена благодаря успехам геологических наук в Союзе, которые своевременно обнаружили крупные запасы стратегического сырья и подготовили их использование для вооружения и снабжения Красной Армии, — этими словами Обручев закончил свою речь.
Сессия прошла очень оживленно и слаженно. Кажется, никогда еще работники академии не чувствовали такой гордости за русскую науку, такого трудового подъема, как в эти тяжелые военные дни.
Владимир Афанасьевич не пропустил ни одного заседания, с интересом слушал и речь президента и доклады академиков, даже таких далеких от него по роду работы, как Абрам Федорович Иоффе, говоривший о развитии точных наук в СССР за 25 лет. Академик Греков рассказал об исторических науках, а Алексей Николаевич Толстой характеризовал четверть века советской литературы.
Одна из сотрудниц Академии наук обратила внимание на то, как Обручев слушал представителя Центрального Комитета партии. Оратор говорил о фашистских зверствах, о мракобесии третьего рейха и о глубоко реакционной сущности фашизма. Владимир Афанасьевич слушал, слегка наклонив голову, с напряженным вниманием. Скорбь и негодование ясно читались на его лице.
В 1942 году из Казани приезжал сын Владимир Владимирович с дочерью. Наташе было уже десять лет. Веселая и умненькая девочка оживила тихую квартиру Обручевых, порадовала деда.
А летом 1943 года Владимир Афанасьевич получил приглашение Казахской академии наук приехать в Алма-Ату. Поскольку Казахстан подлежал изучению Комиссии по мобилизации ресурсов, Обручев не счел возможным отказаться. Да и интересно было побывать в казахской столице, бывшем городе Верном, которого он никогда не видел.
Владимир Афанасьевич и здесь болел гриппом с «небольшим фокусом в легких», как сказали врачи, но жаркий, сухой июль, по словам самого Обручева, «хорошо прогрел легкие».
Но, как ни приятно было в Алма-Ате, тянуло в Москву, к своей библиотеке, к рукописям, ко множеству прерванных и незаконченных работ.
Часть учреждений Академии наук, в том числе и геологические, уже вернулась в Москву.
Владимир Леонтьевич Комаров тоже приехал из Свердловска в Алма-Ату. Оттуда он выезжал во Фрунзе, где открыл филиал Академии наук, и, возвратившись в казахскую столицу, вместе с Обручевым и другими академиками двинулся в Москву.
Люди, вырванные войной из привычной родной обстановки, жившие на биваках в положении эвакуированных, не опускали рук, не прекращали работы, но возвращение было для всех огромным счастьем. Не только потому, что они, наконец, очутились дома, но потому, что возвращение означало — дела на фронте идут хорошо, враг уходит с советской земли.
Твой труд
Тебе награда, им ты дышишь.
«Я рад, что выраженная мною на предыдущей сессии Академии наук СССР в Свердловске уверенность в том, что наша очередная сессия будет созвана в родной Москве, претворилась в жизнь. За истекшие с тех пор десять месяцев произошли величайшие исторические события, которыми наши народы и все человечество обязано героической Красной Армии».
Так начал свою речь академик Комаров на очередной сессии Академии наук.
Владимир Афанасьевич выступал с докладом «Геология и война». Начав с земляных работ при осаде старинных крепостей, он сказал о подземных убежищах во время обороны Севастополя, о «военной» геологии времен первой мировой войны. Он обстоятельно проанализировал применение геологии при сооружении линий Мажино, Зигфрида и Маннергейма и работы советских геологов, помогавших прорывам наших армий через укрепления противника. Обручев рассказал о вновь найденных геологами месторождениях, о достижениях в гидрогеологии и инженерной геологии.
Доклад Обручева был содержателен, насыщен материалом, очень современен. Едва ли кто-нибудь из читавших его в «Трудах сессии» вспомнил, что автору скоро исполнится восемьдесят лет.
Юбилей праздновался в военное время. Вместо обычного в таких случаях банкета в Институте геологических наук .был только скромный чай с бутербродами. Но теплых слов и пожеланий Владимир Афанасьевич услышал много. Академик Наливкин, заканчивая приветственную речь, сказал, что юбиляр служит примером, как надо работать, как надо жить, чтобы приблизить окончательную победу над врагом.
Правительство наградило Владимира Афанасьевича орденом Ленина.
После всех приветствий и поздравлений Обручев попросил слова.
— Мои успехи обусловлены тем, — сказал он, — что я всегда находил особое удовлетворение в труде и считал, что творческий труд — главный смысл жизни.
Он говорил о множестве народных талантов, героях труда, ударниках, стахановцах, изобретателях, о громадном значении свободного творчества, труда, одухотворенного желанием довести его до совершенства для блага Родины.
— И это творчество находит всемерное поощрение у нас в стране. Сегодняшнее чествование ;— пример этого.
Жизнь в Москве пошла привычным порядком: утро за письменным столом, после двенадцати — обязанности академика-секретаря. В столицу стали один за другим возвращаться институты Геолого-географического отделения Академии наук. Обычно по вторникам у Владимира Афанасьевича на квартире происходили заседания бюро отделения. Нужно было рассматривать планы научных работ, утверждать в должностях научных сотрудников и решать множество других дел, связанных с работой огромной армии разведчиков недр и следопытов.
Возобновилась подготовка научных кадров. Рассматривались кандидатуры аспирантов и докторантов, утверждались темы их научных работ. Если диссертация касалась Китая, Сибири или Монголии, ее подготовкой руководил сам Владимир Афанасьевич.
Как академик-секретарь, Обручев был членом Президиума Академии наук, то есть принимал участие в руководстве всей академией, и председателем Геологической секции в Комитете по государственным премиям. Ему приходилось читать множество геологических трудов, выдвинутых на соискание премии. А работы присылались геологическими учреждениями всего Союза — и входящими в систему Академии. наук и работающими в промышленности.
Он продолжал руководить Институтом мерзлотоведения, был председателем Комиссии по изучению четвертичного периода и Монгольской комиссии. Большое внимание он уделял журналу «Известия Академии наук, серия геологическая».
Сотрудники всех этих учреждений приходили к Обручеву домой. Дома, в большой столовой, происходили и заседания.
— Что делать! Надо работать. Отдыхать будем после победы, — обычно говорил Владимир Афанасьевич, когда люди удивлялись, как он справляется с такой массой обязанностей.
Иногда он задумчиво ронял:
— Дожить бы только до победы...
Почти шестьдесят лет помогал Обручев своим трудом развитию военной мощи страны. И старейший геолог Советского Союза увидел торжество Родины.
Он с большой радостью говорил о том, что не успел умолкнуть гул орудий, как советские люди горячо взялись за мирные дела. Страна отстраивалась, молодежь училась, все работы, прерванные войной, возобновились.
Академия наук в этом же году праздновала свой юбилей. Задуманное Петром Великим и открытое при Екатерине Первой старейшее научное учреждение отмечало свое двухсотдвадцатилетие.
В числе тринадцати прославленных академиков Владимир Афанасьевич получил звание Героя Социалистического Труда. В газетах печатались высказывания награжденных. Обручев писал о ломоносовских традициях в русской науке.
Юбилейная сессия торжественно открылась в Большом театре. Огромный, красный с золотом зал, яркий свет хрустальных люстр... Впервые собрание ученых происходило в такой пышной обстановке. Недавняя победа страны над врагом как бы присутствовала на этом собрании и делала его еще более радостным и значительным.
Было много зарубежных гостей, английские и французские ученые в своих тогах и квадратных шапочках, научные силы Америки, Польши, Чехословакии... Дипломатический корпус, представители печати...
Председательствовал Владимир Леонтьевич Комаров. Речь его прочитал вице-президент Леон Абгарович Орбели. Потом говорил академик-секретарь академии Бруевич. Третье слово было предоставлено Обручеву.
Он посвятил свой доклад успехам геолого-географических наук в СССР.
Обручев вспомнил экспедиции, отправляемые Петром Первым для изучения рек и волоков между ними от Оби до Аргуни, путешествие Беринга на Камчатку, походы русских моряков Лаптевых, Малыгина, Овцына, Прончищева, Челюскина, выполнивших географическую съемку от устья Печоры до Колымы и нанесших на карту берега Ледовитого океана.
Он говорил о первых русских ученых — Крашенинникове, Лепехине, Озерецковском, Рычкове и с особенной любовью остановился на Ломоносове. Геологические идеи этого всеобъемлющего ума опередили мысли европейских ученых того времени. Его сочинения по минералогии, геологии, металлургии, о слоях земных, о происхождении ледяных гор и рождении металлов имели огромное значение не только для развития наук, но и для создания материальной культуры страны.
Восемнадцатый и девятнадцатый "века дали множество интересных экспедиций, снаряженных академией и принесших крупные успехи геолого-географическим наукам.
Но постепенно академия теряла связи с жизнью и запросами страны. Она сделалась учреждением, далеким от народа.
И вот теперь, в советское время, возрождаются ломоносовские традиции. Академия стала научным центром не только теоретической мысли, но и практической деятельности народа.
Успехи геологического изучения страны за двадцать лет советской власти выявились уже в 1937 году на XVII сессии Международного геологического конгресса. Отечественная война, нужды фронта и временный захват немцами месторождений угля, нефти, железа, марганца и ртути заставили академию организовать поиски новых месторождений, и это дало прекрасные результаты.
Потребности социалистического строительства, как в дни войны потребности обороны, ставят перед Академией наук практические вопросы и требуют их скорого разрешения. Эта связь науки с жизнью страны Очень плодотворна и драгоценна для ученых, видящих плоды своего труда...
Заседание закончилось исполнением увертюры Чайковского «1812 год». Вся обстановка, речи выступавших, торжественная музыка создали впечатление истинного праздника науки.
Сессия эта была как .бы рубежом в жизни многих академиков. Она подводила итоги их большой работы, намечала дальнейшие планы, выдвигала перед ними новые проблемы.
Может быть, и Герой Социалистического Труда Владимир Афанасьевич Обручев задумался об итогах своей научной деятельности... Во всяком случае, в статье «Страницы моей жизни», написанной около года спустя и напечатанной в «Известиях Всесоюзного географического общества», он впервые свел воедино свои научные интересы, рассказал о пяти проблемах, занимавших его всю жизнь.
Готовясь отметить столетнюю годовщину, Географическое общество обратилось к своему почетному члену, старейшему и по возрасту и по времени избрания, с просьбой прислать автобиографию. Владимир Афанасьевич, как всегда пунктуально, выполнил обязательство и дал в краткой, но очень емкой по содержанию статье перечень и характеристику научных вопросов, интересовавших его прежде и интересующих до сих пор.
Лёсс — это рыхлая мягкая порода, тонкий желтый порошок, желтая земля — «хуанту» по-китайски... Есть около двадцати теорий происхождения лёсса. Лев Семенович Берг, советский академик, считал, что лёсс может возникнуть только лишь в пустынных местностях или там, где часто бывают засухи. Любая мелкоземистая порода, содержащая соли угольной кислоты — карбонаты, — может со временем превратиться в лёсс.
А Петр Алексеевич Кропоткин, как и английский геолог Лайелль, думал, что лёсс образуют речные осадки. Тонкий ил когда-то выносился реками за границы мест, покрытых ледниками. Лёсс — образование ледникового периода.
Рихтгофен рассматривал лёсс как пыль, принесенную ветрами и заполнившую впадины Центральной Азии. Но в гобийских впадинах Обручев лёсса не нашел, там были и третичные и более древние породы. Он уверен, что лёсс, как и песок, образуется во всех пустынях Центральной Азии и создается ветром. Легкая лёссовая пыль уносится на окраины пустынь и за эти окраины в степь, а степные растения помогают лёссу накопляться. Песок тяжелее, его так далеко ветры не уносят...
Сколько он писал о лёссе! Еще в прошлом веке вышла работа «О процессах выветривания и раздувания в Центральной Азии». В ней были слова: «Какова же конечная цель этой деятельности выветривания и раздувания в Центральной Азии? Снести все хребты, сгладить все скалы, превратить всю поверхность в плоские холмы и увалы без малейшего выдающегося утеса, — словом, уничтожить все препятствия для свободного передвижения воздуха, — вот к чему стремится ветер и его сообщники в своей разрушительной деятельности, и многое он уже успел сделать в этом отношении».
Потому-то во впадинах Центральной Азии крупных скоплений лёсса нет. Там исследователь найдет слои щебня с глиной и песком, и не такие уж мощные. Основные тучи пыли и песка перенесутся на окраины. Здесь ветер из Центральной Азии или налетит на горные цепи, или столкнется со встречным течением воздуха. Он потеряет силу, его ноша начнет осаждаться, сперва более тяжелый песок, потом легкая пыль. Десятки тысяч лет тянется этот однообразный процесс. За окраинами Центральной Азии толщи лёсса достигают четырехсот метров высоты, а для того, чтобы такой слой образовался, ветру нужно работать сорок тысяч лет.
Образование лёссовых материалов — результат выветривания, а отложение лёсса — уже другой процесс. В нем вместе с ветром участвует вода. Несильные дожди пустынь и сухих степей смачивают лёсс, связывают его, скрепляют с подстилающими породами и не дают ветру уносить его. Об этих двух процессах он писал в работе «К вопросу о происхождении лёсса», изданной в 1911 году.
А большой труд 1928 года «Лёсс Северного Китая» был сводкой и чужих и своих, в основном китайских, материалов. Он всегда считал, что очень пристальное изучение китайского лёсса может помочь решению этой запутанной проблемы. Китайский лёсс можно назвать классическим, основным, накопления его огромны, в хозяйстве страны он значит очень много, его изучал и писал о нем не один ученый.
По мысли Обручева, в те времена, когда образовался типичный лёсс, климат был суше, чем теперь, ветры сильнее, из пустынь Центральной Азии приносилось больше пыли. Многие современные реки еще не существовали, осадки выпадали реже. Несомненно, главная роль в образовании лёсса принадлежит ветру, а не воде.
«Проблемой лёсса» называлась работа, вышедшая в 1933 году. В ней он характеризовал все основные гипотезы лёссообразования и говорил о первичном лёссе, так сказать, типичной породе, и вторичных лёссовидных формированиях. В лёссе полностью отсутствует гумус — вещество, окрашивающее верхний горизонт почв в черный цвет. Ведь в жарких внутри- материковых пустынях и в холодных приледниковых растительность высыхает и не дает перегноя.
Лёсс формировался очень интенсивно и во время оледенений, так как климат тогда был очень сухим. В стране лёсса — Китае — эта порода накоплялась дважды, а в эпохи влажного климата первичные лёссы разрушались и возникали вторичные наряду с аллювиальными отложениями. И в наши дни продолжается лёссообразование, хотя не с такой быстротой, как в ледниковое время.
Лёссовые покровы приурочиваются к ледниковым областям. Это отмечено многими учеными. Обручев писал о лёссе Северного Китая: «В Азии образование толщ лёсса ясно связано с оледенениями... Возможно, но требует еще подтверждения, что оледенения Азии были вызваны молодыми движениями земной коры, которые создали значительные поднятия, явившиеся центрами снегонакопления и развития ледников, обусловивших чрезвычайное осушение климата Внутренней Азии».
Взгляды его расширялись и углублялись, теория подкреплялась новыми фактами, но в эоловом происхождении типичного лёсса он ни разу не усомнился, хотя споров с геологами, географами, а главным образом с почвоведами было немало.
Древнее оледенение Сибири заинтересовало его еще в 1890 году. Он тогда увидел ясные следы оледенения в Ленском районе. Их заметил еще Кропоткин и предположил, что вся Сибирь, как и Европа, подвергалась оледенению. А Черский и Воейков настаивали на том, что сухой климат Сибири не был благоприятен для развития ледников. Следы, оставленные ледниками, объясняли иначе. Черский говорил, что «морены» — просто неслоистые осыпи, «цирки» и округленные горы образовались под влиянием эрозии и выветривания и лед на них никак не влиял.
Многие ученые становились на сторону таких авторитетов, как Черский и Воейков, но Обручев не сдавался. Он упорно собирал материал, подтверждающий его взгляды, рылся в литературе, вел свои наблюдения.
Он видел следы древнего оледенения в Центральной Азии — Наньшане и Тянь-Шане, в Швейцарии и в Пограничной Джунгарии, наконец на Алтае. Он вел учет моренам, ледниковым валунам, карам — овальным нишам на склонах гор. А сколько долин убеждало его, что не вода, а только лед мог придать им такую форму!
Он пришел к выводу, что на Алтае оледенение происходило дважды и первое было более мощным. Чуйская степь была огромным озером, а граница алтайских снегов спускалась на тысячу двести метров ниже, чем теперь.
Его работа «Заметки о следах древнего оледенения в Русском Алтае» была напечатана в 1914 году, а в 1931-м он снова вернулся к этому вопросу в труде «Признаки ледникового периода в Северной и Центральной Азии». Здесь он собрал воедино все известные сведения по оледенению Северной Азии.
Он уверен, что оледенение больших областей от Урала до Таймыра доказано совершенно точно. Здесь лежал такой же толстый, в две или три тысячи метров, слой льда, как в Гренландии. Сплошной ледниковый покров одевал восточную часть Арктики от берегов Ледовитого океана до алданских низовьев. Центром оледенения надо считать Верхоянский, Колымский, Анадырский хребты и хребет Черского. Весь север Сибири находился подо льдом. В среднем поясе
не было сплошного оледенения, но отдельные его центры различаются в Енисейском кряже, в Олекмо-Витимском округе, Северо-Байкальском нагорье и других местах. А из южных гор Сибири льдом были покрыты Саур, Тарбагатай, Алтай и Саяны. И хребет Кузнецкого Алатау покрывался длинным ледяным языком.
Центральная Азия сохранила следы ледников на хребтах — Джунгарский Алатау, Барлык, Майли, Монгольский Алтай, горная страна Хангай. А еще более заметно древнее оледенение на Тянь-Шане. Морены горной группы Богдо-Ола находятся на высоте 1 795 метров. Возможно, что ледники прошлого оставили свой след и на Хингане, и на Сихотэ-Алине, в горах Кореи... Этим еще занимаются ученые.
Во всяком случае, ясно, что Северная Азия в своем развитии четвертичного периода не отличалась от Европы и Северной Америки, как думают те, кто отвергает существование ледниковых и межледниковых эпох в этой стране. Установить это важно не только теоретически, но и в практических целях, для разведки золота и других полезных ископаемых.
Тектоникой — вопросами строения земной коры и ее движений — Обручев заинтересовался очень давно. Еще на заре своей сибирской жизни, проезжая по Тункинской долине, он задумался, почему так резки очертания скалистых Тункинских гольцов и столь плоски горы Хамар-Дабана. Тогда он не понял, чем вызвано такое несходство.
В науке считалось, что в тектонике основное значение имели складкообразоватёльные движения земной коры. Постепенно Обручев убедился, что рельеф Сибири создан перемещениями крупных глыб земной коры по разломам в виде сбросов и сдвигов. Но он думал, что движения эти происходили очень давно. Исследования на Байкале и Алтае показали, что они гораздо моложе, чем думают ученые. Если образованиям складок в горных странах не меньше пятидесяти миллионов лет, а иным триста пятьдесят и даже пятьсот миллионов и более, как Восточно-Сибирской докембрийской складчатости, то новые тектонические движения происходили в третичное и четвертичное время, в последний миллион лет существования Земли.
Очень долго считалось, что после третичного периода земная кора пребывала в длительном покое. Это установившееся мнение не помешало Обручеву в 1914 году допустить, что поднятие горста, представляющего современные Приморский и Онотский хребты на северо-западном берегу Байкала, произошло после третичного периода. Это объясняло возникновение послетретичных озер в грабенах Забайкалья. А исчезновение их могло быть связано с еще более поздним оседанием дна грабена Байкала.
Образование этого озера-моря издавна вызывало споры. Одни ученые считали Байкал провалом, другие — древней долиной, подвергавшейся медленным преобразованиям еще с палеозойского времени. Черский думал, что на создание байкальской впадины действовали продолжительный размыв и медленные складкообразовательные движения. А Обручеву еще в 1889 году, когда он был на Байкале впервые, показалось, что слишком глубока и велика впадина озера-моря, чересчур круты и обрывисты его склоны. Образовать впадину могли только разрывные, или, как говорят геологи, дизъюнктивные, движения земной коры и притом в сравнительно недавнее время. Ведь крутые склоны этой впадины не сглажены еще размывами...
Так он записал тогда в своем дневнике. Нельзя было, подобно Черскому, изолированно изучать байкальскую впадину, ее следовало рассматривать в связи с общим геологическим строением Забайкалья.
И позже в Селенгинской Даурии он увидел, что тектонические процессы, создававшие рельеф страны, вполне ясны. Прежние исследователи не обращали внимания на разрывные нарушения земной коры, потому что не знали этих геологических явлений. Тектоника была еще не разработанной областью науки о Земле.
В последнее время изучены явления, подтверждающие эти мысли. Молодые движения земной коры, происходившие в конце третичного и в первой половине четвертичного периодов, очень многое уясняют. Становится понятным развитие рельефа местности, накопление осадочных толщ, а это помогает при поисках полезных ископаемых и в первую очередь россыпного золота. При сжатиях и растяжениях земной коры одни участки опускаются, как в 1861 году в Саганской степи, когда образовался залив Провал, другие могут подняться. Случается, что какая-нибудь башня или церковный шпиль, не видимые прадедами, вдруг замаячат на горизонте перед правнуками. От этих движений зависит обмеление водоемов и затопление мест, где прежде воды не было, оползни и обвалы. Все это должно быть изучено перед тем, как начинать строительство городов, промышленных предприятий и железных дорог. Нельзя забывать и о том, что в местах, где происходят движения земной коры, чаще бывают землетрясения.
Интересные наблюдения были сделаны на Алтае. Обручев первый установил, что рельеф Калбинского и других хребтов образован не складчатыми дугами, а молодыми и мощными разломами. Складчатые дуги существовали здесь когда-то, но давно были размыты и превратились в плоские холмы, почти равнины.
Осадочные породы Алтая относятся к палеозою. Среди них нет древних архейских гнейсов, типичных для Саянских гор. Но очень древние метаморфические сланцы Обручев на западе Сайлюгема встречал. Видимо, они представляли собой остатки древнейшей структуры Монгольского Алтая. Складки в Центральном Алтае не ймеют единого простирания, они, как писал Обручев, изгибаются, «подобно волнам», видимо встречая в глубине какие-то препятствия. Этими препятствиями могли быть на севере Кузнецкий Алатау, на юге — Монгольский Алтай. Внутреннее давление и сделало дуги плоскими, выгнутыми к югу или юго-востоку.
Выветривание и размывание сильно разрушили горные цепи в конце палеозоя, а в начале мезозоя эта уже почти равнинная местность была разбита трещинами разломов. Образовались ступенчатые сбросы. Ограниченные сбросами поднятия — горсты перемежались грабенами — опущенными участками.
В «Алтайских этюдах», вышедших в 1915 году, Обручев рассказал о взглядах предшественников на геологию Алтая и изложил свои. Он оспаривал мнение геолога Толмачева, утверждавшего, что складчатая система Алтая очень древняя и принадлежит «саянидам» древнего Азиатского материка. По Обручеву, Алтай более юное образование, чем С&яны. Его рельеф создан не древней палеозойской складчатостью, а молодыми третичными и четвертичными горстами и грабенами. Очень высокие горы, подвергаясь выветриванию, превратились в горные цепи Катунских и Чуйских белков, а более низкие и широкие глыбы стали столовыми горами, и на них раскинулись альпийские луга.
Этот взгляд противоречил общепринятым мнениям. Утверждение о глыбовом строении современного Алтая далеко не всем казалось убедительным. Но, как всегда, Обручев снова и снова возвращался к своим выводам, подкрепляя их новыми доказательствами. Он говорил об этом в статье 1922 года «Юные движения на древнем темени Азии». И в 1936 году в статье «Молодость рельефа Сибири» он снова рассмотрел роль молодых движений всей Сибири.
Каждый геолог, исследуя какую-нибудь местность, должен выявить ее полезные ископаемые, считал Обручев. Без этого геологическое исследование неполноценно.
Он писал о «Металлогенетических эпохах и областях в Сибири», о «Месторождениях железных и марганцевых руд Сибири и их промышленном значении». Большим успехом пользовалась его монография «Рудные месторождения».
Геология месторождений золота всегда его особенно занимала.
Докембрийские площади Сибири изобилуют полезными ископаемыми, главным образом золотом. Бодайбинские и Алданские золотые россыпи известны всему миру. Золото содержится в древних породах на западном берегу Байкала, на реках Патом и Витим, в Баргузинской тайге и других местах.
В Бодайбинском районе докембрийские осадочные породы залегают крутыми складками. Местами эти древние складки прорваны гранитами. Остывая, гранит выделял пары и газы, они пропитали осадочные породы, лежащие выше, и создали золотое оруденение. Размытые дождями и реками породы превращались в обломки, вода уносила их в долины, где золото, как более тяжелое, оседало внизу. Порой оно растворялось в воде, а потом вновь могло отложиться, ведь иногда самородки находят и в корнях деревьев и в полых костях давно погибших животных. Иначе, чем в растворенном виде, оно туда проникнуть не могло.
Оледенение, которое, по мысли Кропоткина, было на месте нынешних Ленских приисков, дважды предохранило наиболее глубокие россыпи от размыва.
Россыпи — результат разрушения коренных пород. Обручев писал и о коренных месторождениях золота. Самородное золото содержится в тонких прожилках кварца. Эти прожилки расположены по пластам архейских гнейсов и кристаллических сланцев на большой глубине. В протерозое на средней глубине золото обнаруживают в кварцевых жилах постоянной мощности. И, наконец, золото и пирит оказываются рассеянными в метаморфических породах протерозоя. Оно образовалось из газообразных выделений гранитов и зачастую находится довольно далеко от месторождений.
В очень мощных кварцевых жилах золота обычно нет, но анализы показывают его присутствие в кубиках пирита. Очевидно, газы, выделявшиеся из гранитов, при остывании образовали и кристаллы пирита и самородное золото.
Основываясь на всех этих фактах, Владимир Афанасьевич не раз делал прогнозы относительно новых месторождений золота, и предположения его оправдывались. Так, к примеру, газета «Ленский шахтер» сообщала ему: «В Витиме и Олекмо-Витимском плато открыты новые богатейшие россыпи и рудные месторождения, на вероятность которых вы указывали несколько десятков лет назад».
Исследуя те геологические условия, в которых распределяются полезные ископаемые, Обручев опирался на минералогию и геохимию. Академик Ферсман говорил, что Владимир Афанасьевич «создал свою упрощенную схему природных геохимических процессов». Его схема была чисто практической. Он разделил рудные месторождения на три типа — глубинные, поверхностные, измененные; у каждого из них были более мелкие подразделения. Его классификация ясностью и простотой выгодно отличалась от существующих: французской — по химическим элементам, американской — по зависимости процессов от глубины и немецкой, столь детализированной, что в мелочах тонули ее основные идеи.
Немецкие систематики очень нападали на Обручева за его «упрощенчество», но он стоял на своем принципе: классификация — это практический рабочий метод анализа природных процессов. Конечно, они сложнее, чем любая созданная людьми схема, но в повседневной работе углубление в излишние детали порой лишь мешает.
В 1925 году Обручев дал первые схемы распределения полезных ископаемых по Сибири. Через год выпустил «Металлогенические эпохи и области Сибири», разделив эти области по возрасту и описав характерные для каждой полезные ископаемые. Он горячо спорил с французским ученым Делонэ и с его школой. Нельзя во главу угла ставить глубину погружения пород, а не возраст их. Ведь это не выявляет связи полезных ископаемых с определенной геологической эпохой. Взгляды Обручева победили, и теперь исторический подход стал решающим при составлении карт для разведки полезных ископаемых.
В статье «Вероятные запасы золота в россыпях СССР», опубликованной во время войны, говорилось о возможности таких запасов на Урале и в Сибири. Они могут находиться в глубине или подниматься при молодых движениях. Обручев перечислил несколько категорий еще не открытых россыпей, очень тщательно описывая их признаки и призывая к новым поискам.
Работая в военное время в Комиссии по мобилизации природных ресурсов Урала, Западной Сибири и Казахстана, он написал статью об извлечении золота из старых отвалов и указал, где, по его мнению, можно производить эту работу. Предложение его очень увеличило добычу золота в те годы.
Занимался он и нерудными ископаемыми. Им были составлены сводки — по месторождениям угля, нефти, асфальта в Забайкалье, Туве, Джунгарии и Крыму.
Уральские прогнозы его немало помогли стране. Судя по геологическому строению восточного склона Северного Урала, он предположил, что там должны быть запасы железных, марганцевых и алюминиевых руд. Прогноз был верен. Металлургические заводы во время войны снабжались сырьем из этого района.
Последней проблемой из перечисленных Владимиром Афанасьевичем было «древнее темя Азии».
Это образное название Зюсс дал части Азии, лежащей с запада на восток между Алтаем и Яблоновым хребтом и с севера на юг между Патомским нагорьем и пустыней Гоби.
Эта обширная площадь, по словам Черского, была древней сушей и чрезвычайно интересовала Владимира Афанасьевича.
По его теории, складчатые дуги архейских пород в этой горной стране не были размыты в конце архея. А перед началом кембрия оказались размытыми и протерозойские породы, отложившиеся на поверхности архея.
Первобытное море покрывало почти всю Азию в нижнем кембрии. Но большой байкальский остров оставался огромным массивом. Он постепенно увеличивался и занял также и пространство нынешних Саян. На его побережьях откладывались песчано-глинистые нижнекембрийские: осадки; Древняя азиатская суша размывалась морем, разрушалась ветром. Эти осадки и сейчас тянутся к северу от Саян и Байкальского нагорья.
Постепенно «древнее темя Азии» все более обнажалось, выступало из морских вод и в конце палеозоя раскололось на глыбы: вверх поднялись горсты, опустились грабены. В нижнеюрскую эпоху снова начались усиленные движения земной коры, образовались новые грабены, углубились старые. Опять появилось множество озер и болот. У водоемов, где пышно развивалась растительность, жили огромные ящеры.
В меловую эпоху и в первой половине третичного периода «древнее темя» не претерпевало особых изменений, но, затем возникли новые движения, новые поднятия и провалы.
Возобновились тектонические движения и во второй половине четвертичного периода. Окраины «древнего темени Азии» поднялись в виде хребтов, впадины покрылись озерами. Байкал был огромным озером, его тогдашние отложения распространялись по Забайкалью. Только когда Ангара прорезала Онотский и Байкальский хребты, образовался сток озерных вод в Ледовитый океан по Енисею. Тогда начали высыхать многие соленые озера во впадинах, окружавших Байкал.
«Рельеф страны снова сделался более резким... — писал Обручев, — началось новое расчленение горстов, врезание или углубление долин размыва».
Поэтому-то озерные отложения порой находятся на большой высоте, например на перевале Яблонового хребта и на западном берегу Байкала, на 825 метров выше теперешнего уровня озера. Сам Байкал такой высоты достигать не мог, тогда он покрыл бы всю Северную Азию и слился бы с Ледовитым океаном. Значит, медленные молодые поднятия обусловили залегание озерных отложений на высотах. И происходили эти поднятия, видимо, уже после появления первобытного человека.
Первое очень мощное оледенение оставило следы на Восточном Саяне, Хамар-Дабане и хребте Хэнтэй. Климат стал холодным и сухим. Озерные наносы развевались ветром и в виде лёсса отлагались на «древнем темени Азии» там, где не было ледников. Из Монголии ветры тоже приносили сюда пыль.
Базальты изливались из глубин и покрывали местность, бывшую почти равниной, но впоследствии они поднялись. Поэтому на столовых вершинах хребтов Тункинских гольцов и Хамар-Дабана встречаются базальтовые покровы.
Александр Павлович Герасимов и Павел Иванович Преображенский — давнишние сотрудники Владимира Афанасьевича нашли в верховьях Витима остатки позднечетвертичных вулканов. Открыватели назвали их именами исследователей Северной Азии, и на картах появились вулканы Мушкетова, Обручева и Лопатина. Четвертичные отложения в тех местах покрыты лавой этих вулканов.
Многие ученые отвергали обручевскую теорию «древнего темени». Еще в 1911 году Делонэ выдвинул иную версию образования Азии. Он считал, что формирование ее зависело от слияния двух древних платформ — Ангарской и Гондванской. Владимир Афанасьевич возражал Делонэ, считая, что его гипотеза построена на недостаточном материале. Но выводы Делонэ были приняты советскими учеными — Бори- сяком, Тетяевым и другими.
Почти полстолетия в геологической литературе шли споры по поводу «древнего темени». Обручев стоял на своем. Даже находки морских кембрийских отложений там, где, по его предположению, в кембрии не было моря, не поколебали Владимира Афанасьевича. Он писал, что «только мощные отложения всего кембрия... занимающие большие площади «древнего темени», могли бы опровергнуть его концепцию.
Особенно жаркие споры шли с Михаилом Михайловичем Тетяевым. Исследуя Забайкалье, Тетяев пришел к выводу, что геологическое строение этой области можно объяснить шарьяжами — горизонтальными перемещениями крупных масс горных пород по очень пологой поверхности разрывов на большие расстояния.
Гипотеза эта не была основательно проверена и дала повод ко многим скороспелым выводам. Высказывались даже предположения, что из Монголии на. сотни километров передвинулись в Забайкалье громадные толщи гнейсов. По картам, составленным шарьяжистами, выходило, что в совершенно неожиданных местах нужно искать уголь и руду. Прогнозы эти оказались ошибочными, а Владимир Афанасьевич доказал устойчивость древних массивов. Ангарский шарьяж он объяснил тем, что «древнее темя» было поднято в послеюрское время и его давление на юрские отложения вызвало глыбовый надвиг.
Обручев призывал к детальному изучению ангарского надвига. Геолог Данилович после тщательных исследований на Ангаре выяснил, что надвиги в пределах «древнего темени», а особенно в истоках Ангары, существуют, но не могут считаться шарьяжами. Их нет в Забайкалье.
Многие ученые споры Обручева, как и спор с шарьяжистами, окончились признанием его правоты. Но Владимир Афанасьевич не переставал интересоваться своими излюбленными проблемами. Он снова и снова возвращался к ним, пересматривал свои прежние работы и подбирал факты для новых доказательств истинности своих выводов.
Без неприметного труда
Мне было б грустно мир оставить...
Живу, пишу не для похвал...
В 1947 году Обручевы получили новую квартиру на Большой Калужской в одном из только что отстроенных корпусов академического дома. Вскоре после переезда там появилось новое лицо — Мария Афанасьевна Обручева, тихая старая женщина приехала доживать свои дни рядом с братом. Иногда Владимир Афанасьевич выходил с ней на прогулку. Старость усилила их сходство, и, когда они вдвоем тихим шагом шли по Калужской, нетрудно было признать в них брата и сестру.
Владимир Афанасьевич неукоснительно следил, чтобы ежемесячно посылались деньги внучке Ивана Васильевича Мушкетова. Отец ее — Дмитрий Иванович Мушкетов, председатель Геологического комитета, был арестован в 1937 году и погиб в лагере. Дочь его Галина Дмитриевна очутилась в тяжелом положении, и помощь Владимира Афанасьевича позволила ей закончить образование.
Посылал Обручев деньги на памятник талантливому геологу Лутугину — создателю, первой карты Донбасса, в Кяхту — на сооружение памятника Александре Викторовне Потаниной, воздвигнутого в центре города.
В 1948 году были готовы давно строящиеся дачи для академиков в поселке Мозжинка, под Звенигородом. Просторный участок, удобный комфортабельный дом, гараж...
Обручевы поехали в Мозжинку на лето, и с тех пор Владимир Афанасьевич уже очень редко бывал в Москве. Городской шум тяжело действовал на него, в Москве трудно дышалось, он простужался от длительных переездов. Не раз в его письмах того времени встречались сердитые жалобы: «Потерял рабочий день, потому что в городе совсем не спал из-за шума. Больше в Москве ночевать не останусь».
Мозжинка, конечно, продлила жизнь Владимира Афанасьевича. На поезде доехать до академического поселка нельзя, надо иметь в своем распоряжении машину. Обычно тот сотрудник, которому нужно было поговорить с Обручевым, писал ему, и Владимир Афанасьевич предлагал договориться по телефону с водителем его машины. Два раза в неделю шофер привозил из Москвы продукты и почту. Часто с ним приезжал и гость, но все-таки посетителей в Мозжинке было гораздо меньше, чем в Москве.
Спокойная жизнь, чистый воздух хорошо действовали на Обручева. Хоть он часто болел, и гриппы, простуды, повышения температуры из-за «фокуса» в легких постоянно беспокоили его, но богатырское здоровье не поддавалось упорным недугам. И каждый раз, поднявшись с постели, он снова принимался за работу. А это было для него главное.
Пятый том «Истории геологического исследования Сибири» выходил отдельными выпусками. Последний, девятый, выпуск появился в 1949 году, И Обручев получил Государственную премию первой степени за этот труд, выходивший в свет начиная с 1931 года.
Владимиру Афанасьевичу хотелось еще и еще писать о своих путешествиях. Для специалистов выпущены толстые обстоятельные описания, но стоит и широкому читателю рассказать о дальних странствиях, всегда привлекательных для людей, а особенно для молодежи.
Так появились одна за другой книги «Мои путешествия по Сибири», «От Кяхты до Кульджи», «По горам и пустыням Средней Азии». В них Владимир Афанасьевич вспоминал свои давние походы и рассказывал порой о таких подробностях, точно не десятилетия прошли после его путешествий, а краткие месяцы.
Но и этого ему было мало — описание научное, описание научно-популярное... Он видел в своих поездках такие фантастические места, что в пору развернуть на их фоне приключенческий роман.
И такие романы появились. После многих переизданий «Плутонии» и «Земли Санникова», после «Рудника Убогого» вышли «Золотоискатели в пустыне», а затем «В дебрях Центральной Азии».
Тот, кто знает биографию Обручева или читал книги о его путешествиях, найдет здесь много знакомого. Только тут автор чувствует себя свободней, не спешит расстаться с полюбившимся образом, говорит о нем ярче, взволнованней.
Академик Николай Сергеевич Шатский в своей статье по поводу восьмидесятилетия Обручева писал: «Пожалуй, лучшим из его романов является «Золотоискатели в пустыне», в котором описаны приключения двух китайских мальчиков в Джунгарии во время Дунганского восстания. Ни в одном романе не проявились так автобиографические черты, как в этом. Он весь наполнен глубоким знанием геологического строения и природы пустынь Джунгарии и их минеральных богатств, примитивных способов добычи золота, применявшихся китайцами в этой стране, и характера и быта ее народов. Все это наблюдал Владимир Афанасьевич, все это он изучал во время своих знаменитых путешествий в Пограничной Джунгарии и в Центральной Азии».
Не меньше собственных впечатлений вложил Обручев в повесть «В дебрях Центральной Азии». Он описывает здесь свою поездку в Чугучак на пути в Джунгарию и встречу с консулом Соковым — в книге ему дана фамилия Боков. В этом романе фигурирует и Гайса Мусин, а затем появляется кладоискатель Фома Кукушкин, который вскорости умирает и оставляет консулу тетрадь с описанием своих путешествий. Якобы обработанные автором записки Кукушкина и представляют материал книги. Кукушкин посещает рудники Джаира и находит в заброшенной фанзе горшок с золотом. После этой удачи он предпринимает со своим другом Лобсыном новые путешествия. Они скитаются по долине реки Эмель, у отрогов Тарбагатая, недалеко от скалистых вершин Коджура, Саура, по долине Кобу, где светлые лиственницы лентой бегут до кумирни Матени... А дальше герои отправляются в развалины древнего города Кара-Ходжа, проезжают мимо скалы Кызыл-Гэгэн-Тас. Они попадают в эоловый город Орху и пытаются проникнуть в его здания, надеясь найти там клады, но убеждаются, что великолепные дома и замки сложены породой, а не воздвигнуты людьми. Затем мертвый город Хара-Хото, долина бесов, озеро Лоб-Нор и пустыня Такла-Макан... Все жило в памяти Владимира Афанасьевича, все снова вставало перед ним, когда он работал над этой книгой.
Выпустил Обручев и биографию Потанина, умершего еще в 1920 году в возрасте 85 лет. Сделать это Владимир Афанасьевич всегда считал своим долгом. Книга «Григорий Николаевич Потанин — жизнь и деятельность» вышла в 1947 году.
Обручев никогда не забывал людей, близких ему по работе и по духу. Он написал статью о Кропоткине в сборник «Люди русской науки», воспоминания о А. В. Потаниной, статью о Мушкетове к столетию со дня рождения, статью «Александр Петрович Карпинский» к пятнадцатилетию со дня смерти и опять «Профессор Иван Васильевич Мушкетов» для книги «Выдающиеся ученые Горного института». Еще в 1937 году он выпустил полную биографию Эдуарда Зюсса в серии «Жизнь замечательных людей», а в 1939, когда умер его ученик Михаил Антонович Усов, посвятил его памяти статью, напечатанную в геологической серии «Известий Академии наук».
Одна сотрудница издательства Академии наук рассказывает, как однажды, еще в Свердловске, пришла по делу к Обручеву. Ева Самойловна встретила посетительницу смущенно.
— Очень сердит Владимир Афанасьевич, — шепотом сказала она.
— Почему?
— Расстроен... Скончался Сумгин в Ташкенте.
Обручев выглянул из кабинета и узнал гостью.
— Это вы? Проходите, — хмуро сказал он.
А покончив с делами, помолчал и заговорил так же суховато, почти неприязненно:
— Вот и умер Сумгин... Талантливый был человек. Сколько мог бы сделать!
Он писал статьи об умерших в 1945 году академиках Владимире Ивановиче Вернадском и Александре Евгеньевиче Ферсмане, о деятельности Владимира Леонтьевича Комарова на посту президента Академии наук и о работе выдающегося ученого вообще. Такие потери были особенно заметны и болезненны для всех, кому дороги успехи нашей науки. Эти талантливые люди ушли из жизни вскоре после победы, когда особенно хотелось работать и помогать стране скорее покончить с последствиями разрушительной войны.
Сохранилось письмо Обручева к члену-корреспонденту Академии наук СССР Георгию Дмитриевичу Афанасьеву[30], написанное после смерти академика Белянкина.
«С большим огорчением я узнал о кончине Дмитрия Степановича Белянкина. Он всегда казался мне таким здоровым человеком, который может перетянуть конец семидесятых годов своей жизни без ущерба для себя и своей работы. И вот я, который старше его на тринадцать лет, переживаю его, как пережил Вернадского, Ферсмана, Степанова, Заварицкого, Смирнова...
Состояние здоровья не позволяет мне рисковать поездкой в Москву, чтобы проводить Дмитрия Степановича в последний путь. В помещении президиума Академии или в Отделении, наверно, будет собрание сотрудников для проводов покойного на кладбище. Прилагаю свое короткое прощальное слово, которое прошу вас прочитать на этом собрании».
Часто Владимир Афанасьевич был не в состоянии ехать в Москву и лично встречаться с людьми. Поэтому переписка его стала еще более обширной. По письмам можно судить, что занимало его тогда.
Евгению Владимировичу Павловскому к Иркутск он писал:
«Сергей Владимирович, бывший здесь в марте, сообщил мне, что вы занялись сводкой неопубликованных материалов по архею Алданской плиты. Если это верно, хорошо было бы добавить (или отдельно составить) сводку по месторождениям золота в этом районе, так как после работы Бахвалова и небольшой статьи о Лебединой жиле о районе ничего не печаталось и, как развивались промыслы, никому не известно».
Ему же:
«Я только что встал с кровати после очередной вспышки воспаления легких, вызванной, вероятно, ухудшением погоды в начале октября. Все лето с конца мая по возвращении из санатория под Москвой я не болел и работал, заканчивая географическое описание горной системы Наньшаня в Китае, а также рецензии новой литературы по геологии и географии, которые печатаю в «Природе», «Известиях Академии наук, серия геологическая» и других журналах и рассылаю в библиотеки и нескольким преподавателям средних школ для использования на уроках.
Между прочим, посылаю их в библиотеку Иркутского университета, где вы можете их найти, если интересуетесь».
Ему же:
«Недавно получил от С. Г. Саркисяна новые данные о возрасте третичных отложений, пройденных бурением в дельте реки Селенги, и их мощности... и теперь могу определенно сказать, что впадина Байкала пережила две катастрофы (если не три).
В юрский период Байкал был неглубокой впадиной в породах архея, протерозоя, в южной части которой отлагалась угленосная юра (того же состава, как и в Черемхове). В меловое или эоценовое время случился глубокий провал, и часть юры круто опустилась в него; озеро существовало в миоцене и плиоцене, и уровень его был гораздо выше современного — в нем отлагались толщи песчаников и глин с прослоями углей. Второй провал в четвертичное время опять углубил озеро, и остатки миоплиоцена остались на восточном берегу на суше, а большая часть их опустилась вглубь на дно. Крайне интересно поставить бурение скважин (хотя бы двух-трех) на дне южной части озера, чтобы выяснить, какие породы лежат на дне: плиоцен, миоцен, эоцен, мел, юра?
В Каспийском море бурят скважины далеко от берега для получения нефти. Нельзя ли начать такие скважины и среди Байкала с хорошего плота в нескольких местах, чтобы узнать состав его дна?
Интересно узнать мнение иркутских геологов насчет подобных скважин.
Сердечный привет шлю Наталье Васильевне и всем старым иркутянам.
Иркутск вспоминаю всегда с гораздо более теплым чувством, чем Томск».
Георгию Дмитриевичу Афанасьеву:
«...Не откажите сообщить мне, отправлены ли отобранные мною книги для обмена в Китай Геологическому обществу и Геологическому комитету, чтобы я мог известить об этом через ВОКС оба эти китайские учреждения, которые опять прислали мне по почте издания».
Ему же:
«Два дня назад мой сын передал вам копию моего последнего письма в Президиум по вопросу о судьбе Монгольской комиссии. Отсрочка ее ликвидации до нового года не решает этого вопроса, поэтому я предлагаю более целесообразное решение в виде «Комитета по изучению природных областей Внутренней Азии», которое позволит продолжить интересные начатые работы и помогать по мере надобности ученым МНР и КНР. СССР на тысячах километров граничит с МНР и КНР, и мы не можем, не имеем права игнорировать вопросы и задачи изучения этих областей».
В редакцию журнала «Известия Академии наук, серия геологическая»:
«...Я уже написал отзыв в Министерство лесного хозяйства по вопросу о закреплении песков Кара- кум при проведении Главного Туркменского канала с критикой проекта Агролесомелиоративной экспедиции, члены которой, никогда не работавшие в песках, вздумали обставить берега канала на всех 1 000 километров его длины такими же щитами, какие ставят зимой для защиты дорог от заносов снегом. Но песок не тает летом, как снег, а накопляется; изготовление и расстановка щитов обошлась бы дорого и приносила бы только вред, затрудняя посев и посадку растений, закрепляющих пески».
Туда же:
«Здесь, в больнице, я уже больше недели, совсем поправился, и всякие впрыскивания пенициллина и камфары прекращены. Отдых использовал для писания мало-помалу статьи, доказывающей, что наше почвоведение замалчивает почву — «лёсс», развитую на Украине, в Белоруссии, в Средней Азии, известную также в Сибири, Китае, Северной Америке, Аргентине и известную уже пятьдесят пять лет. Пора ликвидировать этот большой пробел в почвоведении, которое упорно не желает заниматься изучением этого рода почвы, плодородной и интересной по своему образованию из пыли, приносимой ветрами, так что это для советского почвоведения становится уже неприличным».
Сохранился проект письма, с которым Владимир Афанасьевич обращался в Центральный Комитет КПСС относительно постройки ледяных складов по проекту научного сотрудника Института мерзлотоведения М. М. Крылова.
В других письмах в редакцию журнала «Известия Академии наук, серия геологическая» он писал:
«...У меня есть еще рецензия на только что вышедшую книгу «Сибирь» Михайлова. Это хороший физико-географический труд, рецензия о котором необходима».
Многие ученые посылали свои статьи для журнала прямо Владимиру Афанасьевичу, и если работа, по его мнению, была важной и нужной, он не успокаивался до тех пор, пока не убеждался, что она напечатана.
И так Обручев беспокоился не только о геологах. Инженеру из Куйбышева, приславшему письмо о тяжелой болезни дочери и невозможности достать дефицитное лекарство, он достает и пересылает это средство и радуется, узнав, что оно помогло.
Он пишет Евгению Владимировичу Павловскому в Иркутск, что недавно получил письмо от В. Г. Чернышева, принятого на историко-филологический факультет Иркутского университета. В приеме на геологический молодому человеку было отказано.
«Причина отказа — он потерял один глаз и повредил второй при каком-то химическом опыте, — пишет Обручев. — А он так хочет быть геологом, чуть ли не с детства, и написал мне длинное письмо... Я посылаю его к вам, он покажет мое письмо; если его глаз все-таки может работать, хотя бы с микроскопом, то нельзя ли перечислить его жаждущего геологии опять на геологический. Пусть глазной врач проверит его зрение».
Тяжело больному и совсем ему неизвестному студенту-медику он пишет:
«Я случайно узнал, что вы находитесь в туберкулезном санатории и очень удручены своим болезненным состоянием. Мне кажется, нет оснований терять бодрость.
...При длительной болезни большое значение имеет «воля к жизни», желание побороть недуг и продолжать жить хотя бы для того, чтобы приносить пользу, помогая другим в трудных случаях или стараясь во что бы то ни стало добиться осуществления задач, намеченных самому себе...
...Внушайте сами себе — я должен выздороветь, у меня есть близкие люди, которым я могу помогать в жизненных затруднениях, а в близком будущем мне, как врачу, придется интересоваться здоровьем других людей, помогать его восстановлению».
Это доброе и бодрое письмо очень хорошо подействовало на больного. Как писала его мать, «преодоление болезни пошло успешнее».
В день рождения Владимира Афанасьевича, 10 октября 1953 года, когда ему исполнилось девяносто лет, на дачу, где он жил, приехали президент академии Александр Николаевич Несмеянов, главный ученый секретарь Президиума Александр Васильевич Топчиев; поздравляли его руководители геологической науки — академик Дмитрий Иванович Щербаков и член-корреспондент Георгий Дмитриевич Афанасьев.
Разумеется, Владимир Афанасьевич в этот день был со своими сыновьями, внучками, родными.
Банкета Обручевы не устраивали, но стол был празднично убран, гости поднимали бокалы с вином за здоровье юбиляра. Самому виновнику торжества налили крохотную рюмочку вина, и он чокался, всякий раз отпивая по маленькому глотку. Он был благодушен, приветлив, но к вечеру казался очень усталым. Было много подарков, а главное, цветов. В доме веяло душистой прохладой.
Научная общественность отметила девяностолетие старейшего геолога очень тепло. Немногие ученые доживали до такого возраста, продолжая плодотворно работать.
Торжественное заседание происходило в Институте геологических наук в Старо-Монетном переулке.
Сердечную речь произнес академик Дмитрий Иванович Щербаков. Он говорил, что творческая деятельность Владимира Афанасьевича очень многогранна, но особенно важна одна ее черта — постоянное стремление служить народу, передавать ему свои обширные знания.
С докладом о жизни и деятельности Обручева выступил академик Дмитрий Васильевич Наливкин. Перед его речью был оглашен указ о награждении юбиляра пятым по счету орденом Ленина.
Дмитрий Васильевич Наливкин говорил о Владимире Афанасьевиче как об ученом-новаторе, о его кропотливом и неутомимом собирании фактов, о научных обобщениях, построенных на этом достоверном фактическом материале. Особенности «обручевского» стиля работы — многообразие научных интересов, принципиальность, высокая организованность, исключительное трудолюбие. «Научная продукция юбиляра достигает нескольких десятков тысяч страниц», — сказал Наливкин.
Один за другим выступали ораторы, читались приветствия. Говорили о научном творчестве юбиляра, о нем как об организаторе, педагоге, путешественнике, писателе...
Весь зал оживился, когда с поздравлением пришли пионеры — читатели научно-фантастических и популярных книг Обручева. В своем адресе они писали:
«Несмотря на то, что геологию не преподают в школах, мы считаем ее одной из интереснейших и полезнейших наук и с увлечением занимаемся в многочисленных кружках. Где только не побывали мы вместе с вами, читая ваши книги!
Тысячи километров прошли мы по великому Китаю, много раз пересекали пустыни, где нас мучила жажда, поднимались на вершины гор, мужественно боролись с суровой природой Арктики, вместе с вами волновались сделанными открытиями. Но где бы мы ни находились, мы всегда чувствовали вашу направляющую руку.
Вы, может быть, даже и не знаете, сколько бывших пионеров благодаря вот этим «путешествиям» по далеким неизведанным странам стали геологами и исследователями.
Вы не только старейшина советских геологов старшего поколения, но вы и вожатый многих тысяч пионеров — юных геологов нашей любимой Родины.
От тысяч детских сердец желаем вам доброго, крепкого, как гранит, здоровья, и многих лет жизни».
Кроме прочитанных, юбиляр получил более ста приветствий из других городов, около пятисот телеграмм и писем от друзей, учеников и почитателей.
В ответном слове Обручев поблагодарил всех, рассказал, что приступил к работе в те годы, когда только начиналось исследование обширных просторов России, вспомнил, что был вторым исследователем Каракумов и первым штатным геологом Сибири, что в те времена геологи в стране насчитывались единицами, а теперь работают десятки тысяч, и эта армия выдвигается на первое место в мире по достигнутым результатам в изучении Земли. Себя он назвал ветераном этой армии и пожелал ей дальнейшего развития и совершенствования. О своих успехах сказал, как всегда, просто и скромно.
«Воспитанное с детства стремление к полезному труду я считал главной задачей в жизни и поэтому успел выполнить много».
Когда его спрашивали, доволен ли он юбилеем, он обычно отвечал:
— Все было очень хорошо... Только слишком много похвал.
Но не хочу, о друга, умирать,
Я жить хочу, чтоб мыслить...
Да, Обручев был очень хвалим, обласкан, прославлен... Но все эти почести не могли его избавить, от горьких минут.
Нести тяжкий груз старости всем нелегко. А человеку деятельному, с ясным умом и неукротимым духом — особенно. Вся натура по долгой жизненной привычке требует действия, а физических сил нет. Что может быть печальней беспомощности и постоянного разлада с собой?..
Оторванный от города, Владимир Афанасьевич чувствовал, как страдают все его начинания без постоянного руководства. Но каждая поездка в Москву грозила новой вспышкой воспаления легких... Очень ухудшилось зрение. И Ева Самойловна стала хворать.
«Поднимите вопрос о серьезном отдыхе в санатории, — пишет он одной корреспондентке, — чтобы не довести себя до катастрофы, подобной той, которая случилась с моей женой после празднования моего девяностолетия. Доктор два года говорил ей, что нужно больше лежать, чем суетиться, а она не слушалась, полежит день, а потом бегает без особой надобности».
У Евы Самойловны был тяжелый инфаркт, она долго лежала в больнице, куда поместили и Владимира Афанасьевича с воспалением легких.
«Я все еще нахожусь в санатории после Кремлевской больницы, — пишет он в другом письме, — куда пришлось срочно увезти жену, закончившую серьезной болезнью волнения и хлопоты, возникшие по поводу моего девяностолетия. Жена все еще лежит там, но надеется вскоре переселиться в санаторий Узкое перед возвращением на нашу дачу в Мозжинку, поэтому я жду ее здесь, хотя мог бы вернуться к работе, так как отдохнул и поправился вполне».
Бодрости Обручев не терял. По-прежнему работал, вел огромную переписку. Хотел быть в курсе всех дел журнала, Института мерзлотоведения, Геолого-географического отделения.
Он не хотел быть больным и старым, боролся изо всех сил и при малейшем улучшении здоровья уверял, что чувствует себя совсем хорошо.
Главное, что удручало его, — это сильное ослабление зрения.
«У нас на даче хорошо и в жаркие дни, но мы оба с женой еще нездоровы. Она оправляется после больницы, где провела семь месяцев после инфаркта, а у меня зрение стало еще хуже, а вспышки бронхита возникают при легкой неосторожности», — пишет он опять.
Владимир Афанасьевич ослеп на один глаз из-за катаракты еще в 1948 году. С тех пор у него работал только правый глаз, но и он слабел постепенно. Читать приходилось не только через очки, но и сильную лупу.
Огорчали его дела. В «Известиях, серия геологическая» он — главный редактор, а без его ведома в передовой статье одного номера академика Григорьева поносили так, будто он и впрямь враг народа! Нет, нельзя поверить, что Иосиф Федорович, директор Института геологических наук, был непорядочным человеком. Правда, не все научные сотрудники института, как, впрочем, и других учреждений, работают с полной отдачей, но писать, что по вине Григорьева в учреждениях Геолого-географического отделения долгое время царила затхлая атмосфера,— это очень, очень несправедливо!
А если это и так, то почему же раньше — ни до, ни после такой тяжелой войны ничёго дурного о Григорьеве не говорили, а в 1949 году, когда его, как и многих других советских людей — геологов и негеологов, — арестовали по неизвестной причине, этот крупный ученый и специалист по геологии рудных месторождений стал вдруг эдаким завзятым негодяем!
Какую шумиху подняли еще раньше — в 1947 году, когда он, узнав, что в Соединенных Штатах Америки работает его старый ученик Павел Павлович Гудков, просил его написать для журнала статью о том, что делают тамошние геологи по изучению нефтяных месторождений! Почему этот шаг был воспринят как умаление отечественной науки, когда статью напечатали? Пришлось давать объяснение в специальном письме, в чем смысл такой публикации, как будто непонятно, что каждому ученому, если он болеет душой за излюбленную специальность, важно и интересно знать, над чем работают его коллеги за рубежом.
Нет, он решительно не понимает, почему все это происходит. Видимо, оторванность от Москвы разобщила его с людьми, с коллективом сотрудников, а редкие встречи с посетителями в Мозжинке недостаточны для полноценного руководства делами. Нужно отказаться и от журнала и от института.
Он просил, чтобы его освободили от обязанностей директора института и главного редактора журнала неоднократно. В 1953 году на посту главного редактора его заменили, он остался только членом редколлегии, но директором института был до самой кончины.
Поражает этот живейший интерес старого и больного человека к своей работе. В бесконечных письмах Владимир Афанасьевич спрашивает, продолжает ли институт давать консультации, держит ли связь с мерзлотными станциями и такими крупными предприятиями, как Норильский медеплавильный комбинат, трест. «Воркутауголь», Дальстрой, как работают экспедиции, выходят ли из печати труды института и почему он их не получает. Он не остается равнодушным и к тому, что редакция журнала не имеет помещения, и пишет об этом в дирекцию Института геологических наук. Благодаря его хлопотам комнату редакции отвели, очень небольшую правда, но отдельную.
И так продолжал он работать до конца своих дней. Обязательный и точный, он не умел ничего делать кое-как. Все выполнял скрупулезно и тщательно, в полную меру своих незаурядных знаний. А все, кому он был нужен, не считались ни с его старостью, ни с его болезнями.
«Я много времени затратил на критику присланного мне на отзыв макета первого тома «Детской энциклопедии», — пишет он в марте 1955 года, — и у меня получилась такая усталость от работы, что пришлось три дня пролежать».
«Писем много — со всех городов СССР. Некоторые читатели даже просят посылать им учебники по геологии и превращают меня в поставщика книг, кроме моих романов, которые я рассылаю в некоторые географические кружки, например, туберкулезный детский санаторий в Мелитополе».
Внимательно просматривая выходящую литературу по своей специальности, он считал, что все геологи должны знать о новинках по интересующим их вопросам, и обычно писал довольно подробные рефераты о прочитанных книгах. Он огорчался, и очень сильно, когда узнал, что в журнале нельзя помещать все рецензии. Их было так много, что не хватало места!
«Ввиду отсутствия у нас органа, регулярно печатающего специально геологическую литературу, — писал он в редакцию, — я полагал, что «Известия, серия геологическая» могли выполнять эту роль хотя бы частично. Поэтому я по мере своих сил посылал рецензии. Отныне прекращу составление всяких рецензий новой геологической литературы, отнимавшее у меня много времени в ущерб моей основной работе по Наньшаню, которую хотел бы закончить, пока есть силы».
Он жертвовал своим дорогим временем и силами, чтобы геологи не только знали, что делается в их науке, но и не повторяли известных уже наблюдений, иными словами, избегали параллелизма в работе.
Но то, что казалось ему ясным и простым, многие расценивали как непонимание текущего момента.
Неприятности мешали жить, болезни непрестанно ломали намеченные планы, но работать Обручев продолжал.
В письме к Андрею Марковичу Чекотилло[31] в марте 1955 года он пишет:
«Мне доктор предписал сильное сокращение мозговой работы в связи с усилением давления крови, и сейчас я вполне прекратил очередную большую работу — геологический очерк горной системы Наньшаня в Китае. (Географический в 820 страниц на машинке я кончил и в январе сдал в Президиум)».
Читать Владимир Афанасьевич мог только в сильную лупу. Глаза при этом уставали, и нужно было часто давать им отдых. Чтение шло очень медленно, но отказаться от него он не мог. Писать было легче, хотя твердый четкий почерк его несколько изменился.
А в свободные минуты, когда не досаждала хворь, Обручев был приветлив и ясен, как всегда. Одна его сотрудница вспоминает, как однажды он ходил в лес выбирать молодой дубок для пересадки его в дачный сад.
— Вот этот хорош, правда? — спрашивал он. — Вы посмотрите, какой красавец.
Крепенький невысокий дубок играл листвой, облитой неярким осенним солнцем, и впрямь казался красавцем.
— Вы можете узнать, где юг, где север? — спросил он гостью во время этой же прогулки. — Нет? Как же так? Смотрите сюда: видите мох на стволах? Он всегда нарастает с северной стороны.
На даче он с улыбкой смотрел на играющих козлят. Они понравились шоферу на Звенигородском рынке, и он уговорил Еву Самойловну купить их.
— Очень хороши, — сказал Владимир Афанасьевич, когда козлят привезли в Мозжинку, — но что мы будем с ними делать?
Однако маленькие животные долго жили на даче, прыгали, резвились, и Обручев любил смотреть на них. Потом их подарили молочнице.
Евгений Владимирович Павловский пишет в своих воспоминаниях:
«Душевное спокойствие Владимира Афанасьевича, его неизменный оптимизм, необычайная работоспособность сохранены были им до глубокой старости, хотя физические немощи наступали на него плотным сомкнутым строем. Заметное ослабление зрения не давало ему возможности читать книжный и машинописный текст. Однако писать чернилами он мог почти до самого конца. Его последние письма, так хорошо отражающие его мощную и цельную натуру, потрясают контрастом между мудрым содержанием и внешней формой, определяемой ставшим не совсем уверенным крупным почерком руки, написавшей тысячи листов великолепных произведений. Помимо текущих научных интересов, Владимир Афанасьевич интересовался в последние годы гранитной проблемой во всей ее широте и глубине, происхождением впадин байкальского типа. Ему страстно хотелось побывать в Иркутске, с которым были связаны яркие воспоминания о начале великого жизненного пути. Когда он говорил об Иркутске, Ангаре (а это бывало при каждой встрече) , вспоминал Байкал, сибирскую тайгу, он молодел на глазах, стан его выпрямлялся. Видно было, что он верил в возможность физического обновления, возврата молодых сил в привычной и сладостной обстановке величественной природы Восточной Сибири. Мечты эти, к сожалению, не могли быть осуществлены из-за состояния здоровья и его самого и Евы Самойловны».
«Вся его жизнь, — пишет дальше Павловский, — была подлинным трудовым подвигом, и золотая звездочка Героя Социалистического Труда недаром блестела у него на груди».
Но и этого могучего человека постепенно сгибало время. Все чаще и чаще приходилось лежать то дома, то в больнице, то в санатории.
Еще в 1952 году он писал: «Гулять доктор меня не пускает, лежу в комнате и любуюсь еловым лесом поселка, который сверху донизу в снегу, налипшем на хвое, так как мороз укрепил рыхлый падавший снег. Это красиво, но елки, нагруженные снегом, при сильном ветре ломаются и рвут провода, из-за этого у нас были уже аварии света, отопления и водоснабжения».
Владимир Афанасьевич всегда умел о себе и своем состоянии говорить спокойно и бодро. Грусть в его словах только угадывалась. Но по письму Евы Самойловны к Чекотилло 27 апреля 1956 года видно, как нелегко жилось и Обручеву и ей самой в то время.
«Пишу после очень тяжелого приступа стенокардии, но мне захотелось хоть несколько слов написать Вам и еще поблагодарить за внимание, которое Вы оказываете Владимиру Афанасьевичу.
Эти дни были очень трудные, тяжело болела сестра Владимира Афанасьевича — Мария Афанасьевна. Семнадцать дней она боролась за жизнь, но в восемьдесят четыре года эта борьба, трудна, и двадцатого апреля в час пятьдесят минут она скончалась. Эти дни были очень трудные, и Владимир Афанасьевич опять слег.
Его огорчают и мучают глаза. Так грустно смотреть, как он бродит одиноко по комнате, а я даже почитать ему не могу после своих тяжелых приступов.
Вот так грустно пока мы живем. Хочется верить, что скоро будет тепло и Владимир Афанасьевич сможет хоть немного гулять».
Простое письмо, без красивых и драматических фраз. Но читаешь его с глубокой печалью.
О чем он думал, старый ученый, «бродя одиноко по комнате», как написала его преданная жена? Вспоминал молодую далекую любовь, юную подругу, рождение сыновей?.. Помышлял о Сибири, о крае, ставшем таким близким? О неоконченной работе по Наньшаню? О путешествиях в Китай? О других своих книгах? Может быть, о том, что великолепно оправдалось его утверждение насчет речного происхождения песков Каракумов? Как спорил с ним тогда Коншин, настаивал, что каракумские пески — морские отложения...
Нет, выводы Обручева и его определение двух Узбоев окончательно проверены в пятидесятых годах, когда изучалась трасса Большого Туркменского канала... А по Келифскому Узбою проводят Каракумский канал. Он будет доведен до Каспия.
И способ укрепления песков, предложенный им, принят и осуществляется успешно...
А может быть, мысль Владимира Афанасьевича снова устремлялась к тем основным вопросам, что интересовали его всю жизнь? Только год назад, летом 1955 года, он писал Эдуарду Макаровичу Мурзаеву:
«Сколько же десятилетий полевых работ геологов нужно еще ждать, чтобы географы признали эоловую теорию единственно правильной, вполне объясняющей генезис лёсса?.. Сколько лет географы и почвоведы, мудрствуя лукаво, будут сомневаться в правильности эоловой теории, замалчивать ее или стараться находить еще какое-нибудь выдуманное объяснение «облёссованию»?»
В последнем издании своей сводной работы «Признаки ледникового периода Северной и Центральной Азии» он перечислял все, что еще не совсем ясно в истории древнего оледенения Сибири, что должны выяснить дальнейшие работы геологов.
К примеру, вопрос о Тазовском или Ямальском леднике. Он когда-то спускался с суши там, где сейчас находится южная часть Карского моря. Может быть, он двигался на юг в промежутке между Уральским к Таймырским ледниками? Решить, существовала ли суша в границах Карского моря и Ямало-Тазовского ледника, необходимо, без этого «история развития Западно-Сибирской низменности остается неясной».
Тектоникой он тоже продолжал заниматься. В 1948 году на совещании Московского общества испытателей природы предложил новый термин «неотектоника».
Он писал тогда: «Неотектоникой я предлагаю назвать структуры земной коры, созданные при самых молодых движениях, происходивших в конце третичного и в первой половине четвертичного периода». А в статье «Основные черты кинетики и пластики неотектоники» он проанализировал следы неотектоники в разных местах Советского Союза и в граничащих с ним областях Центральной Азии.
Он не выпускал из внимания и по возможности руководил всеми работами по розыску новых месторождений полезных ископаемых. И о «древнем темени Азии» не переставал думать.
Но сейчас все меньше и меньше удавалось обращаться к этим излюбленным темам. Глаза не позволяли. С нетерпением ждал Владимир Афанасьевич удаления катаракты, но оно все откладывалось. Он возлагал на эту операцию большие надежды, и в письмах его часто встречались фразы: «Жду операции», «после операции»...
На самом деле врачи не хотели лишать его надежды, но знали, и Ева Самойловна знала, что операция невозможна. После удаления катаракты нужно неподвижно лежать на спине, а это при постоянных воспалениях легких и плохой уже работе сердца грозило отеком легких.
Но не писать, не работать он не умел.
В конце 1957 года научный редактор журнала «Юный натуралист» профессор Николай Николаевич Плавильщиков, теперь уже ушедший из жизни, подписал к печати повесть Обручева «Бодайбо — река золотая». Это была история путешествия трех мальчиков по золотым приискам, их знакомства с золотопромышленным делом.
Повесть заканчивалась пояснением, что золото содержится не только в кварцевых жилах, как долгое время полагали геологи, изучавшие золотоносные россыпи Ленского района, но и в кристаллах серного колчедана — пирита.
«На гольце Высочайшем в верховьях реки Хомолхо нашли пирит с содержанием золота, прорвавший протерозойскую свиту. Очевидно, в древние протерозойские породы проникали более молодые тонкие кварцевые жилы с пиритом, бурым шпатом и другими минералами», — писал Обручев.
Новые сведения относительно обогащения Ленских приисков пиритом, содержащим золото, подтвердили давнишние мысли Владимира Афанасьевича, его догадки 1901 года... Они пришли к нему в диссертации геолога Л. И. Салопа. И Обручев в послесловии к своей повести приносил Салопу благодарность.
Повесть «Бодайбо — река золотая» была напечатана в первом, втором и третьем номерах «Юного натуралиста» за 1958 год. Это была работа Владимира Афанасьевича Обручева, напечатанная уже после его смерти.
В мае 1956 года Владимир Афанасьевич снова заболел. Его положили в больницу, и сорок один день могучий организм боролся с болезнью. Временами он терял сознание, порой бредил. Он приказывал седлать лошадей, беспокоился о больном верблюде, говорил о лёссе и звал спутников своих путешествий. Он вспоминал всех: старого энтузиаста Кириллова, обстоятельного Иосифа, ленивого и веселого Цоктоева, доброго Гайсу...
Он звал их вперед, в горы!
Владимира Афанасьевича не стало 19 июня 1956 года.
Ева Самойловна пережила его на пять месяцев.
...не я
Увижу твой могучий поздний возраст...
Когда умирает большой человек, жизнь его продолжается в оставленных трудах, научных провиденьях, в сердцах людей, куда он заронил искру своей мудрости.
Научное наследство Владимира Афанасьевича огромно, и значение его для нашей науки и всей страны ясно всем.
Свидетельств о его светлом влиянии на людей много. Вот одно из них. Это письмо, полученное Владимиром Владимировичем Обручевым уже после смерти отца. Пишет Барий Мусин.
«Отец мой Гайса Мусин свое участие в экспедиции В. А. Обручева и свое общение с ее руководителями — людьми передовой науки и в особенности то здоровое и благотворное влияние, оказанное ему лично В. А. Обручевым, расценивал как поворотный пункт в его духовном перевоплощении.
Отец часто вспоминал, каким он был религиозным фанатиком и темным отсталым человеком до участия его в работе экспедиции В. А. Обручева.
После окончания экспедиции мой отец всех своих детей — мальчиков и девочек — отдал учиться в русскую школу в городе Чугучаке. Раньше мы учились у догматиков — мулл, где учили читать коран и другие священные книги и совершать намаз, то есть мусульманскую молитву во славу ислама и Магомета.
Сам отец все реже и реже стал посещать мечеть, бывать у муллы. В нашем доме появились выписанные отцом газеты и журналы, читать которые раньше он нам запрещал.
Эти резкие перемены в сознании отца привели его к ссоре с духовными отцами, которые, как известно, стремились, как все «святые отцы мира», держать свою паству, так сказать, в «страхе божьем».
Барий описывает, как его отца начали травить и фанатики муллы и богобоязненные родственники, как он переехал в Россию, в Восточно-Казахстанскую область, стал председателем колхоза, боролся с кулачеством, вступил в партию и был не раз награжден советской властью за самоотверженный труд. Все дети его стали образованными людьми.
Многие и многие ученики и сотрудники Обручева говорят о его добром и твердом руководстве. Но кажется, это умение передать другим жар собственной души, свою любовь к труду и преданность науке ярче всего проявилось в обращениях Обручева к молодежи. Это целая жизненная программа для тех, кто начинает свой путь.
«Счастливого пути вам, путешественники в третье тысячелетие» — называет Обручев свою статью, напечатанную в журнале «Знание — сила» в связи с открытием XII съезда комсомола.
Владимир Афанасьевич вспоминает о том глубоком впечатлении, которое в детстве производили на него книги Купера, Майн Рида и Жюля Верна. Ему самому хотелось сделаться ученым, естествоиспытателем, путешественником...
Обручев пишет, что, наверно, многие из его молодых читателей тоже тайком вздыхают, жалея, что поздно родились, думая, что все уже открыто и на их долю ничего не осталось.
«А между тем не отдельные белые пятнышки — огромный океан неведомого окружает нас. И чем больше мы знаем, тем больше загадок задает нам природа.
Гигантские, еще не решенные задачи стоят перед советской наукой.
Требуется:
Продлить жизнь человека в среднем до ста пятидесяти — двухсот лет, уничтожить заразные болезни, свести к минимуму незаразные, победить старость и усталость, научиться возвращать жизнь при несвоевременной случайной смерти;
поставить на службу человеку все силы природы, энергию Солнца, ветра, подземное тепло, применить атомную энергию в промышленности, транспорте, строительстве, научиться запасать энергию впрок и доставлять ее в любое место без проводов;
предсказывать и обезвредить окончательно стихийные бедствий: наводнения, ураганы, вулканические извержения, землетрясения;
изготовлять на заводах все известные на Земле вещества, вплоть до самых сложных — белков, а также и неизвестные в природе: тверже алмаза, жароупорнее огнеупорного кирпича, более тугоплавкие, чем вольфрам и осмий, более гибкие, чем шелк, более упругие, чем резина;
вывести новые породы животных и растений, быстрее растущие, дающие больше мяса, шерсти, зерна, фруктов, волокон, древесины для нужд народного хозяйства;
потеснить, приспособить для жизни, освоить неудобные районы, болота, горы, пустыни, тайгу, тундру, а может быть, и морское дно;
научиться управлять погодой, регулировать ветер и тепло, как сейчас регулируются реки, передвигать облака, по усмотрению распоряжаться дождями и ясной погодой, снегом и жарой.
Трудно это? Необычайно трудно. Но это необходимо. Советские люди хотят жить долго, хотят жить в изобилии и безопасности, хотят быть полными хозяевами на своей земле, не зависеть от капризов погоды. Значит, все это будет сделано. И все это будете выполнять вы, сегодняшние школьники и ремесленники, и не только те из вас, кто станет великим ученым, но и все остальные: токари и шоферы, трактористы и каменщики, медицинские сестры, ткачи, шахтеры... Великие задачи не решают одиночки — Волго-Донской канал строили не только авторы проекта...
Вы только начинаете свое путешествие в мастерство, в творчество, в науку, в жизнь. И мне, старику, который прошел много верст по неисследованным землям, много искал в дебрях науки, хочется дать вам, начинающим путешественникам, несколько напутственных советов.
Любите трудиться. Самое большое наслаждение и удовлетворение приносит человеку труд. Добывайте право сказать: я делаю нужное дело, моей работы ждут, я приношу пользу. И если вы встретите трудности, безвыходные, казалось бы, тупики, сопротивление старого, может быть, даже равнодушие и непонимание, вас всегда поддержит мысль: я делаю нужное дело.
Не отрекайтесь от мечты!
Будьте принципиальны, нам нужна истина, и только истина. Не старайтесь угодить приятелям, примирить своих учителей, никого не обидеть. На этом пути вы найдете, может быть, спокойствие и даже благополучие, но пользы не принесете никакой. Не бойтесь авторитетов. И если среди вас есть будущие геологи, которые не согласятся с академиком Обручевым (хотелось бы, конечно, чтобы таких было немного!), — смело выступайте против него, если у вас есть данные, опровергающие его выводы.
Но не рассчитывайте на легкую победу, на открытие с налета, на осенившую вас идею. Все, что лежало под руками, давно уже подобрано и проверено, то, что легко приходит в голову, давно пришло в голову и обсуждалось. Только на новых фактах, на новых наблюдениях можно строить новые достижения. Факты — это кирпичи, из которых слагается человеческий опыт, это ваше оружие в творчестве...»
В статье, написанной к двухсотлетию Московского университета, Владимир Афанасьевич говорит, что это первое в России высшее учебное заведение всегда высоко несло знамя своего основателя Ломоносова — «знамя передовой прогрессивной науки, знамя борьбы с невежеством, мракобесием, реакцией». Он вспоминает, что Белинский, Герцен, Огарев, Лермонтов, Тургенев тоже учились в Московском университете, ходили на лекции, сдавали экзамены, спорили о будущем...
«Пересчитать звезды в старых сказках считалось примером невыполнимой задачи. Но вы знаете: это уже сделано. Все видимые звезды пересчитаны и внесены в каталог вместе с сотнями тысяч звезд, не видимых невооруженным глазом. Великими людьми прошлого разгаданы законы небесной механики, создана астрофизика — наука о физическом состоянии и химическом составе небесных тел. Но улететь с Земли моим современникам не удалось. На вашу долю достались путешествия на Луну, планеты, а когда-нибудь и к далеким звездам».
Он говорит, по каким путям молодые люди могут прийти к новым открытиям в науке, и опять обращается к собственному опыту.
Обручев заканчивает статью словами о том, что в этот торжественный для университета день молодежь, наверно, произнесет немало тостов о дружбе.
«Мой вам совет: пусть эти тосты не будут забыты до конца ваших дней. Вы будете заниматься разными делами, в разных областях науки, в разных странах, но не ленитесь писать друг другу, делиться замыслами, находками, сомнениями. Смотрите на жизнь десятками глаз, глазами всех своих товарищей. Используйте факты из своего запаса и из запаса своих товарищей...»
В этой эстафете, переданной молодежи старейшим ученым, поражает его душевная свежесть, глубокое благородство чувств и полное понимание запросов современности.
Свою преданность науке Владимир Афанасьевич передал своим потомкам. Его сыновья — известные ученые, каждый в своей области. Его старшая внучка Наталья Владимировна — биолог по специальности— недавно блестяще защитила диссертацию о клеточном обмене веществ в корнях растений.
Карта нашей Родины навсегда сохранит имя Владимира Афанасьевича. Мы найдем на ней Обручевскую степь в Туркмении, древний вулкан Обручева в Забайкалье и новый — у Ключевской сопки на Камчатке, подводную возвышенность Обручева в Тихом океане, ледники Обручева на Монгольском Алтае и Полярном Урале, хребет академика Обручева в Туве, гору Обручева в хребте Хамар-Дабан, пик Обручева в хребте Сайлюгем, сброс Обручева на озере Байкал, минеральный источник Обручева у Бахчисарая в Крыму, котловину Обручева в Западной Монголии к северу от хребта Нэмэгэту, там, где экспедиция Академии наук нашла огромное кладбище динозавров...
Простой и скромный, Владимир Афанасьевич не любил пышных фраз, высокопарных выражений... И эту посвященную ему книгу хочется закончить его же словами, сказанными на похоронах Александра Петровича Карпинского:
«Чествуя память великого труженика, тесней сомкнем наши ряды для общего дела, всем нам дорогого».
1961—1963 годы. Голицыно.
Аллювий — отложения, накапливающиеся в речных долинах в результате сноса и отложения постоянным водным потоком рыхлых продуктов выветривания и разрушения горных пород. Состоит из обломочного материала различной степени окатанности и сортировки; по крупности делится на галечник, гравий, песок, суглинок и глину; отличается косой слоистостью.
Архей — наиболее ранний период жизни Земли. Породы архея представляют собой отложения самых древних морей, сильно измененные процессами метаморфизма на большой глубине (гнейсы, кристаллические сланцы, известняки).
Базальт — вулканическая порода темно-серого или черного цвета. Извергался ' особенно в третичный период. Извергается многими современными вулканами в виде лавы.
Вулканические породы — породы, получившиеся вследствие действия вулканов, иначе — изверженные.
Геологический разрез, поперечный или продольный, по определенной линии через какую-нибудь часть земной поверхности (горную цепь, долину и т. д.) строится на основании исследований в поле и по геологической карте. Изображает условия залегания горных пород и их отношение друг к другу. Наглядно изображает строение земной коры на данном ее участке.
Геохронология — подразделение геологического времени на условные отрезки, имеющие собственные названия (эры, периоды, эпохи и века) и расположенные в определенной последовательности.
Глинт (дат.) — крутой уступ, идущий по южному берегу Финского залива (Эстония и Ленинградская область) к Ладожскому озеру, представляющий собой древний берег бассейнов, бывших на месте Финского залива и Ладожского озера.
Грабен — сбросовая впадина, участок земной коры, опустившийся по трещинам сбросов ниже соседних участков; поднявшийся в результате таких тектонических движений участок называется горстом.
Гранит — массивная изверженная порода, состоящая из кварца, полевых шпатов, слюды; наиболее распространенная из глубинных изверженных пород, представляющая много разновидностей; образует часто очень крупные массивы.
Девон, девонский период — четвертый по возрасту палеозойской эры; его образования очень распространены на северо-западе Европейской части СССР. Характерен развитием красных песчаников (р. Кама) и панцирных вымерших рыб. Назван по графству Девон в Англии, где впервые были изучены его отложения.
Диплодок — огромное (до 25 м длины) вымершее пресмыкающееся из динозавров, с очень длинной шеей и хвостом. Вел полуводный образ жизни.
Докембрий — первая эра жизни земной коры, предшествующая кембрийскому периоду. Делится на два периода: более древний — архей и более молодой — протерозой.
Змеевик, серпентинит, хризотил — темно-зеленый или желто-зеленый минерал, употребляется для изготовления посуды, колонн, памятников. Тонковолокнистая разновидность хризотила — асбест.
Кембрий, кембрийский период — первый из периодов палеозойской эры; характерен богатой примитивной морской фауной и флорой. Назван по имени древнего народа кембрийцев.
Кристаллические сланцы — общее название полнокристаллических метаморфических (измененных) пород разного состава, возникших как из осадочных, так и из изверженных пород путем их перекристаллизации в твердом состоянии.
Лёсс, желтозем — буро-желтый мелкопористый суглинок, богатый известью. Образовался из мелкой пыли, приносимой ветрами из пустынь в результате процессов выветривания, и отлагающийся на окружающих пустыни степях под • защитой растительности; отличается плодородием и достигает на Украине мощности от 10 до 40 м, а в Китае до 100—200 м. В, А. Обручев развил эоловую (ветровую) гипотезу образования лёсса.
Мел, меловой период — последний период мезозойской эры; назван вследствие нахождения в его отложениях белого писчего мела, состоящего из скелетов и оболочек мельчайших морских животных; меловые отложения распространены на Украине (Белгород), Кавказе и в Средней Азии.
Мелафир — изверженная горная порода фиолетового или зеленого цвета, в состав которой входит главным образом известково-щелочной полевой шпат и авгит, часто выделяющиеся в виде крупных кристаллов на фоне основной сплошной или мелкозернистой массы.
Мергель (нем.) — рухляк, глинистый известняк, применяется для изготовления цемента.
Метаморфизм (греч.) — преобразование структуры минералогического, иногда и химического состава горных пород в земной коре под влиянием температуры, давления и химического воздействия.
Неолит — время в истории человека после палеолита и перед бронзовым веком; характеризуется изготовлением орудий из шлифованного камня, глиняной посуды, приручением животных и началом земледелия; является эпохой развития и распада родового строя. Соответствует началу современной эпохи.
Орография (греч.) — отдел географии, занимающийся описанием внешних форм земной поверхности, их классификацией и систематизацией по внешним признакам.
Палеогеография — отдел исторической геологии, изучающий физико-географические условия прошлых геологических эпох — распределение морей и материков, рельеф суши и дна морей, климат и т. д. и изменение этих условий во времени.
Пермь, пермский период — последний из периодов палеозойской эры, сменивший каменноугольный период и обладавший более сухим климатом; в этот период усилился вулканизм, развились пустыни, образовались залежи каменной соли. Назван английским геологом Мурчисоном по имени Пермской губернии, где он нашел отложения этого периода.
Пески — грядовые, бугристые, барханные — это определение песков по форме их рельефа и образования было предложено В. А. Обручевым после его исследований в Туркмении (1886—1888 гг.); сейчас это определение форм' песков принято в науке.
Пролювий (лат.) — продукты выветривания коренных горных пород, смытые с гор дождевыми водами и потоками и отложенные у подножия гор.
Птеродактиль (греч.) — род ископаемых летающих пресмыкающихся, отличались сильно развитыми зубами, коротким хвостом и летательной перепонкой между удлиненным пятым пальцем кисти, туловищем, задними конечностями и хвостом.
Пустынный загар — защитная корка на камнях и скалах в пустынях. Образуется вследствие химических процессов при попеременном увлажнении и высыхании горной породы. Представляет собой тонкую (1—2 мм толщины) черную или черно-бурую блестящую корку, состоящую в основном из окислов железа, марганца с глиноземом и кремнеземом.
Разлом — крупное разрывное нарушение земной коры, распространяющееся на большую глубину и имеющее значительную длину и ширину.
Сброс — перемещение масс горных пород одного участка земной коры по отношению к другому.
Свита (франц.) — совокупность различных пластов горных пород, объединенных общим именем, возрастом, свойствами.
Складчатость — совокупность складок того или иного участка земной коры.
Сланцы — обширная группа пород разного состава, цод- вергшихся метаморфизму и обладающих способностью распадаться на плоские плитки и пластинки. Наиболее измененные метаморфизмом сланцы называются кристаллическими. В зависимости от состава выделяются сланцы слюдистые, хлоритовые и т. д.
Столовые горы — горы с плоской вершиной и более или менее крутыми, иногда ступенчатыми склонами; широко распространены в Средне-Сибирском плоскогорье.
Стратиграфия — часть исторической геологии, изучающая характер и условия залегания напластований земной коры и взаимные отношения отдельных слоев; определяет относительный возраст слоев по находящимся в них окаменелостям.
Тектоника — часть геологии, изучающая строение земной коры, движение ее участков, процессы образования гор и материков.
Теодолит — угломерный инструмент, употребляемый при геодезических работах и позволяющий производить измерение горизонтальных углов.
Третичный период — первый в кайнозойской эре; делится на пять эпох: палеоцен, эоцен, олигоцен, миоцен и плиоцен; характерен развитием млекопитающих и птиц.
Ультраосновные породы — магматические породы, не содержащие полевых шпатов, состоящие из одних цветных минералов, с низким содержанием кремнекислоты (около 45%).
Шурф (нем.) — открытая вертикальная или наклонная горная выработка малого сечения и небольшой глубины, предназначенная для разведки полезных ископаемых.
Элювий — продукты выветривания горных пород, остающиеся на месте своего первоначального образования.
Эпигенетические образования — образовавшиеся в результате последующих (вторичных) процессов.
Юра, юрский период — второй по возрасту период мезозойской эры; назван по месту его отложений в горах Юры в Швейцарии и Франции. В СССР юрские отложения развиты во многих местах, иногда содержат пласты каменного или бурого угля.
1.
2. Рассказывают участники Великого Октября. Госполитиздат, 1957.
3.
4.
5.
6.
7.
8. Очерки истории города Томска. (1604—1954). Сб. Томск, 1954.
9. Томский государственный университет имени В. В. Куйбышева. Очерки по истории первого сибирского университета за 75 лет. Томск, 1960.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53. Владимир Афанасьевич Обручев, Материалы к биобиблиографии ученых СССР. АН СССР, 1946.
54. Академик Владимир Афанасьевич Обручев. (К 90-летию со дня рождения). «Изв. АН СССР, серия геол.», 1953.
55. Герой Социалистического Труда академик В. А. Обручев. (Некролог). «Изв. АН СССР, серия геол.», № 6, 1956.
56.
57.
58.
59.
60.
Рукописные источники
1. Анкета академика В. А. Обручева для Центрального института труда.
2.
3.
4.
5. Переписка В. А. Обручева с Эмилией Францевной Обручевой, Г. Д. Афанасьевым, Е. В. Павловским, С. Д. Ардашниковой.
Трудолюбивый карандаш.
Эмилия Францевна Обручева.
Александр Афанасьевич Обручев (публикуется впервые).
Мария Александровна Обручева-Бокова-Сеченова.
Владимир Александрович Обручев.
Афанасий Александрович Обручев.
Полина Карловна Обручева.
Владимир Афанасьевич — ученик 6-го класса Виленского реального училища.
Владимир Афанасьевич — ученик 7-го класса вместе с товарищами Белым и Правосудовичем (публикуется впервые)
Виленское реальное училище (публикуется впервые).
Табельный журнал 6-го класса Виленского реального училища 1879—1880 годов (публикуется впервые).
Обручев — студент Петербургского горного института.
Обручев — вольноопределяющийся лейб-гвардии артиллерийской бригады.
Елизавета Исаакиевна Обручева.
Иван Васильевич Мушкетов.
Барханные пески средние (фото А. И. Шастова, публикуется впервые).
Барханные пески средние (фото А. И. Шастова. публикуется впервые).
Кучевые пески юго-восточных Каракумов около Байрам-Али (фото П. С. Макеева).
Шор (солончак).
Заросли джантака в урочище Тумаркуль (фото Н. И. Кузнецова).
Владимир Афанасьевич Обручев в Иркутске. 1890 год.
Дмитрий Александрович Клеменц.
Здание Восточно-Сибирского отдела Русского географического общества в Иркутске.
Скалы известняков на реке Лене.
Выходы гранита в бассейне реки Кевакты (Ленский район).
Старатели нашли золотой самородок (Ленский район).
Обвал сиенита в хребте Хамар-Дабан.
Гора Обручева па озере Байкал (фото В. В. Ламакина).
Исток Ангары из озера Байкал (фото В. В. Ламакина).
Владимир Афанасьевич в экспедиционном (китайском) костюме, Пекин, 1893.
Владимир Афанасьевич в саду русского консульства в Кульдже в октябре 1894 года после окончания центрально-азиатской экспедиции.
Визитная карточка Обручева с китайскими иероглифами.
Григорий Николаевич Потанин
Виды районов Китая, Монголии и Централь ной Азии, посещенных Обручевым.
Дозорная сопка — остаток базальтового вулкана в хребте Базальтовом
Стоянка каравана Обручева в Монголии
Ночлег Обручева на реке Хилок в 1896 году (западное Забайкалье).
Выезд семьи Обручева в Иркутске в 1896 году
Обручев с сотрудниками (П. И. Преображенским — слева и Л. Я. Лурье — справа) на Ленских приисках в 1901 году.
Горное отделение Томского института. 1905 год
Обручев в своем кабинете в горном отделении в 1906—1911 годах.
Владимир Афанасьевич Обручев в Томске. 1903—1904 годы.
«Столбы» (вверху — В. А. Обручев)
Виды Пограничной Джунгарии (экспедиции 1905, 1908 и 1909 годов).
Виды Евдокие-Васильевского золотого рудника в 1912 году.
Конец ледника Менсу, Белуха, Алтай (фото В. В. Сапожникова. 1911 год).
Дача Обручева в Гатчине (публикуется впервые).
Обручев на экскурсии 3-го Всесоюзного геологического съезда около Ташкента в 1928 году.
Владимир Афанасьевич Обручев в Свердловске в 1942 году (кадр из фильма «Урал кует победу»)
Владимир Афанасьевич Обручев в Москве в день 85-летия (1948 год).
Владимир Афанасьевич в августе 1953 года (фото Д. И. Щербакова).
Хребет академика Обручева в Тувинской АССР (фото Б. Н. Лихянова)