Дмитрий Петров
Аксенов
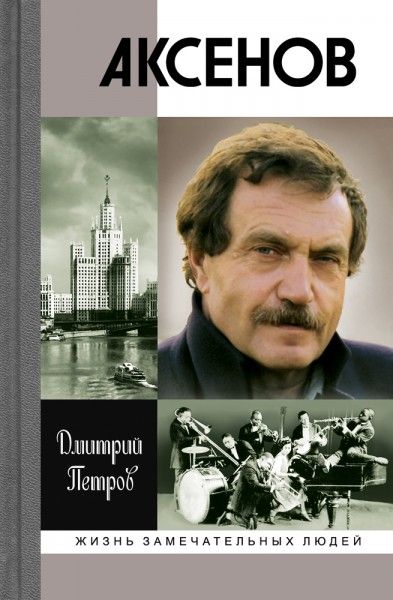
Вот как-то так.
Рождаются люди.
В боли, криках, слезах, всхлипах… Мамы зовут маму. И отцы кого-то зовут, к кому-то взывают… И все здесь похожи — жены маршалов и слесарей, артистов и токарей, мэров и пекарей. И незамужние — тоже… И мужчины их трепещущие похожи. И никому на земле неведомо, кто явился на свет — всеобщий заступник или мелкий преступник, беспринципный предатель или бесстрашный спасатель, злодей ли, герой ли, ой ли, ой ли можем ли ведать мы о человеке, явившемся на свет…
Но сказано в Писании: «Женщина, когда рожает, терпит скорбь, потому что пришел час ее; но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир». Вот и родился он в мир — в Казани, 20 августа 1932 года — человек — сын Павла Аксенова и Евгении Гинзбург — председателя Татарского областного совета профсоюзов и известной в городе журналистки и преподавательницы.
Роды прошли успешно, и матушка новорожденного — красавица Евгения Соломоновна Гинзбург чувствовала себя хорошо. Радость тридцатилетнего отца была безмерна — и эта безмерность, быть может, могла в тот момент сравниться с безбрежностью дел, коим он посвящал свою молодую пролетарскую жизнь.
Ведь молод же был председатель Татпрофсовета! Всего-то 1899 года рождения. Но с задачами партии справлялся. И приказы ее исполнял. Во-первых, как же иначе? А во-вторых, потому что мы — молодая гвардия рабочих и крестьян, ведь не зря же у нас каждый молод сейчас в нашей юной прекрасной стране! Хотя время белогвардейских, кулацких, эсеровских и прочих недобитков безвозвратно прошло, еще кое-где у нас порой поднимали голову буржуйские последыши. Обстановка в стране пока оставалась сложной, зато энтузиазм граждан был чрезвычайно высок.
Что ж это за год был такой в Союзе Советских Социалистических Республик — от рождества Христова 1932-й?
А такой был год, что мало не казалось. Пятилетка пролетарским молотом выковывала новую страну. Вступили в строй Горьковский автомобильный завод, первая домна Магнитки, Первый подшипниковый завод в Москве, Кузнецкий металлургический комбинат, первая очередь Днепрогэса. Состоялась первая передача движущегося изображения (телекино).
Были испытаны ракетные снаряды калибров 82, 132, 245 и 410 миллиметров конструкции Б. С. Петропавловского и Г. Э. Лангемака. С Францией, Польшей и Финляндией подписаны договоры о ненападении.
Был учрежден Союз архитекторов. Стартовал конкурс на лучший проект Дворца Советов. Власть утверждалась твердокаменно. Даже голод на Украине, в Казахстане, в Самарской губернии, республике немцев Поволжья, унесший около восьми миллионов жизней, не мог ее пошатнуть. Было сделано всё, чтобы в стране о нем не знали. Если о голоде 1921 года широко сообщалось, то к 1932 году машину информации отладили и уже не отвлекали созидателей от важного труда.
Партия озаботилась и упорядочением жизни властителей умов — писателей и прочих работников искусств. ЦК ВКП(б) принял постановление «О перестройке литературно-художественных организаций». Документ предписывал «объединить всех писателей,
Партия понимала значение искусства для управления массами. И хотела сделать его максимально централизованным. Важные шаги уже были предприняты. Если в 1922 году 220 частных московских издательств напечатали многие сотни книг, газет и журналов, а цензура отклонила чуть больше пяти процентов текстов, то к 1932-му частных издательств уже не осталось.
Но постановление встретило сопротивление. Руководство РАППа раскритиковало его в журнале «На страже литературы». То была публичная критика Сталина
Однако «легальная смута» искоренялась. Постановлениями ОГПУ в несудебном порядке в 1932–1933 годах были привлечены к уголовной ответственности оппоненты Сталина — Мартемьян Рютин, Лев Каменев, Григорий Зиновьев и другие видные партийцы по «делу „Союза марксистов-ленинцев“».
А в Казани, где рос малыш Вася, его родители следовали партийной линии. Рабочий вожак Павел Аксенов проводил IX съезд профсоюзов республики, где выступил с докладом. Налицо — рост производительности труда, борьба за выполнение промфинплана, повышение культурного уровня, две тысячи человек охвачено профучебой. Помогала вожаку жена — Евгения Гинзбург, преподаватель истории ВКП(б) во втузе мыловаренного завода и руководитель отдела культуры газеты «Красная Татария». Семейство пламенных революционеров — Аксенов и Гинзбург — выполняло сталинский пятилетний план.
Как жилось в ту пору партийному работнику? Не сказать, что легко. Но и не сказать, что скудно. Тяготы воспринимались как часть повседневности, в которой «и вся-то наша жизнь есть борьба», но при этом давали возможности, другим недоступные. Например, получить квартиру в «доме работников науки и техники» на улице Комлева (названной в честь видного революционера, убитого мятежным чехословацким легионером) с детской комнатой. Когда родители возвращались из поездок в Москву — мама в чернобурке, папа в добротном пальто и каракулевом кепи, — комната наполнялась запахом духов, хорошего табака, автомобиля. Мама брала Васю на руки, и он зарывался носом в лису, стараясь не угодить в острую мордочку. Папа распечатывал пакеты и коробки, перетянутые шелковыми лентами, — столичные подарки.
Вбегали старшие дети — дочь отца Майя и сын матери Алеша — от первых браков; начинались танцы, веселье перетекало в гостиную… Вася, хохоча, крутил ручку патефона, няня Фима и домработница Агаша подавали чай, а шофер — сочно скрипевший кожаным пальто и портупеей товарищ Мельников, — лукаво поглядывая, хлопал в ладоши.
Гулять малыша водили по улице Комлева, где в доме 15 жил, говорят, сам Ленин и где зимой 1887 года он был арестован за участие в студенческой сходке, и в Лядский садик, что сохранился до сей поры. Не миновал Вася и посещения детского садика, что было обычно для семьи ответработников.
Однако ж была еще и няня Фима — милая женщина, которая рассказывала Васеньке удивительные сказки о зверином царстве-государстве, а то — певала ему перед сном:
Уж ты спи, ты усни,
Угомон тебя возьми!
Баю-бай, бай, малюканчик наш.
Ходит сон по бережку,
А дремота по земле.
Ищут-поищут они
Васеньку в избе.
Где они его найдут,
Там и спать укладут…
Спустя несколько лет Васина мама Женя умилится, услышав похожую песенку из уст дневальной Марьи Сергеевны в ледяном бараке колымского совхоза Эльген…
Как писал Аксенов, отсутствие арестованных родителей ему объясняли командировкой на Север, то есть как бы вместе со славными «героями-полярниками»[1].
Похоже, эта ложь во благо (которой Вася чем старше становился, тем меньше верил) зацепилась в сознании, чтобы явиться в биографиях ряда аксеновских героев. А, может, всё это лишь авторский вымысел? Ведь писал-то Василий Павлович не мемуары, а
Сильно ли похож вернувшийся из лагерей главный герой рассказа «Зеница ока» на отца Василия Павловича? Тот ли это мужчина, что произошел из родового для Аксеновых огромного, стоящего над рекой Мастерицей села Покровского?.. Похож, видимо, но всё же — не в точности он. Таковы почти все герои Аксенова. Как и герои воспоминаний: годы не только размывают то, что принято называть фактами, но и немало добавляют, обогащая память преданиями — семейными и теми, что творит человечество.
Как бы то ни было, из рассказов несложно понять, что быт семьи был схож с той
Зимой по соседству заливали каток, где кружились румяные юноши и девушки, не ведая о тайнах этого подземелья…
В 1935 году Павел Аксенов стал председателем Казанского горсовета. Членом ЦИК СССР. У него были большая квартира, автомобиль «форд», прислуга, телефон, по которому Вася звонил в «Красную Татарию» и просил: позовите мамулю…
Так продолжалось до 1937 года, когда из «Бурого оврага» его родители канули в лагеря.
В своей книге «Крутой маршрут» Евгения Гинзбург напишет: «…эта выносливость, которая сейчас спасает меня, — это дано мне ею, Революцией, в которую я вошла ребенком». Маленький Вася Аксенов ребенком вошел в террор. Стал его мишенью, жертвой, страдальцем. И чуть было не стал его добычей.
И когда его бабушка, жалея дочь, писала ей в Ярославскую тюрьму: «Васе под Новый год сделали елочку», он уже затерялся в системе спецдетдомов для детей заключенных. Слава богу, на короткое время. Но об этом — позднее.
А сперва — о родителях.
Мама — Евгения Соломоновна — родилась в Москве 20 декабря 1904 года. Через пять лет с отцом Соломоном Натановичем и мамой Ревеккой Марковной переехала в Казань. Там Женя поступила в гимназию. Ее отец — известный в Казани фармацевт, знавший латынь и греческий, и матушка, домохозяйка, как и подобало даме ее положения, желали дать дочери хорошее образование, мечтали отправить Женю в Женевский университет — в начале XX века там училось много барышень из России. Но революция 1917 года кардинально изменила жизнь семьи.
В 1920 году Евгения поступила в Казанский университет на факультет общественных наук, в 1922-м перешла на 3-й курс Казанского Восточного педагогического института, который и окончила в июне 1924 года по специальности «история». И до 1925-го преподавала на тюркско-татарском рабфаке, в экспериментальной школе при пединституте, служа ассистентом кафедры истории Западной Европы в Татарском коммунистическом университете. Потом стала ассистентом кафедры методики преподавания истории в Казанском Восточном пединституте.
В 1926-м на свет появился сын Алексей — старший брат Василия по матери. Его отцом был ленинградский врач Дмитрий Федоров.
С 1930-го Гинзбург преподавала историю ВКП(б) в Высшем техническом училище (втузе) при мыловаренном заводе им. Вахитова. И, как положено преподавателю общественной науки, вступила в партию. В сентябре 1933 года получила звание доцента университета, где преподавала историю партии до 1935 года.
Какое-то время там же заведующим отделом международной информации работал бывший член троцкистской оппозиции профессор Николай Наумович Эльвов, знакомство с которым сыграло трагическую роль в жизни Евгении Соломоновны.
Если для Гинзбург Казань была городом почти родным, то для Эльвова стала местом ссылки после шумной истории с четырехтомной «Историей ВКП(б)», охватившей период с 1880 года до конца Гражданской войны и вышедшей под редакцией Емельяна Ярославского. Там, в написанной Эльвовым статье о 1905 годе обнаружились идейные ошибки, связанные с теорией перманентной революции — знаменитой доктриной Льва Троцкого. Да и вся книга была раскритикована Сталиным в письме «О некоторых вопросах истории большевизма», напечатанном в журнале «Пролетарская революция». Ошибки ее авторов получили ясную квалификацию: «контрабанда троцкизма». Дело вышло серьезное. Но в ту пору — до убийства Кирова — не слишком. И Эльвова просто убрали из Москвы в Казань, где он стал профессором пединститута и членом горкома ВКП(б)… Профессор был очень эрудированным человеком. Высокий, с крупной головой и рыжей шевелюрой. Где бы он ни появлялся, на него оглядывались, ему рукоплескали.
Первого декабря 1934 года он выступил на городском партактиве с докладом по поводу убийства Кирова, которое столь многое изменило в жизни страны. А вскоре пришел к Евгении с серым лицом и глазами, полными муки. Взяв на руки двухлетнего Ваську, сказал трясущимися губами:
— У меня ведь тоже есть… Сережка… Четыре года. Хороший парень…
— Что с вами, Николай Наумович? — удивилась Гинзбург.
— Всё. Всё кончено. Я… только хотел сказать вам, чтобы вы не думали… Клянусь — я ничего не сделал против партии.
Она было начала его утешать. Мало ли какие бывают недоразумения…
А он возьми да и скажи эти странные слова:
— Мне очень больно, что и вы можете пострадать за связь со мной…
Евгения опешила: за какую связь? Что за чушь? Уж не сошел ли он с ума? Да, они были знакомы с его приезда в Казань, когда Эльвов стал в пединституте заведующим кафедрой русской истории. Сразу задумал несколько изданий и обсуждал их с сотрудниками. В том числе и с Гинзбург, пригласив ее для подготовки хрестоматии по истории Татарии. Встречались они и в редакции «Красной Татарии», куда его направили «на укрепление» коллектива научными кадрами. Но ничего такого, что можно было назвать «связью» в любом смысле этого слова, между ним и Гинзбург не было. Из-за чего же ей страдать?
— Вы не понимаете момента, — сказал профессор. — Вам трудно будет. Еще труднее, чем мне. Прощайте.
И, одеваясь в прихожей, долго не мог попасть в рукава своего кожаного пальто…
А на следующий день, едва Гинзбург вошла в институт, старик-швейцар, знавший ее со студенческих лет, бросился к ней, шепча:
— А профессора-то… рыжего-то… ночью-то… Увели…
Через несколько дней в редакции состоялось партсобрание.
И там коммунистке Гинзбург впервые предъявили обвинения. В том, чего она
— Но ведь никто в областной парторганизации не выступал против него… — попыталась защититься изумленная женщина.
— Спокойно, товарищ, — ответили ей, — с каждого будет спрос. Сейчас же речь о тебе!
— Но ведь… его выбрали членом горкома.
— Надо было сигнализировать, что это ошибка. На то у вас и высшее образование.
— А кто доказал, что он троцкист?
— Да ведь он арестован! Или, думаете, у нас людей изолируют, если о них нет точных данных?
Спорить было бессмысленно. Вообще — бессмысленно всё. С этого момента. Началось то, что потом мать Василия назовет «прелюдией к симфонии безумия и ужаса».
Ей влепили строгий выговор по партийной линии. Запретили преподавать. Это было не просто серьезно, а очень опасно! От таких решений порой зависела жизнь… А товарищ Гинзбург отказалась каяться. Не из упрямства. Просто не знала: в чем?
Тем временем власть превращала страну в арену расправ и покаяний. Те, кто «понимали момент», бия себя в грудь, казнились за то, что «проявили близорукость», «лили воду на мельницу», «проявляли гнилой либерализм»… Оказалось, гнилой либерализм в пору строительства социализма — дело опасное. Он сродни контрреволюции. И потому покаяния не всегда принимались. Тем более не простили упрямую Гинзбург. Но вот парадокс — обивая пороги инстанций, она оставалась женой члена ЦИК, сохраняла все привилегии, положенные члену семьи сотрудника этого ранга…
Новый, 1937 год Евгения со старшим сыном Алешей встречала в партийном доме отдыха Астафьево — бывшем имении князя Вяземского. Там отдыхали чада вождей, делившие людей на категории по маркам машин. «Линкольнщики» и «бьюишники» — то есть дети деятелей, которых возили в «линкольнах» и «бьюиках», котировались высоко и третировали третьесортных «фордошников» — то есть тех, кого возили на «фордах».
В Астафьеве кормили как в лучшем ресторане. Вазы с фруктами в номерах постоянно пополнялись. Но дамы, сходясь в курзале, ругали местное питание, сравнивая его с питанием в «Соснах» и «Барвихе» — других партийных здравницах. Парт-аристократия наслаждалась роскошью…
Вот что рассказывала Агнесса Ивановна Миронова-Король (также вскоре репрессированная): «Представьте. Зима. Сибирь. Мороз… Тайга, и вдруг… забор, за ним сверкающий сверху донизу огнями дворец! Мы поднимаемся по ступеням, нас встречает швейцар, кланяется почтительно… и мы с мороза попадаем сразу в южную теплынь… Огромный, залитый светом вестибюль. Прямо — лестница, покрытая мягким ковром, а справа и слева в горшках на каждой ступени — живые распускающиеся лилии…» Это — резиденция секретаря Западно-Сибирского крайкома в середине 1930-х.
А вот — сценки из курортной жизни партийного начальства: «Мы приезжали в санаторий осенью, когда всё ломилось от фруктов. Бархатный сезон. Уже нет зноя, но море еще теплое, а виноград всех сортов, хурма, мандарины, и не только наши фрукты — нас засыпали привозными, экзотическими… Какие там были повара и какие блюда они нам стряпали! Если бы мы только дали себе волю…»; «Мы сели в открытые машины, а там уже — корзины всяких яств и вин. Поехали на ярмарку в Адлер, потом купались, потом — в горы, гуляли, чудесно провели день. Вернулись украшенные гирляндами… А праздничные столы уже накрыты, и около каждого прибора цветы, и вилки и ножи лежат на букетиках цветов. На мне было белое платье, впереди бант с синими горошинами, белые туфли… Были в тот вечер Постышев, Чубарь, Балицкий, Петровский, Уборевич, а потом из Зензиновки, где отдыхал Сталин, приехал Микоян».
Все перечисленные (кроме Микояна) были казнены. Девяносто процентов астафьевского населения тоже было обречено. Почти всё оно вскоре сменило апартаменты на нары.
А дети, хорошо знавшие марки авто, были помещены в спец-детдома.
Но пока пир гремел! В новогодний вечер накрыли богатый стол. Дамы оделись в бальное. Евгения — в новое платье, подчеркивавшее ее красоту. И… без пяти двенадцать ее внезапно позвали к телефону. Думала — муж. Оказалось — просто знакомый… А Новый год меж тем наступил. Она вернулась в зал на двенадцатом ударе. Алеша с кем-то чокался ситро. А когда повернулся к маме, уже прошло две минуты 1937 года…
«Мне не пришлось его встретить вместе с Алешей, — напишет Евгения Соломоновна в воспоминаниях. — И он разлучил нас навсегда».
Седьмого февраля 1937 года Евгению Гинзбург решением бюро Молотовского райкома исключили из ВКП(б).
Как и многие, они с мужем ждали ареста. Не зная, кого возьмут первым.
Ночи пугали. Пугали автомобили, проезжавшие под окном. Звук каждого из них слушали, холодея. Казалось, он замедляет ход у их подъезда. Надежда уступала место дикому ужасу, сжимавшему горло.
Но случилось это не ночью, а белым днем.
Евгения, Павел, Алексей были в столовой. Майя — на катке. Вася — в детской. Телефонный звонок. Павел взял трубку, побледнел и спокойно сказал:
— Тебя, Женюша… Веверс… НКВД…
Да. Веверс. Начальник секретно-политического отдела, любезный, деловой.
— …Товарищ… как у вас сегодня со временем?
— Я теперь всегда свободна. А что?
— О-о-о! Всегда свободна! Уже упали духом?.. Все это преходяще. Так вы, значит, могли бы сегодня со мной встретиться? Нам нужны кое-какие сведения об этом Эльвове. Ох, и подвел же он вас!..
— Когда прийти?
— Да когда вам удобнее. Хотите — сейчас, хотите — после обеда.
— А вы меня надолго задержите?
— Да минут на сорок. Ну, может быть, на час…
Павел всё слышал и шепотом настойчиво советовал идти не откладывая.
Так и решили. Муж помог ей одеться. Алешу отправили на каток.
И тут Вася, уже привыкший спокойно реагировать на мамины отлучки, неожиданно выбежал в прихожую и стал допытываться:
— А ты, мамуля, куда? Нет, а куда? А я не хочу, чтобы ты шла…
Евгения смутилась.
— Няня, — сказала она, — возьмите ребенка!..
Щелкнул замок. Евгения и Павел покинули дом.
Майка шла с катка. Они встретились на лестнице, и девочка, ни слова не говоря, прижалась к стене, широко раскрыв глаза — огромные и голубые…
Погода стояла чудная — ясный февральский день.
— Последний раз идем вместе, Паша, — промолвила Евгения.
— Не говори глупостей, Женюша. Если арестовывать таких как ты, то надо арестовать всю партию.
— Иногда и у меня мелькает такая мысль. Уж не всю ли и собираются арестовать?
И тут казанский градоначальник разразился «еретической» речью: он верит в честность многих арестованных… Евгения рада, что их мысли схожи. Но каждый шаг приближал их к зданию на улице Дзержинского. И — вот оно — Черное озеро.
— Ну, Женюша, — сказал муж, — мы ждем тебя к обеду…
— Прощай, Паша. Мы жили с тобой хорошо… — ответила она.
Не добавила «береги детей». Знала: он не сможет сберечь…
— До свидания, Женюшенька!
За дверями — учреждение. Казенная неторопливость. По коридорам снуют чиновники. В кабинетах трещат пишущие машинки. Кто-то кивает, мол, «здрассьте»… Вот — нужная дверь. Она вошла. И сразу ударилась о взгляд Веверса.
«Их бы в кино крупным планом показывать, такие глаза, — напишет Евгения Гинзбург. — Совсем голые. Без малейших попыток маскировать цинизм, жестокость, сладострастное предвкушение пыток, которым сейчас будет подвергнута жертва. Ему не нужны комментарии.
— Можно сесть?
— Садитесь, если устали, — пренебрежительно ответил Веверс.
На лице его — смесь ненависти, презрения, насмешки, которую я потом сотни раз видела у работников этого аппарата, у начальников тюрем и лагерей».
Эта гримаса входила в программу тренировок сотрудников органов пролетарской диктатуры. Они репетировали ее перед зеркалом. Минуты тянулись в молчании. Потом капитан взял лист бумаги и написал крупно, чтобы было видно: «Протокол допроса»…
Теперь взгляд его налился серой, тягучей скукой.
— Ну-с, так как же ваши партийные дела?
— Вы ведь знаете. Меня исключили из партии.
— Еще бы! Предателей разве в партии держат?
— Почему вы бранитесь?
— Бранитесь? Да вас убить мало! Вы — ренегат! Агент международного империализма!
Удар кулаком… по столу. Звенит стакан.
— Надеюсь, вы поняли, что арестованы?
Почти полгода — с февраля по июль 1937 года — мать Васи провела во внутреннем изоляторе казанского управления НКВД, вынося допросы и издевательства. Затем ее перевели в тюрьму на улице Красина, где она узнала об аресте маршала Тухачевского и других видных военных. Там же состоялся любопытный разговор с медсестрой тюремного медпункта. Простая женщина дала ей бинтик — подвязать чулки — и спросила спокойно, без зла:
— Что вас заставило-то, а? Ну, против советской власти, что вас-то заставило? Ведь я знаю — вы Аксенова, предгорсовета жена. Чего же вам еще не хватало? И машина, и дача казенная, а одежа-то, поди, всё из комиссионных? Да и вообще…
Кажется, ее представления о роскошной жизни были исчерпаны…
— Недоразумение. Ошибка следователей.
— Тш-ш-ш… — Сестра покосилась на дверь. — А что, может, правду отец говорил, будто все вы идейно пошли за народ, за колхозников то есть, чтоб им облегченье?..
Удивительный разговор. Вот, оказывается, какой миф о репрессиях сложила гуща народная. Видя погром партийных кадров, люди не находили ему объяснения и выдумывали свои версии. Одна из них: и среди коммунистов есть хорошие люди, которые встали за колхозников и страдают за народ…
В июле 1937 года Евгению Соломоновну этапировали в Москву на заседание Военной коллегии Верховного суда. Она сидела в спецкорпусе Бутырской тюрьмы, видела арестованных жен советских вождей и героинь Коминтерна — активисток германской, итальянской, венгерской и других компартий и антифашистских движений. Там впервые услышала жуткие вопли пытаемых, увидела руки с выдранными ногтями…
Накануне суда офицер познакомил ее с обвинительным заключением по делу. Под документом была подпись Вышинского, прокурора Союза ССР. Она помнила его — холеного, курортного, в круглых очках и вышитой рубахе… Его костлявую жену и дочку Зину, с которой ходила на пляж. А вспомнил ли
Преамбула: «…Троцкистская террористическая контрреволюционная группа… при редакции газеты „Красная Татария“… ставившая целью реставрацию капитализма и уничтожение руководителей партии и правительства»; в списке подпольщиков имена людей, никогда не работавших в газете, или тех, кто давно покинул ее…
Но к чему все это? О! Вот и итог: «На основании вышеизложенного… предается суду военной коллегии… по статьям 58–8 и 11 Уголовного кодекса… с применением закона от 1 декабря 1934 года».
Но что это за закон?
Вопрос: ознакомились с обвинительным заключением? Всё ясно?
— Нет. Что значит закон от 1 декабря?
Офицер удивлен. Разъясняет:
— Этот закон гласит, что приговор приводится в исполнение в течение двадцати четырех часов с момента вынесения.
24 часа. И до суда 24 часа. Ведь на другой день после вручения обвинительного заключения обычно везут в суд. Итого — 48 часов. Жить 48 часов?..
Первого августа 1937 года Военная коллегия Верховного суда приговорила гражданку Гинзбург Евгению Соломоновну к десяти годам тюремного заключения со строгой изоляцией, с поражением в правах на пять лет и конфискацией имущества.
«Всё вокруг меня становится светлым и теплым, — писала Гинзбург в „Крутом маршруте“. — Десять лет! Это значит — жить!»
Она встряхнула локонами, закрученными перед судом, чтобы не осрамиться перед тенью Шарлотты Корде, и улыбнулась конвоирам, удивленно смотревшим на нее.
— Обедать вы не будете? — спросила надзирательница, похожая на сестру-хозяйку. У нее опыт. Она знала: после приговора люди не хотят есть.
— Обедать? Почему не буду? Обязательно буду, — ответила осужденная. И съела обед — мясной суп и манную кашу с маслом, положенные приговоренным к смерти, согласно традиции, оставшейся от гнилого либерала Николая II.
— Теперь, — сказала себе заключенная Гинзбург, — я буду обязательно есть всё, хорошо спать, делать по утрам гимнастику. Я хочу сохранить жизнь…
Через 20 дней, в день пятилетия, милого ее Васю забрали в приемник для детей «врагов народа». По обычаю того времени: враг должен сидеть, а малолетний член его семьи — пройти школу любви к товарищу Сталину и ненависти к его врагам.
Евгению же отправили в ярославскую тюрьму «Коровники», где в мае 1938 года она узнала о смерти отца, который не вынес избиений в НКВД, и об изменении приговора на десять лет лагерей. Оттуда ее отправили во Владивосток. Там в июне 1939-го началась лагерная эпопея Евгении Гинзбург — продлился ее крутой маршрут…
К тому времени Павел Васильевич уже два года был в заключении. Так завершилась его блистательная карьера советского деятеля.
Он родился в январе 1899 года в богатом селе Покровское Рязанской губернии, в зажиточной семье. К труду привык с детства, окончил два класса приходской школы…
Некоторое представление о Покровском дает такая реплика его сына, сделанная много лет спустя: «Огромное село такое, раскиданное на холмах. Как при царе Горохе, так и сейчас стоит, по-моему, без особых изменений. На холмах много усадеб помещичьих…
Когда я первый раз приехал туда с отцом в начале шестидесятых… электричества не было, воду из колодца поднимали журавлем… пьянка безумная какая-то… родственница Таня утром выносила яичницу из двадцати яиц и бутыль мутного самогона. На наши возражения отвечала: „Вы же на отдыхе…“ В избе — корова, куры…»
Вот и тогда были коровы, куры, сады — у Аксеновых росло 26 яблонь, — кирпичные дома, крашеные ставни, обширные амбары, емкие погреба, бочки с мочеными яблоками, огурцами, грибами, капустой, мясо да квас, огороды, покосы, поля, лошадь по кличке Колчак[2] — знай живи не тужи да паши…
Но грохнул 1917 год, и Павлуша осьмнадцати лет пошел на «гражданку», ибо был убежден — за рабочее дело. До того успел он потрудиться и в селе пастухом, и на Рязанской железной дороге, и помощником писаря, и членом волостного земельного комитета Покровской волости. По слухам, сперва был в эсерах. С 1918-го — большевик. Секретарь партячейки в селе. А с осени 1919-го — агитатор политуправления Юго-Западного фронта на станции Ряжск. Затем — инструктор политотдела 15-й Инзенской дивизии.
Вот так — по военной дороге, в огне и тревоге, по речным перекатам, по курганам горбатым прошел комиссар Павел Аксенов. Бился под Каховкой. Брал Перекоп. Начальство его уважало. Сказало: езжай-ка, Аксенов, в Москву. Учись! Сам посуди: двух классов церковной школы разве хватит для нового мира?..
И двинулся Павел в Москву. В Центральную партшколу им. Якова Свердлова. И там познакомился с девушкой Цилей — Цецилией Яковлевной Шапиро, прошедшей свой революционный путь и после службы на личном бронепоезде Серго Орджоникидзе поступившей в университет. Павел и Циля сочетались пролетарским браком и поселились в Староконюшенном переулке, в квартире, изъятой у кого-то из «бывших». Отучившись, были направлены на партработу. Трудились в Донецком, Рыбинском, Орловском и Нижнетагильском губ-комах РКП (б), а потом получили назначение в Казань. Там-то Павел Васильевич и встретил Евгению Гинзбург.
Цецилия узнала о романе Павла с Евгенией. Ничего не стала выяснять и уехала с дочерью в Покровское, а потом в Москву. Поступила в Институт красной профессуры. Окончив его, вела курс истории Запада в Военной академии им. Фрунзе. Одновременно писала диссертацию в Институте истории Академии наук. Жила в общежитии.
А Павел женился на Евгении. И сделал хорошую карьеру.
Энергичный партиец Аксенов занимал всё более высокие посты, руководил профсоюзами, получил квартиру в Доме работников науки и техники — ДОРНИТ, отдыхал на обкомовской спецдаче в Ливадии. Там полуторагодовалый Вася впервые увидел свою сестру по отцу Майю. Не избалованный родительским вниманием, он рос покладистым мальчиком и слушался няню Фиму. Так они и жили — Павел Аксенов, Евгения Гинзбург, ее сын от первого брака Алеша, дочь Аксенова Майя и Вася…
Там же, в Казани, на улице Карла Маркса жили другие Аксеновы — Авдотья, Ксения и Матильда. Детям общаться с ними не рекомендовалось, но Майя и Алеша нередко тайком наведывались в их гостеприимный дом.
Старших детей не спешили отдавать в школу — опасались инфекции, учителя занимались с ними на дому. Но потом всё же отправили в лучшую в городе 19-ю школу. Их окружали удивительные мальчики и девочки с замечательными именами-аббревиатурами: Крармия, Лен
В январе — феврале 1934 года Павел Васильевич Аксенов участвовал в XVII съезде ВКП(б) — «съезде победителей». Делегатам вручали подарки. С подарком и вернулся в Казань — привез патефон…
А вскоре на совещании у нового первого секретаря Татарского обкома Альфреда Лепы Аксенов узнал подробности выборов нового ЦК. Против Сталина проголосовало больше 49 процентов делегатов. Это ошеломило. А еще больше поразило, что на первом пленуме нового ЦК при выборах политбюро за Сталина проголосовало чуть больше половины членов, тогда как почти за всех других — большинство. А питерского Кирова избрали единогласно. Лепа не стал комментировать цифры, но сказал, что «хозяин» был в гневе. Еще больше рассердило Сталина, что после выборов Лепа, Станислав Косиор[3], Павел Постышев[4], Роберт Эйхе[5] и другие взялись Кирова
Через девять месяцев его убили. Начались чистки рядов и мытарства Евгении Гинзбург.
Были в ее деле и эпизоды, не описанные в «Крутом маршруте» (и, возможно, ей неизвестные), но крайне значимые в судьбах ее и мужа. Летом 1936 года Лепа сказал Павлу Васильевичу: «Знаешь, жена твоя Гинзбург не нравится членам бюро». И Лепе она не нравилась: «…дерзкая, гордая, бестактная, неуважительно относится к руководящим товарищам и их женам, высмеивает установившиеся в активе отношения и вообще является чужеродным телом среди руководящих работников…» Разве такой должна быть жена ответственного партработника? Лепа прямо объявил Гинзбург «не нашим человеком» и посоветовал Аксенову порвать с ней супружеские отношения.
«Тогда бесцеремонность была в порядке вещей, — вспоминал Павел Васильевич. — Более того, Лепа как секретарь обкома был убежден, что выполняет высокую партийную миссию». Аксенов ответил, что «даже папа римский не решился бы возложить на себя функции, которые Лепа присвоил именем партии». А тот печально вздохнул: «Эх, товарищ Аксенов, как жаль, что не захотел ты понять: мы искренне хотели помочь тебе… Придет время, и ты поймешь это, но будет поздно».
Что именно имел в виду секретарь обкома, стало ясно, когда в феврале 1937-го прошло собрание партактива, где Аксенова критиковали за политическую слепоту и потворство жене-троцкистке.
Он, однако, нашел в себе силы защищать Евгению. «…Если Гинзбург троцкистка, — сказал Павел Васильевич, — и в той или иной форме вела или ведет борьбу против партии, то буду голосовать за исключение ее из партии. Но ведь доказательств ее вины не было и нет, и принимать на веру то, что о ней говорилось здесь, значит поддерживать клевету». Актив выслушал товарища Аксенова и не принял его доводы. Биения в грудь, проклятий в адрес супруги — вот чего, видимо, ждали от председателя горсовета. И, не дождавшись, в ночь с 4 на 5 февраля на закрытом заседании бюро обкома принудили подать в отставку. Связались с Москвой — секретарь ЦК ВКП(б) Андрей Андреев (в 1921 году во время дискуссии о профсоюзах стоявший на платформе Троцкого и Бухарина) рекомендовал решить вопрос на месте. Решили. Павла Аксенова отправили в… отпуск.
В первый день его отпуска Евгению вызвали в НКВД. Домой она не вернулась. Павел весь вечер бродил вокруг «Черного оврага». Ждал у дверей НКВД: «…может, дверь… откроется и жена радостная и веселая пойдет мне навстречу? Дверь так и не открылась…»
Когда он вернулся домой, старшие дети спали. Только маленький Вася никак не хотел засыпать без мамули. Его с трудом уложили, сказав, что она в командировке.
Павел позвонил Веверсу. Спросил: что вы сделали с Гинзбург?
— Она у нас, — загремел раскатистый и самодовольный голос.
— Это что, всерьез и надолго?
— А это уж как получится! — услышал он в ответ.
В ту же ночь пришли с обыском. Оперативную группу возглавлял хорошо знакомый телохранитель председателя предсовнаркома Татарии Кияма Абрамова[7] лейтенант НКВД Зотов. Он не стал обыскивать детскую, но в других комнатах изъял книги и документы. В том числе — брошюру, изданную ЦК «не для печати», с письмами Ленина Троцкому по поводу волнений в Грузии в 1922 году. В них Ленин настаивал на отстранении Сталина от подавления беспорядков, объясняя, что тот «относится к категории поваров, способных готовить только ОСТРЫЕ БЛЮДА, и что может принести неисчислимые бедствия»[8]. В четыре часа утра чекисты ушли.
Измотанный Павел Васильевич заснул, а утром его разбудил Вася… Сказал, что скучает по маме, а теперь идет гулять. Проводив сына и няню на улицу, Павел услышал звонок. Звонил Веверс. Он продиктовал список вещей и продуктов, которые можно передавать арестованной по мере необходимости. Павел Васильевич понял: это всерьез. Но — конечно же! — лишь до тех пор, пока не выяснится ошибка следственных органов.
Он не ведал, что арест жены — часть огромного плана. Знал об арестах, но был убежден, что сажают врагов, а если и ошибаются, то всё исправляют. Как-то в его дверь позвонила Роза — дочь наркома просвещения республики Исхака Рахматуллина. Не по-детски глядя в глаза, сказала:
— Ночью арестовали и увезли в тюрьму моих папу и маму.
«Удивительное дело, — писал в мемуарах Павел Васильевич, — сообщение не произвело на меня должного впечатления. Я принял его как обыденный факт». «Что это было, — вопрошает он, — бессердечие, эгоизм… или действие защитных сил организма, начавших… подготовку моей собственной персоны к подобной участи?»
— Квартиру вашу, вероятно, отберут, — сказал Аксенов Розе, — оставайся у нас…
— Спасибо. Но я уже нашла себе квартиру. Буду жить у тети, — ответила двенадцатилетняя девочка и ушла, унося на плечах свою неизмеримую ношу…
Этот визит лишь побудил Павла Васильевича проявить толику сострадания и участия к дочери товарища (дочь за отца ведь не отвечает, не правда ли?), но не заставил его усомниться в справедливости самой репрессии. Не заставил испугаться за себя и близких.
Даже беседа с Лепой[9], шельмование на партактиве и отрешение от поста предгорсовета он не воспринял как предупреждение. Во всяком случае, на это нет указаний ни в воспоминаниях Павла Аксенова, ни его родственников. Он был убежден, что ему ничего не грозит. В этом мнении его утвердил и нарком внутренних дел республики Петр Рудь[10], принявший бывшего предгорсовета и уверивший его, что у НКВД нет претензий ни к его жене, ни к нему. Надежду дало приглашение в Москву на заседание ВЦИКа, участие в похоронах Серго Орджоникидзе, в торжествах в честь 17-й годовщины образования Татарской АССР, назначение начальником строительства Казанского оперного театра и предложение подписать Конституцию республики.
Лишь исключение из ВКП(б) поколебало уверенность в защищенности. В ответ на попытку оправдаться он услышал: «Ты, Аксенов, не на митинге, ораторствовать тебе не дадим. Положи билет на стол». Выйдя на воздух, он горько заплакал…
На заседании ВЦИКа Аксенов встретил своего друга и бывшего шефа, а ныне — «хозяина Восточной Сибири» Михаила Разумова. Тот зазвал его к себе в «Метрополь» — обедать. Налив две чашки водки, сказал: «Несчастье таких людей, как мы, в том, что невозможно спрятать себя, как иголку в мешке… А главное… — это семьи. Нам не следовало обзаводиться женами и, в особенности, детьми». Они выпили… и больше не виделись[11].
После этой встречи, по одной версии, Павел направился к бывшей жене Цецилии и попросил ее взять к себе Майю, а затем — в Ленинград к Дмитрию Федорову — первому мужу Евгении с предложением приютить Алешу; по другой версии — предложенной самой Майей Павловной, он послал телеграммы с просьбой взять детей. Их развезли. Больше они не встречались. Сына Васю, его няню и домработницу Павел Васильевич оставил у себя на улице Комлева.
И после исключения из партии он ходил на работу. Только с узелком — ждал ареста, который и последовал 7 июля 1937 года.
Страшно читать о пытках, которые вынес Павел Аксенов. Когда-то, на войне, он, комиссар, думал: если вдруг попадет в плен — выстоит ли в контрразведке «белых»? Теперь над ним глумились «красные», требуя оговорить себя и многих людей. Пытки голодом, бессонницей и током сменялись посулами; обещания — избиениями…
Это и их в том числе опишет его сын в романе «Ожог»: «Чепцов взял стул и присел к подследственному вплотную.
— Что, Саня, бьют? — тихо спросил он, внимательно вглядываясь в молодое лицо.
Гурченко открыл глаза, далекие и безжизненные, как весь северо-восток нашего континента, отрешенные от России и от Европы, забывшие Бога голубые свои глаза.
— Бьют, гражданин капитан, — прошептал он.
— Ну-ну, — сказал Чепцов, как бы ободряя, призывая вернуться к жизни, и — удивительно! — призыв был услышан измученным человеком, в глазах его плеснула… сумасшедшая надежда, и он… облизал губы и слабо кивнул в знак благодарности за сочувствие, которое… даже в такой малой дозе все-таки необходимо душе.
— А так не били? — спросил Чепцов и ударил Саню локтем в правый глаз. Гурченко упал набок вместе со стулом. Глазница его мигом заполнилась кровью.
— Нет, до вас так не били, гражданин капитан!»
Павел Васильевич терпел. Но настал момент, и он сдался…
История знает примеры стойкости перед лицом жестоких мучений. Но, как правило, тогда, когда мучают враги, а не «свои». Куда тяжелее сопротивляться, когда тебя топчут люди в форме со звездами, которые недавно носил ты сам. И принуждают тебя сознаться в том, чего ты не делал. Потому, что «так надо». Потому, что «требует партия», которой ты служил и в которую верил.
Павла Аксенова сломали. Он написал об этом в мемуарах. Написал, как отказ от показаний повлек тяжелые пытки — он обличал палачей, жаловался, за что был до полусмерти избит прокурором Егоровым и следователем Крохичевым. А показания остались в силе. Это повергало Павла в отчаяние.
Что может оживить измученного и отчаявшегося человека? Что может дать утешение томящемуся в застенке и мучимому укорами совести? Встреча с родными. Но может она и ослабить. Породить надежды на милость палачей, а то и упования на обретение свободы ценой оговора себя и других.
После очной ставки с теми, кого он якобы привлек к враждебной деятельности, Павла Васильевича доставили в уютный дворик, полный покоя, деревьев и цветов. Следователь оставил его на скамье, сказав, что скоро вернется. И тут появилась сестра Павла Ксения и — о боже, что за счастье! — Вася.
Павел Васильевич описывает свидание сдержанно, почти протокольно, но легко вообразить, что он пережил, встретив любимого сына, о котором знал, что его увезли из Казани: «Вася очень быстро сориентировался… Он бросился ко мне, вскарабкался на колени, обвил своими ручонками мою шею, прижимался, ласкался, целовал и непрерывно говорил: „Папа! Папа! Папа!..“ Видно, ему внушили ничего не спрашивать о маме и о моем возвращении домой. И Вася выдержал эту линию. Он продолжал целовать меня и не хотел уходить… Я видел настоящую заботу о своем племяннике Адриана[12] и Ксении, сумевших за короткое время победить рахит, нажитый Васей…
Мне было приятно, что он такой чистенький и ласковый, и чувство благодарности к брату и сестре охватывало всё мое существо. Я совсем не думал о будущем. Мгновения настоящего были так хороши!»
Свидание закончилось. Подследственный вернулся в камеру, а его сын — домой, разлученный с отцом на долгие годы…
Девятого ноября 1938 года в здании Верховного суда Тат АССР начался процесс. Открытый. Показательный. В качестве свидетелей по «делу Павла Аксенова и его группы» (забрали почти весь аппарат горсовета — зампреда Ковалева, главного инженера Баранникова, всего 11 сотрудников и депутатов) были вызваны 210 человек. Подсудимых защищали адвокаты, в числе которых был приглашенный Цецилией Петр Петрович Дивногорский.
На суде Павел Васильевич Аксенов отказался от показаний, данных под следствием. Судья укорил его: мол, вы же всё подписали, признали вражескую деятельность; как объяснить эти противоречия на предварительном и судебном следствиях?
— Мои показания — результат грубого принуждения! — заявил Аксенов.
— Если к вам применяли незаконные методы следствия, почему вы не обратились с жалобой к прокурору республики?
На это подсудимый поведал о том, что последовало за его жалобой[13]. После перерыва судебного заседания свидетели были отпущены до особого распоряжения, публика удалена, а заседание объявлено закрытым.
Дивногорский сказал Аксенову: «Вы сорвали показательное представление». За время процесса опытный юрист с помощью подсудимых сперва добился передачи их дела на новое расследование, а затем и оправдательных приговоров для большинства обвиняемых. Скорее всего, это ему удалось потому, что за три дня до окончания процесса был снят «железный нарком Ежов»[14] и вращение жерновов террора приостановилось.
Узнав об исходе суда, лежавший в тюремной больнице его подельник Ковалев, потрясенный, умер от разрыва сердца. По свидетельству дочери Павла Майи, освобожденный Баранников приехал к ним в Москву и сказал: «Павел Васильевич не сегодня-завтра будет на свободе…» Но нет. Его дело изъяли из ведения гражданского суда и передали «тройке». Приговор: высшая мера.
Аксенов — в камере смертников. От полного отчаяния его спасает муха — единственный собеседник в течение многих дней. Он пишет письмо с просьбой о помиловании и передает Цецилии. Та пускает в ход коминтерновские и другие связи. Знакомые глядят на нее в изумлении: с какой стати эта оставленная мужем женщина так истово хлопочет за него? Она отвечает: «Не хочу судить Аксенова как человека, но что он не виноват перед партией, в этом я уверена». Чего в ее действиях было больше — не умершей женской любви или жажды справедливости? Сегодня не ответит никто, но Цецилия делала всё, чтобы спасти Павла от «вышки».
Сложно сказать, насколько помогли ее хлопоты, однако расстрел Павлу Аксенову заменили на 15 лет лагерей, три года ссылки и конфискацию имущества. Шептались: повезло — вступился Калинин… Но тучи сгущались и над самой Цецилией. Ее исключили из партии и уволили из академии Фрунзе. А 29 января 1941 года забрали на Лубянку. Павел Аксенов был уже в Инте, в лагерях. Его реабилитируют в 1955-м.
После ареста родителей, в день пятилетия, Васю забрала из дома уполномоченная НКВД. Сперва мальчика отправили в распределительный центр, а затем — в костромской сиротский дом для детей «врагов народа», что был устроен в старинном монастыре — кое-где на стенах сквозь побелку еще проступали замазанные росписи…
Это (как и дальнейшее вызволение Васи) было сделано в соответствии с приказом главы НКВД Николая Ежова за номером 00 486 от 15 августа 1937 года «Об операции по репрессированию жен и детей изменников Родины», где имеются следующие пункты:
«Размещение детей осужденных. Всех оставшихся после осуждения детей-сирот размещать: <…> б) детей в возрасте от 3-х полных лет и до 15 лет — в детских домах Наркомпросов других республик, краев и областей… и вне Москвы, Ленинграда, Киева, Тбилиси, Минска, приморских и пограничных городов. <…> Если сирот пожелают взять родственники (не репрессируемые) на свое полное иждивение, этому не препятствовать.
Подготовка к приему и распределению детей. В каждом городе, в котором производится операция, специально оборудуются приемно-распределительные пункты, в которые будут доставляться дети тотчас же после ареста их матерей…»
По данным правозащитных организаций, к 4 августа 1938 года у репрессированных родителей отобрали 17 355 детей и собирались отобрать еще пять тысяч.
«Это было как арест, — вспоминал Василий Павлович в интервью Сергею Мирову. — Они, вероятно, увезли бы меня навсегда из Казани. Меня отправили в Кострому, где я был совершенно одинок. Это было что-то ужасное… — полный, чудовищный отрыв от прежней жизни. Колоссальный стресс.
И вдруг там появился, как показалось, мой папа. Это был его брат… Я к нему бросился, крича: „Папа, папа!..“ Он добился разрешения взять ребенка».
Кто знает, какая судьба ждала бы малыша, если бы не Адриан. В январе 1938 года брат Павла Васильевича, сам переживший гонения как «родственник врага народа», проявив милосердие и мужество, забрал племянника из интерната.
Исключенный из партии и изгнанный с преподавательской работы, Андриан, как и многие, поехал за правдой в Москву. Правды он там не нашел. Но в отличие от многих людей, отрекшихся от своих близких, он в маете бюрократического ужаса, будучи, можно сказать, на пороге тюрьмы (который ему, к счастью, не пришлось переступить), продал часы, на вырученные деньги поехал в Кострому и нашел Василия. На этом настояла его старшая сестра — Ксения Васильевна Аксенова, убедившая Адриана оформить опекунство над ребенком, которое вскорости было переведено на нее.
Как много говорит о ситуации Адриана первая часть его прошения о возвращении Васи в семью: «О себе сообщаю следующее. <…> ЦК ВКП(б) командировал меня в г. Сталинабад на педработу… в Таджикском и вечернем пединститутах и в 9–10 классах средней школы в качестве преподавателя истории народов СССР и новой истории. 1-го июля (1937 года — Д. П.) я приехал к сестре в Казань, где имел в виду провести свой отпуск. 3 и 4-го июля мне пришлось встретиться с П. Аксеновым. Он был тогда членом партии и работал на стройке гортеатра. 7-го июля, после постановления президиума ВЦИК о предании суду П. Аксенова, последнего арестовали.
Я вернулся в Сталинабад. 19 авг[уста] я сообщил секретарю парткома т. Назарову и члену парткома т. Кульчину о том, что мой брат и его жена репрессированы. Это заявление послужило причиной моего исключения из партии… <…> 8 сентября последовал приказ директора] о снятии меня с преподавательской] работы. <…>
Я 14 лет работал преподавателем] истории. Никогда я не имел взысканий за свою работу… С братом с 1934 г. абсолютно никакой связи не имел… За его преступные действия, о которых ничего не знаю, кроме газетного материала, я несправедливо несу бездушное надругательство.
Вот, кажется, и всё.
А. Аксенов (подпись)».
Тем временем в десятки специализированных детских учреждений всей страны нескончаемым потоком поступали дети «врагов народа». В плохо подготовленной системе царила неразбериха. Нередко терялись документы, а с ними и дети. Об этом мало пеклись — подумаешь, «отродья врагов»! — случалось, меняли имена, фамилии… Но и в этой злой белиберде упорный Адриан Аксенов нашел маленького Васю.
Вот заявление, поданное им в органы, — удивительное сочетание страшного казенного языка страшной казенной бумаги (одна первая фраза чего стоит!) и живой, любовной мольбы о едва ли когда-либо прежде виденном, но родном мальчике…
В Управление детскими домами НКВД Тат АССР
28 января [19]38 года:
«Я — брат врага народа П. В. Аксенова, находящегося в настоящее время в Казанской тюрьме № 2.
У П. Аксенова был сын Василий Павлович Аксенов — пятилетний мальчик, которого 20 ав[густа] 1937 г. органы НКВД взяли и распределили в детский распределитель НКВД. В настоящее время мальчик находится в одном из детских домов Костромского районо. Вот я и хочу просить… чтобы мне дали разрешение взять на себя заботу и воспитание моего племянника Васи. Тем более что в настоящее время органы НКВД возвращают детей репрессированных родителей на содержание их родственникам. Заверяю вас, что Васильку будет у меня неплохо, ибо я педагог, люблю детей вообще, а его в особенности. Следовательно, я имею законные основания вернуть его к себе. Я обязуюсь обеспечить его всем необходимым, посвятить свою жизнь его образованию и коммунистическому воспитанию. <…>
Я прошу вас разрешить Васильку жить в Казани у моей сестры Ксении Аксеновой и моей матери Евдокии Аксеновой, которым я буду посылать средства… Как только я устроюсь, Вася переедет ко мне.
Еще раз убедительно прошу вас, верните [мне] моего племянника. Он будет счастлив. Я люблю его как своего сына.
А. Аксенов (подпись)».
Васю отдали. И Адриан Васильевич привез мальчика в Казань к сестре Ксении — в большую семью Котельниковых-Аксеновых, в которой были и свои малыши. Забота о них досталась тете Ксении и бабуле Дуне — чудесным женщинам, существованию которых на свете вечно радуется Россия.
А в это время Васиных бабушку и деда со стороны матери — Ревекку и Соломона — допрашивали в НКВД.
«Деда забили там, — вспоминал Василий Аксенов. — У него открылась чахотка. А бабушку привезли и в какую-то швырнули комнату… Она называлась „Попова гора“, я это помню.
И тетя Ксения по просьбе бабушки отдала меня туда. Ревекка ничего не могла делать, была в полной прострации… Тетя Ксения ей помогала, мыла полы, готовила еду. А я кричал, что хочу домой, на Карла
Этот дом с мезонином стоял на углу улиц Карла Маркса и Комлева, напротив бывшего губернаторского дворца, где в ту пору располагался туберкулезный диспансер, а нынче музей изобразительных искусств.
Когда-то в середине XIX века он был сердцем городской усадьбы, простиравшейся между улицами Грузинской и Большой Красной. Говорят, сюда захаживал поэт Евгений Баратынский, в свои приезды в Казань квартировавший по соседству, у тестя — генерала Энгельгардта. Еще говорят, что здесь родилась девочка Лена — в будущем знаменитая Гала — жена и муза Сальвадора Дали. Но это вряд ли… А что известно точно, так это то, что в 1888 году несколько дней здесь жила мать Владимира Ульянова, прибывшая в Казань искать квартиру после возвращения сына из шушенской ссылки.
Теперь здесь, в доме, выстроенном заново, музей писателя Аксенова. А в нем — реконструированная комната, где он прожил десять лет — с 1938 по 1948 год…
Беззаветно любившая внука, но до крайности измученная бабушка со стороны мамы, жившая в комнатушке на улице Лобачевского с другим своим внуком Димой — сыном сестры Евгении Гинзбург, — передала Васю тете Ксении. В огромную семью, огромную коммуналку, огромный двор с огромным тополем в углу, с березовой аллейкой, липами и вербой. В анфилады проходных дворов и подъездов. Где «тучи детей всевозможных» сновали и туда, и сюда. А с ними Вася — бегал, шумел… А с ним — племянники — Галя — 1934-го и Алик — 1938 года рождения — дети Матильды, дочери его тетки Ксении, и видного комсомольского деятеля Евгения Котельникова.
Они были дружны. Потом Галя стала журналисткой, Саша — инженером-механиком. Теперь они живут в соседних домах в подмосковной Черноголовке… Мы беседовали много часов. Пожалуй, вряд ли есть люди, рассказы которых об Аксенове-мальчишке достойны такого же доверия, как полученные от них, хотя сведения из других источников — и очень любопытные — тоже имеются.
«Я прижился там, — просто скажет потом Аксенов о доме на Карла Маркса. — И жил до шестнадцати лет. Мне там было хорошо».
Он вошел, в матросском костюмчике и бескозырке, прижимая к себе тряпичного слона — подарок дяди Адриана. Вошел в дом, где семья Котельниковых — дружная, интеллигентная — занимала комнату, разделенную на три части перегородками, не достигавшими почти пятиметрового потолка. Здесь, кроме бабушки Евдокии, сестры Павла Васильевича Ксении, ее дочери Матильды и ее мужа Евгения, жили их дети, а еще Вася с сестрой по отцу Майей.
Матильда в то время работала ответственным секретарем газеты «Комсомолец Татарии», а Евгений был комсомольским функционером, так что жили в достатке. В доме были удобная мебель, патефон…
В парке Чаир
Распускаются розы,
В парке Чаир
Сотни тысяч кустов.
Снятся твои золотистые косы,
Снятся мне ночь, и весна, и любовь…
Как потом говорил об этой музыке Аксенов: «Почти пошлятинка, а слезы наворачиваются…» В семье много читали, на дни рождения дарили детям книги.
Но арест Васиных родителей разрушил это благополучие. Матильду и Евгения уволили с работы — родственникам врага не место было среди бойцов идеологического фронта. Жить стало не на что. Пришлось продавать веши, прежде всего мебель — резные кресла с высокими спинками… Надо переждать, — говорил Евгений, — и все наладится. Но не ладилось. На работу не брали.
В отчаянии беременная Сашей Матильда взяла за руку трехлетнюю Галю и пошла в горком. На бюро. И там в истерике прокричала: «Убейте меня! Расстреляйте! Уже много дней мы без работы и без надежды на работу, а сегодня дома нет и куска хлеба! Евгения нигде не принимают… Товарищи, вы же все и меня, и его знаете! Помогите!..»
Товарищи их действительно знали, и в общем-то не желали им зла. Дали Матильде капель, отвели домой, обещали разобраться. И вскоре устроили редактором на республиканское радио. Взяли на работу и Евгения, и благополучие как бы восстановилось.
На Карла Маркса стала приходить бабушка Ревекка — седенькая старушка в аккуратной шапочке из алой «слюды», подходила к окну и несильно стучала тростью в наличник. Ксения открывала створку, звала: заходите, Ревекка Марковна, через подъезд! Но та отказывалась — просила Васю выйти, интересовалась: не обижают ли? Кушал ли он?.. И что кушал?.. В войну ее забрала к себе в Рыбинск вторая дочь — Наталья Соломоновна.
Прибывший с Васей из Костромы серый игрушечный слон под красным седлом тоже прижился на Карла Маркса. Дети дали ему имя. С ним разыгрывались сценки. У него были даже биография и увлекательная история путешествия из дальней Африки в Казань. Сочинил ее Вася…
В 1939-м умер Васин дедушка Соломон. Незадолго до ухода он писал дочери в тюрьму: «…чувствую себя неважно. Но буду бороться за жизнь. Она теперь нужна моим дорогим внукам — Алеше и Васе». Но арест, пусть по тем временам и недолгий, подорвал силы пожилого фармацевта…
В 1940 году Вася Аксенов пошел в школу. В уже упоминавшуюся нами школу № 19. Она считалась элитной. Ее директор Иосиф Ильич Малкин, которого и сейчас тепло вспоминают в Казани, хорошо знал Васиного отца.
Одноклассники помнят, как Василий впервые пришел в школу и сосредоточенный стоял чуть поодаль от класса, внимательно рассматривая всё, что творилось на линейке.
Учителя знали, чей он сын, и старательно избегали отмечать необычность его положения. Педагоги старой школы (а были среди них и орденоносцы, вроде знаменитой учительницы географии Веры Николаевны Пономаревой по прозвищу Глобус) хотели, чтобы он рос нормальным советским мальчиком — не отвечающим за отца. Чтобы и намека не было на яблоко, что падает у яблони…
Одноклассник Аксенова Лев Натанович Пастернак, восемь лет просидевший с ним за одной партой, рассказывал, что однажды кто-то обозвал Васю «врагом народа». Тот побелел. Глаза полыхнули яростью. И тут сын уборщицы, не блиставший умом, но очень сильный Ванька Поляков взял да и набил обидчику морду. Стоявшие вокруг «дети из хороших семей» молчали.
Василий издавал в школе журнал «Живоглот». Брал тетрадки, сшивал их, разрисовывал и расписывал смешными стихами. В его классе учились Ильдар Утяганов и Эдик Тихомиров — у первого была ярко выраженная татарская внешность, у второго — курчавые волосы и пухлые грубы. И вот в очередном номере «Живоглота» Вася нарисовал матч баскетбольных команд «татар» с раскосыми и жадными глазами и «негров» с кольцами в приплюснутых носах. Причем одна корзина располагалась на чем-то вроде минарета, а другая — на пальме. Журнал попал в руки классной руководительнице, и из учительской долго слышался смех…
Учился Вася средне. Был молчалив. Руку на уроках не тянул. Но много знал и рассказывал интересные истории. Нередко, раскрыв под партой книгу, читал Дюма, Джека Лондона, Жюля Верна, Майн Рида.
Его «школьные годы чудесные» пришлись на войну, когда все или почти все жили одинаково трудно и были схожи выражением лиц, одеждой и тем, что отцы были кто на фронте, а кто — в лагерях.
О войне сообщил репродуктор. Испуг был невиданный. Но — помноженный на душевный подъем. Евгений Котельников — тогда директор городского Дома пионеров и член бюро обкома комсомола, обрив голову, рванул в военкомат — идти громить врага на его же земле малой кровью, могучим ударом, как в песне «Если завтра война».
Перед этим на дворовой терраске был сделан памятный снимок семьи. Снимал Моисей Лазаревич Майофис — известный в Казани фотограф. Евгений взял снимок с собой на Дальний Восток, куда поехал служить на базу подводных лодок. Спустя годы это навеяло Аксенову-писателю милый, но, увы, малоизвестный рассказ «Голубые морские пушки»…
В 1942-м на Карла Маркса поставили телефон. Он был нужен Матильде как редактору республиканского радио. Дети привыкли спать при свете и ее разговорах «по проводу». Хотя нередко тетя-мама проводила в редакции не только дни, но и ночи, работая диктором. Заставка ее передачи начиналась строками эвакуированного в Казань поэта Льва Ошанина: «Смотри с военного горизонта: колхоз — это тоже участок фронта!»
В эти бессонные ночи дикторы, что называется, «держали птичку» — служили радиомаяком для ориентировки пилотов, подлетавших во тьме к Казани — «держали волну», пуская в эфир записи легкой и классической музыки…
Надолго заменивший Василию отца, муж Матильды Евгений Котельников писал из Владивостока: была ли у вас елка? Да, — отвечали, — была! А всё благодаря Михаилу Водопьянову — легендарному пилоту-полярнику и бомбардировщику, Герою Советского Союза, кавалеру «Золотой Звезды» номер 6.
Однажды он прилетел в Казань на авиазавод, и Матильда, узнав об этом, пригласила его выступить на радио. Так завязалось их знакомство. В семейном архиве есть фото пилота с теплой подписью: «Товарищу Аксеновой на добрую память». Роман? Об этом и речи не шло! Быть может, Водопьянов и был влюблен — и немудрено: огромные синие глаза Матильды, казалось, жившие своей, отдельной от лица жизнью, нередко погружали мужчин в тревожное оцепенение. При случае она могла и пококетничать — но и себя, и поклонников строго держала в границах дозволенного.
Когда Василий Павлович оставит наш мир, выйдет в свет его трогательная книга «Ленд-лизовские». Речь в ней будет о военных годах, голодных, страшных, странных… Будет и история романа тети Коти и героя-пилота Мясопьянова.
Но не следует путать тетю Котю из «Ленд-лизовских» с тетей Мотей из реальной жизни Котельниковых, а романного генерала Ивана Мясопьянова с летчиком Михаилом Водопьяновым. И отнестись к ним нужно с учетом пометки, сделанной Аксеновым в беседе с Зоей Богуславской в 2001 году: «Еще ни разу не было, чтобы я кого-то описывал… Уверен, что… всё переверну, перекрою…»
«Ленд-лизовские» — не мемуары. А виртуозно перевернутые, перекроенные эпизоды многих жизней. В том числе и главного героя — малыша Акси-Вакси, постигающего мир в голоде, холоде и любви…
Итак, Матильда и Михаил подружились. Водопьянов катал детей на «виллисе», а тетю-маму познакомил с директорами заводов, имевших подсобные хозяйства, представляя не только как журналистку, но и как жену офицера-дальневосточника, у которой на руках огромная семья. Хозяйственники, у которых и свои семьи были, выделяли детям путевки в пионерские лагеря, а порой посылали в дом на Карла Маркса картошку, капусту, морковь, лук — по тем временам богатство… А к Новому году привозили высоченную, пушистую елку. Она достигала потолка, привязанная для надежности к оконной раме и к ножке дивана. А украшенная игрушками, флажками и лампочками, являла зрелище необычайное. Лишь однажды елки не было — зимой 1943-го. Тогда украсили трехметровый фикус.
После кончины в 1942 году бабушки Дуни Ксения Васильевна оказалась в семье самой старшей. Она была неутомимой труженицей, тянувшей на себе дом. Матильда раз в месяц приносила зарплату и гонорары, иногда — продукты, в ночные смены вышивала сорочки для универмага «Люкс». А Ксения каждый день ходила на базар. И стоя по десять часов на ветру, продавала доверенные ей вещи эвакуированных. Тогда часто не отоваривали карточки и люди продавали всё, что имели, порой — последнее. Как-то Галя увидела даму, предлагавшую на рынке старинный веер и удивительные перчатки: длинные, из нежнейшей лайки, с обрезанными пальцами… Кто, когда, по какому случаю их надевал? Кто и зачем купил? Бог весть.
С «торговых операций» Ксения имела комиссию — десять процентов. Сперва ушли на рынок вещи Евгения. Довоенный фотоаппарат «Лейка», высокие хромовые сапоги и «партийные» галифе. Следом — кожаный реглан. А потом и патефон. Дошло и до книг. И до вещей Матильды. На вырученные деньги Ксения покупала хлеб и картошку… А дети сидели на подоконнике и ждали, когда она придет. И по тому, как передвигает она опухшие ноги, гадали: какой будет ужин.
— Вот бы принесла бы Ксения хлебарика бы, — приговаривал Вася, — вот как неплохо было бы хлебарика-то пожевать…
А досыта-то в ту пору не ели. От голода было два средства: сон и чтение.
Как-то, ожидая Ксению, Галя и Вася сидели за столом — читали про приключения… Вася и говорит, указывая на солонку: знаешь, если соли капельку положить на кончик языка и не спеша, сосать, она станет сладкой…
Сладкого они видели мало. Хотя… однажды в начале войны, когда семья не могла «прикрепиться» к магазину и продовольственные карточки пропадали втуне, явилась соседка — экспедитор кондитерской фабрики им. Микояна Таскира Галеевна — тетя Тося — и, собрав ворох карточек, сказала: с жирами сделать ничего не могу, а сахар отоварю у себя полуфабрикатом. Вскоре она принесла несколько упакованных в бумагу увесистых комков коричневой, пахучей, тугой, невероятно сладкой мнимошоколадной массы. Это был праздник… И бывало, паста эта появлялась вновь и вновь.
А бывало, ничего не появлялось, кроме постного масла, хлеба и лука, так Ксения жарила его на огромной крестьянской сковородке и тащила на стол, где ждали Галя, Саша, Майя, Вася и Матильда. Они клали лук на черный хлеб. Было необычайно вкусно. Но, так или иначе, обед в доме был каждый день. Нередко и из трех блюд! И ужин тоже.
Если карточки отоваривали, товары часто замещали: вместо макарон — жиры, вместо жиров — повидло… Галина Котельникова помнит, как получили однажды таз льняного масла — густого, комками, похожего на засахаренный мед. Часть его потом обменяли на хлеб…
Обмены эти и продажи хлеба были незаконны и опасны. Милиция ловила торговцев. Их судили. Как-то в беду попал знакомый студент-медик, получивший на разгрузке вагонов буханку и решивший ее продать, а на вырученные деньги купить нужный до зарезу учебник. Слава богу, парня отпустили. В другой раз продавец завел покупательницу в общественный туалет. И продал ей хлеб. Но достал его из… ширинки… Соседка, обомлев, пришла домой в слезах: не знала, можно ли есть? Что если мужик больной?
— Не переживай, — успокоила Ксения, — обожги на огне, да и ешьте…
Нередко десятилетнего Васю ставили бригадиром в очереди. Такой серьезный был у него вид. Бригадир отмечал тех, кто отлучался — присмотреть за детьми или по другому какому делу. А очереди за хлебом в магазин номер 50 на углу улицы Гоголя — наискосок от Лядского садика — такие же, как и в «бакалейке» на углу улицы Жуковского — за сахаром, чаем, макаронами — стояли немереные. Их разбивали на «бригады», по 20–25 человек. Номера писали на ладони химическим карандашом. Бригадир всех переписывал, вел перекличку, следя, чтобы ушедшие возвращались в срок. И чтобы чужие не лезли. Замены не допускались. Впрочем, бывало, и сам Вася-«бригадир» бегал погреться, ставя вместо себя Галку…
А рядом стояли те, у кого не было карточек, прося у отоваренных
Нет, Аксеновы-Котельниковы не ели, как иные соседи, синие оладьи из картофельной шелухи, что жарились на сковородках, смазанных свечкой. Но дети были уверены: в те годы от дистрофии, а может быть, и от смерти, их спасли самоотверженность Ксении, Матильды и ленд-лизовское сало и яичный порошок.
А вот старшего брата Алексея — сына Евгении Гинзбург от первого брака, попавшего в Ленинграде в блокаду, а потом вывезенного из города, — спасти не удалось. Измученный голодом, он умер по дороге в Казань от дистрофии. Шел 1944 год. Евгения Гинзбург узнала о смерти сына на Колыме — из телеграммы матери: «Переживи. Сохрани себя ради Васи, ведь отца у него тоже нет» (тогда почти все считали, что Павел Васильевич погиб).
На мамины письма Василий отвечал кратко: «Всё хорошо, как у тебя?» Зато письма его теток — Ксении и Матильды — говорили ей о жизни сына куда больше, чем его депеши. Мама знала: в Казани для Васи делают всё, что могут, но сладить с ним непросто…
Выдержка, упорство и удивительная доброта Ксении — измученной женщины с необычайно голубыми глазами — были примером и для соседей, и для подселенных эвакуированных, и для ее родных и детей.
Вася потом вспоминал: он стоит в корыте, а Ксения трет его грязную ногу мочалкой. Отстраняется, как бы любуясь, и говорит: «Ну, вот сравни теперь ту и эту, какая же лучше?» И оба смеются. Но чтобы устроить эту домашнюю баню, она рубила сырые дрова. И дети, слыша ее натужные вздохи, отчего-то стыдились и — по одному — таскали к черной печке кривые поленья…
Некогда привычные жителям душ, ванну и канализацию к тому времени отключили, а канализационный колодец засыпали битым кирпичом. Всё — усердием калеки-управдома, хлебнувшего на фронте лиха и не умевшего взять в толк, как это так: «…тыщи людей гниют в землянках, а этим цацам теплый сортир подавай».
Вася тогда не думал о таких вещах. А гулял по Казани с однопартником Левкой Пастернаком — ну, то есть с Абкой Циперсоном из рассказа «Завтраки 1943 года».
Сдружили их книги. Отец Льва — известный в Казани врач — имел, как и Котельниковы, библиотеку, и когда на Карла Маркса всё было трижды перечитано, ребята стали брать книги в библиотеке радиокомитета, в школе и у товарищей. Левка не отказывал никогда…
Книги — книгами, а улица — улицей. Василий тогда «щеголял» в кирзовых сапогах, а учебники носил в полевой сумке. Гордился — эти вещи делали его похожим частью на офицера, а частью — на дворового удальца…
Репрессии миновали семью Пастернак, но жили они скромно. Случалось, чтобы заработать на маленькие радости, Левка брал ваксу, щетку, бархотку и отправлялся на улицу чистить обувь, а Вася стоял рядом, нахваливая его работу, — делал приятелю рекламу.
Порой, спрятав портфели, они «солили» уроки, отправляясь в кино «Электро» на улице Баумана, где работала микшером знакомая Левиной мамы тетя Фира, пускавшая их без билетов. Они пересмотрели всё. Очень уважали картину про Беломорканал, на которую детей не пускали, чтобы не воспринимали блатные нравы. Но тетя Фира работала не каждый день. А в кино хотелось. А денег не было. Как-то Левка предложил: попросим у прохожих. Вася возмутился: «Ты что, как можно попрошайничать?» Их услышал какой-то военный и дал три рубля. Три рубля! Сокровище Монте-Кристо! Их хватило и на кино, и на мороженое в Особторге, где всё было в десять раз дороже.
Тетя Ксения не любила Левку Пастернака… Вечно он выдумывал каверзы. То подбивал приятеля школу прогулять, то в футбол поиграть вместо домашней работы, то на реку податься… А после недели прогулов принести в школу подделанную записку якобы от Матильды: болел, мол, Аксенов Василий, лежал с температурой.
— Ты, Васька, в большую беду можешь вляпаться! — предупреждала племянника Ксения.
И начинала провожать его в школу. Он, как мог, противился, но не тут то было — Ксения и Матильда стояли на своем.
— Помни про школу! Только с ней станешь человеком! Как ты встретишь отца и мать своих? — вопрошали они. — Как в глаза им посмотришь? Короче так: или сам будешь в школу ходить, или будем отводить.
Вообразите, что за буря бушевала в душе своенравного и упрямого подростка. Это своенравие и пугало родных. Время было тяжелое. Страна отходила от войны. Казань кишела шпаной. И мысль, что Василий свяжется с дурной компанией, повергала близких в ужас. А когда Васька и Левка загремели в милицию — ужас перерос в панику…
Как-то Лев раздобыл контрамарки в цирк и предложил по-быстрому продать их. Типа, загоним билетики и — в киношку. Тут надо сказать, что близкие Василия Павловича вспоминают о нем как о юноше совсем не «деловом». Ему и в голову не пришла бы такая затея. Однако ж в том, чтобы рубль-другой наварить вместе с товарищем, он ничего дурного не видел. Ну, стало быть, и вышло с ним в точности то, что происходит в назидательных фильмах с «неделовыми» детьми из приличных семей, связавшимися с дурной компанией: не успели Васька и Левка продать и пары билетов, как их «почикала ментура». Почикала, но отпустила — со шпаной не могли управиться, а тут интеллигенты…
Были у Василия и другие приятели… Боря Майофис, Рустем Кутуй, Серега Холмский, Славка Ульрих, братья Яковлевы. И «рыжий с того двора» — Толик Егоров, что днями сидел на старой дворовой липе, воображая себя матросом фрегата Дюмон-Дюрвиля, а влепив хоккейным мячом игравшей в лапту девочке Асе (на самом деле — Эсе, Эсмиральде Кутуевой — дочери писателя Аделя Кутуя), послал ей записку: «Аська, я тебе влепил, потому что нечего задирать ноги. Ты пионерка, и тебе это не к лицу, крошка Мэри. Завтра буду весь день в овраге, в парке ТПИ, вход с Подлужной. Если тебе больно, можешь мне влепить там чем хочешь, даже кирпичом. Май 1744. Борт „Астролябии“».
Ох и резвились же они… Случалось — и бились. И не только в игре — короткими мечами, но и всерьез — кулаками. Могли и тот самый кирпич прихватывать. А как же: «Мы спина к спине у мачты против тысячи — вдвоем»! И небеса над Казанью обещали им огромную и полную приключений жизнь, большие путешествия, дальнюю любовь и Полинезию… Впрочем, обо всем этом и многом другом блистательно рассказано в новелле «Рыжий с того двора»…
Да то ж в 1967-м! А в 1944-м родным скучать не приходилось. Как-то прибегает соседский мальчишка, кричит: там Вася с горки ледяной скатился стоя, упал и лежит. Ксения — к горе… Сотрясение мозга. Несколько дней Вася лежал отгороженный кумачовой занавеской, чтобы не тревожил свет… Все ходили на цыпочках. Телефон трещал, обложенный подушками…
Скоро он начал писать, о чем спустя годы рассказал Ксении Лариной в интервью на радио «Эхо Москвы»:
«Меня очень почему-то занимали бои в полярных морях, когда там шли караваны с ленд-лизом к советским берегам. Везли нам помощь. А половина из них ведь погибла… И я вдруг стал писать длинные-длинные поэмы про подводные лодки…
Кроме поэм были и рисунки. Аксенов рисовал карандашом (хотя в доме были краски) и, рисуя, комментировал: вот фашисты летят, а вот американцы и наши бьют по ним из зениток. А вот — лодка фашистская…
А то принимался за петровские времена. И плыли к мысу Гангут фрегаты, а по полям скакали драгуны и кирасиры, сшибались в пороховых клубах, из которых торчали жадные до крови багинеты… Горел восток зарею новой, сдавался пылкий Шлиппенбах…
Героические конвои союзников не были для Васи чем-то отвлеченным. Он на всю жизнь запомнил американский напиток «Суфле», джинсы, что звались «чертовой кожей», и канадские ботинки с гербом на подошве, до того красивые, что их было страшно носить… Тогда же будущий писатель зауважал синие джутовые брючата — как-то лез через забор, зацепился и повис. А штаны — выдержали. Надо сказать, качество джинсов с тех пор ухудшилось… Впрочем, выдержав вес худого мальчишки, те штаны довольно быстро протерлись и упорно латались на заду и коленках.
Заплат тогда не стыдились. Саша Котельников уже после войны пришел на выпускной вечер в брюках залатанных, но отглаженных до сабельной остроты…
День, когда кончилась война, описан в рассказе «На площади за рекой», где удивительно соседствуют и огромный слон, которого под звуки фанфар водит по улицам дрессировщик Дуров… и поныне памятный многим безымянный подполковник, купивший тележку мороженого и, хохоча, раздавший его детворе… и никем тогда (кроме будущего писателя Аксенова) не замеченный странненький и страшненький человечек в черном пальто и галошках, бормочущий: «Чучеро ру хиопластр обракодеро! Фучи, мелази, рикатуэр!..» — прообраз будущей «Стальной птицы»…
В эти несколько месяцев весны — лета — осени 1945-го прошло увлечение арктическими конвоями и петровскими баталиями. Василий, как он вспоминал, «стал писать романтические стихи, посвященные девушкам из параллельных классов». Кто были они и чем увлекали юношу — неведомо, но известно, что одно время очень ему нравилась барышня по фамилии Пойзман… По имени, кажется, Мила… И Василий, надев парадную черную куртку и расправив ворот рубахи «апаш», мчался к ней на свидания…
А Матильду вызвал на беседу директор радиокомитета Губайдуллин. И спросил: а как живется у вас сыну Аксенова — Василию? Так же как и вашим детям? Хорошо… А вам не тяжело тащить такую большую семью?.. Не пора ли отдать парня в ремесленное училище? Там и кормят, и одевают, и жилье — получит профессию, да и вам легче станет. Всё равно при такой анкете его ждет только завод. В лучшем случае…
— Нет, — сказала Матильда, — Вася получит аттестат. И я сделаю все, чтобы он закончил университет.
Но Богу было угодно, чтобы школу Василий окончил там, где жила его мать — в Магадане. Долгие месяцы ее упорных стараний вызвать сына к себе увенчались успехом.
И вот он уезжает в неизвестность. Снабженный великолепной дохой, добытой в универмаге «Люкс», где торговали искусно вышитыми Матильдой сорочками…
Он едет к маме, которую не видел десять лет и которую едва помнил. В его жизни предстоял крутой вираж — на перекрестке с крутым маршрутом Евгении Гинзбург.
Вася Аксенов летит в Магадан. К маме, выпущенной на поселение.
Десять лет провела она в тюрьмах и лагерях. Сидела в московских «Бутырках» и ярославских «Коровниках». Помирала на этапах, таежных сельскохозработах и погибельных лесоповалах в легендарном, зловещем Эльгене. Спасалась, м
И вот — освобождение, хлопоты о приезде сына. И он — большой, шестнадцатилетний — спешит к той, о ком бережно хранил детские воспоминания. К той, кому память о нем помогла выжить в аду. После смерти старшего сына Алексея от голода тоска Евгении Соломоновны по Васе стала невыносимой. И она сделала всё, чтобы быть с ним. Тем более что рядом с тоской жила тревога за подросшего мальчика, а короткие письма от него и родных делали ее все острее.
Тетя Мотя, та самая, что с 1937 года посильно спасала оставшуюся на свободе семью от невзгод и голодной смерти, написала в Магадан, что у Васи тяжелый характер, что он связался со шпаной, что шляется в учебное время по бульварам и киношкам. И вообще: с ним просто сладу нет.
Но всё это терпели, пока другого выхода не было: мать сидела в тюрьме. А теперь… Отчего бы ей не жить с ребенком?
Отчего не позаботиться о нем? Отчего вместе не ждать Павла? Или, может быть, она думает, что деньги, которые она посылает, окупают труды и нервы, потраченные на Васю? Вовсе нет. Так пересказывает Евгения Гинзбург смысл письма в «Крутом маршруте».
В заключение Мотя намекала, что Женя, видимо, предпочла материнскому долгу личные женские дела. А эти дела у Евгении Соломоновны складывались тогда очень непросто. Ее нового «гражданского» мужа, спасшего ее в лагерях от верной гибели, расконвоированного зэка и талантливого врача-гомеопата Антона Яковлевича Вальтера отправили в колымскую глушь — на прииск Штурмовой. К тревогам за дорогого ей мужчину добавлялся страх за сына. Ей снилось, что он бросил школу, связался со шпаной, угодил в лагеря. Как тут не проснуться в холодном поту?..
Она писала в Казань, умоляла потерпеть — уже скоро она заберет Василия к себе. Писала и сыну — незнакомцу, чей образ двоился перед ее внутренним взором: то являлся буйным хулиганом, то пухлым малышом на руках у няни. Писала она и маме, просила честно сказать: может ли Вася отбиться от рук и бросить школу? Та отвечала: он умный, красивый парень, но тебе надо взять его к себе. Характер у него… Сама увидишь.
Да, она увидит. Он уже едет к ней. Жить.
Но устроить этот приезд было ох как непросто. Евгения Соломоновна ходила по «инстанциям», прося для него пропуск в закрытый Магадан. Подала девять заявлений. Получила девять отказов. Подала десятое. Решила: завернут — пойду к Гридасовой.
Александра Гридасова — легенда Магадана. Прибыв на Колыму по комсомольской путевке, стала начальницей женского ОЛПа[15], затем — «гражданской» женой всесильного «хозяина Колымы», уполномоченного НКВД по Дальстрою, комиссара госбезопасности 3-го ранга Ивана Никишова. А с 1943 по 1948 год сама была начальником Маглага — лагерного подразделения, заключенные которого обслуживали город. Эта красотка в звании лейтенанта, о которой говорили, что колье и платьев у нее больше, чем у императрицы Елизаветы, жила в окруженном стеной особняке и власть имела почти безграничную. Говорили о ней разное. Передавали историю балерины Иры Мухиной: она так очаровала «царицу Маглага», что та снабдила ее паспортом, шикарно одела и отправила на материк. Но если кого невзлюбит, тому не жить…
Прорываться к ней? Риск немыслимый! Но другого выхода не было. И когда полковник Франко из отдела кадров Дальстроя вновь сказал Евгении Соломоновне «нет» и фактически выгнал ее из кабинета, она кинулась через площадь — под носом грузовика — в управление Маглага, вотчину Гридасовой, последнюю инстанцию, способную вернуть ей сына. Не заметила очереди. Промчалась прямиком. Никто не сказал ни слова.
Лишь у самых дверей кабинета секретарша преградила ей путь:
— Вы с ума сошли! Люди ждут месяцами… Уходите сейчас же!
Евгения Соломоновна не различила лица секретарши. Приметила только ярко-рыжие волосы, торчавшие над узким лбом. И грубо оттолкнула ее от дверей. Секретарша растерялась, и Гинзбург с рыданиями ворвалась в кабинет колымской владычицы.
Что кричала она сквозь слезы изумленной фараонихе? Неизвестно. Но Евгения Соломоновна вспоминала, что, несмотря на аффект, она четко отбирала слова, способные пронять эту любительницу киномелодрам — бывшую надзирательницу Шурочку Гридасову, тронуть ее сердце. О материнском горе… О том, что кроме нее, Вася никому не нужен… Что сирота собьется с пути…
Меж тем личико Гридасовой все мягчело. И, наконец, зажурчал ее голосок:
— Успокойтесь, милая! Ваш мальчик будет с вами…
Обожательница «куплетов Дореадота» (то есть арии тореадора из оперы «Кармен»), депутат Магаданского горсовета Александра Романовна Гридасова взяла листок бумаги и написала на нем несколько слов, адресованных в отдел кадров Дальстроя, с просьбой посодействовать Гинзбург Е. С. в вызове из Казани школьника Аксенова В. П.
— Он будет говорить с вами совсем по-другому, — сказала она о полковнике. — Не бойтесь, милая. Не благодарите. Я сама женщина… Понимаю материнское сердце…
Это слово — «милая» — делало ее похожей на барыню, благоволящую к крепостной…[16]
Через 15 минут Евгения Соломоновна имела удовольствие наблюдать волшебные изменения лица и речи полковника Франко. По мере чтения записки он становился всё более приятным человеком.
— Как, опять вы? Я ведь сказал вам, что… Бумажка? Какая еще бумажка? Гм… Что же вы стоите? Садитесь! Гм… гм… Из Казани? Знаю Казань. Большой город. Университетский. Значит, фамилия вашего мужа Аксенов? Что-то как будто слыхал… Жив? Не знаете? Гм… Ну что же! Средняя школа здесь хорошая. Будет учиться парень…
Когда в милиции Василию вручили пропуск в чуть ли не самую запретную зону страны, на улице Карла Маркса разволновались. Не может быть, чтобы этого добилась простая пианистка из детсада. Евгения получила смятенное письмо, где поздравления с «выходом в люди» соседствовали с «отбоем» по части приезда Васи. Родные привязались к нему. Да и уверены не были: мало ли что, вдруг у Евгении любовник генерал, каково будет парню? Страшно стало отпускать. «Пусть уж кончит школу здесь», — писали они.
Ну и неожиданность! И это теперь — после всех мытарств… Нет, их встреча не сорвется! Но беспокоиться не стоило. Последнее слово осталось за Васей. Характер у него оказался не только трудным, но и сильным. В беседе с родственниками он настоял: еду.
Впервые за годы разлуки Евгения Соломоновна вдруг стала получать от него письма, где сквозила недюжинная личность. Вместо писулек вроде: «Как ты живешь? Мы ничего» — стали приходить подтверждения: пропуск получил, приеду обязательно. И, кстати, правда ли, что от Колымы рукой подать до Аляски?
Между матерью и сыном протянулась едва описуемая связующая нить. Мама поняла, о чем ему теперь надо писать. Об экзотической колымской природе, об опасностях морского путешествия, о преимуществах перелета… Доктор Вальтер достал для него чукотский кинжал из моржовой кости, украшенный тамошними косторезами, и мама подробно описала ему этот кинжал, а заодно и быт чукчей. В ответ звучал вопрос: когда?
Порешили на сентябре — начале учебного года. Не без трепета шла Евгения в среднюю школу — единственную в городе, поговорить. Вот, мол, сын приезжает — есть ли места в девятых классах?.. В ее памяти осталось «терпкое чувство возвращения из страшных снов к разумной человеческой повседневности». Ведь и впрямь чудесно — после многих лет оказаться такой, как все — не этапницей, не подсудимой, не зэчкой, а просто мамой, обыкновенно так беседующей с завучем о сыне-школьнике.
Место нашлось. Но вот вопрос: где взять деньги на дорогу? Ведь это очень много — три тысячи рублей! Ну, хорошо, допустим, деньги можно собрать, а потом постепенно вернуть. Мир не без добрых людей. Но с кем же поедет Вася? Да, ему уже шестнадцатый год, и путь до Магадана упростился… Но что бы там ни было, а Евгения Соломоновна и представить себе не могла, чтобы ее мальчик отправился в
Но Господь судил так, чтобы их встреча состоялась. Всё разрешилось неожиданно и самым лучшим образом.
Оказалось, искать деньги не нужно. Выяснилось, что среди знакомых есть подпольная советская миллионерша. А если и не миллионерша, то, во всяком случае, — тысячница.
Тетя Дуся была мастерица по части вязания. Колымская знать ценила кофточки ее работы и щедро платила за них. И потом — на материке у нее скончалась матушка, оставив наследство — домик со ставнями, который она, недолго думая, продала за пять тысяч. Тетя Дуся и одолжила денег на доброе дело. За полночь пришла к Евгении и, оглядываясь на фанерные стенки, сказала:
— Т-с-с-с… Вот, бери! На билет. — И выложила на подушку сотенные. Три тысячи.
Осталось найти спутника для Василия. Но и здесь всё сложилось. Умер тяжелобольной сердечник — главный бухгалтер Дальстроя Козырев. Вдова его Нина с горя занемогла, но в больницу не пошла, пригласив доктора Вальтера лечить ее на дому. Вскоре больная поправилась и стала верной пациенткой доктора. И когда он рассказал историю Васи, заявила: «Я еду в отпуск на материк. Я привезу его». И отбыла.
Но наступил октябрь. Начались занятия в школе. А Козырева с Васей всё не приезжали. Это вселяло в Евгению Соломоновну уже не беспокойство, а ужас: неужели меня никто в жизни не назовет больше мамой?
Ей виделись жуткие картины: вот Вася — последняя искорка ее угасающей жизни — летит и гибнет где-то в облаках. Вот давят его все автомобили Москвы. Вот грабят его и режут все уголовники Владивостока. Или губят эмгэбисты за неосторожное слово. На бесконечные звонки, вопросы: прибыла ли Нина Константиновна? — получала один ответ:
— Нет, пока нет.
И — как всегда — вдруг!
— Да, прилетела! Вот встречаем! Бокалы поднимаем за ее здоровье!
— А… Скажите, а мальчик? Мальчик из Казани с ней прилетел?
— Мальчик?
Сколько секунд или веков длилась эта пауза на другом конце провода? Но вот…
— Мальчик? Вы спрашиваете про казанского мальчика? Да вот сидит на диване, беспокоится, что за ним долго не идут… Шампанского не хочет, трезвенник…
Евгения Соломоновна положила трубку и хотела было бежать. Но поняла, что не может — оставили силы. И все же, вот она — заветная дверь. За дверью — Нина Константиновна:
— О, это вы? Проходите, проходите… Он уж вас заждался, приуныл совсем…
В углу широченного дивана приткнулся неловкий подросток. Он встал. Высокий, плечистый. Не тот белобрысенький четырехлетка, что бегал когда-то по казанской квартире. Тот и цветом волос, и голубизной глаз напоминал деревенских мальчишек рязанской аксеновской породы. А этот — сероглазый шатен…
Подошел. Положил руку на плечо. Узнал мгновенно. И тут прозвучало слово, которое Евгения Гинзбург боялась не услышать вовеки…
— Мама!
— Узнал! — восхищенно закричала Козырева. — Вот она, кровь-то! Всегда скажется…
Их глаза встретились. Вмиг возродилась связь времен, неисчерпаемая близость, что рвали годы разлуки, жизни среди чужих. Его быстрый шепот: «Не плачь при них…» Он знал: в мире есть
— Поблагодари Нину Константиновну, Васенька, и пойдем домой, нам пора.
— Как домой? Да вы присядьте, выпейте хоть по чарке за встречу. Вот люди! Железные какие-то! И не прослезилась даже…
И что тогда удержало Евгению на ногах?
Она добилась невозможного. Но она добивалась его многократно. Прочтите «Крутой маршрут»…
На ночь мамина подруга Юлия (будущая тетя Варя из будущего «Ожога») оставила их вдвоем. Тут и началась их первая беседа. Какой там сон? Они торопились узнать друг друга, и каждый радовался узнаванию в собеседнике — себя.
Оказалось, мальчик, не помнивший ни отца, ни мать, похож на обоих и внешне, и вкусами, и привычками. Он поправлял волосы отцовским, аксеновским жестом. Мама вздрагивала. Изумилась, когда он стал читать стихи, с которыми она жила и погибала, и вновь жила; когда декламировал Маяковского и читанный когда-то ею стишок Хармса о веселых чижах. Аксенов искал и находил в поэзии опору в жестоком мире. Поэзия — уже тогда — была оружием его сопротивления. В той ночной беседе были поэты, которые останутся с ними и в магаданские годы, и после — всю жизнь.
— Теперь я понимаю, что такое мать… — сказал он. — Впервые понимаю. Прежде, особенно в раннем детстве, мне казалось, что тетя Ксеня заботится обо мне как мать. И она действительно заботилась, но… — Подумав несколько минут, четко сформулировал: — Мать — это, прежде всего, бескорыстие чувства. И еще… Еще вот что: ей можно читать свои любимые стихи, а если остановишься, она продолжит с прерванной строчки…
Свет этой первой магаданской беседы лег на все их отношения.
Уже через несколько дней после приезда Вася сказал:
— Надо бы что-нибудь живое в доме иметь. Щенка или котенка…
Он и ведать не ведал, что это желание очень трудно выполнить в Магадане. Собаки (не овчарки) и кошки были там предметами импорта. Но Евгении Соломоновне удалось-таки добыть кошку Агафью, которая на годы стала членом их семьи. Грациозная, она ничуть не походила на своих местных родичей — домашних кошек в первом поколении — еще вчера совсем диких, эдаких маленьких тигров. Агафья придала барачному дому отчасти квартирный вид. Порой, только что восседавшая на столе у лампы, мурлыча, как патриархальный самовар, она, когда Василий готовил уроки, переходила к нему на плечи и укладывалась в виде роскошного горжета.
Нередко с уроками ему помогал Яков Михайлович Уманский, взявшийся репетировать Василия по математике. Он приходил точно в назначенный час и уходил, когда задачи сходились с ответами. Что — увы! — не всегда удавалось. Тогда, укутанный в обледенелый башлык, он возвращался в час-два ночи, невзирая на расстояние и погоду, крича: «Вася, вставай, я нашел ошибку!» Василий мычал: «Черт с ней!» А Уманский стоял над ним, пока тот не записывал верное решение.
Василий любил старика, хохотал над его очаровательными чудачествами. К Агафье Уманский обращался на «вы»: «Агафья, подойдите сюда. Вот хороший кусочек оленьего мяса. Правда, мне он не по зубам. Но вы, я надеюсь, справитесь, а?»
Иногда старик читал стихи — длиннейшую свою поэму, излагавшую историю философии: «Достоин похвалы Лукреций Кар. Он первый тайны разгадал природы. Безумных мыслей разогнав удар, он уголок обрел святой свободы», ну и так далее…
Позади осталась школьная и дворовая Казань. Позади был семидневный перелет почти через полконтинента. День — в воздухе, на ночь — приземление в крупном городе: Свердловске, Красноярске, Охотске… Этот перелет из детства в юность совпал с переходом в совершенно другую жизнь. И переходом отнюдь не плавным.
Его отец сидел. Мать была отмотавшим срок «врагом народа». Отчим тоже. А он был школьником. Каждый день ходил в класс, где за секунды до прихода учителя еще шел бой с применением тяжелой мокрой тряпки. Однажды этот снаряд угодил в Васину тетрадь, размазав задачу, которую он торопясь списал на перемене.
Двадцать один человек — столько их было в классе. Мальчишки. Раздельное обучение. Дальше по коридору имелся женский класс, примерно с таким же количеством девочек. Внешне, вспоминал позднее Аксенов, «все выглядели нормально: школяры, как школяры, однако внутренняя структура класса отличалась от внешнего благообразия, отражая гражданскую иерархию „столицы колымского края“».
Больше половины школьников были детьми начальства Дальстроя и офицеров УСВИТЛа (Управления Северо-Восточных исправительно-трудовых лагерей). Они жили в центре города в каменных домах. Четверть составляли дети вольнонаемных, населявших оштукатуренные дома второй категории. Остальные — дети бывших зэков, что жили в завальных бараках.
Под крышей школы это неравенство почти не было заметно. Дети питались в одной столовой, вместе ходили на школьные вечера, занимались спортом. Обычно офицерские дети не кичились своим социальным превосходством, и в стычке на перемене сын бывшего зэка мог легко надавать по шее сыну офицера МГБ или МВД. Но за пределами школы равенство заканчивалось. Ни разу не было, чтобы сын охранника пригласил в гости «политического», и наоборот. В городе у них были свои компании. Вася Аксенов и три Юры — Акимов, Маркелов и Ковалев держались друг друга: вместе слушали джаз по американскому радио, обсуждали приключения книжных и киногероев — разных там отважных Ринго Кидов, о которых узнавали из «трофейных» боевиков.
Многие из этих картин, строго говоря, не были трофейными. В том смысле, что сняли их не немцы, а американцы и в СССР они попали, будучи захвачены в разгромленной Германии. Их показывали со срезанными титрами, меняли названия. Так, дважды оскароносный «Дилижанс», снятый классиком вестерна Джоном Фордом, переименовали в «Путешествие будет опасным», а «Ревущие двадцатые», где в 1939 году у Рауля Уолша сыграл в скором будущем звездный Хемфри Богарт, превратился в «Судьбу солдата в Америке»… И хотя судьба эта была незавидной, фильмы восхищали советских подростков.
Вообще, это любопытный парадокс (кстати, на него в послесталинское время указывал не один Василий Павлович). Утверждают, что режимный Магадан в те времена был чуть ли не самым свободным городом Советского Союза. Многие его жители не боялись говорить всё, что думают. Считалось, что «им нечего было терять — ну отправят опять в зону, да и хрен с ним»[17].
Сложно сказать, так это было или нет, однако то, что для юноши Аксенова в Магадане возможность общения с высокими интеллектуалами удивительно расширилась — это факт. Евгения Гинзбург жила на поселении, была известна многим как умная, культурная и образованная женщина. К тому же с немалым жизненным — то есть лагерным — опытом. Стоит ли удивляться, что оказавшиеся в таком же положении умные, культурные и порой очень хорошо образованные бывшие зэки тянулись к ней.
Уже в 1990-е годы Василий Павлович вспоминал, как каждую неделю к ним в барак — в гости к воспитательнице круглосуточного детского сада, только что переведенной в так называемые музработники (то есть в пианистки), — приходили некогда врачи и профессора, а ныне вахтеры и уборщики, и вели интереснейшие разговоры. И было это не что иное, как «салон». Целых 15 метров! На втором этаже. Из двадцати комнат в коридоре — эта одна из лучших. А может, и самая лучшая. С отличным окном. Василию ширмой отгородили отдельный уголок. Там стояли железная койка, стул, стол, а на нем — чернильница, бумага и учебники. Были и шерстяное одеяло, и пуховая подушка.
А по другую сторону ширмы звучали проза и стихи, шли дискуссии о философии и искусстве. Приходили профессор Симорин с женой Таней, жившие в хибарке напротив. У них, как у Евгении и Антона Вальтера, был лагерный роман, прошедший через колючую проволоку, запреты и разлуки. И кто знает, быть может, именно благодаря этой тюремной любви они покинули зону и теперь наслаждались печкой и «свободным совместным проживанием».
Симорин, когда-то сердцеед и всегда — блестящий остроумец и эрудит, привлекал Василия рассказами о встречах с людьми, чьи имена он видел на обложках учебников. Доктор Орлов щеголял редкими, но яркими парадоксами по всем вопросам жизни. Художница Вера Шухаева рассказывала про Париж, про Леже и Модильяни. Она работала в ателье, где порой ей случалось придать приличный вид тяжеловесным начальственным дамам.
Евгения Соломоновна, знавшая множество стихов, открывала Василию великую тайну советской России — Серебряный век. Читала Блока, Северянина, Брюсова, Ахматову, Гумилева, Мандельштама, Пастернака. То было первое знакомство Аксенова с запретной высокой русской литературой. Знакомство, вернувшее мечты о романах и поэмах, о приобщении к судьбе мыслителей и художников, писателей и поэтов, бродяг и артистов…
Приобщившись к ней, много лет спустя он будет писать об этом в «Московской саге», в рассказах и статьях, говорить в интервью. Как и о том, что Магадан стал для него знакомством с Советским Союзом в его доселе неведомом и невиданном измерении.
Что ни день, по Магадану — из порта в сторону карантинной зоны — двигались колонны заключенных. Все — с номерами на спинах. Некоторые в кандалах. Аксенов с матерью жили в Третьем сангородке, недалеко от так называемой Карантинки, и он невольно спрашивал Евгению Соломоновну: «Что это, кто это такие, как это может быть?» Но она не торопилась открывать сыну глаза на происходящее. «Ему жить, — советовали ей подруги. — А зная всю правду, жить трудно. И опасно». И только ревностный католик Антон Вальтер доказывал горячо и страстно, что на лжи и умолчании настоящих отношений с сыном не построишь и надлежит заботиться прежде всего не о том, чтобы он был удачлив, а о том, чтобы был честен.
Честной решила быть и мама. И потому на первый же Васин вопрос «За что?» она ответила прямо: «Не „за что?“, а „почему?“». И затем откровенно рассказала обо всем, через что прошла и что поняла на этом пути.
Но даже если бы она пыталась скрыть правду, это не удалось бы. Василий всё ловил с полуслова. В ночь с 9 на 10 октября 1948 года, ближе к рассвету, Евгения Гинзбург рассказала сыну задуманные главы «Крутого маршрута». Он стал первым слушателем этой удивительной книги…
Впрочем, Василий Аксенов и сам уже многое понял, глядя на колонны жертв, гонимых в хищную пасть Дальстроя. Вот как в 1970-х в романе «Ожог» он передал ужас встречи его героя — Толи фон Штейнбока, с таким этапом:
«Колонна двигалась прямо по краю кювета, а конвоиры по дощатому тротуару. Огромное отвратительное общество идущих женщин в разномастном тряпье, в продранных ватных штанах, с котомками на плечах и с котелками у пояса, иные в шляпах, прикрученных к голове ватными полотенцами, некоторые со следами губной помады. <…>
— Эх, сейчас бы любую баклажечку между ног! — крикнул из глубины колонны отчаянный голосок.
— Эй, Ваня-вертухай, зайдем за угол, раком встану!
Толя не знал, куда деваться. Что это значит — „раком“? Это нечто немыслимое! Что мне делать? Побежать, что ли, прочь?
— А вон этого, молоденького, не хочешь, Софа? Небось еще целочка. Эскимо!
— Покраснел, покраснел-то как, девки!
— Иди к нам, пацан, всему научим…»
Конечно, Толя фон Штейнбок из «Ожога» — это не Вася Аксенов из своей живой судьбы, но кто поручится, что будущий писатель не чувствовал того же самого, «с ужасом отгоняя мысль о том, что еще год назад мать его и тетя Варя ходили в таких же колоннах».
Шестьдесят лет спустя в беседе со знакомой журналисткой умудренный, знаменитый писатель Аксенов скажет: «Я не был свободным человеком. Но я никогда не чувствовал себя советским человеком. Я приехал к маме в Магадан на поселение, когда мне исполнилось 16 лет. Мы жили на самой окраине города, и мимо нас таскались вот эти конвои. Я смотрел на них и понимал, что я — не советский человек. Совершенно категорично: не советский». Магадан навсегда обжег его своим льдом.
Какая тут литература? Какой Серебряный век, если твою маму снова забирают? Туда, откуда прямой путь в эти человеческие кучи. А так и было — 25 октября 1949 года Евгению Гинзбург арестовали второй раз. Доставили в «белый дом» — правление Маглага (где некогда Гридасова помогла ей вызвать Васю), а оттуда в тюрьму — «Дом Васькова».
И вот Василий — без единой родной души. Один. В 16 лет. В Магадане. В конце 1940-х. С учебниками, железной кроватью, стопкой нового белья, носками и парой рубах, что доктор Вальтер выменял за немалое число хлебных паек. Стоя в очередях в «Дом Васькова» с передачей, Василий видел всё тот же марш заключенных советских людей в их несветлое будущее.
Это ли не круто? И главное, нет надежд, что не станет круче. Что портреты отца народов, художественную самодеятельность и пропагандистские штучки-дрючки не разметет как шелуху еще какая-нибудь мерзость. Повторный арест мамы избавил его от остатков иллюзий, но ему еще долго предстояло открывать глаза, прежде чем действительность предстала с ослепительной ясностью.
Не случайно там, в Магадане, вновь выпущенная из-под стражи в «бессрочную» ссылку Евгения Соломоновна и Антон Яковлевич подсказали грезившему литературой юноше выигрышный, с их точки зрения, жизненный ход: «В литинститут тебя не возьмут. В университет тоже. Иди-ка в медицинский —
Исполненная ожидания неправой кары и муки раскаленная дневная юдоль и ночная пурга Магадана обожгли Аксенова на годы. Их след будет ныть всю жизнь.
А пока… Пришла весна 1950-го. Васе дали аттестат. С жирной тройкой по физике.
На выпускном вечере Евгения Соломоновна в парадном платье из предсмертной посылки мамы Ревекки сидела рядом с полковницами и генеральшами, одетыми в шелка и сверкавшими драгоценностями. С дамами, что выхлопотали Василию бесплатные обеды на время, пока она «припухала» в «Доме Васькова». Слушала, как историчка просила «не забывать наш светлый золотой Магадан, построенный руками энтузиастов». Гордиться, что учились в таком городе…
На том вечере Аксенов впервые напился пьян. Евгения Соломоновна с иронией вспоминала, как, волоча его домой, горько всхлипывала. А наутро он по-ребячьи просил прощения и зарекался пить. Мать же была безутешна. Но плакала она не из-за этой первой пьянки, а оттого, что близилось новое испытание: отъезд.
Его ждал «материк». Город на Волге. Медицинский факультет. И весь этот джаз.
— Целуй меня в верзоху! Ваш паханок на коду похилял, а мы теперь будем лабать джаз. Мы сейчас слабаем минорный джиттер-баг, а Самсик, наш гений, пусть играет, что хочет. А на тебя мы сурляли, чугун с ушами![18]
Так ответил питерский джазмен Костя Рогов на дикий рев «Прекратить провокацию!», коим некий ретивый комсомолец взялся заткнуть рот, а точнее — саксофон — Самсона Саблера, чей инструмент горько и безнадежно выл на весь спортзал Горного института в мокром и зябком ноябре 1956 года.
«Это был первый случай свободного и дикого воя моего сакса. Костя Рогов мне потом сказал, что у него от этого звука всё внутри рухнуло, все органы скатились в пропасть, один лишь наполнился кровью и замаячил, и Костя понял, что рождается новый джаз, а может быть, какой-то могучий дух гудит через океаны в мою дудку:
Я нищий,
нищий,
нищий,
И пусть теперь все знают — я не богат!
Я нищий,
нищий,
нищий,
И пусть теперь все знают — у меня нет прав!
Я нищий,
нищий,
нищий,
<…>
И пусть все знают — я скорее лопну, чем замолчу!
Я буду выть, покуда не отдам своей искристой крови.
Хотя я нищий,
нищий,
нищий…
Я сам перепугался, сил нет, и вдруг заметил, когда последние пузыри воздуха с хрипом вылетели из сакса, что в зале никто не танцует, а все смотрят на меня…»
И все смотрели на него — Самсика Саблера — одного из будущих героев романа Аксенова «Ожог», который — уже в 1970-х — вот так вспоминает о своем первом концерте.
А пока на дворе 1956-й! Другое время. С трудом даже верится, что кто-то со сцены ленинградского института мог проорать «целуй меня в…». Хотя — бог знает — может, и мог. Сегодня непросто понять, на что была способна эта «жалкая и жадная молодежь, опьяневшая от сырого европейского ветра, внезапно задувшего в наш угол…». Молодежь, которой еще запрещали танцевать «буржуазные» танцы…
Но теплые ветры уже повредили дубовый паркет комсомольских балов, где выплясывались политически грамотные падепатинеры. На сцену явился парень с саксом, басом и трубой… Он вышел, озираясь, и заиграл, притопывая, что-то из Бенни Гудмена. И в залах, откуда только что убрали портреты вождя, начались другие танцы…
Да разве только в джазе было дело?
Осенью 1955-го — ленинградский студент-медик Вася Аксенов прогуливался по набережной. Была высокая вода. Небольшое наводнение. Внезапно — ну, дела! — он увидал: среди Невы гигантский борт авианосца, а рядом — корабли сопровождения, на мачтах гордо реет Юнион Джек. Британский борт! Британский флаг!
То были пришедшие с визитом авианосец «Триумф» и крейсер «Аполлон». Они дошли до моста Лейтенанта Шмидта и встали у Краснофлотской набережной.
И вот плывут. На катерах. К дебаркадеру. Да это ж лаймиз![19] Вот сходят на берег… Девки визжат! Город заполняется британцами с загорелыми мордахами и в суконных бушлатах. У них походочка — что в море лодочка, у них ботиночки — что сундучки… А вот — офицеры ее величества у отеля «Астория» ожидают то ли таксомоторов, то ли благоуханных неожиданностей…
«В этот момент, — рассказывал годы спустя Василий Павлович, — я понял: времена изменились. И все, видно, это поняли».
Как и те моряки, джаз плыл с Запада. И читался по нотам незнакомой свободы.
«Мы, — вспоминал писатель, — хотели жить общей жизнью со всем миром, с тем самым „свободолюбивым человечеством“… Всем уже было невмоготу в вонючей хазе, где смердел труп „пахана“ — и партийцам, и народным артистам, и гэбэшникам, и знатным шахтерам. Всем, кроме нетопырей в темных углах.
Было ощущение, что каждый день приносит что-то новое. В Питере вдруг оказалась масса всезнаек. Помню, был такой Костя (уж не Рогов ли? — Д. П.), фанатик джаза. Встречаешь его, а он: „Знаешь, в Гринич Виллидж открылся клуб ‘Половинная нота’. Там такой парень играет Диззи Гиллеспи…“
И все дела! Играли и они…»
Сложно сказать, описан ли в пассаже о Самсике подлинный эпизод питерской джазово-студенческой тусовки или, следуя обычаю, Аксенов устроил джем-сейшен из людей, времен и событий. Но точно известно: вечера, подобные описанному, бывали. Бывал на них и Аксенов — студент, искатель приключений и любитель джаза.
Когда и откуда пришла эта любовь? В какой день и где именно познакомились Аксенов и джаз? Точно не скажу. Но, скорее всего, впервые они встретились в Казани еще до отъезда Василия в Магадан, в кино, куда он (порой «соля» уроки) бегал на «Серенаду Солнечной долины» и «Джорджа из Динки-джаза». А когда он вернулся на Волгу поступать в медицинский, знакомство переросло в долгий и красивый роман.
Аксенов и джаз!
Нежная удаль воспоминаний о первых тактах их отношений звучит во многих текстах писателя. В «Московской саге» прибывший в столицу в поисках правды некто Василий, стремясь привлечь внимание москвички из почти высшего общества, рассказывает, что в Казани есть «джаз Лундстрема… помнишь, во время войны такая картина была, „Серенада Солнечной долины“? Вот они в такой манере играют!.. Еще недавно в Шанхае играли, в клубе русских миллионеров…».
И вправду — едва закончилась Вторая мировая и развернулся в Китае финал борьбы буржуазного Гоминьдана и красной КПК (которая явно брала верх), как некогда бежавшие от большевиков музыканты успешного оркестра Олега Лундстрема решили: мы — русские. И неважно, как звучат наши фамилии и как пострадали наши семьи — вернемся на родину, где, если уж мы не били фашистов, станем музыкой строить и жить помогать. Да и красные там, как ни крути, свои — не китайские…
Удивительно: в 1947-м их пустили в СССР. И не посадили. А дали сыграть. Два триумфальных, сногсшибательных концерта в столичном «Метрополе», под аплодисменты партийного истеблишмента и звездного генералитета. А потом, как рассказывал мне Аксенов, начальство решило, что ни этой музыке, ни этим музыкантам делать в Москве нечего, и их, что называется, «р-раз — и прямо в смокингах и со всеми свингами — отправили в Зеленодольск, городишко под Казанью. Там они и чахли, загибались от тоски. Но музыканты были высокого класса, и уже скоро кто-то перебрался в республиканскую Казань. Дальше — больше. И, наконец, там их и раскидали: кого в филармонию, кого в театр, кого в музыкальную школу.
Мы бегали на танцы, где играли „шанхайцы“. Молодежь их обожала. А Зосим Алахверди сшил длинный пиджак, купил саксофон и стал лабать блюзы. Так появились „малые шанхайцы“». О Зосиме, скрытом под псевдонимом, Аксенов писал так: «…вечерами там играл золотая труба Заречья — Гога Ахвеледиани, по слухам, входящий в десятку лучших трубачей мира, сразу после Луи Армстронга и перед Гарри Джеймсом…» Рядом жил и популярный в городе Эрик Дибай — студент-астроном, будущий заместитель директора Крымской обсерватории, — игравший на саксофоне и кларнете. В Доме ученых выступал коллектив Юры Елкина. Играл он и в общежитии мединститута на улице Маяковского.
Порой джаз приходил через пародию. В уфимской филармонии был удивительный артист — советский негр Боб Цымбо. Он пел разоблачительные куплеты против империалистов, толстым грифелем рисуя на бумажных полотнищах карикатуры на Черчилля и Трумэна, и, кривляясь под дикий джаз, изображал «упадок Запада». Народ помирал от удовольствия.
И в войну, и после были люди, «умевшие жить». И гулять в кабаках! В тех самых, где выступали «шанхайцы» и куда заявлялся запойный Боб Цымбо, который иной раз встречался Аксенову и его друзьям в переулках, бухой и косолапый, в компании пьяных девах…
Аксенов увековечил его в книге «В поисках грустного бэби» под именем Боб Бимбо — он там такой вроде лиловатый и как бы без штанов, американский угнетенный в кальсончиках… Судя по сведениям, приведенным в книге, звали его Наполеон Апбар, происходил он из негритянского поселка на Кавказе и изъяснялся на жаргоне черноморских ресторанов, в котором преобладало междометие «блабуду».
«Чувачки, блабуду, Бимбо — мое сценическое имя. Барухи в вашем городе, чувачки, не очень гостеприимные, кинули мальчика без штанишек передком в сугроб. В такой волнующий день выступаю не в лучшем виде. Тому, кто нальет хоть полстакана, блабуду, скажу „сенькью вери мяч“»…
А день в книге описывался серьезный — день смерти товарища Сталина. По воле коего немало советских джазистов и поклонников этого искусства, среди которых был и флаг-связист Балтфлота, капитан 1-го ранга, писатель и поэт Сергей Колбасьев, были уничтожены.
Кстати… Быть может, хоть и не любовь, но первое свидание Аксенова с джазом произошло в Магадане, где он проучился последние классы школы? В беседе с главным редактором журнала «Октябрь» Ириной Барметовой писатель рассказывал, как ходил на концерты эстрадного театра МАГЛАГа, вся труппа которого состояла из заключенных. Весь биг-бенд. Играли и оперетту Никиты Богословского «Одиннадцать неизвестных», сюжет которой основан на славном послевоенном туре футболистов «Динамо» по Англии, где они «сделали» три из четырех местных клубов. Песенки Богословский взял из английских поп-программ. Через много лет в Вашингтоне на коктейле по случаю конференции кремленологов Аксенов, рассказывая кому-то эту историю, напевал:
Кто в футболе Наполеон? —
Стенли Метьюс.
Как выходит на поле он —
Стенли Метьюс?
Кто и ловок и толков из английских игроков,
Кто первый? —
Стенли Метьюс.
По утрам все кричат об этом —
И экран, радио, газеты.
Популярность, право, неплоха.
Услышав мелодию, к нему в изумлении бросился Роберт Конквест — автор «Большого террора»: «Ты поешь нашу песенку? Откуда ты можешь ее знать? Это же песенка сорок пятого — сорок шестого годов». А Аксенов отвечал: «В Магадане услыхал. Зэки пели…»
Так, может, они здесь — корни долгой и красивой связи?
Так или иначе, но, вернувшись в Казань и поступив в медицинский, Василий оказался в центре бурной музыкально-танцевальной жизни, о которой потом отзывался по-разному… В беседе с Игорем Шевелевым[20] — с сожалением: «Слишком много бессмысленной пьянки, бессмысленных связей… Какие-то нелепые дружбы… Вообще, юность под Сталиным вспоминается как полоса полнейшей бессмыслицы. <…> Потерянное время». Но в минорной теме вдруг звучит бесшабашный мотив: «Хотя… оно, может, и не было потеряно. Потому что в этой забубенной хаотической жизни возникало… спонтанное сопротивление: „Да катитесь вы все к чертовой матери. Ничего я не боюсь“».
На шалости, и порой небезопасные, Василий Павлович и его друзья были горазды. Упивались, так сказать, «джазом-как-образом-жизни». Не зря же один московский музыкант как-то сказал Аксенову, что славянину, советскому, русскому — легче понять музыкальную идею джаза как постоянного раскрепощения… То есть — любить джаз было еще и сопротивлением, стремлением вести себя под стать стилю — жить-поживать, как бы подтрунивая над собой и миром, как бы не совсем всерьез принимая всё вокруг, как бы шутя… Легкомысленно и раскованно. А то и очень рискованно.
Вернувшись из Магадана в Казань, Василий вступил, что называется, во взрослую жизнь, в которой, правда, хватало шалопайства. Надзор тети Ксении раздражал юношу, и он съехал с улицы Карла Маркса к другу Феликсу Газману. Поселился у него вместе с Юрой Акимовым, с которым приехал из Магадана.
Жили весело. Любили прикалываться. Бывало, парни останавливались на улице Баумана у Госбанка и, обратив взоры вверх, указывали пальцами на крышу здания. Вокруг собиралась толпа, желавшая знать: что там — наверху… Тут ребятки и смывались. А то — учиняли парад нижнего белья. Кто в широких трусах, кто в хлипких подштанниках — маршировали по комнате Феликса. Печатали шаг, хором повторяя: «Мы — еврейцы-красноармейцы: ать-два, ать!..» и т. д.
А еще любили баскетбол. В него играли и Василий — за «Медика», и его племянник (брат Галины) Саша Котельников — за общество «Наука», и Феликс Газман играл. А Акимов был завзятым волейболистом. Но здоровый образ жизни перемежался, что называется, с нездоровым. Бывало, друзья выпивали, тискали девчонок, посещали рестораны…
Потом Феликс женился и выпал из компании. Хотя какое-то время еще привечал друзей. Впоследствии он преподавал физкультуру в Казанском авиаинституте, защитил диссертацию. Юрий Акимов стал видным хозяйственником. Василий Аксенов — известно кем. А тогда они были студентами в необъятной и непонятной вселенной. Точнее — в той ее части, где царил ненавистный старик в погонах генералиссимуса.
Спустя много лет Аксенов расскажет:
— Я даже один раз прицеливался в Сталина.
— Как это, — спросили его, — в портрет?
— Нет, в живого. Я шел с ребятами из строительного института по Красной площади. Мы шли, и я видел мавзолей, где они стояли, черные фигурки справа, коричневые слева, а в середине — Сталин. Мне было девятнадцать лет. И я подумал: как легко можно прицелиться и достать его отсюда…
«Двадцатилетние оболтусы Филимон, Спиридон, Парамон и Евтихий (знающие люди говорят, что под этими именами в книге „В поисках грустного бэби“ скрыты Вася, Юра и Феля! Но — кто же четвертый? Может, друг Аксенова — известный врач и ученый — Ильгиз Ибатуллин по прозвищу Гизя?..) на койках в комнате своего дикого быта. <…> А вот и чувихи с факультета иностранных языков, „шпионки“. Надрачивается „старенький коломенский бродяга патефон“. Самодельная пластинка из рентгеновской пленки вспучивается, но, придавленная кружкой, начинает вращаться, извлекая из замутненных альвеол анонимной легочной ткани кое-какие звуки.
Come to те, ту melancholy baby!
Утром все делают вид, что будильник, сволочь, сломался, потом кто-то вспоминает, что семинар сегодня „полуобязательный“… в конце концов, разыскав на столе отвратительные чинарики, курят среди убожества своих чахлых одеял.
Тем временем за дверью, в коридорчике… раздаются громкие рыдания соседок. „Что ж теперь делать-то будем, граждане хорошие, братья и сестры?“ Главная скандалистка Нюрка бьется в истерике. Дядя Петя сапогом грохочет в дверь. „Вставайте, олухи царя небесного! Великий Сталин умер!“».
— Что творилось в тот день у нас в Казани! — рассказывал осенью 2004 года Аксенов. — Сначала все пили водку. А потом Жора Баранович, трубач-«шанхаец», заиграл, да так, что всех снесло на танцпол! Тут Юра Модин вступил — пианист. И понеслось!
Последующее описано в рассказе «День смерти товарища Сталина»… А что же наша четверка?
«Компания мрачно сидела на койках… „Отчего ребята такие смурные, — думал Филимон, — из-за вождя или из-за того, что ‘Красное подворье’ отменяется? Спроси самого себя, — сказал он сам себе, — и поймешь внутреннее состояние товарища“».
«Красным подворьем» Аксенов назвал кабак, где друзья собирались отметить день рождения Филимона, для чего тот заложил в ломбарде фамильную ценность — статуэтку Лоэнгрина. «Подворье» имело скверную репутацию. В комсомол и органы поступили сигналы, что там под чуждые звуки прожигают жизнь «плевелы, трутни и плесень». Вот куда намылились юноши. А трагическое совпадение грозило порушить их чаяния и надежды.
Но «именинник водрузил на голову шляпу, выкраденную из реквизитной оперного театра… забросил за спину шарф и сказал:
— Похиляли, чуваки!
— Да ведь арестуют за гульбу-то в такой трагический для человечества день!
— Не обязательно!»
Как и многое в текстах Аксенова, эта история сплетается с подлинными переживаниями. 5 марта 1953 года совпало с днем рождения уже знакомого нам Саши Котельникова. Только исполнилось ему не 20 лет, а 15. Но за эти годы он привык, что этот день принадлежит ему. И вот парня объял ужас: неужто он больше не сможет праздновать свой день рождения? Ведь теперь эта дата будет черным днем календаря всегда!..
Гале Котельниковой казалось, что Казанский университет утонет в слезах. Сама она долго рыдала, обняв колонну, не видя безутешных слез сокурсниц, аспиранток, преподавателей, иностранных студентов… Лишь на минуту вывел ее из транса голос юного корейца:
— Я еду на родину, в Корею, где сейчас под ногами горит земля. Мы будем беспощадно сражаться с проклятым империализмом до последней капли крови! Мы победим! Сталин — бессмертен!
В следующее мгновение драма корейской войны потонула в рыданиях. Ибо все понимали: бессмертие вождя — фигура речи, метафора… Мы — материалисты и знаем: его больше нет. О, если бы он был вечен, как
Но тонули не все. «Четверка трутней и плевелов» плыла в сторону «Красного подворья», где, как пишет Аксенов, «и в обычный вечер можно было замарать репутацию, а в такой трагический момент… загреметь в „Бурый овраг“» (то есть на «Черное озеро»).
Такого покоя, как в тот вечер, заведение не знало никогда. Казалось, там не было никого, кроме трехметрового чучела медведя, который исхитрился изменить искони присущий ему порочный перекос морды на выражение глубокой гражданской скорби.
«Мы просто покушать», — сообщили юноши старшему официанту Лукичу-Адриянычу, которому этот день напоминал короткое затишье весной 1919 года, когда вдруг замолчали орудия и вскоре в кабак закатилась ватага чехословацких офицеров — просто покушать. «Бутылку-то принести?» — с непроницаемым видом спросил «старый стукач» и, получив заказ на «разве что одну», молвил: «Не знаю, все ли искренне скорбят нынче по нашему отцу? В Америке, наверное, водку пьют, котлетками закусывают…»
«Простенько покушаем, простенько покушаем», — повторяли Филимон, Парамон, Спиридон и Евтихий, в то время, когда третья очередь хлебного вина, сиречь водки, проходила с завидной легкостью под их беззвучный хохот.
Хохот этот, однако, не остался незамеченным старшим по залу, и он немедленно сообщил куратору заведения майору МГБ Щербине, известному в кругах любителей джаза как жуир и стиляга Вадим Клякса, что такая-то компания кощунственно употребляет в «Подворье» спиртные напитки в день всемирного траура…
«С ханжескими физиономиями появились музыканты, мужчины-репатрианты Жора, Гера и Кеша и их выкормыш из местных, юноша Грелкин. Первые трое происходили из биг-бенда Эрика Норвежского…[21] а что касается юноши Грелкина, то он попал под влияние „музыки толстых“, выказал значительные таланты и был приобщен „шанхайцами“ к тайнам запрещенного искусства… Грелкин подошел к сверстникам и стал угрюмо лицемерить. „Ах, какая большая лажа стряслась, чуваки! Генералиссимус-то наш на коду похилял, ах, какая лажа… Кочумай, чуваки, совесть у вас есть лабать, кирять, бирлять и сурлять в такой день?..“».
«Надо сомкнуть ряды, Грелкин, — сказали друзья. — Хорошо бы потанцевать! Вон уж и чувишки подгребли — Кларка, Нонка, Милка, Ритка… Слабай нам, Грелкин, что-нибудь в стиле». — «Кочумай, чуваки[22]. За такие штуки нас тут всех к утру расстреляют». Вскоре пары вышли на танцпол, инструменты молчали — музыка стекала с губ танцоров, «Утомленное солнце», «Кумпарсита», «Мамба италиано»… К друзьям присоединились невесть откуда взявшиеся в кабачке венгерские студенты, на которых ведомство майора Щербины собрало уже немалый материал. Сам же майор, махнув третью большую рюмку коньяку, обратился к Бобу Бимбо с вопросом: «Вы танцуете, молодой человек?»
А закончилось всё хорошо. Вконец измененное сознание сыщика повелело ему умолять Филимона, Парамона и прочих помочь пробраться в Западную Германию. Зачем? А чтоб сквозануть оттуда в Америку…
Это непривычное повествование о дне смерти Сталина (обычно звучат рассказы о тяжкой скорби и смертельной давке) нуждается в пояснении. «Красное подворье» — это ресторан «Казанское подворье», а позднее — ресторан гостиницы «Казань», где играли все поколения казанских джазменов. А в марте 1953-го — коллектив Виктора Деринга — Жора Баранович (труба), Онуфрий Козлов (контрабас), Юрий Модин (фортепиано) и Кеша Бондарь (ударные)[23].
Думаю, у иного читателя эта история вызовет вопрос: а уместно ли писать в таком тоне о 5 марта 1953 года? Ведь пусть злодей, тиран, палач — но человек же умер… Отчего ж говорить о нем в эдаком тоне? Рыдания миллионов, решивших, что они осиротели, возможно, достойны жалости или гнева, но не насмешки же?
Но в том-то и парадокс, что Аксенов здесь смеется над собой не меньше, чем над прочими — замороченными ложными штампами и химерическими кодами. Только над музыкой он не смеется. И «Мамбо италиано» звучит у него гимном свободы, слов которого в головах его героев и в помине не было.
Аксенов всю жизнь считал Сталина губителем своей семьи и себя самого. Но, с другой стороны, разве трудно предположить, что не будь диктатора, мы бы лишились и писателя? Был бы Аксенов-врач, Аксенов-художник, Аксенов-музыкант, наконец. А вот был бы яркий прозаик XX века?
Впрочем, история не знает сослагательных наклонений, а литературе — особенно русской — знакомы парадоксы. Более того, нередко они и делают ее хорошей, большой, настоящей. Такой, как аксеновская.
Но о писательстве говорить не приходилось, хотя Василий и думал об этом. Пока же полем выражения любви к миру служило всё что угодно. К примеру — русская печь.
Пришло время белить печку.
— А зачем — белить? — спросили Галя, Саша и Вася. — К чему добавлять в интерьер слепое пятно? Лучше украсить его фреской. Ну, то есть расцветить…
— Валяйте, — ответили им. — Всё одно замазывать. А кто рисовать-то будет?
— Вася!
— Ну, малюй, Вася!..
И на русской печке появилась… Америка.
Наискось взмыли небоскребы, над ними — солнце, сбоку — ковбой, ловящий светило лассо. Племянники отпали в восторге.
Василий сильно повлиял на их вкусы. Можно сказать — изменил их совершенно. Провел от Лермонтова — через Серебряный век — к современности. Он часами сидел в центральной библиотеке — одном из редких мест, где была доступна более или менее актуальная западная литература. И прежде всего — американская. Его впечатляла мощь страны, пришедшей на помощь СССР, и он хотел узнать о ней как можно больше. Джаз уже играл в его душе, но там оставалось еще очень много места…
И вот — американская поэзия. Сборник, составленный Михаилом Зенкевичем — поэтом-акмеистом и переводчиком Иваном Кашкиным[24]. Василий переписывал стихи в тетрадку и тащил домой. А там — в свою тетрадку — их переписывала Галя. А то, собираясь вместе, они вслух читали что-то вот такое:
Звуки ночи Гарлема капают в тишину.
Последнее пианино закрыто.
Последняя виктрола сыграла джаз-бой-блюз.
Последний младенец уснул.
И ночь пришла
Тихая,
Как сердца удары.
А я один мечусь в темноте
Усталый, как эта ночь.
Душа моя пуста, как молчанье.
Пуста огромной больной пустотой.
Желаньем страстным кого-то…
Чего-то…
И я всё мечусь в темноте,
Пока новый рассвет, тусклый и бледный,
Не упадет туманом молочным
В колодцы дворов…
Как ни крути, но и здесь был джаз — пусть в исполнении не оркестра Гленна Миллера, а поэта Ленгстона Хьюза.
Что вставало перед глазами провинциальных ребят, когда они читали и слушали эти стихи? У них были свои — казанские — метания, свой тусклый утренний туман, свои дворы-колодцы и желания… А что творилось, что просвечивало, что случалось и о чем мечталось, когда они встречались и смешивались с золотом Нью-Йорка, джинсой техасских прерий, зеленью аргентинской пампы, чернотой Африки?..
Негры в винном погребе
Подняли шум,
Плачут, орут пьяную хулу,
Рычат, танцуют, дубасят по столу,
Ку-ла-ком дубасят по столу!
Палками, щетками черный грум
Бум-лей, бум-лей, бум-лей, бум…
В погребе клубами дымный пар.
Вот что мне привиделось сквозь пьяный угар.
Я увидел Конго, простертое в ночи,
Стремящее сквозь заросли струй своих лучи.
И вдоль его берега на много верст
Людоедов пляшущих растянулась горсть.
Бум! — завывали дудки и гонги…
А за ними — пляшущий, воющий хор
От самого устья черного Конго —
Вплоть до истоков средь лунных гор.
— Крови! — пели дудки и флейты ворожей.
— Крови! — пели маски колдунов и вождей.
— Смерть — это слон бешеный и дикий.
Ужас наводящий, пеною покрытый.
Слон с кровавыми и дикими глазами…
Бум — горе карликам!
Бум — бей арабов!
Бум — режьте белых!
У-у-у-у-у-ух!..[25]
И прочее — о чем там еще писал Лендзи?
Что за огни играли в их глазах? Где было место плясок и криков о жизни? Что неясно, но виделось за частоколом знамен, занавесом из широких штанин, портретами вождей? Зря, что ли, Галина Котельникова помнит эти стихи до сих пор?
Весной 1954-го в семье затрепетал диалог поколений.
Отменили пропуска на Колыму. И вот — после новой разлуки с мамой студент Василий прибыл в Магадан — на практику в городскую больницу. Об этом договорился третий муж Евгении Гинзбург доктор Вальтер. Он же выслал денег на билет.
Когда-то бесконечно далекие друг от друга, Колыма и материк вдруг сблизились. Обычный человек, не испрашивая никаких разрешений, просто взял билет, собрал вещички, сел в самолет и прилетел на Колыму. Для Евгении Соломоновны этот визит стал сюрпризом. Самолет прибыл раньше, чем телеграмма о приезде, и она увидела сына из окна — идущим прямо к ней.
Но что это? Вот так вид! Откуда этот пиджак в яркую клетку? И что это за пестрый рюкзачок? А как он зарос! Где полубокс, приличный костюм, привычные чемоданы? Разве это будущий врач — серьезный и подающий надежды молодой специалист?
Порог магаданского дома стал местом встречи двух образов и стилей жизни. Необъяснимо, — вспоминала Евгения Гинзбург, — но вдруг вся сила ее любви вылилась в странный возглас: «Что за нелепый пиджак у тебя? И что за прическа?»
Удивительно: в первые минуты встречи она заговорила о внешнем, о знаках принадлежности юноши к незнакомой культуре… Забылся Маяковский в желтой кофте. И Бурлюк со стрелкой на щеке. Они были в истории, а Вася — в попугайском пиджаке. И он стоял здесь и сейчас, полный жажды другой жизни.
Заработали старые комсомольско-пуританские рефлексы. Мама сказала:
— Подстригись. Завтра куплю тебе
— Через мой труп, — мрачно ответил сын. — Это самая модная расцветка.
И он не шутил. Тут мама и поняла, что пиджак и шевелюра есть нечто более серьезное, чем детский выпендреж. Что на ее пороге пытаются понять друг друга две половины XX века. Что к ней явилась новая молодежь, не желающая походить на отцов: ни в привычках, ни в манерах, ни в фасоне пиджаков. Не говоря уже о взглядах на жизнь и на свое в ней место.
Что же это было за место? Предстояло решить. Пока же для большинства Василий был пижон.
Деньги, что высылала ему Евгения Соломоновна, — по тем временам немалые — позволяли покупать вещи, которые казанская молодежь считала изысканными. Василий посещал комиссионки. Как-то в 1953-м купил верблюжье демисезонное пальто и принялся щеголять в нем по городу. Вскоре выяснилось: модный клифт сдал в магазин джазмен-шанхаец Жора Баранович. А Василий купил его — потертое, но очень стильное. Есть и другая версия: пальто, привезенное из Шанхая, в комиссионку сдал трубач Кеша Горбунцов. Как бы то ни было, клевое пальтецо облегало фигуру Аксенова, а его экстравагантность подчеркивал шарф, завязанный причудливым узлом, возбуждавшим интерес девиц и поражавшим воображение всех прочих.
Среди сверстниц наш герой какое-то время выделял красавицу Нонну, которая, как и будущая жена Юры Акимова — Клара Янковская и жена Феликса Газмана — Юля, училась на инфаке (что отчасти подтверждает догадку о том, кто эти Филимон, Спиридон, Парамон и др. Помните сцену с «чувишками» в «Красном подворье»?).
Тетка Ксения, в отличие от мамы, так и не приняла стиль племянника. «Ты стал люмпеном, Василий!» — твердила она. Да и мама писала: «Твое „стильное“ пальто — старая тряпка. А ведь на него ушла стоимость двух пальто плюс тысяча дотации. Купи простое и добротное зимнее пальто. Ни в коем случае не ходи зимой в осеннем!»
После второго курса в этом самом пальто Василий отбыл в Ленинград…
История его перевода в Первый ленинградский мед примечательна. Она тоже стала столкновением эпох — репрессивной, сталинской и оттепельной, еще ничьей.
Студента Аксенова отчислили из института. Уже после смерти Сталина. За то, что, поступая, он не указал в анкете факт осуждения родителей на сроки заключения. Такого вопроса в анкете не было, но тем не менее… Василий не смирился и поехал в Москву — в министерство — искать правду[26]. Был принят и выслушан. Отчисление сочли ошибкой. Некий чин понимающе глянул на юношу, сказал: «Странно. Товарищи предпринимают немного запоздалые действия».
Восстановили! Вернувшись в Казань, Аксенов отправился в институт, к директору[27] — Рустему Аллямовичу Вяселеву.
— Вы что тут делаете? — спросил Вяселев. — Вы же отчислены.
— Я… сейчас только из министерства, — ответил Василий. — Там считают, что вы какие-то запоздалые действия предпринимаете.
В ответ дикий ор: «Мальчишка! Убирайся отсюда! Пшел вон!»
И он ушел. Бухнул дверью. Из ректората позвонили в Москву. Там сказали: «Восстанавливайте». Получив подтверждение студенчества, Аксенов выехал в Ленинград. Восстановление стало небольшой — и не только его — победой. Спустя годы, листая в архиве ФСБ дело своей мамы, он найдет документы об «оперативной разработке Аксенова Василия Павловича» и поймет, что отчисление могло быть дверью в тюрьму.
Товарищей, подобных Вяселеву, хватало. Порой они настолько не были готовы к переменам, что ради грома краснозвездных маршей ложились костьми. И не желали знать, что на их костях новое поколение записывает другую музыку и танцует под нее. Исход из мрака начался, и Аксенов хотел быть во главе колонны, строить новую культурную среду. Мода стала его инструментом.
В чем же виделось новое? В сопричастности, а по возможности — в единстве с человечеством. Точнее с развитой его частью. Конечно, в увлечении «стилем» было много личного. Галина Котельникова считает, что склонность ее дяди к броской одежде коренится в бедности его детства: «Ведь не было у нас красивой обуви, не было костюмов… Нас одевали аккуратно и чисто. Но очень бедно. Есть фотография: маленький Вася сидит на столе. На нем пионерский галстук, скрепленный клипсой значка, в руках „Сказки дядюшки Римуса“. Хорошо видно: хоть брючки у него отглажены, но — коротки. А ботинки, хоть целые и чистые, но с потертыми носами — ну, не было в доме ваксы…»
Теперь он носил начищенную заграничную обувь. Но чувствовал себя в самовязаных шарфе, свитере с оленями и в галстуке, ковбоя на котором вышила умелица-подружка, провинциалом. И это ему не нравилось.
Дело в том, что в 1952 году ему довелось (эти сведения ничем и никем не подтверждены, кроме самого писателя) побывать в московском молодежном «высшем обществе» — на вечеринке в доме крупного международника. Компания состояла из отпрысков дипломатических фамилий и их «чувих». Не веря глазам, он смотрел на американскую радиолу, способную проигрывать 18 пластинок подряд! В Казани любители гонялись за клочками этой музыки — вещами Ната Кинга Коула, Армстронга, Кросби, Пегги Ли, а здесь была она вся, да еще с портретами на конвертах.
Девушка, с которой он танцевал, вдруг спросила: «Вы любите Соединенные Штаты Америки?» Вася растерялся — знал, кого СМИ делали врагом номер один… А барышня шепнула: «Я люблю Соединенные Штаты! Ненавижу Советский Союз и обожаю Америку!»
Неужели Аксенов танцевал с
Студент Аксенов глядел, как танцуют в темноте загадочные красавицы и парни в пиджаках с огромными плечами, в узких брюках и башмаках на толстой подошве, и восхищался.
— Класс! — шепнул Василий тому, кто привел его на вечеринку. — Вот это стиляги!
— Мы — не стиляги, — поправил его приятель. — Мы —
История стиляг и «штатников» необычна и тесно связана с джазом. Ее, дополняя друг друга, поведали многие авторы — в том числе друг Аксенова, известный джазмен Алексей Козлов в книге «Козел на саксе». Вольный пересказ ее фрагментов проясняет нам некоторые перипетии творческой судьбы писателя…
Но сперва припомним стихотворение «Лианозовцы» будущего приятеля Василия Павловича в течение ряда лет — Евгения Евтушенко:
Мы так увидеть мир хотели.
Нам первым было суждено
соломинкой из-под коктейля
проткнуть в Америку окно.
Я, как заправский коктейль-холлух,
Под утро барменшу лобзал,
и будущее Лаци Олах
нам палочками предсказал.
В роли прорицателя с палочками здесь выступает знаменитый барабанщик и глава популярного джаз-оркестра Лаци Олах — знаковая фигура московской богемы. Его имя, как писал пианист Михаил Куль, знали все любители джаза.
Согласно легенде, венгр цыганского происхождения Олах приехал в СССР еще до войны, влюбился в пианистку Юлю и остался. Это он привез к нам европейскую манеру игры на ударных и учил ей других, давая платные уроки. Ну а нищие музыканты просто так — по билетику — шли в кинотеатр «Художественный», где перед сеансами играл Олах, и перенимали его технику. И летели в трамвае домой, напевая ритм и отбивая его на коленках.
Перенимали всё, вплоть до жестов и мимики. Фирменной «фишкой» Лаци было жонглирование палочками, чему ресторан «Аврора» (ныне «Будапешт»), где также выступал его оркестр, в восторге аплодировал…
Но вот трубач объявлял: «Мелодия из кинофильма „Подвиг разведчика“ — „Гольфстрим“». Из-за этой музыки многие ходили в кино по 15 раз, а несколько лет спустя она сыграет особую роль в романе Аксенова «Скажи изюм».
Козлов вспоминал, как отец его друга — бывший разведчик — взял парней в «Аврору». Алексей был в ресторане впервые, и ему показалось, что это рай — роскошные женщины, закуски и вина, джаз… Когда они сели за столик, Олах подошел и поздоровался с отцом друга с большим почтением. А когда он начал играть ошеломляющие «брейки», Алексей понял, кем он будет: джазовым музыкантом…
Лаци Олах умер в 1989 году и похоронен на Миусском кладбище. Его помнят и сейчас. А Алексей Козлов стал знаменитым джазменом и пропагандистом этого искусства, пройдя прежде школу «стиля».
От родителей ему перешла коллекция пластинок. Здесь были Леонид Утесов, Александр Варламов, Эдди Рознер, Львовский теа-джаз. Песни Козина, Лещенко, Юрьевой. Были и записи американцев, изданные в СССР до войны, — Дюк Эллингтон, братья Миллз, Эдди Пибоди. Подобрались и «трофейные» диски — Гленн Миллер, Бенни Гудмен, оркестр Хельмута Вернике.
Под них Козлов отплясывал на «хатах» с «чувихами» (чем не Казань?). Самыми «стильными» считались три танца: «атомный», «канадский» и «тройной гамбургский». Первые два напоминали джиттер баг. А «тройной гамбургский» был медленным — вроде слоуфокса, но с особыми движениями телом, покачиванием головой и, главное, — «в обжимку». Как они просочились через опущенный от Адриатики до Балтики «железный занавес», можно только гадать.
Но как бы то ни было, а судя по всему, именно тогда
Средь верноподданных сердец
КПСС назло
Возник таинственный юнец
Саксофонист Козлов[28].
Тогда Алексей еще не играл, но слушал, слушал вовсю. Вбирал этот свинг…
Пластинками менялись. Кое-кто менялся и худо-бедно списанными текстами. Как-то в руки Алексею попало удивительное произведение стиляжной культуры. Анонимное, оно, конечно, считалось подрывным, каким, без сомнения, и было. Речь идет о басне «Осел и Соловей» — своеобразном манифесте тех, кого называли плевелами, отбросами, вредоносными сорняками. Итак, Осел-стиляга, идущий с гулянки в свой Хлев, встречает музыканта-Соловья и просит его сыграть. Но мазурки и сонаты в его исполнении Ослу не по нраву:
«Вообще лабаешь ты неплохо, —
Сказал он Соловью со вздохом, —
Но скучны песенки твои,
И я не слышу Сан-Луи.
А уж за это, как ни взять,
Тебя здесь надо облажать.
Вот ты б побыл в. Хлеву у нас,
Наш Хлев на высоте прогресса
(Хотя стоит он вдалеке от Леса) —
Там знают, что такое джаз.
Там даже боров, старый скромник,
Собрал девятиламповый приемник
И каждый день, к двенадцати часам,
Упрямо не смыкая глаза,
В эфире шарит по волнам.
Желая слышать звуки джаза.
Когда-то он на барабане
Лабал в шикарном ресторане,
Где был душою джаза он.
Был старый Хлев весь восхищен,
Когда Баран, стиляга бойкий.
Надыбал где-то на помойке
Разбитый старый саксофон.
На нем лабал он на досуге
И „Караван“, и „Буги-вуги“.
Коза обегала все рынки,
Скупая стильные пластинки.
Да и Буренушка сама
От легких блюзов без ума…»
Даже сейчас эта местами очень потешная «басня» звучит как своеобразный культурный и антропологический памятник своего времени.
Слово «стиляга», введенное в обиход в 1949 году Дмитрием Беляевым — автором фельетона в рубрике «Типы, уходящие в прошлое» в журнале «Крокодил», — было тогда сродни словам-дубинам вроде «безродный космополит» и «низкопоклонник».
Вот как описывал «Крокодил» стилягу: «В дверях показался юноша. Он имел исключительно нелепый вид. Спина куртки ярко-оранжевая, а рукава и полы зеленые;…ботинки на нем представляли хитроумную комбинацию из черного лака и красной замши. Юноша… развязным движением закинул правую ногу на левую, после чего обнаружились носки, которые слепили глаза…
— А, стиляга пожаловал! Почему на доклад опоздал?
— Сознательно: боялся сломать скулы от зевоты и скуки. Мумочку не видели?
В это время в зале показалась девушка, по виду спорхнувшая с обложки французского журнала мод.
— Топнем, Мума?
Они пошли танцевать.
Стиляга с Мумочкой под музыку… краковяка делают ужасно сложные и нелепые движения, похожие и на канкан, и на пляску обитателей Огненной Земли…»
Популярная певица Нина Дорда пела сатирическую песню о стиляге:
Ты его, подружка, не ругай.
Может, он залетный попугай.
Может, когда маленьким он был,
Кто-то его на пол уронил.
Может, болен он, бедняга?
НЕТ!
Он просто-напросто СТИЛЯГА!
(эту фразу оркестр кричал хором, указывая на трубача, игравшего беднягу изгоя).
Общество поделилось на две части — большая считала, что «стиляга» — это оскорбление для тех, кого так зовут, а меньшая приняла слово как имя своей субкультуры.
Кстати, одна из версий его происхождения относит нас напрямую к джазу. На жаргоне музыкантов «стилять» (от английского
Не случайно и слово «чувак» иные расшифровывали как
И вот что любопытно. Опасная басенка про Осла и Соловья у многих (и у юного Алексея Козлова) вызывала не презрение к «отбросам», а желание познакомиться с ними. Во дворах вовсю болтали о жизни «центра». Столичная молодежь толковала о «Бродвее», где хиляют «чуваки» и «чувихи». О «Коктейль-холле», куда почти невозможно попасть и где всё не так, как здесь. А примерно как там, откуда приходила удивительная музыка… На которую, кстати, легко ложились тексты вроде:
А мой пиджак,
а канареечного цвета!
Тот не чувак,
а кто не носит узких брюк…
Сатирическая и комсомольская печать взывала:
Стиляга
в потенции
враг
С моралью
чужой и куцей, —
На комсомольскую мушку
стиляг:
Пусть переделываются
и сдаются![29]
В 1953 году Алексей — уже студент Архитектурного института — познакомился через сокурсника Сашу Литвинова с Феликсом Соловьевым, жившим в Девятинском переулке рядом с посольством США. У «Фели» или «Филимона», как звали Феликса, была куча американских вещей, от «шмоток» до пластинок и автоматической радиолы с разными скоростями…
Не у него ли дома оказался Аксенов в начале 1950-х? Не там ли юная леди призналась ему в любви к США? Ведь это «Феля» и его компания были «штатниками» — поклонниками всего американского. Это у него собиралась молодежь, объединенная любовью к джазу, «штатским шмоткам», ресторану «Националь» и заграничным радиопередачам, вроде «Music USA».
Тогда было несколько модных градаций. Само собой — официальная мода Всесоюзного Дома моделей. Ей следовали люди взрослые, семьи ответственных работников и богатые обыватели. Был «совпаршив» — массовое производство для массового покупателя — костюмы, платья и ботинки, унылые и однообразные, как и весь презираемый стилягами и «штатниками» «совок». Имелась и «демократка» — вещи из Восточной Европы и КНР. А дальше шла «фирм
«Фирменная» мода была уделом международников и нонконформистской молодежи. Быть «фирменным» значило в своем роде бросать вызов обществу. Пропаганда придавала ношению такой одежды политическую окраску — в поздние сталинские и первые послесталинские годы почти всё заграничное подпадало под борьбу с низкопоклонством перед Западом.
«Фирм
«Штатники» признавали всё только американское — музыку, одежду, обувь, прически, сигареты, напитки, косметику. Они породили жаргон, построенный на переделке английских слов — соединении их корней с русскими окончаниями: «шузы», «флэт», «трузера», «таек», «герла», «манюшки», «лэкать», «скипать».
Затем просочилась информация о моде, принятой в американских университетах, — членов Ivy League — «Лиги Плюща». Возникли «айвелиговые штатники». К ним относил себя и Козлов.
Особые очертания лацканов, фасон ботинок и другое — всё это был способ стать непохожим на других, в том числе и на «обычных» «штатников». Но вид «айвелиговых» не раздражал общественность, как облик стиляг в ярких галстуках и туфлях на «манной каше». А о том, что на подкладке брюк и во внутренних карманах пиджаков были лейблы американских фирм и вклейка с изображением швейной машинки — знака профсоюза швейников, — знал лишь владелец.
Эти-то молодые люди и задумались, как принести в СССР большой джаз, не пугая власти и карательные органы. Как сблизить страну с миром, не вызывая аллергии. Отсюда — идея джаз-кафе, которое стало бы легальным клубом. Выдвинул ее Московский горком комсомола. Как ни топырились нетопыри — шла «оттепель», и осенью 1961-го внештатные инструкторы горкома предложили открыть такое заведение.
Козлов пишет, что должность внештатного инструктора служила прикрытием для хороших дел. Похоже, порой так оно и было. Не надо думать, что отношение к джазу резко изменилось в лучшую сторону. Для власти он оставался чужим, у обывателей ассоциировался с угаром, пляской, пьянкой, гульбой, кабаком:
…где плачет пьяный саксофон, рыдает скрипка,
а на бледных губах дрожит улыбка…
Однако те, кто санкционировал идею, были людьми дальновидными. Во-первых, кафе помогало «выпустить пар». Во-вторых, служило наблюдательным пунктом для ведомств идеологического фронта — давало возможность быть в курсе увлечений молодежи музыкой, абстракционизмом, западной литературой, самиздатом… А в-третьих, столице Союза в период «либерализации» надо было показать большому миру, что в ней есть всё, что ему не чуждо. И джаз, и модная молодежь, и легкость общения.
Так считали и Козлов, и Аксенов. И с ними сложно спорить. Ибо оба не раз сталкивались с тем, что творческое действие, не контролируемое начальством, признается опасным и пресекается.
Но в ту пору и музыканты, и слушатели это понимали и подыгрывали властям. Это был единственный шанс выйти из полуподполья. Доказать, что их искусству место на большой сцене, а не в кабаке. И у них получилось. Хотя партия уже создала образ врага в будущей войне — им стала Америка, с ее музыкой, кока-колой и жевательной резинкой. Но общим усилием комсомольского актива, музыкантов и «неравнодушных юношей и девушек» были всё же созданы кафе «Молодежное», «Аэлита» и «Синяя птица».
Им предшествовал джаз-клуб в Доме культуры энергетиков на Раушской набережной, основанный в конце 1950-х при поддержке Октябрьского райкома комсомола. Там впервые стали играть современный джаз с комментариями Алексея Баташева и Леонида Переверзева. Они формировали джазовую аудиторию и отношение к нему как к серьезному искусству.
Потом начались фестивали, гастроли, поездки за рубеж… Например — в Польшу, где была своя джазовая традиция, где до войны звучал известный в Европе оркестр фирмы «Сирена-Электро», где выступал Януш Поплавский с его «Szkoda cię dla innego» и «La Cumparsita», где родился классический фокстрот «Абдул-бей» Фани Гордон (сочинившей и музыку к лещенковскому, а после — утесовскому шлягеру «У самовара я и моя Маша»), где гремели Ержи Герт и Иво Весбы с русскими фокстротами «Гармошка» («Garmoszka») и «Танцуй, Маша, танцуй» («Tańcz, Maszka, tańcz!») и где Петр Жимановский играл слегка замаскированную «Мурку».
Все смеялись, слушая, как поэт и, как сейчас бы сказали, шоумен Мариан Гемар поет песенку, на которую сильно смахивает вещь Леонида и Эдит Утесовых «…может, ты б тогда, Пеструха, знала — почему…», вещь, написанную задолго до 1939 года, когда вышло советское шоу «Много шума из тишины». Отчего, хохоча, не упрекали Утесова в плагиате? Не оттого ли, что чувствовали: драмы наших народов переплетены теснее, чем кажется, и во взаимной боли, и во взаимной неуловимой, но и неукротимой тяге?
Потом начались концерты на Западе. И визиты иностранцев в СССР. Международный джазовый фестиваль 1967 года в Таллине собрал советских и зарубежных мастеров, о чем Аксенов и написал в очерке «Простак в мире джаза, или Баллада о тридцати бегемотах». Джаз стал одним из мостов поверх «железного занавеса». И, быть может, мощная его энергетика и рванула в одной из мин, сокрушивших его…
Тут пора вспомнить, что в начале нашего разговора о джазе оказался не кто иной, как Самсик Саблер, в котором годы спустя один из друзей Аксенова узнал себя. Кто же он? Мы скоро назовем его имя. А пока — о «Синей птице», атмосфера в которой мало отличалась от той, что была в «Молодежном». Фрагмент романа «Ожог»…
«Они сыграли… композицию Сильвестра „Взгляд из мглы“ и шараду Пружинкина — „Любовный треугольник“… но каждый понимал, что вечер еще не состоялся.
Квинтет спустился с эстрады. Самсик… не мог оторваться от своего сакса и тихо наигрывал новую тему… Переоценка ценностей — недооценка ценностей. Я переоценил, тихо наигрывал он. Я недооценил, тихо наигрывал он. Что-то росло в его душе, что-то близкое к восторгу и ясному зрению, но он еще не знал, чем это обернется — молитвой или буйством; нежность и злость перемешивались сейчас в саксе…»
Как строится джазовая импровизация, как и где творится волшебство — этого Василий Павлович, не будучи музыкантом, точно не знал. Но, будучи писателем, подозревал, что знает… Грань восторга, порог ясного в
«— Самс! — громко позвал Сильвестр. — Нащупал что-ни-будь?
— Что-то клевое, отец? — заерзал на стуле Пружинкин.
Саблер пожал плечами, но перед ним появилась потная физиономия Буздыкина.
— А я знаю! — заорал он. — Я знаю, что нащупал этот вшивый гений. Переоценка, Самсик, да? Переоценил, а? Недооценил, да? Ну, гад, давай, играй!»
Тут Самсик увидел: из гардеробной глядят на него угрюмые глазки чекиста, мучившего в Магадане его друга. И «вызывающе резко заиграл начало темы, прямо в харю старого палача, за шторки гардеробной, на Колыму…». Чуваки ринулись на помощь.
Вот так: хрясть левой — импровизацией — меж глаз врага — и это тоже был джаз. Хотя и не всегда. Обычно был он радостью, отдыхом, кайфом и звенящим мостиком…
На этом-то мостике судьба и свела джазмена и писателя. Знаковый момент — выступление группы Козлова «Арсенал» на вечере Аксенова в ЦДЛ в начале 1970-х.
Их сближали любовь к джазу, стильное прошлое, неприятие всего тоталитарного, тяга к Америке. Поэтому на предложение поиграть на вечере Козлов сразу согласился. План был такой: в первой части выступают друзья, во второй — показывают фрагменты фильмов по сценариям Аксенова, а в третьей — играет «Арсенал».
Музыканты попросили Аксенова устроить им пропуск в зал часа за четыре до начала — чтобы настроить аппаратуру. И вот они заметили, что половина мест в зале занята, хотя до начала было больше двух часов. А вглядевшись, обалдели — это не та публика, что посещает ЦДЛ. В зале сидели «дети-цветы» — московские хиппи. Как они проникли в ЦДЛ, куда не пускали без членского билета Союза писателей? Тайна. Но Козлов понял: будет скандал. Кстати, и он, и его команда тоже выглядели как хиппи — в джинсе, с длинным хайром[30], с особой манерой держаться и общаться.
Этот облик был не менее мерзок для «советского глаза», чем облик стиляги. Билетерши ринулись к начальству. Пришел главный администратор и велел очистить зал. Спорить было глупо. Провода смотали, а дверь закрыли на ключ. Впрочем, скоро пришел Аксенов и музыкантов впустили…
Вечер начался. Выступили Аксенов, друзья, коллеги. Показали кино. Козлов и «Арсенал» ждали в особой комнате, где к ним «подвалил» администратор. Его тревожило, что и как будут играть эти волосатые люди. Когда он спросил об этом, маэстро по дрожи в голосе понял: речь идет о карьере чиновника. И, желая его успокоить, сказал, что группа исполнит арии из некой оперы…
В перерыве народ рванул в буфет, а когда «Арсенал» вышел на сцену, в зале преобладала публика, далекая от джаз-рока. Козлов впервые играл «не в своей тарелке». Но после первой композиции слушателей как ветром сдуло, а в зале воцарились хиппи, ждавшие своего часа в закутках ЦДЛ. И концерт пошел: сыграли хиты джаз-рока и перешли к фрагментам
Козлов считает, что этот концерт описан в «Ожоге». Впрочем, там выступление группы Саблера в Институте холодильных установок кончилось печальнее — налетом милиции. Но Алексей убежден: Самсик — это он. И, видимо, отчасти прав.
Кстати, в эпизоде сорванного концерта фигурирует певец по имени Маккар. Кое-кто (и я в том числе) подозревал, что под ним скрыт Андрей Макаревич. Но Александр Кабаков развеял это заблуждение, сообщив, что так звали вокалиста иранского происхождения — Мехрада Бади, хорошо владевшего английским…
Аксенов знал джаз. В том числе — и сложный. Ему не были чужды ни Джерри Маллиган, ни Коннонбол Эдерли. Он мог судить и о бибопе, и о джазовой скрипке… Но хранил верность нехитрым вещицам —
Нередко цитируя их (а порой и используя в названиях книг или глав[31]), он то снабжал их русскими версиями текста, как, например, такая:
Приходи ко мне, мой грустный бэби!
О любви, фантазии и хлебе
Будем говорить мы спозаранку…
Есть у тучки светлая изнанка[32], —
то побуждал героев (порой — эпизодических) изъясняться строчками из переиначенных версий… Так, юная питерская публика в танцзале 1956 года, хлопая в ладоши, припевает на мотив обожаемого «Сентиментл»:
А у нас в России джаза нету-у-у,
И чуваки киряют квас…
А проводник в музейном поезде Толли Тейл Трейн из «Нового сладостного стиля» перед отправлением нараспев возвещает: «О-о-олл а-а-аборд»[33]. И все улыбаются.
Александр Кабаков считает, что эти две вещи были близки Аксенову своим бесконечным лиризмом и проникновенной нежностью. Это — классика. И еще, сдается ему, это связано с чем-то кроме джаза. Ведь
— Быть может, — полагает Кабаков, — стоит подумать над верным переводом слова
Спустя много лет ясно, что Бог долго берег Аксенова. Берег для нас. Проводя невредимым сквозь весь этот джаз…
В 1950-х не дал чекистам посадить. Не попустил попасть в беду в день смерти Сталина. Не дозволил в 1980-х выбрать Восток вместо Запада. Не дал стать музыкантом…
А будь всё иначе… Возможно, кто-то другой написал бы о джазовом пианисте Василии Аксенове что-то вроде написанного им о герое рассказа «Зеница ока»…
«Рухнул социализм. Моложавый старик, рассказавший эту историю, до сих пор играет на рояле в московском клубе „Лорд Байрон“… Нельзя не отметить, что он пользуется льготами как жертва политических репрессий и, в частности, бесплатным проездом на общественном транспорте».
Однако… Смущает зримость финала. Точка. Кода. А хочется бесконечности… Про это — очерк Аксенова «Трали-вали и гений», где он цитирует Юрия Казакова: «Гитарист подстроил свою гитару, пианист сразу взял медленные два-три аккорда… он будто остановил ритм, время, выхватил несколько созвучий и любовался ими… Скрипач тоже позудел, настраиваясь, и прозвучали всегда так волнующие меня пустые квинты… и вновь ударило по сердцу и завертелось, закружилось, понеслось мимо, и та осень в Ленинграде, и вся моя жизнь на кораблях, все мечты, разочарования и грусть».
Однако… джаз увел нас вперед во времени. Меж тем — кончались 1950-е, напевая:
Расскажи, о чем тоскует саксофон,
Голосом своим терзает душу он.
Приди ко мне, приди, прижмись к моей груди,
Любовь и счастье ждут нас впереди…
«Шестидесятники»… Так называют писателей, коих вывела на сцену «оттепель» — либерализация художественной, да и вообще — всей жизни в СССР.
К их числу относят и Аксенова, ворвавшегося в литературу с «Коллегами» и «Звездным билетом» — повестями, вышедшими в журнале «Юность» в 1960 и 1961 годах и стяжавшими автору массовую почти влюбленность. Не меньшей читатель наградил и его друзей.
О них и потолкуем в этой главе — о тех, кто, если и не перевернул вверх тормашками тогдашнюю изящную словесность (если можно так назвать социалистический реализм), то, добившись успеха, отвоевал плацдарм, где было место поиску, выдумке и празднику… Где сияли фейерверки и ликовало веселье, тогда как коренные каменщики официоза Анатолий Софронов, Всеволод Кочетов, Николай Грибачев и другие корифеи 1930–1940-х годов месили бетон красного фундаментализма.
Это слово — «шестидесятники» — обозначает эпоху, когда были написаны очень (а то и — самые) яркие страницы книг и биографий нового литературного поколения. Очень разные, они чувствовали, что, кружась каждый в своем танце, движутся в общем направлении, которое, однако, не все брались определить. И их устраивала эта недосказанность, ибо позволяла назвать родство мировоззрений словом «дружба»… Впрочем, сегодня они не слишком-то жалуют имя — «шестидесятники»…
Белла Ахмадулина относилась к нему с сарказмом: «Когда говорят — „шестидесятники“, я говорю: да называйте нас, как хотите, хотя лично мне такая терминология напоминает какую-то тухлятину революционную из позапрошлого века. „Народники“, „шестидесятники“… А мы — просто друзья».
Есть по этому поводу особое мнение и у одного из ярчайших представителей послесталинского поколения ленинградцев-петербуржцев — поэта Анатолия Наймана — друга Аксенова со времен учебы в Ленинграде. В книге «Роман с самоваром» он пишет: «Я не шестидесятник… Я их ровесник, с ними жизнь прожил, с кем-то близок, но к шестидесятничеству не принадлежу. Чтобы вам было понятней: Окуджава и Аксенов — шестидесятники, Бродский и Венедикт Ерофеев — нет, согласны? Объяснить разницу? Те сознавали свое место в истории как
Все мы друзья своих друзей и не только в обиду их не дадим, но даже не очень понимаем, как они могут кому-то не нравиться. Не лично, не конкретно такой-то, потому что врун, придурок и жук, а именно как поколение».
Итак — друзья. Итак — поколение. Что ж, и это верно. Хотя иные из этих дружб оказались не слишком прочными, а другие, напротив, — по гроб. Так или иначе, не особо вдаваясь в подробности (об этом уже написано море текстов), припомним, как выглядело начало этой большой дружбы.
Для многих площадкой, где она зародилась, стал Литературный институт.
Вот срез на 1954 год — по курсам этого очень специального учебного заведения, призванного давать стране особых людей —
Итак, курс первый — Анатолий Гладилин, принятый, как он утверждает, за множество рассказов, ни один из которых сегодня он и знать не желает (через год «Юность» опубликует его «Хронику времен Виктора Подгурского», а пока на семинарах его требуют изгнать «за полную бездарность»).
Курс второй — Юрий Казаков. Его не задевают. Он сам кого хочешь заденет.
На третьем процветает Евтушенко Евгений Александрович (уже многие зовут его по имени и отчеству).
На четвертом царит Роберт Рождественский — спортсмен и добряк с редким чувством юмора — любимец курса и, как считали некоторые, всего института.
Никто из них пока не достиг славы — Политехнический был впереди, — но Евгений и Роберт уже печатались в газетах. Девушки и младшекурсники дрожали при их взгляде.
Время идет. В Литинституте царит атмосфера поиска. Всем памятен XX съезд, роман Дудинцева «Не хлебом единым»… Разворачивается боевая и кипучая буча, рушатся догмы, совершаются открытия.
Как-то поутру юный Гладилин пришел в полуподвал дома 52 по улице Воровского, где во дворе правления Союза советских писателей жил Роберт Рождественский. Пришел и говорит: «Роба, я не спал всю ночь, думал-думал, но вот смотри: никакого соцреализма не существует, это же бред собачий!» А тот на полном серьезе ответил вопросом:
— Ты что, только сейчас до этого допер?
Впереди были 1960-е. Так что дальше — больше. Пошли их молодости сборы и яростные споры и стаканы и с бледным сидром, и с более серьезными напитками. К Робу на Воровского зачастили всё более именитые авторы, актеры и режиссеры их поколения. Но главное — не известность и не напитки, а обмен идеями средь оттаивающей советчины. Плюс — контакты с зарубежными коллегами, причем часто — без спросу. А также знакомство с тамошней литературной и просто жизнью в поездках и посольствах.
Вот, к примеру, краткий список тех, кого Гладилин называет постоянными гостями посольства США: он сам, Аксенов, Ахмадулина, Евтушенко, Табаков, Вознесенский.
Забудь мы об Андрее Вознесенском, и те годы и та компания покажутся пустоватыми. Впрочем, сам он был не слишком склонен видеть себя частью именно
Так что близость Вознесенского с литературной бражкой нередко была заочной. Но крепкой. Ведь как оно случалось? Если кого-то начинали травить — все его ободряли. Коли кто-то что-то не так делал или писал — говорили прямо: что же это ты, старичок?! А если улыбалась удача, кричали: старик, ты гений!
Дружба не обязательно требовала «пересечений», «сближений», «кучкований». Но, по словам Гладилина, в посольстве США они выпивали регулярно.
Знакомство с Западом включало не только застолья с дипломатами и постижение тамошней культуры. Порой оно имело и хозяйственное измерение, обильно сдобренное эмоциями человека, на миг попавшего за «бугор». Вот как вспоминал Вознесенский о приключении, пережитом во время первого визита в Европу[34]:
«Я был в восторге от радушного приема, оказанного важнейшими французскими газетами моим поэтическим чтениям: я буквально потерял голову. И вот… в мою гостиницу в Париже позвонили, и слащавый голос сообщил, что господин Фельтринелли[35] прибыл для встречи со мной… Черный лимузин с опущенными шторками поджидал на углу гостиницы Все походило на сцену из триллера. Я не помню, куда меня привезли, возможно, это была вилла или секретная квартира…
И вот он стремительно входит… В глазах у него грустный и лихорадочный блеск. Но самое важное — это его усы, загнутые вниз, как у украинских бандитов. Есть такая гусеница, которая… движется, выгибая спину, ее называют „землемеркой“, говорят, она приносит удачу. Принесут ли мне удачу Фельтринеллевы усы-землемерки?
Я чувствовал в Фельтринелли страсть к приключениям, которая мне так дорога. Он играл роль человека, развлекающегося тем, что подрывает вселенские основы — я был мифом московских стадионов. <…> Фельтринелли предложил мне пожизненный контракт на авторские права на всемирном уровне. Я… никогда не подписывал контрактов: советские законы запрещали прямой контакт с издателями. Теперь мне представился случай! <…> Я согласился, но лишь на итальянские права. Я вел себя как прожженный автор, залпом заглатывая виски. Мне предложили невероятную сумму. Сейчас я не помню ее, но для такого как я, который ни гроша не получал от издателей, речь шла о головокружительной сумме! От удивления я окаменел. Я отказался.
„Тогда сколько же вы хотите?“ Я с усилием назвал цифру в десять раз больше.
Я думал, что с издателями надо разговаривать именно так.
Фельтринелли… бросился вон из комнаты. Я сказал себе: „Андрюша, ты пропал“.
Тремя минутами позже распахивается дверь; входит Фельтринелли, спокойный, но решительный: „Договорились. Как вы хотите получить деньги? Чеком или предпочитаете перевод на банковский счет?“ — „Нет, всё сразу наличными!“ — „Хорошо, хорошо, — сказали усы-землемерки, ощупывая воздух, — но… вам нужно будет приехать в Италию“.
Так я совершил второе преступление. Советские граждане не могли напрямую потребовать визу у иностранного консула. Это можно было сделать только… после детального обсуждения на специальной комиссии. Вместо этого я пошел к итальянскому консулу в Париже и спустя три дня оказался в Риме… Шикарный отель на площади Испании кишел американцами и кардиналами. Я знал, что мне придется потратить все деньги за неделю. Я был уверен, что, когда вернусь в Москву, дорога в Европу будет для меня навсегда закрыта. Поэтому купил меха и украшения для всех друзей… И… забыл в номере подаренный мне рисунок Пикассо».
Вот она — дружба! Пикассо оставил, а ребят не забыл!
«Всё лучше и лучше пишет Андрей Вознесенский, несмотря на то, что неважно себя чувствует. Его ощущение слова, игра словом, мысль, появляющаяся из этой игры, колоссальная изобретательность — просто удивительны. Он — последний живой футурист», — это сказал Аксенов в интервью «Независимой газете» в декабре 2004 года.
Завидная судьба — много лет спустя с того дня, когда английский журнал Observer написал, что ты «как ракета взлетел на усыпанный звездами небосвод поэзии»… С того дня, как твой первый, изданный во Владимире сборник «Мозаика» разгневал власти и его редактора Капитолину Афанасьеву сняли с работы… С того дня, как второй сборник «Парабола» мгновенно стал библиографической редкостью… После того как тебе рукоплескали стадионы… Вдруг узнать из газет, что ты пишешь всё лучше и лучше.
А стадионы рукоплескали… И зал Политехнического, и вузовские аудитории, и рабочие клубы… Он почти с момента знакомства был и остался другом Василия Павловича. До того близким, что не ждал от него ни пиетета в общении, ни точности в воспоминаниях — им хватало любви.
Но в том же интервью «Независимой газете» прозвучит и вопрос-напоминание об отношениях Вознесенского и Аксенова с другим виднейшим поэтом: «Евтушенко говорит, что вы и Андрей Вознесенский вставляли ему палки в колеса, когда он затевал молодежный журнал…» А Василий Павлович ответит: «Он всё переворачивает с ног на голову. У меня дружба осталась, например, с Гладилиным. Мы ближайшие друзья с Ахмадулиной, Вознесенским. А вот с Евтушенко почему-то не друзья».
Впрочем, судя по ряду свидетельств, эта недружба оформилась в 1970-х, когда ее отражение можно было уследить и в стихах.
Вот Вознесенский:
Я не знаю, как остальные,
но я чувствую жесточайшую
не по прошлому ностальгию —
ностальгию по настоящему…[36]
А Евтушенко — в ответ:
Тоска по будущему —
высшая тоска,
гораздо выше,
чем тоска по настоящему.
Не забывай о будущем,
товарищ,
когда ты идеалы
отоваришь![37]
Это — дискуссия в стихах уже за рамками спора друзей. И если предположить, что Евгений Александрович всерьез отвечал Андрею Андреевичу, то в его словах не сложно увидеть упрек. Если не обвинение. Ему, Вознесенскому. Мол, идеалы-то свои отовариваешь — конвертируешь в мировую славу и связанные с ней блага, а о будущем, похоже, не думаешь. А если думаешь, то — о каком?
И даже если эта оценка покажется надуманной, то в любом случае, в этих строках знаменитейших поэтов минувшего полувека сквозит огромная разница мироощущений. У одного — жажда подлинной со-временности — личного соответствия времени —
А, может, в его стихах было и увещевание: зря, мол, ностальгируешь, товарищ! Будет у нас еще
Не случайно известный критик, ректор Литинститута, а потом министр культуры Евгений Сидоров, полагая, что хвалит поэта, писал: «„Бунт“ Евтушенко всегда направлен не на разрушение, а на упрочение… нового мира, певцом которого он себя ощущает и которому верно служит. Это ангажированный социализмом поэт…» По свидетельству многих хорошо знающих Евтушенко авторов, он с юных лет считал, что его стихи — дело политическое. И потому, стараясь быть «острым», точно соизмерял «остроту» с мерой дозволенного. Так, будучи
И, скорее всего, не кривил душой, заявляя: «Между мной и страной — ни малейшего шва»… Впрочем, хоть и говорят, что «советская власть и Евтушенко — неразделимы», под «страной» здесь можно понимать не только красный
Наследников Сталина,
видно, сегодня не зря
хватают инфаркты.
Им, бывшим когда-то опорами,
не нравится время,
в котором пусты лагеря,
а залы, где слушают люди стихи,
переполнены.
<…>
…Мне чудится —
будто поставлен в гробу телефон.
Кому-то опять
сообщает свои указания Сталин.
Куда еще тянется провод из гроба того?
Нет, Сталин не умер.
Считает он смерть поправимостью.
Мы вынесли
из Мавзолея
его,
но как из наследников Сталина
Сталина вынести?
Вопрос о публикации этих стихов решал Секретариат ЦК вместе с судьбой «Одного дня Ивана Денисовича». Говорят, Хрущев заявил: «Если это антисоветчина, то я — антисоветчик».
Но Никита Сергеевич антисоветчиком не был. Как и Евтушенко. Как и Вознесенский, Рождественский, Ахмадулина, Гладилин… В отличие от советского Хрущева они, не будучи
А Евтушенко? Как ему на
Нет, он не оправдывается. Просто указывает, что всё было не так просто, как кажется. И что не любая простота хороша.
Так что — Бог весть. И Он судья поэту.
Но, возможно, именно по грани
Нет ничего мудреного в том, что, ворвавшись в литературу, Аксенов сдружился со многими из них, угодив со своим драйвом, энергией и
Как же возникали эти дружбы? Да обыкновенно.
Анатолий Гладилин вспоминает о знакомстве с Аксеновым сдержанно. Возможно, потому, что оно как-то всё не клеилось. Однажды, рассказывает он, «Вася пришел на юбилей „Юности“ — то есть на крутой редакционный выпивон — с… намерением увидеть того самого знаменитого… Но его не было — уехал в командировку». Наконец, они встретились дома у Гладилина. Правда, на скорую руку: жена Аксенова Кира — в ту пору кормящая мать — торопилась домой к сыну Леше. Но знакомство состоялось. А дальше — пошло-поехало.
А с Беллой Ахмадулиной вышло по-другому. Однажды она просто оглянулась в ресторане Дома литераторов… Вы же знаете, как может вдруг оглянуться красивая и знаменитая дама в ресторане Дома литераторов… А кто-то шепнул: «Вот и этот знаменитый Аксенов»… Могла она не оглянуться? Могла. Но — оглянулась. Ибо в прочитанных ею — как говорила Белла Ахатовна — «мельком» первых текстах Аксенова что-то очень ее растрогало… Она подумала: какой еще молодой! И не в годах дело — Аксенов был старше ее… Просто казалось, что она уже «успела что-то понять, что-то решить». А его повести были «милыми и беззащитными».
А дальше… Они, еще не знакомые друг с другом, летели в одном самолете в Вильнюс. И Белла читала «Новый мир» с его рассказами «На полпути к Луне» и «Папа, сложи!». Ее поразило, как всё написано. Увлекали не только стройность и знание автором житья «простого человека», за ними виделось «что-то более крупное».
Ей почудилось присутствие при рождении нового слога. Нового чувства. Нового облика — не только писательского, но и человеческого. Белла Ахатовна видела: Аксенов
Они, говорила Белла, «странно и внезапно совпали по человеческим и литературным меркам. Это была любовь к дружбе, завещанная Пушкиным, так Пушкин любил дружить».
«Она сестра мне», — ответил как-то Аксенов на чей-то вопрос… Признаться, лишние поводы для таких вопросов были не нужны. Белла и Василий нередко проводили время вместе.
Порой — в простых забегаловках. Одну из них — близ станции метро «Аэропорт» — Аксенов прозвал «Ахмадуловка». Белле нравилась легкость их встреч, хотя оба они над ней и подсмеивались. Это подтрунивание над жизнью и собой было атрибутом того шарма, что сам по себе противостоял времени, «когда и дышать-то было трудно», и друзья спасались лишь весельем и застольем. А застолья случались ошеломительные!
Аксенов рассказывал мне, как однажды они сидели компанией в ресторане Дома актера и с ними — Ахмадулина. «Белла была дивно хороша… И какие-то гады стали посылать ей записочки, клеить. Прямо при муже — Юрии Нагибине. Тот сидел невозмутимо, а мы разозлились и врезали сволочам».
Сама же она любила дарить подарки. Вот и Аксенову подарила красивый альбомчик. Мол, он тебе, Вася, пригодится. И верно. Отсюда пошла привычка Аксенова начинать новый проект с записей в этих книженциях в кожаных или тканых переплетах.
Как-то Белла сидела над стихотворением «Сад». Вдруг вошел Аксенов. Она этот стих, ему посвященный, и дальше хотела писать… Но он вошел, и она закончила. Словами «Я вышла в сад…». Они и стали последним подарком перед его отъездом. Но это — почти через 20 лет…
Не очень хочется обсуждать, почему о ком-то из тогдашних друзей кто-то потом вспоминал с холодком, а о ком-то — с теплом или восторгом. Не знаю, что и как говорил
Ну, да. Булат был с ними «на площади Восстанья полшестого». С гитарой. С мудростью. С «Примой» в углу рта и партбилетом в углу стола, куда пишут… С виноградной косточкой судьбы. А песню Аксенову он посвятит потом…
А тогда был ах, Арбат, его Арбат… И переулки, где вместо «мессершмиттов» как вор
Лишь очень наивные читатели думают, что звездные билеты пересыпаются в лотерейном барабане усталой тетеньки на подступах к вокзалу. Нет! Их влечет из тихих, тайных недр забавный какаду, крутящий головой, присевши на плече шарманщика-слепца, что вдруг забрел в ваш двор, отнюдь не просто так — всего на час свернув с пути в чужие страны…
О коллегах со звездным билетом в кармане пальтишка с поднятым воротником, о дружбе, путешествиях и приключениях можно написать тома. Но важно пометить: Аксенов и среди них стоял особняком. Отчасти потому, что попал в этот круг своим, особым образом. Мимо Литературного института. Мимо войны… Пришел другим путем…
…Двадцать четвертого декабря 1952 года, как обычно, был отпечатан очередной 153 (1086) номер газеты «Комсомолец Татарии».
Те, кто его редактировал и подписывал полосы, не знали, что он станет памятником культуры. Ибо была в нем рубрика «Литературное творчество студентов». А в ней — три стихотворения. Среди которых — «Навстречу труду» студента В. Аксенова.
Это — его первый опубликованный текст.
НАВСТРЕЧУ ТРУДУ
Ревел изо всех лошадиных
сил
Скоростной пассажирский
«ИЛ».
Блестел на солнце гигант —
стрекоза,
Скрывалась из глаз Казань.
Уже промелькнул и остался
вдали
Кусочек знакомой земли.
А дальше, срывая у тучи клок,
Пилот повернул на восток.
Мы вынули карту:
— Давай поглядим.
Как много еще городов
впереди…
На тысячи верст от родного
Кремля
раскинулась наша земля.
И мы, ощущая в кармане
диплом,
Подумали вместе о том,
Что труд наш свободный
вольется вот-вот
В героику новых работ.
И это не шутка, не миф,
не пустяк:
Сады на Чукотке зашелестят,
И с радостным свистом
московский экспресс
Прорежет колымский лес.
И мы, молодые солдаты труда,
Построим в тайге города,
Со сталинским планом
и песней в душе
Заставим весь край хорошеть.
«Комсомолец Татарии» вывешивали и в университете.
— Забавно, — рассказывала Галина Котельникова, — я стою у стенда и слышу, как один студент читает вслух: «И мы, ощущая в кармане диплом…», а другой говорит: а я, черт возьми, в своем кармане ничего не ощущаю — у кого бы рупь стрельнуть…
Надо сказать, что это стихотворение отличается от напечатанных рядом «собратьев» образностью, живостью, динамикой. Другие же состоят из клише. Такая была эпоха — пятилетки стандартных искр…
Студент Егоров завершает стихотворение так:
Поешь ты, радость не тая,
О Родине чудесной.
— И как не петь? Вся жизнь твоя
прекрасна словно песня!
А вот финал у третьего призера — Е. Иванова:
Мы пойдем на стройки и заводы,
Перед нами светлый путь лежит.
Молодежь великого народа,
Будущее нам принадлежит!
Спустя годы Аксенов назвал свои стихи «совершенно дурацкими», хотя и был за них премирован деньгами, которые спустил с друзьями в кабаке.
Само собой, это полудетское стихотворение, в котором лишь при старании можно уловить отзвуки любимого автором джаза, не было
Через четыре года после первой публикации и за три — до решительного шага Аксенова к успеху — в 1956-м — в Казань вернулся его отец Павел Васильевич. Ночью, в общем вагоне, с попутчиком — татарским поэтом Будайли. С вокзала они пошли к поэту домой. Пешком — ибо не знали,
Внезапность его появления на улице Карла Маркса, невероятная одежда и обувь; многократно латанный необъятный мешок, полный неожиданных предметов, нежная встреча с сестрой и фактически незнакомым сыном… Всё это прекрасно описано в рассказе «Зеница ока». Там же говорится о деревянной раскладушке, на которой спал Василий, заходя на Карла Маркса. Той, которой телевидение щедро отмерило минуту славы, повествуя о юноше, спящем на скрипучем ложе под столом… И верно — комнатка была махонькая, а Василий — уже большой. Так что, лежа на раскладушке, и впрямь частично оказывался под столом, что очень его забавляло.
С этой раскладушки он и встал навстречу отцу, с которым они стали друзьями.
Трудно сказать, был ли студент Аксенов в институте на хорошем счету. Он вспоминает об учебе скупо, делая акцент в основном на «студенческой жизни» — как по пивным «таскался в связанном сокурсницей шарфе цветов русского флага», как подчас в голову приходили дерзкие идеи, типа — устроить у храма Спаса на Крови митинг в поддержку венгерского восстания 1956 года. Впрочем, рисковое дело не состоялось.
«Я вспомнил весну 56-го и „школу“ на площади Льва Толстого, арендованную под полуподпольные танцы, — писал он годы спустя. — Никто тогда толком не знал, как „бацать стилем“, но вдруг появились два парня из Штатов, сыновья дипломатов; они знали. Эти „штатники“ плясали в центре зала, а толпа копировала их движения. „Шухер!“ — крикнул кто-то… Появилась комсомольская дружина[39]. Оркестр немедленно перешел на „Молдовеняску“[40]. Дружина удалилась, и опять пошел „стиль“».
Впрочем, жизнь в Ленинграде была полна и других событий. Например — драк. По одиночке — из-за барышень. Или группа на группу. А то и курс на курс! Как-то Каменноостровский (тогда Кировский) проспект был перекрыт гигантским побоищем горного факультета университета и мединститута, где учился Василий.
Тогда же он и попал в ленинградскую литературно-артистическую среду. В больнице им. Эрисмана, где располагались клиники и корпуса института, образовалась компания, в которой больше говорили о литературе, чем о медицине. А потолковать было о чем! То гремела буря с романом «Не хлебом единым», то — с альманахом «Литературная Москва» со стихами Ахматовой и Цветаевой, Заболоцкого и Шкловского. Громко зазвучали в журналах имена Слуцкого, Яшина, Пастернака, Хемингуэя. В Доме культуры промкооперации, где Аксенов посещал литературный кружок, устроили «французский вечер»: открыли на сцене «кафе символистов», читали Бодлера, Верлена, Рембо.
Аксенов познакомился с будущим кинорежиссером — автором «Степени риска», «Монолога» и «Голоса», а тогда тоже студентом-медиком — Ильей Авербахом. Тот курил трубку, обращался к друзьям «старик», мог дать почитать только-только извлеченный из-под спуда журнал «Мир искусства»… Слушал Василий и Александра Городницкого, который в мундире с погонами (такая была форма у студентов Горного института) что-то пел под гитару. Познакомился с поэтами Дмитрием Бобышевым, Евгением Рейном, Анатолием Найманом.
Окончив институт в 1956-м, Аксенов пошел в Балтийское пароходство — хотел работать врачом на судах дальнего плавания. Но его ждало разочарование — несмотря на реабилитацию родителей, визу, нужную для загранплавания, ему не дали. Пришлось ехать в поселок Вознесение, где Свирь впадает в Онежское озеро, — работать главврачом в больнице. И там, в тиши — в паузах между приемами, операциями и антиалкогольными лекциями — он писал повесть «Коллеги». Тогда в тех краях, — рассказывает первая жена Аксенова Кира, — жили удивительные люди с огромными синими глазами, белыми волосами и особым диалектом. Они говорили:
Опыт тех лет отразился в повести «Коллеги» и рассказах конца 1950-х — «Наша Вера Ивановна», «Самсон и Самсониха», «Сюрпризы»… Собственно, прямо из врачебного кабинета он и шагнул в литературу.
Но прежде было много разного.
Лето 1956 года. Люди возвращаются из лагерей. В Ленинград приезжает Юлия Ароновна Менделева. Бабушка дочери репрессированного героя Гражданской войны Лайоша (Людвига) Гавро[41] — студентки московского иняза Киры. Юлию Ароновну — члена партии с 1905 года, депутата Верховного Совета и директора Педиатрического института забрали в 1949-м по «Ленинградскому делу» и вот — отпустили, даже предоставили дачу в Пенатах.
И живут на даче этой закаленная бабушка Юлия и юная красавица Кира, названная в честь Сергея Кирова, с которым у ее мамы когда-то был роман. Кирова убили 14 декабря 1934 года, а Кира родилась 16-го числа того же месяца…
И вот — бабушка читает. А внучка гуляет по Пенатам и шикарно танцует на площадке санатория «Сталинец». И так — танцуя — знакомится с медиком Василием Аксеновым.
А потом все было очень романтично: ночь, луна и стихи под окном… Однажды в окне появляется матрона в ночной рубахе, со свечой в руке и наставительной речью на устах. В передаче Киры Людвиговны она звучит примерно так: «Коллега! Как это понимать? Я пожалуюсь вашему директору!»
А назавтра всё начиналось сначала.
Твои глаза напоминают пруд! —
вдохновенно читал Василий свои стихи, —
В котором навсегда остался черный лебедь.
Твои глаза лукавят, но не лгут!
Сейчас они грустны, сейчас они на небе…
Так допивай вино и доедай бифштекс!
И поскорей, мой друг, на землю опускайся!
Там, где лягушки нам поют бре-ке-ке-ке-кс;
И я в тиши ночной всем этим песням внемлю…
В 1957 году Кира и Василий расписались в Ленинграде. И помчались в Москву — на фестиваль молодежи и студентов. Танцы на смотровой площадке МГУ. Танцы у памятника Юрию Долгорукому. Танцы у станции метро «Проспект Мира»! Танцы, танцы, смешные слова… Гитары, сомбреро, негры какие-то. Невиданная и неведомая атмосфера! И — панорама Москвы, при взгляде с высотки на Котельнической набережной…
Вскоре Аксенов переехал в столицу. Его направили работать фтизиатром в туберкулезный диспансер во Фрязине. Молодожены жили на улице Метростроевской в доме 6 — некогда гостинице «Париж» — трущобе с одной уборной на 30 квартир, а точнее — клетушек. Там, вспоминает Кира, обретались абсолютно деклассированные, удивительные люди. Чего стоил бывший белый офицер, который в белых перчатках выносил горшок за своей престарелой возлюбленной, которую, пока не закрылась дверь, было видно: вот она — в мушках и напудренном парике…
И так — ежедневно отправляясь на работу в подмосковное Фрязино, наблюдая быт и нравы бывших номеров «Парижа», живя на восьми метрах площади, Аксенов пишет прозу. Посылает ее в редакции. Даже, говорят, показывает Эренбургу…
Что именно ответил мэтр — неизвестно. Но известно, что другой, менее видный писатель — родственник Киры Владимир Померанцев, автор очень смелой по тем временам статьи «Об искренности в искусстве», показал тексты Аксенова главному редактору журнала «Юность» Валентину Катаеву. И тот счел их достойными публикации.
Сотрудники «Юности» тех лет вспоминают, что, когда обсуждали первые рассказы Аксенова, прозорливый Катаев сказал: «Он станет настоящим писателем. Замечательным. Дальше читать не буду. Мне ясно. Он — писатель, умеет видеть, умеет блестяще выражать увиденное. Перечитайте одну эту фразу, она говорит о многом: „Стоячая вода канала похожа на запыленную крышку рояля“[42]. Поняли? Сдавайте в набор».
Через несколько дней после выхода его рассказов Аксенов уезжал на военные сборы в Эстонию. Накануне принес новую рукопись:
— Почитайте, пожалуйста. А я оттуда позвоню.
Это была повесть «Рассыпанные цепью». В центре — только что закончившие институт врачи. Начало медицинской практики. Отъезд в разные концы страны. Беда. И помощь другу, который в ней нуждается.
Повесть в редакции понравилась. Увлекательный сюжет. Живые образы. Разнообразие деталей. Но были и вопросы. На звонок Аксенова ответили: на уровне отдела решение, в целом, положительное, но текст надо доработать. Есть в нем, к примеру, такой Владька Карпов и — по сути его копия — некто Мошковский (был в первой версии повести такой персонаж). С Карповым ясно — он один из главных героев, но зачем нужен повторяющий его Мошковский?
Аксенов, которого в редакции тогда (и после) звали Васей, замечания редакции принял — образы Мошковского и Карпова соединил. В итоге получился тот самый доктор Владислав Карпов, которого мы знаем. Двое его коллег — Саша Зеленин и Алеша Максимов доработок не потребовали.
Но не всё было ясно с названием. «Рассыпанные цепью» звучало неплохо, но хотелось чего-то более броского, яркого. Помог Катаев:
— Русские врачи издавна называли друг друга «коллегами». Не дать ли такое название повести?
— «Коллеги», «Коллеги», — повторил про себя Аксенов, — действительно, звучит.
В шестом и седьмом номерах «Юности» за 1960 год «Коллеги» увидели свет. Вскоре Аксенов принес роман «Орел или решка?». Речь в нем шла о десятиклассниках. Когда текст подготовили к сдаче в печать, автор смущенно сказал:
— Когда я принес роман в редакцию, я одновременно показал его на киностудии…
— И что? Мы уже в набор отправляем.
— Смотрите, там в конце Дима после гибели брата приходит в их полуразрушенный дом и ложится на чудом уцелевший подоконник. Он знал, что брат любил лежать на этом подоконнике и смотреть в небо, полное звезд. В финале есть фраза: «…это теперь мой звездный билет». На киностудии роман дали Константину Симонову. Он прочел и предложил новое название: «Звездный билет»…
Предложение приняли. Поменять заглавие было не поздно. Так и сделали, сохранив «орла» и «решку» в названии первой части…
Рассказы Аксенова сопровождало пояснение: «Автор — врач. Ему 26 лет. Печатается впервые». Впоследствии он недовольно морщился, когда ему напоминали об этих текстах. Оно и понятно, ведь не только ранние свои рассказы, но и «Коллег», и «Звездный билет» он считал «детским садом». Однако же уже звучала в них «
В своей наделавшей шуму статье Владимир Померанцев писал: «Всё, что по шаблону, всё, что не от автора, — это неискренне. Шаблон там, где не вгляделись, не вдумались. По шаблону идут, когда нет особых мыслей и чувств, а есть лишь желание стать автором»[43].
Аксенов, несомненно желавший стать автором, с первых же вещей стремился писать
И даже ее минимального «ошкуривания». Он мастерски оставлял в тексте заусенцы и занозы, цеплявшие внимание читателя.
На фоне литературной ситуации, когда, по словам Померанцева, «жизнь приукрашивается десятком приемов…», Аксенов с его правдой молодого человека был очень привлекателен для читателей, утомленных ретушированием и украшательством.
Уже в ранних текстах он предъявляет публике пример «не профессионального барда, а литератора-строителя», на потребность в котором указывал Померанцев. Такой писатель, считал он, «…не станет заглушать проблематику, а будет искать решения любой проблемы нашего сложного и самого интересного времени. Зачем нам идеализация, когда у нас есть и нами осуществляется сам идеал!».
Возможно, Аксенов поверил Хрущеву, вдохновился «оттепелью», допустив, что
Герой этой прозы свободен. Он не похож на плакатные профили юношей и девушек, устремивших взоры в расписное, но фанерное коммунистическое будущее, живущих напряженной, выдуманной жизнью мастеров, сколачивающих стенгазетное грядущее. Герой Аксенова хочет быть настоящим. У него почти нет рабского опыта, и потому он готов и хочет жить по своему велению и хотению. Он не терпит, когда командуют. Он оптимист и верит, что справится. И смеется над теми, кто дрожит и отмалчивается. Вот такой — по тогдашним меркам очень свободный молодой человек.
А зачем ему свобода? И в чем она? Да в простом — в том, чтобы жить по-своему, а не как в стенгазете написано. Хочешь — серьезно, хочешь — шутя. Устраивать праздники. Сидеть в кафешках. Целоваться в метро. Бегать в кино. Купаться в фонтанах. Ходить босиком. Носить хоть широкие брюки, хоть узкие, хоть короткие юбки, хоть длинные. Ездить на взморье. А то и в заграничное лукоморье. Смешивать коктейли. Курить «Голуаз». Блуждать и болтать до утра. Читать хорошие книги и слушать музыку, которая нравится. Импровизировать, танцевать, петь, лепить, рисовать, писать и говорить правду.
Герой Аксенова — не призрак, а деятельный гражданин. Его поступки обусловлены позицией и пусть наивным, но ясным знанием о зле и добре. Нет, он не антисоветчик! Но он помнит о злодействах и скорбит о жертвах, ему чужды интриганство, насилие, донос, мелочный контроль. И он может воскликнуть — совершенно (или почти?) искренне: «Ребята, мы с вами люди коммунизма!»
Вот такая удивительная попытка: идти к коммунизму, делая жизнь с, по сути, западного, не замороченного советскими поведенческими нормами человечества, с ценностей типа «Можно галстук носить очень яркий и быть в шахте героем труда» — как пели в свое время Юрий Долин и Юрий Данцигер на музыку Матвея Блантера[44].
Аксенов хотел показать сверстникам, а еще больше — их младшим братьям и сестрам тех, на кого им следует походить. Желал поведать о поступках, которые можно захотеть повторить. Явил язык, на котором можно хотеть говорить. Стиль, который можно хотеть имитировать. Личное настоящее и будущее, которого можно желать. Подобно Виктору — старшему брату героя повести «Звездный билет» и фильма «Мой старший брат» — желать билета, пробитого звездным компостером, и верить, что этот билет — твой.
Бить ломом в старую стену, которая никому не нужна.
Бить ломом в старую стену!
Бить ломом!
Бить!
Конечно, и
Со времени выхода статьи «Об искренности в искусстве» мера искренности изменилась. И широта взгляда тоже. Выяснилось, что свободных мест для
Но его текст радует читателя и не склонного к рассуждениям над иносказаниями.
Например — образами трудящихся. Ведь тогда именно лесорубы, литейщики, шоферы, электрики, ткачихи, рыбаки занимали ключевое место в любом рассчитанном на успех сочинении. У Аксенова они прекрасны: в «Звездном билете» рыбаки едут в Таллин на выставку графики. А после идут обедать. И — выпив за обедом «несколько бутылочек» — следуют в концерт, где внимают скрипкам, виолончели и пению. Ильвар засыпает. Володя спешит в буфет. А утром — в рейс к Западной банке. Чудн
И в «Коллегах» рабочий человек прост и мил. Главного героя — доктора провинциальной больницы Зеленина, бросившего клич «В борьбу с алкоголизмом должна включиться общественность!», общественность спрашивает: «Сам-то совсем не употребляешь?» И в ответ на лепет: «Я… умеренно… если повод, так сказать» — хохочет: «Повод найти не сложно». Таковы люди труда. Сперва они находят повод. Потом перевыполняют план. А мерзавцев изгоняют и карают. Вот такие
То, как Аксенов обращался с образом человека труда, не нравилось критике. А публике — нравилось. Это случай, когда автора сделал знаменитым не телевизор, не скандал или цеховые панегирики, а книги. Современники потянулись к нему. И читатели, и литераторы, и товарищи, в чьи обязанности входило с ним
«Шестидесятникам» были доступны чужие страны. В первые же годы известности Аксенов успел много где побывать. О, эти его заметки о Японии!..
Впрочем, тогда загранпутешествия совершались с разрешения или по поручению властей. А коли их не было, Париж заменяли Вильнюс, Таллин, Рига, Львов и вообще Прибалтика и Закарпатье — этот
Много лет спустя в книге «Улица генералов» Анатолий Гладилин вспомнит эпизод из жизни Константина Симонова… В самую теплую пору «оттепели» на некоем выпивоне отважные молодые литераторы упрекнули старика: вы продавались, служили властям, а мы — не продаемся! Симонов усмехнулся и спросил:
— А вас покупали?
Кто даст сегодня ясный ответ на этот вопрос? Не знаю. Но, судя по рассказам владельцев звездных билетов, сперва власть их не очень-то покупала. Ничего выходящего из ряда вон им не предлагалось. Публикации, книги, вечера, «артистическая жизнь», путешествия и прочие блага казались тем, кто их
Итак — старт 1960-х. Василий и Кира живут в Москве. Она учится языкам и пению, готовится родить сына. Он каждый день ездит в туберкулезный диспансер, а вернувшись — пишет.
Однажды ему позвонил Авербах: старик, я в Москве, хорошо бы встретиться.
— Обязательно встретимся, старик! И пойдем-ка мы с тобой в «Пльзень».
То был безумно модный чешский пивбар в парке им. Горького. Там встречались все… В «Пльзене» было хорошо. Пахло Европой, свежим пивом и шпикачками.
Авербах пришел с рыжим парнем, одетым — о чудо! — в настоящие американские джинсы.
— Вася, — представился Аксенов.
— Алик, — представился парень.
Это был уже знаменитый в узких кругах Александр Гинзбург — театрал, скалолаз, постановщик пьес Эжена Ионеско в городе Коврове, герой фельетона «Бездельники, карабкающиеся на Парнас» и издатель рукописного журнала «Синтаксис». В нем, говорят, наряду с московскими «литературными подпольщиками» вроде Генриха Сапгира и Сергея Чудакова, не стеснялись публиковаться Белла Ахмадулина и Булат Окуджава.
Авербах изумился, узнав, что друг Василий — «настоящий советский писатель». А Гинзбург — не удивился вовсе. «Мы живем в мире фантастики! — вскричал он. — …Они не могут за нами уследить. (Говоря
Многим и впрямь казалось, что достаточно быть смелым, творческим, заводным и не нападать открыто на режим, и р-р-раз — станешь лидером артистического движения, известным художником, влиятельным критиком — покровителем молодых талантов…
Через две недели Гинзбурга арестовали. Дали два года. Перевели стрелку жизни. Был фрондерствующий артист. Стал политический борец. Второй раз в СССР Аксенов увидел его в 1967-м. Алика выводили из здания суда. Дали срок, посадили в воронок и услали на северо-восток.
Но в тот вечер никто ни о чем таком и не думал. В баре «Пльзень» составилась компания веселая, большая и отправилась гулять по Москве, распевая песни Окуджавы и травя анекдоты, вроде: «Лежат Ленин и Сталин в мавзолее. Вдруг — шум: Хрущев прется с раскладушкой. Ленин ему радушно: „Устраивайтесь, товагищ!“, а Сталин: „Куда? Здесь тебе не общежитие!“». Взрыв беззаботного хохота.
Казалось, уже многое можно. Почти всё. Не верилось, что у власти-то дело было за малым: собраться и разобраться с теми, кто идет не в ногу.
Возможно, кое-что в этом тексте может показаться не вполне понятным некоторым читателям. Скажем, тем, кто родился после 1990 года. Например: почему джинсы — чудо. И почему боялись рассказать анекдот. Или — за что арестовали Гинзбурга.
Сегодня самочинная постановка пьесы, как и издание самодеятельного журнала или сайта, не кажется молодым людям чем-то из ряда вон выходящим. В их распоряжении есть нужная техника и возможности. Идеологические запреты лежат вне их реальности. Даже если в своих поисках они вторгаются в социальную жизнь, а то и в политику.
Вместе с остатками советской системы в прошлое уходит и знание о ней. И потому многое описанное может удивить. Например, озабоченность государства ситуацией в искусстве. Или выступление его лидера в роли художественного критика. Кто-то может не знать о союзах писателей. Кому-то, возможно, будет невдомек: как это одни авторы ругают других за интервью иностранному журналу. Или — за изданную за границей книгу. Поэтому, думаю, нужно коротко разъяснить социально-политическую и культурную ситуацию того времени. Те, кто в курсе, могут пропустить следующие несколько абзацев.
Начнем с творческих союзов и их задач.
Главная состояла в управлении артистическим цехом. Это касалось всех — союзов писателей, журналистов, художников, композиторов, архитекторов, театральных деятелей, кинематографистов… Идеологическое и политическое руководство — партия и правительство — считали искусство важным инструментом формирования норм и рамок поведения и деятельности людей, влияния на сознание участников проекта, цель которого — коммунизм — общество, основанное на общественной собственности и принципе «
Примеров реализации этого принципа не имелось. Но считалось, что в период перехода от капитализма к коммунизму работал другой принцип: «
Максимально упрощая, можно сказать, что система требовала от людей самоотдачи не ради личного блага, а ради блага общего. Дело осложнялось тем, что, во-первых, при отсутствии частной инициативы не удавалось производить объем товаров и услуг, позволяющий воздавать трудящимся по труду, а во-вторых, кроме «социалистического мира», где проходил этот эксперимент, существовал мир капиталистический — построенный на частной собственности и инициативе и именуемый Западом. Считалось, что он враждебен и придется его разрушить. Поэтому надо крепить военную мощь и расширять влияние системы, лидером которой был СССР. При этом во враждебном мире, где мало кто ставил задачей воздаяние по труду, количество и качество товаров и услуг превышало доступное жителям мира социалистического. Где у многих людей были сложности с покупкой предметов одежды и обихода, а также продуктов питания, которых не хватало.
Это делало необходимым не
Как? Путем принуждения к труду. Или — созданием системы привилегий, в зависимости от места работы или должности. А также агитацией — убеждением в том, что надо, во-первых, любить коммунистическую партию и ее вождей; во-вторых, следовать заветам ее создателя — Ленина; в-третьих, отдавать обществу всё больше времени и сил; в-четвертых, видеть в Западе врага.
Полагалось думать, что там
Пропаганда убеждала: культура Запада опасна. Она служит оружием в борьбе систем — отвлекает строителей коммунизма от дела. Поэтому поступление ее произведений в СССР нормировалось. Однако в их зловредности приходилось убеждать. Ибо люди не понимали: что страшного в том, чтобы смотреть западное кино или «крутить» западную музыку на хорошем западном проигрывателе.
Предполагалось, что убеждать народ в том, что у нас всё в основном хорошо,
Стимулом были привилегии. Гонорары, дома творчества, дачи, квартиры и автомобили (которые тоже распределялись), особые детские сады и лагеря, организация концертов и выставок. Входили в число привилегий и поездки за рубеж — для демонстрации наших достижений.
Эти блага были инструментами управления. Их и обеспечивали творческие союзы.
Взамен требовалась лояльность. Не всегда нужно было рвать на груди рубаху, воспевая власть. Можно было тихо петь о любви. Но при этом создавать сочинения, потребные для воспитания «советского человека — строителя коммунизма».
Если же творец вел себя иначе, на него начинали влиять — побуждать следовать предписанным нормам. Одним из средств воздействия считалась публичная критика. Отказ же от исправления грозил карой. Мера ее суровости варьировалась — от запрета публикаций (концертов, выставок и т. п.) до заключения. Серьезными проступками были самовольные передача произведений за рубеж и контакты с иностранными СМИ. Ну а люди искусства часто относились к этим запретам небрежно, считая общение с коллегами «из-за бугра» приятным и полезным, а с журналистами — естественным…
Простите за экскурс. Но, думаю, он поможет понять ряд поступков как людей власти, так и людей искусства в той ситуации, в которой жила страна.
Итак, коммунистическая партия не собиралась сдавать позиции на фронте борьбы идей. Смерть Сталина. Казнь Берии. Разоблачение «культа личности» на XX съезде КПСС. Реабилитация осужденных. Фестиваль молодежи. Ряд послаблений творческому цеху. Пестование надежд на открытый миру гуманный социализм. Но… у ручьев «оттепели» имелись берега.
Однако ранняя, быстрая и громкая слава «шестидесятников» породила в их среде иллюзию бескрайних возможностей: кто, мол, нам мешает расширить любые пределы? Для них десятилетие началось с успехов. В том числе — и для Аксенова.
В 1960-м у него родился сын — Алексей, названный в память об умершем в войну единоутробном брате писателя. После того как в «Юности» (три с половиной миллиона подписчиков!) вышли в свет «Коллеги», повесть издал «Советский писатель», поставили в филиале Малого театра, в театре им. Гоголя, Ленинградском ТЮЗе…
В 1961-м в шестом и седьмом номерах «Юности» выходит «Звездный билет» и возносит Аксенова к литературным звездам. Номера популярного издания и «Московского комсомольца», где печатались отрывки, таскают из библиотек, подобно пылкому читателю (будущему видному писателю) — юному Вите Ерофееву. Кто знает, как это повлияло на судьбу закоперщика дерзновенного альманаха «МетрОполь»…
Аксенов и режиссер Алексей Сахаров написали по «Коллегам» сценарий и сняли фильм, в одночасье ставший хитом… Василий Ливанов, Василий Лановой и Олег Анофриев очаровали зрителей, а песня Геннадия Шпаликова про «пароход белый-беленький» враз стала народной.
Не меньше очаровали зрителя Ефремов, Миронов, Збруев, Даль и Людмила Марченко — герои киноверсии «Звездного билета», снятой Александром Зархи по сценарию, написанному Аксеновым, Анчаровым и им самим, и вышедшей в 1962 году под названием «Мой младший брат».
Аксенов стал знаменитым. Не в последнюю очередь — благодаря бичеванию со стороны критиков, не увидевших в книге «вдохновляющего образа положительного героя — строителя коммунизма». Первый секретарь ЦК ВЛКСМ Сергей Павлов называл героев «Звездного билета» не иначе как «фальшивомонетчиками»…
(Любопытно, что через два года после публикации романа в СССР перевод «Звездного билета» вышел в Китае. Но — только для «специального пользования» местных партийцев, тиражом в десять тысяч экземпляров. Аксенов узнал об этом только в сентябре 2005-го, когда впервые побывал в Пекине. Тогда «Билет» издали вновь, открытым тиражом. А в 2006-м решили напечатать «Коллег»…)
Итак, известность — известностью, а комсомол и его пресса взялись за Аксенова всерьез. И тут его позвал на беседу главный редактор второй по значению газеты страны — «Известий» (и, как считали многие, второй по влиянию человек страны), зять Никиты Хрущева — Алексей Аджубей. Пригласил и спросил: «А не податься ли вам куда-нибудь подальше от Москвы и поближе к стройкам семилетки?[45] Ну, скажем, в качестве спецкора „Известий“. Тем временем страсти и улягутся».
Аксенову выдали командировочное удостоверение и сопроводительное письмо: «Уважаемые товарищи! Прошу оказывать необходимое содействие специальному корреспонденту газеты „Известия“». Далее — имярек и крупная разборчивая подпись: Алексей Аджубей. С этими документами прозаик улетел на Сахалин.
Там вокруг Аксенова сложилась компания журналистов, литераторов, музыкантов, которых потом, как рассказывал Александр Кабаков, шельмовали в фельетонах под кличкой «подаксеновики». Некоторым пришлось уехать навсегда…
Аксенов был поражен: Сахалин — это истинный «край непосед», где песню про то, как «меня мое сердце в тревожную даль зовет», поют на полном серьезе. Ибо презирают «куркульство», тесовые заборы и сундуки, а любят «снег и ветер или звезд ночной полет». А если вечером есть электричество — врубают радиолу и крутят подряд всю серию «Вокруг света». Про всё это Аксенов и написал в очерке «Снег и ветер солнечной долины», опубликованном 12 января 1962 года в «Известиях» на две трети полосы.
К тому времени страсти и впрямь поутихли. Публикацию приняли как знак того, что «фрондер» отныне под высоким покровительством. А что в заголовке обыграно название джазового шлягера, как-то не заметили… Возможно, слухи о протекции Аджубея сыграли роль и в решении снова послать Аксенова на Дальний Восток — но на сей раз в Японию. О чем он и написал «Японские заметки»[46] про профессора Курода, университет Васэда, сад Уэно, русский бар «На дне», гейш, Фудзи и якудза. Но главное — Аксенов привез оттуда впечатления и мысли, которые, не расплескав в очерке, сберег для книги, которую начал писать зимой 1962-го, — «Апельсины из Марокко».
Конечно, в его жизни, кроме творческих планов, было много других вещей, рождающих интерес….
В кооперативном доме «Советский писатель», что на 1-й Аэропортовской, живут Окуджава и Мариэтта Шагинян — автор умилительных сочинений о Ленине и хозяйка черного спаниеля по кличке Глюк. Конечно, дама, прозванная «искусственным ухом рабочих и крестьян» (и впрямь обладавшая сверхмощным импортным слуховым аппаратом), не знала жаргонного словечка
Позже в тот же дом переехала и Евгения Гинзбург — в однокомнатную квартирку, которой через несколько лет предстояло стать штабом литературной фронды.
Во дворе прогуливались знаменитости. Рядом располагался детский сад Литфонда, куда они водили детей. А потом — залезали в окошко к Аксенову — благо квартира была на первом этаже. Особенно любил это дело Олег Табаков.
Случалось, семья отправлялась в гости к Евтушенко. Он любил экзотику, держал на видном месте привезенный из тропиков панцирь океанской черепахи.
Ну а Василий Павлович из поездок привозил всё больше штуки полезные. Например — японских игрушечных роботов с сияющими глазами и уоки-токи с антенками, да такие, что и вправду годились для переговоров, хотя и на не слишком больших расстояниях…
Белла Ахмадулина рассказывала, как за границей Аксенов однажды купил пальто для мамы. Продавщица спросила: «Неужели у вас, русских, так холодно, что вы все пальто покупаете?» Потом Василий узнал, что незадолго до него там покупал пальто Рудольф Нуриев.
Аксенов привлекал людей, быстро становился центром любой компании. Как и теперь, в советское время знаменитость легко обрастала приятелями. Как и теперь, мир искусства был полон около-художественных тусовщиков.
Вот, скажем, любопытный персонаж по прозвищу «Стальная птица» — Владимир Дьяченко. Известнейший стиляга! У него была «победа» — ну то есть та самая «Папина победа», склеенная с подачи журнала «Крокодил» с образом юноши дурного поведения. Жил он в небоскребе на Котельнической — проезжая в «победе» да с девочками через Большой Устьинский мост, говорил: ну, вот, чувишки, и моя избушка. И — указывал на хоромину, будущую героиню романа «Москва-ква-ква». Володя был режиссером. В том смысле, что ВГИК закончил, но фильм снял только один — вместе с Петром Тодоровским, который, говорят, и сделал всю главную работу. Прозвище «Стальная птица» он получил за то, что как никто умел проникать в крутые рестораны, куда очередь стояла «с прошлой зимы». Помните песню: «…там где пехота не пройдет… там пролетит стальная птица!»? Вот Володя и пролетал…
Это он учил Аксенова и Окуджаву водить машину. Он же подбил Василия взять напрокат «Москвич-403» цвета морской волны и двинуть в Эстонию — в Кейла Йоа. Там они жили в старой казарме, где по лестницам бродили соседские козы и где Аксенов как-то сутки напролет писал рассказ. Написал. И рухнул на пол. Но написал-то ведь «Дикого» — ч
Аксенов долго ездил без прав. Как-то они с Кирой возвращались с дачи Окуджавы в Химках. По дороге домой, в районе Речного вокзала Аксенова «тормозят». Инспектор требует права. Писатель заявляет, что забыл их дома. Прекрасно! — говорит ушлый гаишник. — Едем домой! Едут. «Это был ужас! — вспоминает Кира. — Но вопрос решили: Вася вынес офицеру бутылку, и все остались довольны».
Впрочем, первой авто освоила Кира. Окончив курсы водителей в автодорожном институте, изучив автомобиль ГАЗ и получив права, она отважно села в «запорожец» и двинулась за картошкой на Ленинградский рынок. Но — въехала в дерево и больше за руль не садилась.
На эту свою первую машину — 43-сильный «запорожец» — Аксеновы одолжили денег у Евтушенко. «Тачка» оказалась капризной — то перегревалась, то переохлаждалась. Как говорила Кира, ее в основном носили на руках. А в остальном машина была хорошая. Просто не любила ездить. Короче, из тех, о которых водила Гладилин писал: «…они переворачивались, пройдя первую тысячу километров, а после второй тысячи рассыпались на части».
Вот эта компания — Ахмадулина, Вознесенский, Гладилин, Олег Табаков, Михаил Козаков, Ефремов, Евтушенко и немало других и тусила — то в Прибалтике, то в Питере, то в Крыму, то в Москве. Часто — в доме Аксенова. Там всё время кто-то сидел, болтал, выпивал. Алешу отводили в его комнату, где мама Киры — бабушка Берта (она приезжала из Новых Черемушек) рассказывала ему про танки. С тех пор он знает о них, возможно, побольше иного танкиста…
Но с чего бы это вдруг бабушка — и о танках? А с того, что Берта Ионовна Лейбина много лет прослужила в танковых войсках и ушла в отставку в звании подполковника. Она хорошо разбиралась в вопросе. Любила поговорку «порядок в танковых войсках» и через несколько лет с полным правом вошла в повесть «Мой дедушка — памятник» под именем Марии Спиридоновны Стратофонтовой — ветерана бомбардировочной авиации. Равно как и Алеша стал «маленьким Китом — лакировщиком действительности» в написанном в 1964 году одноименном рассказе.
В январе 1963-го в первом номере «Юности» вышли «Апельсины из Марокко». Во втором — «Первый день нового года» Гладилина. Прошло совсем немного времени с той поры, когда Твардовский победоносно прохаживался по ЦДЛ с одиннадцатым номером «Нового мира» за 1962 год, где был опубликован «Один день Ивана Денисовича» Солженицына. Пишущая и читающая публика спорила, кто острее: Солженицын или Виктор Некрасов и его книга «По обе стороны океана». Возникало ощущение начала нового наступления либералов по всему фронту.
Первые дни нового года принесли свежие и живые книги молодых, известных и талантливых авторов. Но критика встретила их без восторга. В «Литературной газете» Лариса Крячко в статье «Герой не хочет взрослеть» выговаривала авторам за то, что — опять! — вместо примеров для строителей коммунизма, они являют читателям инфантильных, незрелых, неспособных на решения людей, подобных герою романа Сэлинджера «Над пропастью во ржи». В другой публикации говорилось: «…мы верили, что он (Аксенов) может правдиво показать людей труда. Но наши ожидания не оправдались. В „Апельсинах из Марокко“ им снова выведены какие-то странные личности, говорящие на диком жаргоне, по сути ничего не имеющие за душой». Досталось и Войновичу за рассказ «Хочу быть честным», и Садовникову за «Суету сует», и Казакову за «Адама и Еву», и Вознесенскому за слова «дитя социализма грешное»… Дискуссия вокруг «молодой прозы» становилась отражением противоборства сталинистов и антисталинистов в эшелонах власти.
Тем временем по сценарию Аксенова Третье творческое объединение «Ленфильма» снимает ленту «Когда разводят мосты». Критика беспокоит автора, ибо в то время ее негативные оценки могли остановить любой проект.
Близился Женский день. Время мимоз и подарков. Получили «подарок» и деятели культуры. В канун «праздника весны» партия пригласила их в Свердловский зал Кремля.
Анатолий Гладилин вспоминает об этом так[49]: «Седьмое марта 1963 года. Я жду в ЦДЛ, когда вернутся наши ребята. Наши ребята — на встрече Партии и Правительства с творческой интеллигенцией. Наши ребята держатся молодцом, вчера хорошо выступал Роберт… Но почему-то долго затягивается эта встреча с Партией и Правительством.
Наконец, в Пестрый зал входит Аксенов.
Лицо белое, безжизненное.
Впечатление, что никого не видит.
Я беру Аксенова под руку, подвожу его к буфету, говорю буфетчице, чтоб налила полный фужер коньяку, и медленно вливаю в Аксенова этот коньяк. Тогда он чуть-чуть оживает и бормочет: „Толька, полный разгром. Теперь всё закроют. Всех передушат…“
Далее мы сидим за столиком вместе с Эриком Неизвестным, тоже вернувшимся со встречи, и Эрик, которому после „Манежа“[50] уже ничего не страшно, внятно рассказывает, что происходило на встрече с Партией и Правительством.
Хрущев топал ногами на Вознесенского.
Хрущев стучал кулаком по столу и кричал Аксенову: „Вы мстите нам за своего отца!“ А Вася, по его словам, отвечал Хрущеву — дескать, почему я должен мстить, мой отец вернулся из лагеря живым. А по словам Эрика, Вася стоял на трибуне совершенно растерянный и повторял: „Кто мстит? Кто мстит?“».
По официальной же версии дело было так…
Впрочем, сперва припомним рассказ участника событий — Василия Павловича Аксенова, вложенный в уста героя его романа «Ожог» — зрелого, хотя и противоречивого, писателя Пантелея Аполлинарьевича Пантелея. Вслушаемся в рассказ о том, как под куполом Свердловского зала Кремля «кончилась его молодость».
«…Зал гудел сотнями голосов, словно некормленый зверинец.
— Пантелея к ответу!
— Пантелея на трибуну! <…>
— А ну иди сюда, — хрипловато сказал в микрофон Глава… — Иди, иди, я тебя вижу! — Палец, известный всему миру шахтерскими похождениями, нацелился в противоположный от Пантелея угол зала. — Вижу, вижу, не скроешься! Все аплодировали, а ты не аплодировал! Очкарик в красном свитере, тебе говорю! Иди на трибуну!
Приметы злого битника, „пидараса и абстракциста“ были хорошо известны Главе. Злой битник… любил шумовую музыку джаст и насмехался над сталинистами… Этак… и до нашей культуры доберется, подточит ядовитыми насмешками… Пока не поздно, по зубам им надо дать. <…>
— Мстишь нам за своего отца?..
— …Я не Пантелей!..
— Это не тот, экселенц, небольшая ошибочка.
— Иди на место! — рявкнул Глава…
— Слово имеет товарищ Пантелей…
Как? Вот этот тридцатилетний молокосос… и есть коварный словоблуд, вскрывающий сердца нашей молодежи декадентской отмычкой, предводитель битнической орды, что тучей нависла над Родиной Социализма?…В штанах у Пантелея-отступника, конечно же, крест, а на груди под рубашкой висит порнография и песни Окуджавы…
— дорогие товарищи дорогой кукита кусеевич с этой высокой трибуны я хочу критика прозвучавшая в мой адрес справедливая критика народа заставляет думать об ответственности перед народом перед вами мадам… истинно прекрасные образы современников и величие наших будней среди происков империалистической агентуры как и мой великий учитель Маяковский… я не коммунист но…
Мощный рык Главы ворвался в дыхательную паузу Пантелея:
— И вы этим гордитесь, Пантелей? Гордитесь тем, что вы не коммунист? Видали гуся — он не коммунист! А я вот коммунист и горжусь этим!.. (Бурные продолжительные аплодисменты, крики „Да здравствует дорогой Кукита Кусеевич!“, „Позор Пантелею!“) Распустились, понимаете ли! Пишут черт те что! Рисуют сплошную жопу! Снимают дрисню из помойной ямы! Радио включишь — шумовая музыка-джаст! На именины придешь — ни выпить, ни закусить, сплошное ехидство! Мы вам здесь клуб Петефи[51] устроить не дадим! Здесь вам не Венгрия! Порукам получите, господин Пантелей! Паспорт отберем и под жопу коленкой! К тем, кто вас кормит! В Бонн! (Оживление в зале, возгласы: „За границу Пантелея!“, „Психи, шизоиды, за границу их, в Анадырь!“)
Пантелей (на грани обморока…):
— Кукита Кусеевич, разрешите мне спеть!
— (…Одинокий возглас с армянским акцентом: „Хватит демократии, пора наказывать!“, добродушный смех — ох, мол, эти кавказцы.) Вот так, господин Пантелей! История беспощадна к ублюдкам и ренегатам всех мастей!..
Пантелей (из пучин обморока):
— Разрешите мне спеть, дорогие товарищи!
Крики из зала:
— Не давать ему петь! На виселице попоешь! За границей! Знаем мы эти песни!
Глава поднял вверх железные шахтерские кулаки.
— Всех подтявкивателей и подзуживателей, всех колорадских жуков и жужелиц иностранной прессы мы сотрем в порошок! Пойте, Пантелей!
Незадачливый ревизионист растерялся… собираясь грянуть „Песню о тревожной молодости“… медовым баритоном завел „Песню варяжского гостя“. <…>
Глава слушал, закрыв лицо рукой. Старший сержант гардеробной службы Грибочуев уже готовил реплику „с чужого голоса поете, мистер“. Ария кончилась.
— Поете, между прочим, неплохо, — хмуро проговорил Глава.
Пантелей… увидел, как из-за пальцев поблескивает клюквенный глазик Главы. Ему показалось, что Глава подмигивает ему, будто приглашает выпить.
— Поете недурно, Пантелей. Можете осваивать наследие классиков. Лучше пойте, чем бумагу марать. <…> Будете петь с нами, Пантелей, разовьете свой талант. Запоете с ними, загубите талант, в порошок сотрем. С кем хотите петь?
— С моим народом, с партией, с вами, Кукита Кусеевич!..
Глава неожиданно для всех улыбнулся:
— Ну что ж, поверим вам, товарищ — ТОВАРИЩ! — Пантелей. Репетируйте, шлифуйте грани, трудитесь. Вот вам моя рука!
Восторженные крики либералов приветствовали это спасительное и для них рукопожатие, а сержант гардеробной гвардии Берий Ягодович Грибочуев в досаде ущипнул себя за левое полусреднее яйцо —…не клюнул „кукурузник“ на наживку!»
Но это — литература. Открытые официальные хроники не передают беседы вождя Никиты Сергеевича (Кукиты Кусеевича) с писателем Василием (Пантелеем), как и с поэтом Вознесенским, сценаристом Шпаликовым и другими объектами «суровой критики». Но остались воспоминания — их самих и других свидетелей.
Вот, к примеру, разговор Хрущева с автором сценария «Заставы Ильича». Увидев, что сидящий вблизи президиума Шпаликов улыбается, Глава спросил: «Вы кто?» Тот ответил, что автор сценария такого-то фильма. Хрущев: «Чем сидеть и улыбаться, вышли бы и объяснили, как вы докатились до такого маразма человеческого, чтобы написать такое». На это Шпаликов попросил: вы лучше похлопайте мне и поздравьте — дочка родилась. И генсек захлопал. А за ним — зал. Аплодисменты заглушили последние слова сценариста: «…а вы здесь сидите и занимаетесь черт знает чем». Их слышали только ближайшие соседи. К счастью или несчастью — сказать сложно. С одной стороны, такая простодушная отвага могла выйти сценаристу более чем боком, а с другой — добавила острой специи в миф о «шестидесятниках».
Однако миф — мифом, а в «Правде» и «Литературной газете» доступны версии речей — и самого Главы, и того, кого Аксенов в «Ожоге» именует Верховным Жрецом, — секретаря ЦК КПСС Леонида Ильичева. Они дают внятную картину гонения.
Поскольку мы говорим об искусстве, остановимся в основном на «Литературке».
Итак, № 30 от 9 марта 1963 года. Первая полоса. Шапка: ВСТРЕЧА В КРЕМЛЕ. Деятели советской литературы и искусства — с партией, с народом. Советская творческая интеллигенция: «нет» — безыдейности, формализму, псевдоноваторству. О гражданской позиции художника, об искусстве большой коммунистической правды, о борьбе с чуждой идеологией.
Заголовок: «Об ответственности художника перед народом». Речь секретаря ЦК КПСС Л, Ф. Ильичева[52] на встрече руководителей партии и правительства с деятелями литературы и искусства 7 марта 1963 года.
Речь длинная. Потому приведем лишь самые важные для нас ее фрагменты: «…Когда формалисты пытаются присвоить себе славу „правдолюбцев“, „искателей истины“, „новаторов“… — их заявления воспринимаются как ничем не подкрепленная претензия, попытка захватить что-то, им не принадлежащее…
— Полноте, — говорят им советские люди… — Лишь искусство социалистического реализма… является по-настоящему правдивым в
И дальше — одна из ключевых идеологических формул 1963 года: «
Следом высказались мастера культуры, быстро определившиеся с кем они.
Александр Прокофьев, обрушиваясь на Андрея Вознесенского за сборник «Треугольная груша», взывал: «Нельзя на словах признавать правду, а дружить с кривдой». Это означало, что даже если тебе очень понравилась Америка, но ты любишь родину, нельзя тепло писать о них обеих. А то получится безыдейность. Они же враги…
Сергей Михалков предупреждал: «Чуждый нам мир следит за нами. И всеми правдами и неправдами стремится то тут, то там нащупать наши слабые места. Тот, кто этого не видит, тот слеп!»
Имеются в виду перечисленные Ильичевым крамольники: Аксенов, Вознесенский, Евтушенко и др. Обличения публикуются миллионными тиражами. Есть от чего побледнеть. Спустя годы в книге «Таинственная страсть» Аксенов признается, что, выходя в тот день с Вознесенским из Кремля, ждал ареста.
Двенадцатого марта «Литературная газета» опубликовала речь Хрущева «Высокая идейность и художественное мастерство — великая сила советской литературы и искусства». В ней всё расставлено по местам. Искусство хорошо лишь тогда, когда пронизано идеями Ленина. Иначе не ясно, как «человек закончил советскую школу, институт… ест народный хлеб. А чем отплачивает народу, рабочим и крестьянам?..». Говоря так, Глава имел в виду всех деятелей искусства, которые пришлись ему не по душе.
Хрущев — любитель песен «Рушничок» и «Замучен тяжелой неволей…» — обругал джаз: его, мол, «слушать противно». Разгромил фильм «Застава Ильича»: «Вы что, хотите восстановить молодежь против старших поколений, внести разлад в дружную советскую семью?» Отчитал Евтушенко за «Бабий Яр» — там же не только евреев убивали! — и попытки оправдать абстрактное искусство. Потребовал: «Вам надо ясно осознать, что… если противники начинают восхвалять вас за угодные им произведения, то народ будет справедливо вас критиковать. Так выбирайте, что для вас лучше подходит».
Впрочем, не забыл похвалить песню «Хотят ли русские войны?».
Досталось и Рождественскому. За попытку отпора стихотворному доносу Николая Грибачева на «шестидесятников» «Нет, мальчики!..». А сам Грибачев был прославлен как «поэт-солдат», «без промаха бьющий по идейным врагам».
И всё же… Это была немалая сила — современная литература, современное кино, современная живопись! Глава сверхдержавы знал имена писателей, режиссеров, художников. Общался с ними. Считал это важным…
Вряд ли здесь можно удовлетвориться объяснением типа «время было такое». Или — «обстановка была такая». Время всегда свое. И обстановка оч-чень не простая.
Это литература была такая. Художники — по большому счету — были такие.
Однако… открывается сезон порицаний и покаяний.
«Зарвавшимся одиночкам — и старым, и молодым — наш здоровый, могучий, многонациональный коллектив советских писателей заявляет: „Одумайтесь, пока не поздно. Советский народ терпелив. Но всему есть предел“», — советовал Любомир Дмитриенко в «Правде» в статье «Против идейных шатаний». А когда в «Правде» советуют, отвертеться сложно.
Собираются пленумы творческих организаций. Попытки защитить «молодую литературу» пресекаются. На пленуме Московской писательской организации под удар попадает Александр Борщаговский. «По его мнению, — утверждают критики, — Аксенов всего-навсего в „беспокойном поиске“. Сейчас известно, что этот поиск привел к „Апельсинам из Марокко“. Борщаговский замечает, мол, „критики молодых иной разделают вид, что им известен… совершенный герой… Молодые писатели нигде не находят героя, которого им предлагают…“». И — апперкот: «Понимает ли Борщаговский, на кого он замахнулся? На самое дорогое в нашей жизни — на советского человека, строителя коммунизма! „Некий совершенный герой“. А почему бы и не совершенный?..»
И впрямь: почему бы — не совершенный?
«По старым меркам, — вспоминают друзья и коллеги Аксенова, — двух статей в „Литературке“ хватило бы на десять лет лагерей, а „Литературка“ плевалась полгода…»
Опальным авторам указывают на ошибки, требуют их признания. В пример ставятся Грибачев и Солженицын. Первый, понятно за что — его хвалил Глава. А за что Солженицын? Не за разоблачения ли сталинщины? Нет. Лагерная повесть «Один день Ивана Денисовича» нравится критике. Во-первых, тем, что нравится Хрущеву, а во-вторых, что стала «…новым словом в раздумьях о жизнеспособности, здоровье народного характера… человека, который уцелел на войне и в мрачных пространствах земли, полагаясь на неиссякаемую свою любовь к труду, на непритязательность жизненных запросов». То есть неправое осуждение на голод, холод, непосильный труд — всё, что обличает Солженицын, — это для критики лишь малозначащий фон, на котором разворачивается новелла о русском мужике, побеждающем всё мощью своих скромных запросов.
А — у «шестидесятников» — экие запросы! Им подавай признание, свободу творческую, выпивку в ЦДЛ, мировую славу… А шиш с маслом не желаете? Нет? А вот сейчас скажут свое слово трудовые коллективы. И сказали. Аксенова разбирают по косточкам работники завода «Каучук». «Заставу Ильича» безжалостно бичуют ветераны. Хуциев заверяет Московский горком, что «приложит все силы, чтобы преодолеть ошибки картины, сделать ее полезной и нужной для советских людей».
Пятнадцатого марта в «Правде» кается Эрнст Неизвестный: «Особенно много я думаю об ответственности художника перед обществом, думаю… о собственной ответственности. Надо искать пути к высокой простоте и подлинной народности языка скульптуры. <…> У нас есть марксистско-ленинское мировоззрение — самое целостное из всех существующих в мире. Я еще раз говорю себе: надо работать лучше, идейнее, выразительнее — только таким образом можно быть полезным стране и народу».
Там же выступает Рождественский: «Мы должны ежечасно проверять себя идеалами революции. Как говорил Маяковский, „мерять по коммуне стихов сорта“… <…> И отвечать за каждое слово, за каждую строку и за каждую страницу, как за свою страну».
В конце марта собирается IV Пленум правления Союза писателей СССР, на котором песочат Вознесенского и Евтушенко.
Андрей Андреевич объясняется: «Здесь на пленуме говорили, что нельзя мне забывать строгих и суровых слов Никиты Сергеевича… Я их никогда не забуду. И тех советов, которые высказал мне Никита Сергеевич: „Работайте“. Эти слова для меня — программа. <…> И эта работа покажет, как я отношусь к стране, к коммунизму…»
Подходит очередь Евтушенко. И он признает свою неправоту. Но — огрызаясь! Считаю, — говорит, — себя непонятым…
За что же на него ополчились? А за то, что в «Автобиографии рано повзрослевшего человека», изданной во французском журнале «Экспресс», писал: «Я не чувствовал бы себя вправе критиковать что-либо по ту сторону границы, если бы не говорил открыто то, что мне не нравится в моей стране». Но больше — за то, что, будучи тридцати одного года от роду, взялся за мемуары! Да еще издал их в иностранном еженедельнике!
Ежели они всё, что хотят, станут, где хотят, печатать, а деньги проводить мимо нашей кассы, то что же это будет? Частная лавочка? А вот получите!
— Что можно сказать об автобиографии Евгения Евтушенко, переданной им буржуазному еженедельнику? — вопросил космонавт номер один Юрий Гагарин в статье «Слово к писателям»[53]. — Позор! Непростительная безответственность.
Куда это годится — раздавать интервью, будто не советский поэт, а итальянская поп-звезда. Вон «Шпигель» вышел 30 мая 1962 года с Евтушенко на всю обложку, а под ним слова: «Красное знамя — в грязных руках».
Это он — про чьи руки? Уж не про мозолистые ли шахтерские главного строителя коммунизма — самого советского человека? Ишь распоясался! Да и все они одним миром мазаны — что Евтушенко, что Аксенов! Руки им пролетарские не нравятся. А вот им дадим по рукам — мало не покажется. И дали. Но вот вопрос: а где же опасный Аксенов? — вопрошали воспитатели молодых дарований. — Почему не спешит просить прощения и благодарить за порку? Все, кому положено, уже разоружились перед партией, задумались об ответственности перед народом. А этот — где? Если б посадили — то сообщили б. Но нет таких сообщений. Куда девался? Не прост Аксенов. Ох, не прост… Чует сердце — хлебнем мы с ним, — думал, поглаживая зеленеющую лысину, ветеран гардеробной службы Берий Ягодович Грибочуев. — Ох, повозимся…
О, если б он знал… Если б он только знал, где Аксенов. Если б знали они все… Не обошлось бы без истерик. Нет, кому положено, были в курсе. Но у них нервы из череповецкого металла ковались в пору попрания норм партийной жизни, и они молчали. Чтобы не смущать товарищей.
Сам же Аксенов напишет про это так[54]: «Странным образом иной раз складывается наша жизнь: сидишь, работаешь… но в это время кто-то где-то произносит твое имя, и собеседник незнакомца кивает головой, у этих двух людей возникают свои планы на твой счет… а ты останавливаешься у какой-нибудь кофеварочной машины, а твой дружок из толпы машет тебе рукой и кричит: тебя весь день разыскивают какие-то шишки…»
И разыскивали. Нашли. Но по другой версии того же автора[55] — не у кофеварочной машины, а дома. Числа эдак 11 марта позвонили из Министерства культуры:
— Ну что ж вы, товарищ Аксенов, не приходите за паспортом? Разве вы не знаете, что вылет назначен на вторник?
Он растерялся. Дыхание сперло. У большинства советских людей в то время обычно сперало дыхание, когда им сообщали дату вылета, да еще с загранпаспортом в кармане. Аксенов знал, о чем речь. Фильм «Коллеги» одобрили для участия в кинофестивале в аргентинском городе Мар-дель-Плата. Ожидалось, что в делегацию войдут режиссер Алексей Сахаров, актер Василий Ливанов и автор сценария Василий Аксенов. Но Сахаров, увы, за какое-то время до поездки, выпив, отдубасил кием видного чиновника, и о его выезде за рубеж не могло быть и речи. Остались Ливанов и Аксенов…
— Позвольте, позвольте… Разве вы не в курсе? — спросил писатель, имея в виду учиненный ему высочайший разнос.
В министерстве высокое лицо пояснило, что критика была суровой, но полезной. И если ее учесть, и «в стране далекой юга, там, где не злится вьюга», высоко понести знамя нашего искусства и с победой вернуться на родину мира и социализма, то надо лететь.
Противоречивый прозаик покинул министерство в хорошем настроении.
Вспоминает Анатолий Гладилин: «На собрании Союза писателей я слышу старого партийного держиморду, который причитает: „Аксенова вся наша общественность ругает, а он по заграницам разъезжает! Как же так, товарищи?“ А товарищи смекают: ничто
А Аксенов… Кладет в чемодан пару сухарей — на случай, если заберут в аэропорту, и — в Шереметьево».
В середине дня дома звонит телефон, требуют Василия Павловича. Кира осведомляется: кто спрашивает? «Из ЦК партии». — «Нет его!» — «А где он?» — «Улетел в Аргентину». Гробовая пауза. За ней — вопль: «Кто пус-ти-и-и-л?!»
Самолет взял курс на Париж. Потом — на Дакар. После — на Рио-де-Жанейро. А из Рио — туда, где мчит по авенидам Буэнос-Айрес, где торжествует жизнерадостная буржуазность, на фоне которой взрывается звездами феерия фестиваля. Там были Орсон Уэллс и Чак Поланс, Станислав Рыжевич и Мария Шелл, плюс — куча режиссеров и артистов Южного полушария. И хотя фестиваль считался событием второго эшелона — шума, грома, помпы, аргентинской пампы, итальянской мамбы, лимузинов и радости Аксенову хватило. В том числе и на очерк «Под небом знойной Аргентины», который 13 мая 1966 года вышел в «Литературной России» с иллюстрациями Ливанова.
Но феерия отгламурилась, и пора было назад. Аксенова заждались. Георгий Марков уже пожелал Полевому, возглавлявшему тогда «Юность», чтобы его «редакторский карандаш не дрожал». Так что садись, Василий, пиши, как ты понимаешь ответственность перед народом. А «Правда» тебя опубликует. И «Юность», само собой.
И вот — 3 апреля. Первые полосы «Правды» заполнены поучениями ЦК КПСС в адрес ЦК КПК. А на четвертой — «Ответственность» — статья Аксенова.
Как советовали в Минкультуры, критика была усвоена. «…Встреча стала этапным пунктом в дальнейшем развитии советской литературы. Шел товарищеский, нелицеприятный, серьезный разговор… обсуждались узловые проблемы идеологического и эстетического порядка. Все мы… по-новому и гораздо шире поняли наши задачи в борьбе коммунистической и капиталистической идеологий…
Особенно важно было понять это нам — молодым писателям. И не только потому, что некоторые (в том числе и я) подверглись суровой критике, но… чтобы укрепить свой шаг в общем строю и свою зоркость… Для того, чтоб лучше писать».
Что творилось тогда в душе Аксенова? Но промолчать — значило «вылететь» из литературы. Впрочем, его покаяние — не вполне покаянное. В том смысле, что в нем и речи нет о
Подобную статью — «Ответственность перед народом» — поместила и «Юность».
Какая все-таки важная штука — опыт советской жизни. Он учил многому. В частности,
А такая, скажем, фраза: «Я никогда не забуду обращенных ко мне… слов Никиты Сергеевича и его совета: „Работайте. Покажите своим трудом, чего вы стоите“».
И он стал работать. Показал, чего стоит писатель Аксенов. Не забыл слов Хрущева.
Оттепель, март, шестьдесят третий,
Сборище гадов за стенкой Кремля,
Там, где гуляли опричников плети,
Ныне хрущевские речи гремят.
Всех в порошок. Распаляется боров.
Мы вам устроим второй Будапешт!
В хрюканье, в визге заходится свора
Русских избранников, подлых невежд…[56]
Вот так и 40 лет спустя будет их в своих стихах вспоминать…
Слова «работа» и «ответственность» становятся кодовыми ключами к творческому порыву советских писателей. Заклятиями, которыми «молодое искусство» взялось заново околдовать власть.
Право же, не стоило бы так много писать здесь о встречах и пленумах, если бы не их роль в тогдашней жизни. Во исполнение совета Хрущева в стране ищут положительного героя. В основном — на семинарах. Вместе с активом ВЛКСМ. По ходу поисков завязываются знакомства, выпивается литраж напитков, усваивается сленг — все эти «лады», «ударим по шашлыкам», «шершавого под кожу», «напареули по гудям»…
Однажды Аксенов и Гладилин опоздали на пленарное заседание. Вопрос: почему задержались? Отвечают: искали положительного героя.
— Нашли?
— Нашли.
— Покажете?
— Принести?
— Сами дойдем.
— Пошли…
И толпой — к одной из палаток. Подняли полог. А там крепко спит очень юный поэт. За руки и за ноги его влекут наружу. Солнце бьет в глаза. Надрываются птицы. Хохочут коллеги. Он — спит.
— Вот, — говорят, — положительный герой. Мы здесь спорим… А у него всё ясно. Он на своем месте. Чем не положительный? Айда в футбол! Лады?
Кожаный мяч помогал лучше узнать друг друга в свете решений июньского пленума ЦК КПСС и речи товарища Ильичева «Очередные задачи идеологической работы партии».
Газета «Правда» просит Аксенова ответить на вопросы анкеты. Кроме него в анкетировании участвуют Бакланов, Ваншенкин, Константин Лордкипанидзе и др. 28 июня выходит его ответ: «Сейчас я пишу новую повесть. Опять о молодежи. Хочу… коснуться вопроса о внутренних связях между людьми, о том, что им мешает и что помогает жить и работать. Думаю, что в течение лета закончу повесть. На очереди — сатирическая пьеса».
Это он — о пьесе «Всегда в продаже» и романе «Пора, мой друг, пора…».
Роман оставался главным советским жанром. Хочешь быть солидным писателем — твори роман. С этим в СССР всё было в порядке. А западных коллег судьба романа волновала. «Судьба романа» — такова была тема конгресса Европейского сообщества писателей, который летом 1963 года состоялся в Ленинграде.
Собрались мастера — Генрих Бёлль, Уильям Голдинг, Альберто Моравиа, Ален Роб-Грийе, Константин Симонов, Илья Эренбург и немало других. Пригласили и Аксенова — представителя нового поколения романистов.
Организаторов заботили повестка дня и ход форума. Ну — примутся западные коллеги нехорошее болтать, мол — умирает жанр, мол, в кризисе. А ведь роман — наше всё. Мало, что ли, томов написано советскими классиками? Разве не отмечены они Сталинскими и Ленинскими премиями?
Вмешался ЦК КПСС. Глава советской делегации Иван Анисимов, прозванный западными участниками «Иваном Грозным», передавал подопечным партийные установки. Мол, связанные с подрывными службами декаденты составили заговор против реалистического романа, нужно дать им отпор.
Аксенова не увлекала тема заговора, но вопрос: почему европейцы считают, что роман вступает в пору кризиса? — занимал его. У нас-то ведь всё в порядке. Да, «кирпичи» стариков пригибают литературу. Но «новая волна» — Гладилин, Войнович, Владимов, Трифонов, Битов, Искандер — аккуратно раздвигая границы соцреализма (а порой и дерзко приобщаясь к авангарду), имеет успех. Публика расхватывает их книги!
Пока он размышлял, классики вроде Михаила Шолохова твердили о торжестве соцреализма. Иностранцы терялись — не вполне понимали, о чем разговор. Вдруг во время речи одного советского оратора зал сотряс хохот. Кто-то спросил переводчика-синхрониста, не хочет ли он боржома. Тот ответил, и зал услышал ключевую фразу форума: «Современному роману… немного боржома не помешает!»
Впрочем, писатели пили не только минералку. И их трапезы, согретые водочкой, мешали разъединению Запада и Востока на враждебные лагеря, размывали рубежи, гасили конфликты, будили мысль… Как-то Борис Сучков[57] отвел Аксенова в сторону и с дрожью в голосе сказал: «Знаете, я завтра выступаю и буду хвалить то, что ненавижу, и ругать то, что люблю». Эти сделки с совестью, жизнь по указке, были страшными травмами той эпохи.
Аксенов же готовил доклад «Роман как кардиограмма писателя», где обсуждал не войну идей, а психологию творчества и специфику жанра. Роман виделся ему формой, лишенной жестких норм, стесняющих текст; постоянно расширяющей свои границы. В романе, — повторял он за Дьёрдем Лукачем[58], — автор и читатель постоянно пытаются, но не могут проникнуть в суть вещей. Соглашался и с Бахтиным: да, хронотоп романа един с хронотопом мира, сливается с ним в «поисках смысла жизни».
То сложное лето завершилось неожиданностью. «Известия» опубликовали поэму Твардовского «Тёркин на том свете».
Консерваторы были в шоке. Ведь только что разгромили крамольных юнцов. И «всё начало вставать на свои места». И уже грезились новые памятники вождю. А тут — наезд и на него, и на разоблачителей! Ведь кому как не им адресованы строки:
Не спеши с догадкой плоской,
Точно критик-грамотей,
Всюду слышать отголоски
Недозволенных идей.
И с его лихой ухваткой
Подводить издалека —
От ущерба и упадка
Прямо к мельнице врага.
И вздувать такие страсти
Из запаса бабьих снов,
Что грозят Советской власти
Потрясением основ.
Да что же это? А с другой стороны — разрешили же. То есть не могли же этот текст напечатать в одной из главных газет без позволения свыше. Откат, стало быть, — снова в сторону того мира, который Твардовский называет в поэме «заграничный тот свет», где
Там у них устои шатки,
Здесь фундамент нерушим.
Есть, конечно, недостатки, —
Но зато тебе — режим…
Там, во-первых, дисциплина
Против нашенской слаба.
И, пожалуйста, картина:
Тут — колонна, там — толпа.
А это вообще — ни в какие ворота. Здесь и невооруженным глазом видно посягательство на то, о чем вслух не говорят:
— Там отдел у нас Особый,
Так что — лучше стороной…
— Посмотреть бы тоже ценно.
— Да нельзя, поскольку он
Ни гражданским, ни военным
Здесь властям не подчинен.
— Что ж. Особый есть Особый. —
И вздохнув примолкли оба…
И — правильно. Ибо Хрущев знал, что делал, веля Аджубею печатать поэму — давал понять: рано обрадовались. Рано решили, что много значат ваши крики.
Не ищи везде подвоха,
Не пугай из-за куста.
Отвыкай. Не та эпоха —
Хочешь, нет ли, а не та!
Но темой года осталась критика. Пресса «не слезала» с Аксенова до новой весны. А там сняли Хрущева. И стали печатать. В том числе — аксеновские тексты.
В 1964-м в «Юности» выходит цикл «Новые рассказы». Терпкая и меткая «Катапульта», давшая имя сборнику (куда издательство «Советский писатель» включило и «Апельсины из Марокко»), Иллюстрирует книгу Стасис Красаускас, используя наброски на салфетках вильнюсского кафе «Неринга». Читателю достаются горькие «Завтраки 43-го года», тонкий «Маленький Кит — лакировщик действительности», торжествующая, мудрая «Победа»… Впрочем, это уже в 1965-м, в шестом номере «Юности».
Тогда же — в 1965-м «Молодая гвардия» выпускает роман «Пора, мой друг, пора» — книгу о бренности славы; о боли и непонимании; о том, как это, когда тебя избивают трое. О тщете богемной болтовни; о северных реках и больших стройках, где работают прекрасные люди — простые и смелые. О том, что тупая смерть всё время ходит рядом. И чудо, если вдруг случится любовь. Потому что тогда всё изменится.
О том же самом — сборник и рассказ «Жаль, что вас не было с нами». И точно — жаль, ибо чудеса происходят с человеком, когда его находит любовь. И окажется, что к лучшему и гнев жены, и глупость друга, и обида, и тоска. Ибо всё это — лишь фон для любви. О, как славно — видеть влюбленных. На них-то — талантливого, но непонятого современниками актера Мишу Корзинкина и актрису Ирину Иванову, фотографиями которой увешаны ларьки и буфеты, — и глядели, разинув рот, окружающие. И Миша слушал нежные признания, а киномагнат Рафаэль Баллоне получал от ворот поворот. И виллы его, и фирмы были ни при чем. И все заказывали горячее, шли к поезду, выходили в люди и замуж. Словом, жили хорошо. И жаль, конечно, очень жаль, что нас не было с ними!..
Этот рассказ заставляет дрожать от зимнего морского сквознячка, ловить тайный запах духов, чувствовать трепет любимых волос, вздрагивать, когда на кожу падает капля горячего масла. Думается, всё дело здесь — в особой, неуловимой интонации автора, сообщающей героям и событиям удивительное обаяние, заставляющей пожалеть: эх, не было меня ни в Тарту, ни в Ялте, и не строил я комбинаты в тайге, и не ел перловый суп в Симферополе на вокзале… А ведь мы — одно поколение, разве нет, старики?
Быть может, здесь и таится секрет успеха Аксенова у массовой аудитории? В особой интонации поколения? Ведь это и впрямь — победа: задать тон поколению. Доселе безъязыкому, смутно отраженному в кривых зеркалах советской комнаты смеха, писанному белым маслом по красной бязи транспарантов… Читая Аксенова, оно обрело язык, изобрело стиль и стало отбрасывать тень. В его повестях и рассказах оно узнавало свою жизнь, а не мифы об этой жизни.
Пропев это поколение в своей прозе таким, каким оно хотело быть, но не умело этого понять, Аксенов скроил и сшил интонацию поколения своими руками. И вот уже в своих собственных глазах оно стало таким, каким было в его книгах.
А каким? Можно ли уложить его образ в два слова? Крайне упрощая и оставляя литературоведам труд такого анализа, предложу одно слово:
«На полпути к Луне» — книга о неготовности к любви. О встрече с ней. О ее ускользании. О самоотверженной попытке догнать… Или — об опасности слишком сильных чувств в суровом мире? Или — просто о том, как Валера Кирпиченко летел в самолете из Хабаровска в Москву, курил в носовой части (тогда еще разрешали), влюбился в стюардессу Таню, а после потратил все добытые на северах большие деньги, летая из столицы в Хабаровск и обратно в надежде встретить ее. Но… Ни удаль, ни радость отдать последнюю копейку, ни умение пиджак вот эдак снять и бросить под ноги ей в лужу — ничто ему не помогло. Или это всё — о чем-то своем? О горечи и невосполнимости утраты, что впечатана в жизнь глубокой томящей печалью? Бог знает. А повесть — ч
Любопытно, что примерно за год до выхода этих текстов случилось событие, напомнившее Аксенову весну 1963 года. На него снова «наехали».
В газетах «Советская Эстония», «Ленинградская правда» и двенадцатом номере журнала «Юность» был опубликован рассказ «Товарищ Красивый Фуражкин». В нем ушлый рвач-таксист — дядя Митя везет из Ялты в Симферополь теток с узлами, гражданина в импортном плаще (в котором при желании можно узнать автора) и инвалида, который «туберкулезу только благодарный, жил в замечательных здравницах, людей посмотрел, себя показал, останови, браток, у буфета — заправиться нужно». И этот Митя среди ялтинской шоферни наипервейший куркуль и хитрован. Можно сказать — частный собственник средь коммунистического строительства. И лишь одна на него есть управа — инспектор ГАИ младший лейтенант Иван Ермаков, дяди Мити зять, для коего служебный долг превыше всего. Дома выпить с Митей он готов. А на трассе легко — и прокол, и протокол. И так далее…
Что не понравилось начальству в рассказе (в нем ведь есть и таксисты — не рвачи, и положительный герой — лейтенант Ваня), сказать сложно. Однако в двенадцатом номере «Известий» за 1965 год под заголовком «С кого вы пишете портреты?» появилось возмущенное «Письмо ударников коммунистического труда писателю В. Аксенову», в котором сказано прямо: «Прочитав рассказ… мы… испытали глубокое разочарование… героем вы сделали жулика и откровенного рвача, подонка… ему противостоит только милиционер… а водители, сослуживцы дяди Мити?., из них в рассказе выделяется Жора Барбарян, такой же рвач… а о людях хороших вы и словечком не обмолвились…» Далее живописуются дела хороших таксистов, за которые их парк удостоен «звания коллектива коммунистического труда».
«Известия», как положено, сопроводили письмо ударников комментарием, где утверждалось: «…едва ли можно считать нормальным положение, когда некоторые наши писатели, особенно молодые, сосредоточивают внимание на негативном изображении современности, проявляют интерес к описанию, главным образом, темных сторон действительности… искажая… общую картину жизни советского общества. <…> Художественная литература… должна способствовать воспитанию нового человека, активного строителя коммунистического общества».
Было сказано в комментарии и о пристрастии к очернительству журнала «Новый мир», и о нетребовательности в отборе материалов журнала «Юность». И хотя эстетическая фронда «Юности» была куда «легче», чем присущий «Новому миру» глубинный поиск мировоззренческих альтернатив, приструнили оба издания. Тогдашние охранители, толком не разбираясь, мазали одним миром, а точнее — дегтем, всё, в чем замечали проблески свободомыслия. Так что дали окорот враз — и обоим. Причем в издании со всесоюзной аудиторией. Но — не в «Правде». Для партии тема мелка.
И вот что любопытно: почему воспитатели подошли к своей задаче без должной серьезности? Действительно ли были слепы? Или тайно потворствовали крамоле? Дело в том, что в «Красивом Фуражкине» можно, конечно, усмотреть поклеп на советского человека, но куда легче услышать гимн, оду, похвалу дяде Мите и Жоре Барбаряну — пионерам-партизанам частной инициативы, делающим бизнес, бросая вызов системе. Ода эта лишь слегка прикрыта дымовой завесой славной песни о гаишнике. Почему надзиратели за словом спустили тему на тормозах — намекнули, предупредили, показали: мы ваши шалости примечаем, но коленками на горох пока не ставим. А преподаем публичное поучение. Подумайте, Василий Палыч, о своем поведении.
Возможно, дело в том, что
Это стало еще одной каплей в чаше терпения блюстителей идеологии, и 26 января 1966 года они ответили через журнал «Смена» материалом «Наши претензии к журналу „Юность“. Списывать на молодость нельзя».
В 1966-м за публикации на Западе осудят на лагерные сроки писателей Синявского и Даниэля, на что «шестидесятники» ответят обращением с письмами к западным коллегам, и «подписанты» — в том числе Аксенов — окажутся в опале, хотя и не явной.
Само собой, письмо в «Известия» и всё прочее было игрой с Аксеновым — агитпроп не терял надежды, что он вольется-таки в ряды шагающих в ногу. А если нет, то способного строптивца удастся хотя бы использовать в своих целях.
Это были не простые игры. Как говорят многие «шестидесятники» — так в «оттепель» играли со многими. То «давали по морде» — выбрасывали из сверстанных журналов тексты, рассыпали набор книг, отменяли премьеры фильмов, то вдруг — звонили, предлагали заманчивое… Чувствовали ответственность за тех, кого хотели приручить.
Гладилин так описал отношения писателя и власти: «Я очень любил устный рассказ Аксенова о том, как его принимал министр культуры РСФСР. Огромный кабинет, чаек, „коньячку не желаете?“. Товарищ вразумлял молодую смену ласково и доверительно: „Василий Палыч, твою мать, написали бы вы что-нибудь, на фуй, для нас. Пьеску о такой, блин, чистой, о такой, блин, возвышенной, на фуй, любви… У нас тут, блин, не молочные реки и не кисельные, твою мать, берега, но договорчик мигом, на фуй, подпишем. И пойдет, блин, твоя пьеска гулять по России, к этой самой матери“.
Все нормативные слова Аксенов запомнил. Остальное запомнить было невозможно. Новым русским надо бы поучиться у старой партийной гвардии…»
Аксенов и сам, конечно, не забыл ни эту, ни подобные ей встречи и свел их в «Ожоге» в одну — аудиенцию писателя Пантелея у Верховного Жреца.
«Перед визитами… Пантелей… одевался благопристойно, но оставлял… хотя бы одну дерзкую деталь — то оксфордский галстук, то затемненные очки, а бывало даже прикалывал (к подкладке пиджака!) значок с надписью „Ай фак сенсоршип“[59]. Ни на минуту не забывая о тяжкой судьбе художника в хорошо организованном обществе, но и напоминая себе о духовной свободе… он задавал стрекача в приемную Главного Жреца…
И вот начиналась процедура.
Пантелей входит в кабинет. Главный Жрец в исторической задумчивости медленно вращается на фортепьянной табуретке. На Пантелея — ноль внимания. Проплывают в окне храмы старой Москвы, башенки музея, шпиль высотного здания… Всё надо перестроить, всё, всё… и перестроим с помощью теории всё к ебеней маме…
— А-а-а-а, товарищ Пантелей… Ну-с, не хотите ли пригубить нашего марксистского чайку? — ГЖ говорит уже вкрадчиво, каждым словом как бы расставляя колышки для ловушки.
— Спасибо, не откажусь, — вежливо покашливает в кулачок гость.
— Отлично! — Хозяин в восторге совершает стремительный оборот вокруг своей оси. Поймал, поймал скрытую контру. Уловил… неприязнь к партийному напитку!
Курево тоже предлагается Пантелею, и не какое-нибудь — „Казбек“! Доброе, старое, нами же обосранное неизвестно для чего времечко. Боевые будни 37-го… Сам жрец из ящичка втихаря пользуется „Кентом“.
Ну вот-с, так-с, так-с, чуткость гостя усыплена… Теперь неожиданный удар.
— Значит, что же это получается, Пантелей? Развращаете женщин, девочек, — Жрец открывает толстую папку и заглядывает в нее как бы для справки, — …мальчиков?
— Насчет девочек и мальчиков — клевета. А с женщинами бывает.
— Шелудишь, значит, бабенок! — радостно восклицает Жрец. — Знаем, знаем. — Он копошится в папке, хихикая, вроде бы что-то разглядывает и вроде бы скрывает это от Пантелея и вдруг поднимает от бумаг тяжелый, гранитный, неумолимый взгляд, долго держит под ним Пантелея, потом протягивает руку и берет своего гостя за ладонь.
— А это что такое у вас?
На кисти Пантелея… голубенький якоречек…
— Да это так… грехи юности, — мямлит Пантелей…
Дружеское пошлепывание и хихиканье неожиданно прерывают его унылые мысли.
Жрец таинственно подмигивает и… <…> уже бегает по ковру без трусов. Засим показывается заветное, три буквочки „б.п.ч.“ на лоскутке сморщенной кожи[60].
— В присутствии дам это превращается в надпись „братский привет девушкам черноморского побережья от краснофлотцев краснознаменного черноморского флота“. Такова сила здоровых — подчеркиваю „здоровых“ — инстинктов.
Стриптиз окончен.
…ГЖ одевается у окна…
— Поедешь в Пизу, Пантелей, — хрипло говорит он, — устроишь там выставку, да полевее… Потом лети в Ахен и там на гитаре поиграй что-нибудь для отвода глаз. А после, Пантелюша, отправишься к засранцу Пикассо. Главная задача — убедить крупного художника в полном кризисе его политики искажения действительности. Пусть откажется от мелкобуржуазного абстракционизма, а иначе — билет на стол!
— А если не положит? — спрашивает Пантелей. — Билет-то не наш.
— Не положит, хер с ним, а попробовать надо. Есть такое слово, Пантелюша, — „надо“! <…>».
Ну да — Аксенов снова выездной. Он отправляется в Рим на конгресс Европейского сообщества писателей, о чем публикует в сорок шестом номере «Нового времени» за 1965 год прелюбопытные «Римские диалоги». Кажется, тогда в Риме Аксенов, при всей валютной скудости, вдруг ощутил себя живущим той самой сладкой жизнью, которую показал миру Феллини. И она ему очень понравилась. Тем, что в ней есть Анита Экберг. И фонтан Треви. И площадь Испании. И всем прочим, что делало ее сладкой.
Прекращается и опала Евтушенко. Новый, 1964 год Евгений Александрович с женой Галиной встречал в Кремле. В компании Никиты Сергеевича и советской элиты — маршалов, космонавтов, академиков, партийных бонз, лауреатов Государственных и Ленинских премий.
Вскоре семья отправилась в турне по США. Тогда и родилась международная слава Евтушенко. Американские интеллектуалы и чуткая мировая общественность знали: он — отважный оппозиционер, бросающий вызов советской системе, которая терпит поэта из-за его широкой популярности. Подобно тому, как американская система терпела мятежников вроде Алена Гинзберга, Джека Керуака, Норманна Мейлера, чей бунт шумел не только на страницах их книг, но и на улицах…
Слабо осведомленная о жизни в СССР публика спокойно относилась к легкости, с которой поэт получал недоступные простым смертным квартиры и дом в Переделкине, выездные визы, разрешения приглашать зарубежных коллег… Они принимали это как должное: во-первых, у нас же — так, а во-вторых — он звезда!
Много лет Евтушенко оставался любимцем западной прессы.
В год отъезда Евгения Александровича прибыли в Москву видные гости — Джон Стейнбек и Эдвард Олби. Тогда Евтушенко, Казаков, Вознесенский и, конечно, Аксенов кочевали с ними с приема на прием, из редакции в редакцию. Стейнбек — высокий, усатый, в стильном пальто, с карманами, полными виски, табака и метафор, строго соответствовал образу члена «большой тройки» — Стейнбек, Фолкнер, Хемингуэй.
В ту пору, вспоминал Аксенов, молодые наши литераторы ощущали родство с американскими коллегами. Встречаясь, они «как-то по-особенному заглядывали друг другу в глаза, будто искали в них какое-то неведомое общее детство». Впрочем, какое детство (или —
А путешествие Олби и Стейнбека прошло хорошо. Все были довольны. Однако заокеанский патриарх больше не посещал СССР. Почему? Столичный фольклор дает версию ответа, в целом, принятую Аксеновым.
Когда бежавший от опеки корифей хорошенько поддал с московскими мужичками где-то в Марьиной Роще и закемарил на лавочке в своем твидовом пальто, его разбудил милиционер. Увидев человека в форме, Стейнбек немедленно произнес четыре известных ему главных русских слова: «Я ест амэрикэнски писатэл». А в ответ услышал что-то вроде: «Здравия желаю, товарищ Хемингуэй». Ясно, что после этого новый визит автора «Гроздьев гнева», «Квартала Тортилья Флэт» и «Консервного ряда» в оплот прогрессивных сил планеты состояться уже не мог…
Подробности в книгах «В поисках грустного бэби» и «Американская кириллица».
Через год в Москву прибыл гуру битников — Ален Гинзберг — автор культовых поэм «Вопль» и «Сутра подсолнуха». Ненавистник битников Хрущев был отправлен на покой, и «отцу» бунтарского движения открылся путь в СССР. В Москве он пел на урду, звенел маленькими медными тарелочками, крутил бородой. Попутно встретился с вернувшимся из Штатов Евтушенко. Тот сказал, что слышал об Алене немало скандального, но — не верит. Гинзберг ответил: возможно, всё это — правда, ибо он не стесняется своего гомосексуализма и говорит о нем открыто, а это — повод для скандала. Евтушенко смутился. «О таких случаях я ничего не знаю», — сказал он. Тогда Гинзберг спокойно перевел разговор на другую тему — наркотики. Однако и она не вдохновила Евтушенко. «Эти две темы — гомосексуализм и наркотики мне не близки… — сказал поэт. — Для нас здесь в России они не важны». Гинзберг позвенел еще немного, попел на урду и отбыл далее.
А Аксенов завершил и отдал в театр «Современник» пьесу «Всегда в продаже» — сатиру на имитацию красивой жизни, ложь и лицемерие тогдашней богемы. Вот безнравственный, беспринципный, прожженный прохвост-журналист Жека Кисточкин в исполнении Михаила Козакова, для которого нет ничего святого, а есть лишь похоть и корысть, поучает честного парня — юного корреспондента Сергея: «Мораль — опора любого общества… Преступив законы морали, ты становишься изгоем. Ты скажешь, что мораль — растяжимое понятие… но я тебе на это отвечу — мораль незыблема! Понял?
Сережа, когда ты отбрасываешь моральные устои, топчешь их грязными ногами, общество, которое исповедует эту мораль, вряд ли тебе это простит. В первый раз оно может по-дружески сказать тебе (
Сам же он давно «вышел за проволоку», как окурок, притопнул моральные нормы, попрал презрением друга, соблазнил хорошую девушку Светлану, натворил кучу гнусностей и, в конце концов, за всё и расплатился. Ведь — всё на продажу. Впрочем, это как сказать… Подробности — в пьесе.
Особый шарм постановке Олега Ефремова придавала декорация — устроенный на сцене дом в разрезе, с ячейками квартир, обращенными «прозрачной» стеной к зрителю. Человечий улей городской цивилизации.
Ловко и легко обыгрывались в пьесе и модная тема «летающих тарелочек», и модная тогда в «просветительских» и «научно-популярных» кругах лекционная нудятина болтунов, лепечущих вздор по путевкам общества «Знание», и гадальное шарлатанство, и полуподпольность джаза среди грохота маршей и топота частушек…
Говорят, восхитительна была Людмила Гурченко в роли жены джазмена Игоря — Олега Даля, которому не впервой уже было играть аксеновского героя — он уже пленял современников в образе Алика Крамера в фильме «Мой младший брат». Трубач Игорь — одна из первых ролей, которую Даль играл в «Современнике». Иные ценители считают, что она удалась ему не хуже, чем Табакову — образ буфетчицы — несокрушимой и легендарной хабалки-спекулянтки-интриганки, царящей в просцениуме в крахмальной короне-наколке и рулящей мирами. Блистательный Табаков, что, бывало, лазил в окно к Аксенову, мастерски перевоплощался в эту Клавдию Ивановну, поведение которой убеждало зрителя: Союзом правят не портреты политбюро, а подприлавочная мафия товароведов и лоточников. Годы спустя, Табаков удивлялся: «Я играл в этом спектакле еще две роли, но всем почему-то запомнилась моя женская ипостась».
Аксенов сочинил большинство своих пьес в 1960-х. Но (не считая постановок по «Коллегам») поставлена на сцене была только «Всегда в продаже». Ни «Твой убийца» (1966), ни «Четыре темперамента» (1968), ни «Аристофаниана с лягушками» (1968) сцены не увидели.
Не сложился и кинопроект, затеянный Аксеновым, Конецким, Казаковым, сценаристом Валентином Ежовым и режиссером Георгием Данелия, когда они взялись писать сценарий на «итальянский» манер — компанией. Сперва у Данелии на Чистых прудах (этот московско-грузинский дом славился не только талантами, но и отменнейшими хинкали) в хохоте и вакханалии сочиняли заявку на сценарий. Потом — осенью 1964-го двинули в Одессу, где после изгнания из нескольких отелей обосновались в гостинице бывшей «Лондонской», а ныне «Приморской». Там Казаков доводил Данелию рассказами о запахах, которые собирался описать в своей части сценария. Режиссер протестовал: «В кино запахов не бывает». — «Врешь, старичок, есть запахи в кино», — усмехался Казаков. Там пела им Нани Брегвадзе. Кружил кордебалет мюзик-холла «Минутка», проплывали через номера удивительные персонажи, вроде смуглого одессита в кубинской униформе верде-оливо, якобы посланного Фиделем «спасти золото Одессы» и лихих китобоев с флотилии «Слава»… Время и деньги уходили быстро. Потом ушел Юрий Казаков. Надел свою эстонскую фуражку с лакированным козырьком, взял пишущую машинку и — на вокзал. И еще долго, говорят, бежал рядом с ним Конецкий, вопрошая: «Юрка, ты куда?..» Следом посыпался весь квинтет. Сценарий «накрылся».
Более удачная судьба ждала фильм «Путешествие». Несмотря на задержки, картина, составленная из новелл, снятых на «Мосфильме» по рассказам «Папа, сложи» — Инессой Селезневой; «Завтраки 43-го года» — Инной Туманян и «На полпути к Луне» — Джеммой Фирсовой, в 1966-м пошла в кинопрокат, хоть и не прогремела.
Что же до спектаклей, то здесь — сложнее. Пьесы Аксенова 1960-х годов написаны в яркой авангардно-сатирической манере, сделаны, как сейчас бы сказали, — «не в формате». Режиссеры и худсоветы объясняли отказы так: старик, мы не знаем, как вообще можно это поставить, кто это разрешит, да и зритель, говорят, хочет другого.
Были, конечно, и альтернативные площадки — вроде театра-студии МГУ «Наш дом» под руководством друга и товарища — Марка Розовского. Там Аксенова привечали, но пьес его не ставили. И до выхода альманаха «МетрОполь» ни одна из них не публиковалась, а рукописи хранились в архиве Министерства культуры.
В 1980 году — перед отъездом из СССР, Аксенов переплел их машинописные копии и подарил Розовскому. Марк Григорьевич бережно хранит этот том.
Весной 1964-го Аксенов вместе с Анатолием Гладилиным, Владимиром Войновичем и Юрием Казаковым включился в предложенный Валентином Катаевым проект — коллективное писание романа, части которого сочиняли разные авторы. Причем — не читая текстов друг друга. Роман этот, озаглавленный «Смеется тот, кто смеется…», опубликовала «Неделя» — популярное приложение к «Известиям». Тогдашний его сотрудник писатель Анатолий Макаров рассказывает: раздрай в сюжете и стилистике этого произведения был столь чудовищен, что читатели засыпали еженедельник гневными письмами. Спас ситуацию Илья Зверев, чудом связавший все сюжетные нити и направивший повествование к финалу. По другой версии, это сделал Георгий Владимов.
Похоже, именно тогда Аксенов решил, что ирония, череда саркастических и гротескных фантазмов — лучший способ рисовать современный мир, характеры и поступки населяющих его существ. В том числе — и не вполне живых.
Вот, к примеру, Стальная Птица — герой одноименного романа, завершенного в 1965 году. Это ж точно — не человек. Просто может при необходимости принимать его обличье. Но и не птица. А кто? А — существо. Мыслящее создание, но лишенное всего, что Аксенов считал человеческим. Переживаний, радостей, мук, слез, грез, сострадания, презрения, любви, души высокого стремленья и прочего, что есть у нас, ибо нам дарована душа.
Конечно,
Меж тем товарищ Попенков — Стальная Птица — рушил в книге всё, что мешало его комфорту и благополучию. Ради этого он притворялся, лицемерил, льстил, лгал, спасал чужую жизнь, прикидывался, вызывал жалость, благодарность, умиление, любопытство. И добивался своего.
«Двор в Фонарном переулке» — название вышедшего в 1966 году в «Литературной газете» отрывка из романа, так и не увидевшего свет при Советах. Мы же пометим: «Стальная Птица» — первая книга Аксенова, где появляется зло. Зло в чистом виде. А не просто в виде дурных персонажей.
В книгах Аксенова есть существа, которые ему очень не нравятся. Его личные враги. Они — вызов его картине мира. Шустрый пройдоха Матти из «Звездного билета». Тройка шикарных подонков из «Пора, мой друг, пора», избивающих Валю Марвича. Женя Кисточкин из «Всегда в продаже». Противный Мимозов, что заявится в написанную в начале 1970-х «Золотую нашу железку» (осужденную на долгое лежание в столе). Чтобы в середине десятилетия предстать перед читателем в очерке «Круглые сутки нон-стоп»…
Но эти все и в подметки не годятся подлинным подлецам. Они у Аксенова хороши. Гнусные. Страшные. Хотя порой кажется, что в ином, даже в очень мерзком, написанном им характере вдруг мелькает нечто, делающее его не последним в мире поганцем. Но нет — этот промельк — мираж. Убийца из «Пора, мой друг, пора» душевно поет под баян «Выткался на озере алый цвет зари…», а через страницу хватается за нож — резать. Гопник Федька Бугров из «Коллег» влюбляется в милую девушку Дашу Гурьянову, а вскоре ранит Сашу Зеленина. Вахмистр из «Любви к электричеству», что, захватив мятежного студента Пашу Берга, садится ему, связанному, налицо. Чекист Чепцов из «Ожога», стоящий сияющим сапогом на лице связанного Саши Гурченко. Ущербный подонок, сжигающий девушку Кристину на острове Крым… И всё же они — люди. Родились людьми.
А Попенков — нет. «Стальная Птица» свищет
Впрочем, трактовок может быть море. И самый простой вопрос: что
Может быть, затем, чтобы еще раз навести на мысль: Попенков — лицо ада. Того, где вместо сердца — пламенный мотор. Вспомнив о котором, иные взрослые кричат, проснувшись в темноте. Итак — зло. Нереальное. Но — сущее. Не побежденное.
И что? Так и канул Попенков во мрак небес? Или всё же куда-то прилетел? Да. Из романа 1965 года — в рассказ 1967-го «На площади и за рекой», известный сценой детского восторга от победы в войне, от ученого слона и халявного мороженого. Хотя, как бывает в литературе, случился временной сбой — пролетев вперед по хронологии публикаций, ужас вернулся назад — из лета 1950-го в весну 1945-го. Там — вечером 9 мая — тоже является некто жалкий и неприметный, твердящий: Гу-гу-гу! Чучеро ру хопластробракодеро! Фучи — мелази рикатуэ! И, ухая, летящий над полями, лесами и водоемами. По нему стреляют — пуля не берет… Впрочем, в рассказе — это гадина Гитлер из детского сна. И в романе — тоже Гитлер (на это и намек есть: в монологе, обращенном к памятнику Варшавского гетто, Стальная Птица приказывает: всех в печь, а Мордехая Анилевича[61] уже съел), но поопаснее. Попенков — это Гитлер
Так, схожее существо возникает в 1968 году в рассказе «Рандеву» под именем Юф Смеллдищев. Глаза его попенковские пылают желтым огнем. К щеке примерзают целующие губы. Его отказывается везти «москвич», и он уносится в пургу на асфальтовом катке. А надо — зависает над землей, чтобы придавить героя Леву Малахитова бетонной плитой.
О, этот Левка Малахитов — символ поколения «шестидесятников». Всесоюзный кумир. Бас Гяурова, смычок Менухина, реакция Коноваленко, перо Евтушенко, кулак Попенченко. Во всем — первый номер. В друзьях у него Жан Люк Годар и Марина Влади, Джон Апдайк и Вознесенский, Элла Фицджералд и Дмитрий Шостакович, плюс — космонавт Леонов, актеры Вицин, Никулин и Моргунов…
Он — портрет поколения. Неполный, но красивый. И хотя некоторые фамилии иные читатели не вспомнят — они принадлежат достойным людям. Лева Малахитов — притча во языцех, герой баек, обладатель таинственной жены Нины, вывезенной с великой стройки, и свитера на полупроводниках, сшитого самим Леви Строссом по заказу Тура Хейердала.
Так вот, героического Леву нехороший Юф Смеллдищев увлекает в очень странное место, подобное стройплощадке сталинского Дома Советов. Везет на рандеву с некой дамой, что ищет свидания с кумиром. И дама приходит. Но — с претензией: почему вы, Лева, гнушаетесь мною? «Почему в своих стихах не упоминаете обо мне? В ваших импровизациях я не нахожу никакого чувства ко мне. А порой… вы отталкиваете меня, а ведь я же люблю вас…» Такие вот речи, вместе с валенками, ажурной и шифонной бронированностью, делают эту даму сильно схожей с советской властью. С ее ревностью, нервностью, цепкостью. А герой Лева напоминает писателя Васю, не желающего иметь с ней дела и заявляющего: Вы — Смердящая Дама!., и тут же лепечущего: «…поймите… я ничего не имею против… не раз высказывался уважительно… но вы просите пылкой любви, а этого я не могу… на счет смердящей — беру назад… вы просто не в моем вкусе… хотя я признаю ваши некоторые прелести…» А все равно — не поцелую!
Ибо она — «это подвальное, тухлое, бредовое, нафталинное, паучьего племени отродье… И пусть сулит она шумную славу и манит бочонками зернистой икры, нежнейшей замшей и бесшумнейшими цилиндрами, мехом выдр и нутрий, знай — прикоснешься к ней, и… высосет из тебя ум и честь, и юную ловкость, и талант, и твою любовь. Лучше погибнуть!». И погиб. Под смеллдищевской тяжкой плитой.
Но чудо спасло его. И он подумал: неужели спасен?
Неужели спасен, спасен, спасен? — вопрошает автор за Леву. И помогает поверить, что хеппи-энд состоялся! Однако пройдет несколько лет, и он напишет: «И как мне хотелось спасти. Всех спасти, кто попрятался в штормовой солнечный день». Но — не удалось…
«Шестидесятники» пережили тотальный кризис. СССР ввел войска в Чехословакию, чтобы прикрыть эксперимент тамошних коммунистов, которые во главе с Александром Дуб-чеком взялись строить «социализм с человеческим лицом». Казалось, их проект триумфально венчал «оттепель». А породил новый ледниковый период.
Аксенов пережил интервенцию как тяжкий личный крах. Но до того он много печатается. Понятно почему: воздух разряжен, свеж, в Таллине проходит первый в стране джазовый фестиваль, собравший звезд из СССР и из-за рубежа, хочется и самому играть, веселиться, вспоминать… В 1967-м в январской «Юности» выходит «Путешествие к Катаеву» — прижизненный трибьют мэтру, а в августовской — «Простак в мире джаза» — радостный очерк о Таллинском фестивале; «Литературная газета» в марте публикует «Любителям баскетбола», а вскоре «Труд» — «Голубые морские пушки» — простой и светлый, нигде больше не публиковавшийся рассказ о детстве, полный почтения к близким и дяде Евгению Котельникову. И лишь осенью 1969-го в «Литературной газете» выходят «Вывод нежелательного гостя из дома» и «Феномен пузыря (опыт иронической прозы)».
Между этими публикациями, как и между всеми прежними и последующими текстами Аксенова, легла суровая граница — 1968 год. Который он назовет
Разнообразные знаменательные события того года в Варшаве, Париже, Берлине, Чикаго, Праге, Мехико, Боливии и других краях подробно описаны в литературе, публицистике и тайных донесениях. Не раз показаны в кино. Воспеты в песнях. Причем кто бы и как их ни оценивал, почти все признают: то, что случилось тогда, стало одним из величайших разочарований XX века.
Когда в Париже бушевал Красный май, в Праге снимали красные флаги. Но и там, и там «лишняя молодежь» всматривалась в настоящее и будущее, угадывая в них контуры человеческого лица. Социализм с человеческим лицом, капитализм с человеческим лицом… Для них были важны не столько «из-мы», сколько это лицо. Пусть теоретики спорят о производительных силах, производственных отношениях и революционном классе. Мы знаем: под булыжником — пляжи! Будьте реалистами — требуйте невозможного! Революция невероятна, потому что она настоящая! И эти веселые парадоксы всё упирались и упирались в бетон — с одной стороны Берлинской стены, с другой — истеблишмента[62]. Смеллдищевы с обеих сторон были разные, а бетон — один. Тех, кто бросил ему вызов, достали эти стены, разлом Европы, конфликт систем, безобразия старших, отделенность от решений, неуместность прошений.
Кто-то читал «красную книжку» Мао. Кто-то слушал Маркузе, Зденека Млынаржа и Франту Кригеля[63]. Другие махали флагами, пели и ломали «стену». Но 20 августа десантники окружили ЦК КПЧ. В девять утра они задержали Дубчека. Лауреат Пулицеровской премии Марк Курлански писал: «…вошел полковник КГБ очень маленького роста… После составления списка присутствующих полковник объявил, что они взяты „под его защиту“[64]. Присутствующие… дисциплинированно заняли места за столом совещаний. За спиной у каждого встал солдат. Затем их отправили в СССР —
Порой, читая о тех делах, думаешь: быть может, опьяненные «весной» люди восприняли вторжение бронетехники, отчасти как эпизод карнавала? В Братиславе девчонки задирали мини-юбки и, пока солдаты любовались, парни били фары танков и бросали в них «молотов-коктейли». Пока партийные боссы решали свои проблемы, они кричали лозунги и клеили листовки: вот танк утюжит границу ЧССР, а над ним рыдает Ленин. Вот девочка дарит цветы советскому солдату (1945 год), а вот — она мертвая на земле (1968-й). Карнавал прервали выстрелы. Всё вышло не понарошку и не по Бахтину…
В поисках человеческого лица ребята угодили на маскарад. Перебирали маски. Тасовали. И — столкнулись с броненосной образиной. Где-то Аксенов цитирует Стендаля: несчастен тот, кто не жил перед революцией. Быть может, каждое молодое поколение томится желанием жить перед ней. Но что оно чувствует после ее провала?
Август 1968-го — страшный удар. В том числе — для тех, кто в СССР связывал надежды с Пражской весной; ждал: если она победит, то еще сильнее потеплеет в Москве. А нет — всех ждут крутые морозы, новая полярная ночь, и стужа будет долгой…
Узнав о вводе войск, Евтушенко шлет телеграмму Косыгину и Брежневу: «Я не могу уснуть. Я не знаю, как жить дальше… Я глубоко убежден, что наши действия в Чехословакии являются трагической ошибкой…»
Спустя годы в романе «Таинственная страсть» умудренный Аксенов с печалью и недоумением опишет момент отправки этой телеграммы с почты в Коктебеле. Напишет и историю стихотворения «Танки идут по Праге, танки идут по правде…». Поведает и об убойной депрессии, куда его вогнало вторжение. Его — только что вернувшегося из Лондона, где он ощутил себя в центре всеобщего праздника, почувствовал «прекрасным цветком и свободным творцом». Вдохнул воздух, полный неясных, но ласковых обещаний и надежд. В частности, на то, что скоро искатели человеческого лица по обе стороны стены, обнявшись, станцуют под Гленна Миллера и Диззи Гиллеспи.
Горько, когда светлые надежды оказываются наивными иллюзиями.
Он, — как писал потом Аксенов, — оказался в Лондоне точно в перерыве между «Парижским маем» и «Пражским августом». А может — осенью 67-го?
«Это не город, — вспоминал позднее Аксенов, — это воплотившийся карнавал, мифы из „Сна в летнюю ночь“…» Кадры из фильма Антониони «Фотоувеличение»[65]. Это новый
Делов-то! Ну танцевали под гитару, ну дули «Гиннес», ну обсуждали то да се. Чего такого? А вы вообразите себя на месте «молодежного писателя», выехавшего за «железный занавес» — и прямиком в ту культуру, которая ему мила. И не расхлябанностью, а тем, что являла наглядную альтернативу тому, что он не принимал, но что требовало лояльности. Понятно, товарищ Грибачев негодующе отвернулся бы от этого бардака, плюнул, растер и пошел бы в редакцию красной Morning Star. А на Аксенова накатили легкость и свобода. Долгожданные и желанные. Он, конечно, не думал, что у нас всё станет так же, но приятно было уже то, что такое возможно: по своему соизволению быть нынче здесь, а завтра — там, в нагой распахнутости мира искать, терять и обретать — но самому, а не послушно — по указанию начальства.
Надежды были расплющены под больное рассольное утро, когда, — как он пишет в «Ожоге», — «Единодушное Одобрение с мрачновато-туповатым удивлением оккупировало братский социализм, чтобы сделать его уже не братским, а своим, подкожным. <…> Стоп, машина! Оружие на изготовку. Шаликоев, Гусев, Янкявичус — за мной! Врываемся в помещение… Советская армия! Встать! Лицом к стене! Хорошо, что чехи понимают по-русски, а в других странах будет сложнее…».
Да, о тех событиях сказано много. Но нам важно не взвесить меру правоты того или иного мнения, а вспомнить, что сделал с людьми 1968 год, во многом определивший дальнейшую судьбу писателя.
Осенью 1968-го он начал писать «Ожог».
В марте в третьем номере «Юности» вышла «Затоваренная бочкотара».
А в апреле — вот совпадение! — песня Пола Саймона и Ар-та Гарфанкла «Америка». О том, как двое влюбленных садятся в автобус «Грэй хаунд» и едут искать Америку. Из Мичигана в Питсбург и по Нью-Джерси торнпайк[66]до Нью-Йорка… Песенка коротенькая, и не так много в ней всего происходит. Любовь, попутчики, встречи, табак, пирожки… Едут они и ищут Америку.
А у Аксенова тоже вышла как бы песня — но длиннее. И в прозе. До того музыкальна «Бочкотара». В ней куда больше героев и событий, вместо автобуса — грузовик, и какой, на фиг, торнпайк — грунто-о-о-овка. Но сколько поэзии…
«В палисаднике под вечер скопление пчел. Жужжание, деловые перелеты с георгина на подсолнух, с табака на резеду, инспекция комнатных левкоев, желтофиолей в открытых окнах… в горячем воздухе районного центра.
Ломкий, как танго, полет на исходе жизни — темнокрылая бабочка-адмирал, почти барон Врангель.
На улице за палисадником — пыль от прошедшего полчаса назад грузовика».
Вот она — картинка. Вот они — тишь и покой. Полчаса прошло — а всё пыль, пыль… Но почему Врангель? Адмирал-то — Колчак… А потому, видать, что у Врангеля была темная черкеска. И потом — Крым же, Крым… Левкои, пыльца, перелеты, любовь пчел трудовых, нежное жужжание…
В этой повести дело не в сюжете. И не в характерах. И не в разворачивающейся фантасмагории. Не в березках, не в осинах, не в мандаринной настойке, не в колоссальном аттракционе «Полет в неведомое», не в любви старушек к киношному Печорину и даже не в прозрачных небесах родины или странной страны Халигалии. А в покое. Средь которого ткань времен и пространств тает на глазах, реальность — и агитационно-газетная, и огородно-бытовая — заменяется журчанием сказки и притчи. И любые попытки его нарушить, а вместе с ним — и размеренное, но не лишенное стремительности движение бортовой машины Володи Телескопова по бескрайней Руси) — все недобрые попытки нарушить это движение безуспешны. И когда машина тормозит, выпуская пассажиров по надобности — подтянуть тормоза, заглянуть в глаза, упорхнуть в небеса — даже и тогда спокойное движение продолжается. А коли бухнутся в кювет — им и то нипочем: самочувствие прекрасное, улыбки, легкий закусон.
Аксенов звал «Бочкотару» сюрреалистической вещью. Ну да. Как творчество западных сюрреалистов разворачивалось на фоне снов, так и бытие аксеновских путешественников течет по грани сна и яви, и вот уже сон и явь мало в чем различны, они пронизывают друг друга и лелеют, делая всё происходящее притягательным, тайным, ч
Мало ли что там раскрашено под счастливую жизнь? Само же собой разумеется, что компания едет из безымянного райцентра в город Коряжск при «так называемом социализме». Едет-то в Коряжск, а заезжает в сказку. В ту, где по пути следования не попадаются плакатно-газетные труженики полей — пахари и комбайнеры, пастухи и агрономы, лишь иногда парит в лазури кукурузник Вани Кулаченко. И что — такой вот царит благостный абсурд? Ага, абсурд. Почти полный.
А черноморский старшина 2-й статьи Глеб Шустиков — пловец-подводник, любитель пончиков и учительница неполной средней школы Ирина Валентиновна Селезнева идут искать библиотеку, чтобы немного подняться над собой, а находят романтику и отдаются ей в мятных травах шумящего звездами березняка. А вот стукач Моченкин, дед Иван, строчит «сигналы», мечтая о почетной кружке с петухами и заветном «алименте» от сына и невестки, а обретает смысл жизни и просит «усе заявления и доносы вернуть взад». А то божия старушка Степанида Ефимовна поспешает в «Хвеодосию ловить жука фотоплексируса, а глядь — мотень, фисонь, мотьва купоросная — по траве росистой, тятеньки, Блаженный Лыцарь выступает…». А денди в голландском твиде и шотландском пледе Вадим Афанасьевич Дрожжинин, знаток страны Халигалии, несется навстречу мечте — девушке Сильвии Честертон, и доносится туда, где ждет Хороший Человек.
А он вообще-то — кто, человек этот? Он разнолик. Но всё может. Уж не русский ли сказочно-лубочный образ Того, кто всеблаг и всемогущ? Почему бы и нет? Но если и так, то это — в вечности, а здесь и сейчас — квалифицированный бондарь. Специалист по бочкотаре.
Но при чем здесь бочкотара? А притом что не будь ее — не было бы и путешествия. Ибо это ее — что затарилась, затюрилась, зацвела желтым цветком — везет лихой Володя Телескопов с одной целью — исполнить волю любимой буфетчицы Симы — пристроить бочкотару на склад для тихой жизни. В образованных ею ячейках сидят пассажиры-диогены, толкуют о высоком, везут ее, любят за добрый скрип и удобство. Да до того, что начинают звать с заглавной буквы — Бочкотарою! Весело им. Хорошо.
«Аксенов, — полагает Найман, — писатель хорошего настроения. Его герои переживают выпадающие им скорбь, конфликты, беды всерьез, не отводя глаз, не уклоняясь в утешительные подмены. Но они никогда не упускают шанса обнаружить в положении, куда их завела судьба, забавную черту, окраску, поворот». И то верно: вот заточили соперники Володю Телескопова в КПЗ, однако ж притом «принесли горохового супа, борща, лапши, паровых битков, тушеной гусятины, киселю…». Однако ж — замкнули. А что русскому человеку битки, коли он — в неволе? Он покушает-покушает, а все одно — начнет вспоминать подробности жизни, заплачет, засморкается в полу, вознегодует, а ближе к утру станет писать письма. Не поминайте, мол, лихом, сограждане!
А сами-то — ввергшие в узилище — отбросят Уголовный кодекс, падут на тахту, возрыдают о пропащей сельпошной любви: мочи нет! Дышать не могу! Тяжко! И ведь не простые какие-нибудь. Милиция — братья Бродкины. А всё одно, намаявшись, заменят 15 суток на штраф — 30 рублей, а точнее — пять.
Боже, боже — пять рублей — какая ерунда, в сравнении с любовью! И идет уже по кругу шапка. И как 100 лет назад бабулька Степанида Ефимовна, трепеща, вопрошает: а яйцами можно, милок?.. Но, глядь — и пятера отменяется! И наступает всеобщая радость и поцелуи.
И тут в тон повести звучит песенка Саймона и Гарфанкла. Хотя ее герои точно знают, куда едут, а герои Аксенова — нет. То есть думают, что знают. И у каждого есть дело в пункте назначения, что и расположен-то совсем недалеко… Ан, едут-то каждый за своим, а находят одно и то же — только в разных образах и под разными именами…
В точности по Найману, утверждающему, что в текстах Аксенова «не только не отчаянием движется жизнь, но даже и не преодолением его, а желанием радоваться. Хотя они (герои) и видят, что мир — не праздник, они ищут и находят в нем праздничность, которая присуща ему от сотворения…».
Ну, где еще на земле скажет человек: а в Китае, слышь, хунвейбины фулюганят. Да где угодно. Но только в России — стихами. Ибо если это не стихи, то что же?
И что еще укрыто там — в нежных сумерках, в кустах смородины, подступивших к веранде, где шепот: прохвост, любимый, пьяница, проклятый, миленький ты мой; в листьях, в каплях росы, в зарослях «куриной слепоты», папоротника и лопуха, в высоких свечках иван-чая… Уж не гой ли ты, Русь моя — родина кроткая?.. Очень может быть. И даже точно.
Герои Аксенова находят свою Россию. Очень далекую от России чужой. Той, где, выискивая крамолу, «доброжелатели» вопрошали: а что это у Аксенова вокзальные часы показывают: 19.07, а экспресс «Север — Юг» ожидается в 19.17? Уж не на новую ли революцию он намекает? И смех, и грех…
Какая революция? Бочкотару довозят до места. А ее не принимают — бракуют бюрократы. И едет Володя, и рыдает, но… Путь продолжается! И вновь садятся попутчики в ячейки, и говорит водитель Телескопов, чисто Гагарин: ну что ж, поехали…
И едут они в чудный сон, по которому плывет Бочкотара в далекие моря, поет, и путь ее бесконечен. А там ждет ее на луговом острове Хороший Человек. Он ждет всегда. Всех. И автора тоже.
И — слава богу. Ибо не жди Хороший Человек — как бы въехал Аксенов в новое десятилетие? Ведь когда наши солдаты, сидя на броне среди средневековья, читали «Юность» с «Бочкотарой», Аксенов выл, не зная, что делать «с танковой беспощадностью своей родины». Но понимая, что 1960-м конец. Грядет
В один из ветреных дней 1975 года, на пороге сумерек некий популярный писатель прибыл на перекресток Тивертон-авеню и Уилшир-бульвара, что в американском городе Лос-Анджелес. И что же увидел?
«…На перекресток этот выкатывается еще несколько улиц с незапомнившимися названиями, таким образом получается нечто вроде площади. Слева от меня бензозаправочная станция „Шелл“, чуть подальше станция „Эссо“, по диагонали напротив станция „Аполло“: все такое белое, чистое, белое с синим, белое с красным, белое с желтым, вращаются рекламы нефтяных спрутов, висят гирлянды шин.
…Пешеходы дисциплинированные, но если ты зазевался и пошел на красный, это еще не означает, что ты обречен. Закон штата Калифорния гласит: „Pedestrian is always right“ — „Пешеход всегда прав“…
Где бы ты ни ступил на мостовую, водитель затормозит и даст пройти. В Нью-Йорке, между прочим, этого правила нет, там смотри в оба!
Топографический, эстетический, а может быть, и духовный центр перекрестка — это, безусловно, кофешоп, большая стеклянная закусочная, открытая двадцать четыре часа в сутки, нон-стоп. Там видны на высоких табуретках и в мягких креслах многочисленные едоки разных категорий: и скоростные дилер-уиллеры, что, глядя на часы и не переставая трещать, запихивают себе в рот салат и гамбургеры, и гурманы, смакующие торты и кейки, и разочарованные дамы с сигаретами, и прочие.
Рядом открытый паркинг-лот, где среди автомобилей, словно одушевленные существа, выделяются огромные японские мотоциклы „хонда“ с высоким рулем.
Что еще? Вдоль тротуара ящики с газетами, солидные
Кругорама, в центре которой, естественно, находится автор, то есть я, замыкается изломанным контуром крыш и реклам, среди которых выделяются билдинг
Нынче американские вооруженные силы состоят из наемников, поэтому каждый род войск рекламирует себя с не меньшим азартом, чем табачные фирмы. Два замечательных парня и милейшая девушка в форме морских пехотинцев день и ночь смотрят на наш перекресток, а над ними сияет лозунг marines:
„Quality! Not quantity!“: Качество! He количество! <…>
Ей-ей, там больше не было предметов, ну если не считать быстро летящих облаков, солнца, пустой банки из-под пива „коре“, которая тихо, без всякого вызова катилась по асфальтовому скату и поблескивала с единственной лишь классической целью — завершить картину прозаика. Помните „осколок бутылки“? Впрочем, может быть, уже достаточно для вашего воображения?»
А вот сложно сказать. С одной стороны, воображение советского читателя свободно разгуливало по перекрестку Тивертон-авеню и Уилшир-бульвара — спасибо «Новому миру», что напечатал очерк в августе 1976 года. А с другой — чего-то не хватало… Да чего же? Да вот этого всего! Вот прямое 1976 году на перекрестке, скажем, улиц Теплый Стан и Профсоюзная. Недаром восьмой номер журнала сразу стал редкостью, которую давали
Чем? Да вот всей вот этой удобной несоветскостью! Гирляндами шин… Ну где вы в том году в Москве, Волгограде или Омске нашли бы такие гирлянды? Да еще на заправочной станции! Нет уж. Резина доставалась с трудом, как и всё связанное с автомобилем. Кто не жил в ту пору или был равнодушен к частному транспорту, прочтите сцену на штрафной стоянке ГАИ из повести «Поиски жанра»[67]. Там призрачные водилы бойко торгуют запчастями — лампами, поршнями от «М-21», вкладышами задними и передними, вулканизаторами, сальниками, прокладками, дверными ручками, фиатовскими свечами и фээргэвскими фарами. Да и в «Ожоге» не отстают, подрабатывая «нормальным автомобильным рэкетом»… Но грозный «Ожог» выйдет нескоро, а «Шелл», «Эссо» и «Аполло» — вот они здесь — в «Новом мире». Плюс рассказ о поездке в пустыню. В первых буквально абзацах: «…Дин позвонил отцу и попросил одолжить ему на неделю мощный огромный „олдсмобиль“. Старик торжествующе заворчал:
— Ага, когда доходит до дела, даже лос-анджелесские умники забывают свои европейские тарахтелки и… просят у родителей американский кар…
Вот, даже в таком пустяке, как автомобили, сказывается в Америке конфликт поколений. В прошлых десятилетиях огромный сверхмощный кар-автоматик еще был в Америке символом могущества, процветания, мужского как бы достоинства. Сейчас американские интеллектуалы предпочитают маленькие европейские машины, хотя стоят они отнюдь не дешевле, а дороже, чем привычные гиганты.
Дин загнал свой любимый „порше“ в угол гаража, исчез и вскоре приплыл на „корабле пустыни“: двести пятьдесят лошадиных сил, автоматическая трансмиссия, эр кондишн. В последней штуке, собственно говоря, и был весь смысл замены — как ехать через пустыню без кондиционера?»
Для нынешнего читателя этот пассаж — свидетельство того, что и 30 лет назад на вкус, на цвет и модель автомобиля товарищей не было, плюс — предвестие рассказа о встрече писателя с Настоящим Американским Приключением…
Советский же гражданин видел другое. Скажем, напоминание о том, что пока он стоит в очереди за «жигулями», ожидая заветной
И какой же вывод делал советский читатель? А вопросительный: как же это в самой передовой стране мира, покоряющей космос, такой «пустяк», как машина, всё еще остается роскошью? Шестьдесят лет спустя после выступления на эту тему Остапа Бендера…
И почему в США, где игрушки пушечных королей — несчастные американцы — стонут в теснинах Манхэттена под игом реакционного капитала, эту заветную мечту советского гражданина зовут тарахтелками и меняют почти как перчатки?
Такие вопросы простыми не назовешь! С душком вопросцы, товарищи! Подрывным ехидством попахивают эти, казалось бы, безобидные «шины» и «олдсмобили». А что же породило вопросы-то? Да десяток фраз противоречивого прозаика на тему особую, нервную, едкую… Далекую от «сорокасильных „Кадиляков“» Маяковского и «голубых „Испано-Сюиз“» Вертинского…
Но вернемся на перекресток. Ясно: шинами пейзаж не исчерпывается. Тут и кофешоп, открытый круглые сутки, с салатами и гамбургерами, кейками и дамами. И «хонды» с высоким рулем.
А тут-то что не так кроме рулей и гамбургеров? Да всё вроде бы так (в Москве тоже, бывало, попадались шоферские закусочные, с как бы кейками и даже почти круглосуточные), всё так вроде бы… Но больно уж мило, слишком как-то привлекательно. А кому в СССР нужна привлекательная Америка?
А вот уже и тонкий, но прямой наезд на агитпроп — ящики с газетами, где рядом и правые, и левые, и прочие. Ведь столько перьев затуплено в ходе создания у советского человека впечатления, что всё левое в Америке запретно, лишь оголтелая реакция, желтая пресса и разврат цветут махровым цветом. «Два парня из Италии»… хе-хе… Да что же это вы, Василий Павлович, не обличив идейного врага, в один ряд-то это всё поставили? Юрий Жуков[68] на вашем бы месте не оплошал бы…
И понятно, что не Аксенов поставил, а те, кто ящики размещал… Да неужели ж не ясно, что не получивший классовой оценки ящик этот, куда кидаешь монетку — хватаешь газетку, предстает возбуждающей фантазию диковиной из мира, где не грохочет «Социалистическая индустрия», а сияет неведомая, но вдруг желанная
А завершает зовущую картину нагло подменившая бутылку классика пивная банка. Та самая, о которой Евтушенко писал:
— А правда, товарищ начальник,
что в Америке пиво —
в железных банках?
— Это для тех,
у кого есть валюта в банках.
— А будет у нас
«Жигулевское»,
которое не разбивается?
— Не все, товарищи, сразу,
промышленность развивается…[69]
А пока она развивается, агрессивная военщина точит на нее зубы. А Аксенов, как бы походя, рисует наймитов Пентагона улыбчивыми парнями и девушками… Не забывает и девиз, скабрезно пародирующий наше суворовское «Не числом, а уменьем!».
Советская (и антиамериканская) пропаганда была почти везде и во всем — в поэмах, газетах, песнях, на конфетных фантиках и папиросных коробках, в детских книжках. Написать и прочитать об Америке
Аксенов же в «Круглых сутках» рассказывает сперва именно о бытовых — самых доходчивых и желанных, но отсутствующих удобствах и «фишках», а уж потом, вскользь, пишет о «язвах». Даже гомосексуализм и наркоманию не клеймит громогласно, но как бы констатирует, дескать да, есть и такое. А главное, как честный наблюдатель, он не скрывает, что увиденное ему нравится. И больше того — он любит это. Любит Америку!
Эта едва скрытая любовь не могла не беспокоить идеологический и вооруженный отряды авангарда трудящихся — партийных боссов и чинов КГБ, курирующих искусство. Уж очень позиция автора шла вразрез с тоном авторов агиток, описывающих тяжкую жизнь «За океаном», «Под властью доллара» в «Городе желтого дьявола»…
Манера непредвзятого путешественника, прибывшего в Штаты для чтения лекций по литературе и попутного наблюдения чудес и курьезов жизни, не была близка мастерам пропаганды. Иной жанр. Чужой.
Впрочем, нельзя сказать, что с публикацией возникли особые сложности — литературные власти не усмотрели в ней опасности… Возможно, в пору «разрядки напряженности» кто-то даже счел ее полезной, этаким знаком Западу: вот, мол, что мы нынче публикуем, а вчера бы — накось выкуси (впрочем, и «Голос Америки», говорят, тогда избегал сильной критики Советов, чтобы не повредить «разрядке»[70]).
Меж тем особо зоркие охранители не могли не узреть в этих текстах не только чуждости, но и хитроумной идеологической мины. И не замедлили указать: а мы предупреждали: нечего делать Аксенову в Америке. Да еще одному! А вышестоящие товарищи нас не послушали и Аксенова в Америку отправили, и вот пожалте: проамериканская агитация!
И правда. Донести «Сутки» до читателя было легче, чем доехать до места, о котором в них рассказано. Больше того, вся история с командировкой Аксенова в
А вышло так. В 1974 году профессор Дин Уорс из упомянутого университета прислал большому русскому прозаику, имеющему, по его мнению, собственный, своеобразный, особый взгляд на литературный процесс, приглашение. Приезжайте, дескать, Василий, в Город ангелов читать лекции славистам в роли visiting professor.
Василий двинулся с приглашением в нужное подразделение Союза писателей, подготовил план лекций, подал нужные заявления. А союз насупленно примолк, будто ничего и не получал. Ответом были лишь красноречивые гримасы, сопряженные, как назвал это потом Аксенов, с «неадекватной дикостью из-под надбровных дуг». Впрочем, иногда и говорили кое-что. К примеру, могущественный первый секретарь правления Союза писателей СССР и член Центральной ревизионной комиссии КПСС[71], грохнув дверью кабинета, вскричал: «Вы, Аксенов, нас уже три раза за горло брали! Больше не позволим! Ну, садитесь! Вот здесь, напротив! Смотрите в глаза!»
Вот до чего доводило иных литературных начальников желание человека просто недолго в Америке лекции почитать.
И — дальше: «Неужели вы думаете, что мы вам дадим добро на эту дурацкую Америку? Хотите нас запугать, да? Не испугаемся! Керзону[72] на его ультиматум ответили решительным „нет“, тем более вас, Аксенов, не испугаемся!»[73]
Василий Павлович вспоминал, что кто-то из друзей подсказал: в таких кабинетах может сработать хорошо разыгранная истерика (возможно, подозревал он, у вышесредних аппаратчиков была инструкция не доводить до истерики, мало ли что…).
И вот, решив, что если они сейчас его в Америку не пустят, то не пустят никогда, Аксенов требует: объясните, почему нельзя ехать по приглашению, которое есть не что иное, как дань уважения к нашей литературе — Шолохову, Гладкову, Кочетову, Грибачеву[74] и всем советским писателям… Почему западные литераторы ездят хоть в Китай, хоть в Париж, куда и сколько угодно, а писатель советский — нет?
— Я вам не крепостной мужик! — Аксенов доводит тон до максимально высокого и — тресь ладонью по столу. Трах, тресь, хрясь вот прям так всей ладонью. И начальник сразу ему чайку, коньячку, в смысле, ну, что вы, Василий Палыч, не надо так-то уж психовать-то нервно-то. Велика важность — Америка?! Всё проясним, звони денька через три, лады?
Так ли всё было в точности или не совсем — доподлинно неизвестно. Совершенно полагаться можно лишь на заверенные нотариусом документы (да и на них не всегда). А расшифровка этой или подобной беседы сейчас, если и сохранилась, то лишь там, куда слетаются все звуки всех бесед[75]. Впрочем, Аксенов подозревал, что в кабинете, за бюстом Максима Горького, укрыт записывающий прибор. Так что, возможно, я и неправ. Но следов записи, если она и была, не осталось…
Выйдя от босса, писатель поделился историей с тогдашней своей возлюбленной Майей. А та в ответ: «Чем ходить в этот убожеский Союз писателей, ты бы лучше к Томику Луковой сходил. Она моя соседка и, как-никак, ближайшая подруга дочери вождя». То есть Галины Брежневой!
Светские соседки выгуливали вместе собак, и как-то отвлекшись от наблюдений за друзьями человеков, Майя поведала той, кого Аксенов называл Томиком Луковой и кого много позднее именовал «мадам Помпадур Москвы», о проблеме любимого. Спустя недолгий срок любимого пригласили в гости к влиятельной мадам. Освоившись в гостиной, автор, как положено, подписал хозяйке книгу рассказов: «Томику Луковой со взглядом в будущее!» и поделился трудностями.
Томик всё поняла и рассказала, как ей удалось помочь в схожем деле одному их общему знакомому. Финал беседы — прицельный вопрос: «В стол что-нибудь пишете?»
— Бывает…
— Держите наготове.
Что же держать — не «Ожог» же? Ан нашлась другая встольная вещь — совсем не опасный, просто несвоевременный по форме и содержанию небольшой роман «Золотая наша железка». (Здесь есть малютка-неувязка — в книге «Американская кириллица» Аксенов называет этот текст «небольшим романом», а в подзаголовке «Железки» значится «юмористическая повесть…». Впрочем, а что — не повесть? Ведь и рассказик махонький — и он повесть. И анекдот бывает — повесть. И романище — тоже. А иногда и телесериал.)
Как бы то ни было, а эта история о сибирских физиках, не чуждых лирики, угодившая в авторский стол по велению Бориса Полевого, и держалась наготове.
Василий Павлович рассказывал об этом так: «Вот говорят, от романов толку никакого нет, если не напечатаны. В Советском Союзе не совсем такая была ситуация. Там за ненапечатанный роман могли и со свету сжить („Ожог“), могли и в Америку отпустить („Железка“)».
Он быстренько отвез ее Томику, и долго ли, коротко ли, а, может, и в ближайший четверг позвонили автору из Кремля, нахваливали и желали так держать — курсом на жизнеутверждение животворных характеров, против пессимизма и антисоветчины. И хотя прав Полевой — не самое подходящее время для модернистской прозы («Железка» увидела свет в 1980 году в США в издательстве «Ардис»), но в Америку лететь можно, раз Америка ждет. Счастливого пути, Василий Палыч, и успешного возвращения без — внимание! — задержек и промедлений.
И вот — снова кабинет высокого чиновника от литературы. За столом — хозяин, рядом с бюстом классика — незнакомый Аксенову товарищ в солидных очках, золотом «Роллексе», бриллиантовых запонках и с бриллиантом в галстуке.
Хозяин желает Аксенову счастливого пути… Дескать, не подкачайте, Василий, и вместе с руководителем делегации товарищем Тереховым с честью пронесите по Америке звание советского человека, подобно тому, как Стейнбек и Олби здесь у нас носили свое.
Согласно Аксенову, далее произошло вот что. Он обратился к товарищу в «Роллексе»-бриллиантах с вопросом: «Поездка все-таки срывается, так?» А тот неспешно встал, оправил манжеты и галстук, взглянул на часы и молвил: «Послушайте, товарищ… (далее — фамилия неизвестного нам доподлинно лица), Аксенов едет в университет лекции читать», и пояснил, что товарищ Терехов — нонсенс, балласт и не нужен. Пусть Аксенов едет один.
Хозяин кабинета с ним соглашается и напутствие завершается.
— А у вас, Аксенов, — обращается повелительный гость к писателю, — уверен, хватит рациональности, чтобы не выступать там по радио «Свобода», не так ли?
И всё. И можно лететь. Хотя…
Майя, вспоминал Василий Павлович, рассказывала, как один ее кремлевский знакомый делился, что, мол, у членов выездной комиссии ЦК (а писатели выезжали за рубеж с ее разрешения) «дрожали руки, когда подписывали бумаги на этого Аксенова».
Тут надо сообщить читателю, что мы приводим эту историю, опираясь на версию, изложенную главным героем приключения в книге «Американская кириллица». Мы знаем, в том числе и со слов Василия Аксенова, что он часто, очень часто беллетризовал воспоминания. Добавлял в них много всего того разного, что казалось ему уместным в момент, когда он начал ими делиться… Он меняет местами, перемешивает, а то и выдумывает имена и должности, места действия и времена года, облики, голоса. И потому — не можем ручаться за полное соответствие этой истории той действительности, которая так нравится иным составителям биографий. Тем более что сумели лишь предположить фамилию-имя-отчество чиновника из Союза писателей (и Евгений Попов, и ряд других друзей Василия Павловича не отвергли это предположение).
Не удалось выяснить и точных данных вершителя судеб в бриллиантовых запонках. Как и узнать, кем подлинно была Томик Лукова — Томиком ли? Реальной ли дамой советского высшего света или, скажем, видным мидовцем мужского пола? Собирательным персонажем или милым плодом воображения?.. Этого мы не узнали. А значит, и достоверности не установили (хотя в ее пользу говорит упоминание имен ее автора и его подруги). Как бы то ни было, а история эта уж больно хороша…
Впрочем, не скроем — есть и другая. Описанная Аксеновым в книге «Десятилетие клеветы»: «В 1975 году я боролся за поездку в Америку по приглашению Калифорнийского университета. Исчерпав уже все доводы и в ЦК и в Союзе писателей, я написал письма Брежневу и Андропову, после чего меня пригласили в приемную КГБ на Кузнецкий Мост. Там некий человек с дорогими запонками и булавкой в галстуке, от каждого жеста которого разило какой-то сверхгосударственной значительностью…» Развитие дальнейших событий позволяет думать, что именно эта встреча и стала решающей в получении разрешения.
Однако и это не последняя версия. Писатель Виктор Ерофеев рассказывал в своих интервью: «Я ему (Аксенову. — Д. П.) каким-то чудом через связи своего отца устроил поездку в США, когда в 1975 году ему не разрешали уехать». В книге «Хороший Сталин» Виктор Владимирович уточняет, какие именно связи он имел в виду. В первую очередь — Андрея Михайловича Александрова[76], «который был известен в Москве и Вашингтоне как архитектор „разрядки“». «Именно с его помощью, — пишет Ерофеев, — мне удалось отправить „невыездного“ Аксенова в США. Тот, вернувшись, подарил мне клевую зажигалку…»
Возможно, так оно и было — то есть за разрешение на выезд Аксенова в США «боролись» и сам писатель, и таинственная Томик Лукова, и вполне известный Андрей Александров.
Чьи усилия сыграли главную роль, неведомо. Поэтому ради справедливости привожу все три истории.
Потом в «Американской кириллице» Аксенов напишет, что два месяца, проведенные им тогда в Калифорнии, возможно, были самыми беззаботными в его жизни. Им владела эйфория вольноотпущенника. Годы спустя, глядя на фотографии той первой своей американской поры, Аксенов заметит, что они отличаются «ненамеренной, странной недозрелостью», курьезной какой-то молодцеватостью… Будто тридцатилетний калифорнийский повеса тусуется на Венис-Бич и Пасифик Палисейдс…
А было тогда нашему писателю 43 года. И за время пребывания в Штатах успел он не только лекции почитать в Калифорнии. Василий Павлович объехал этот штат и сопредельные пространства. И в Нью-Йорк заглянул и познакомился с тамошней культурной ситуацией и литературной компанией (а может, и сверил с истиной приведенные в «Джине Грине — неприкасаемом» адреса эмигрантских ресторанов). А так же завернул и в город Анн-Арбор (штат Мичиган), где уже выдавало книжные тиражи на русском языке издательство «Ардис».
Дом его основателей Карла и Элендеи Проффер, в котором располагалось издательство, где, по свидетельству Анатолия Гладилина, при желании «можно было бы разместить всю парижскую литературную эмиграцию», был полон народу — американских славистов и советских эмигрантов. Затесался в ту тусовку и Василий Аксенов.
На кухне — по советской привычке — сидели от зари до зари. Что ни день — новые голоса и новые лица, дышащие эйфорией эмиграции. Хозяева добродушно смеются: мы и знать не знаем, сколько народу нынче гостит. Глубокой ночью уходим спать — на кухне человек пять, утром пришли — восемь. И похоже, тема разговора та же. Здрасьте, господа! Милости просим.
Тем временем в подвалах дома, бывшего когда-то загородным клубом, что стоит среди кленов и сосен в конце немощеного драйва Хитервей, жужжали и мигали машины книгопроизводства — копиры, принтеры, компоузеры, переплетные системы… Техника быстро дешевела, позволяя наращивать тиражи, осваивать новые тексты, темы, имена.
А вокруг простирались поля для гольфа. Посреди них можно было порой видеть статную фигуру Карла Проффера, бредущего по пояс в тумане в компании пары собак и троих детей, — внимательного и добродушного мецената вольной российской литературы.
«Вообразите мгновение. Дул сильный ветер, он продул это мгновение все насквозь и перелетел в следующее, — писал Аксенов в очерке „Круглые сутки нон-стоп“. <…>
Четыре автомобиля, два красных, один темно-синий и один желтый, прошмыгнули из этого мгновения в следующее.
На станции „Шелл“ у черного, похожего на пианино спортивного „порше“ открылась дверца, и из нее вылезла длинная красивая нога. В следующем мгновении появилась и вся хозяйка ноги, а потом и друг ноги, беленький пудель».
В последний раз я видел вас так близко,
В пролете улицы умчало вас авто…
Мне снилось, что теперь в притоне Сан-Франциско
Лиловый негр вам подает манто… —
пропел когда-то Александр Вертинский…
И вот пожалуйте: только что была Москва — а вот Лос-Анджелес, Лас-Вегас, Фриско…
Вообще, этот кусочек песни великого Вертинского, до конца дней изумленного помилованием, если ее слушать не читая, — можно понять и так, что, мол, Сан-Франциско — это один большой притон. Или, быть может, это — название умопомрачительного вертепа где-нибудь вдали… В Бильбао. Монтевидео. Касабланке… О, «Сан-Франциско»!..
Судьба русского человека вне России, вне СССР — и гостя, и постоянно живущего — занимала Аксенова практически с самого начала его писательской карьеры. Похоже, он видел в такой судьбе проблески настоящего и будущего глобального
Он размышлял о нем напряженно и весело. И в шутливом репортаже о поездке на кинофестиваль в Аргентину. И в как бы детской повести «Мой дедушка — памятник». И в написанном вместе с Григорием Поженяном и Овидием Горчаковым романе «Джин Грин — неприкасаемый», не говоря уже об «Ожоге», «Острове Крым», «Скажи изюм» и других его книгах и статьях 1990-х и «нулевых» годов.
Вспомним Гену Стратафонтова — юного героя-путешественника — легендарного советского пионера. Он, как и положено, «не растерялся в трудных обстоятельствах» и спас от порабощения архипелаг Большие Эмпиреи. Попутно завернул в Японию и Англию — то есть промчался по маршруту, невероятному для большинства советских пионеров. И к тому же вернул геологу Вертопрахову его похищенную дочку Дашу-Долли — свою прекрасную сподвижницу в необычайных приключениях…
А Джин Грин — неприкасаемый, спецназовец-церэушник — тоже по происхождению русский и вообще — порядочный парень?.. Разве это не любопытный характер, отражающий противоречивость эмигрантской жизни?
А Леонид Красин — красный финансист и стратег, который в романе «Любовь к электричеству» немало времени проводит за пределами Российской империи вместе с другим путешественником — Лениным? Разве это не образы революционеров-беглецов, переописанные как прообразы оппозиционеров 1970-х годов, рвущихся вон из совка?
А устремленный подальше от цековских бань, киноцензур и дефицита сыра режиссер-авангардист Витася Гангут из «Острова Крым»? А другие герои книги — убежавшие либо рано, как генерал Витольд фон Витте, либо — поздно, как спортсменка Татьяна Лунина, либо — прямо в смерть, подобно функционеру новой формации Марлену Кузенкову? Разве не кричат все они о почти предельной уже невозможности для автора жить там, где тешатся властью тоталитарные заправилы? Что и говорить о гражданах мифического Крыма, сдавшегося «чугунным красным чушкам». Но и оттуда можно тихо уйти в морские сумерки, как Бен-Иван, Памела, Антошка Лучников и их ребенок…
Этим непрестанным заграничным русским поиском Аксенов и в изданных в СССР текстах будил неприятие большевистской клетки, жажду познания мира, свободы и любви к ней. Хотя к тому времени отнюдь не все советские россияне далеко ушли от состояния «замороченных сталинских выкормышей», известных читателю по «Ожогу». Тому роману, который сыграет в жизни писателя поворотную роль, направив его по стопам его героев — в эмиграцию. Роману, в котором так часты заграничные русские… Скажем — красавица Мариан — Машка — Кулаго. Героиня африканских ночей героя-хирурга Гены Малкольмова… Та, чей дедушка был русский кавалерист и летчик «и очень много воевал, тре бьен». А потом отступал в Европу… А она всё тосковала: ах, Геночка, — просила, — расскажите мне об этой далекой неродине, где я еще не была, а только слушала в Париже ее посланцев — поэтов и скрипачей, ах нет, ах нет, не палачей!.. Между прочим, именно она, эта парижская русская Маша, спасла-таки героя-Геночку, как и весь персонал тропического госпиталя Красного Креста, от зверских головорезов-мерсенеров. Закрыла, что называется, своим роскошным телом стволы их похотливых автоматов. Короче, если б не эта жертвенная девушка, неизвестно, как бы всё обошлось…
А взять героя того же романа Саню Гурченко — крутого магаданского лагерника, успевшего в послевоенном сумбуре промотаться по миру от Рима до Буэнос-Айреса. Возвращенный в СССР, преданный, схваченный и отправленный погибать в чукотской урановой могиле ГУЛАГа, он выжил, бежал через Берингов пролив на Аляску и спустя годы был встречен героем того же «Ожога» — на сей раз писателем Пантелеем Пантелеем — уже в сутане патера. Сперва в Риме — то ли на площади Испании, то ли у фонтана Треви, а затем — на Вацлавском наместье в Праге 1968 года, взявшейся было «откачать избыток дерьма», но спешно оккупированной краснозвездными противниками гигиенических процедур. Кстати, в рудники Саню загнали за попытку побега — угона в Штаты парохода-зэковоза «Феликс Дзержинский»…
Бегство, исчезновение, уход из-под надзора — вечная тема Аксенова — тревожная джазовая мелодия, несколько раз сыгранная им лично — в реальной жизни. Одним из таких «выступлений» и стало путешествие в Калифорнию в 1975-м.
Однако предстояло возвращаться. По сути — в неизвестность. Ибо «Ожог», похоже, был уже на Западе, но его выход неизбежно привел бы к конфликту с властью.
«Всякий знает в центре Симферополя, среди его сумасшедших архитектурных экспрессий, дерзкий в своей простоте, похожий на очиненный карандаш небоскреб газеты „Русский курьер“ …На исходе довольно сумбурной редакционной ночи, в конце текущего десятилетия или в начале будущего… мы видим издателя-редактора этой газеты 46-летнего Андрея Арсеньевича Лучникова в его личных апартаментах, на „верхотуре“. Этим советским словечком холостяк Лучников с удовольствием именовал свой плейбойский пентхаус…»
А где же в конце того десятилетия мы видим советского по гражданству и российского по самоидентификации 46-летнего прозаика Василия Павловича Аксенова?
В «столице мира и прогресса», на улице Красноармейской близ станции метро «Аэропорт». А равно и на других улицах близ других станций — то за чаркой коньяку, то за высокоумной беседой, то за пишущей машинкой — сочиняющим роман про «неопознанный плавающий объект» — остров Крым. А то и в самом Крыму, история, природа, местоположение и самый воздух которого, возможно, и в самом деле располагает людей творческого склада к фантазии и крамоле.
А что же это, если не крамола — вообразить, что Крым — это не всесоюзный курортный полуостров, а отщепенский буржуйский остров, так и не покоренный красными ротами благодаря роли личности в истории. А личность-то затрапезнейшая — прыщавый лейтенантишко британского линкора — мальчишка Бейли Ленд. Но пока белый Крым и его союзники бултыхались в трясине отчаяния перед лицом врага, он с похмелья явился в башню главного калибра и, угрожая расстрелом, велел открыть огонь. На форсирующих Сиваш большевиков обрушились тяжелые снаряды, взрывы ломали лед, губя целые эскадроны и превращая Крым в неприступную крепость…
Впрочем, одна эта стрельба вряд ли кого остановила бы. Но она воодушевила унылые белые части, и те встали на рубежах, да так, что взяли, да и отстояли Крым.
И вот в Ялте — памятник Бейли Ленду, в Крыму — демократия. Сорок партий бьются за голоса избирателей. Немало народов благоденствует под солнцем «Восточного Средиземноморья», как зовет остров мировая пресса. Экономика растет. Жизнь течет приятно и в целом спокойно, как и положено в культурной и свободной стране. Перед нами — мечта о будущей России (на тот момент казавшаяся несбыточной) или рефлексия на тему: что было бы со страной, не задави большевики республику 1917 года…
И всё вроде хорошо в этой воображаемой стране. Кроме одного — владельца и редактора влиятельнейшей газеты «Русский курьер» — спортсмена и плейбоя Андрея Лучникова. Он одержим великой и жертвенной
Лучников умен, силен, богат, знаменит и талантлив. Он владеет искусством жить, мастерством дипломата и публициста, навыком бизнесмена, управленца, стратега. Он умеет покорять умы и глаголом жечь сердца людей. И использует все эти дарования, трудясь ради слияния Крыма с континентальной Родиной-матерью.
И у него, как положено такому человеку (и как это часто бывает у Аксенова), есть антипод — истеричный и гадкий враг — некто Игнатьев-Игнатьев, чья ненависть к герою замешена на уродливой гомосексуальной тяге и комплексе неполноценности.
А Лучников — герой. То есть личность, творящая историю. Политический фактор. Ну и потом… Он же все ж таки в том числе частично и Аксенов. То есть такой, каким, возможно, хотел себя видеть автор. И дело не в усах, шарме, славе и суперменстве. А в том, что Лучников — круче. Ну, скажем, если у студента Василия и его однокашников не хватило пороху устроить демонстрацию в поддержку мятежной Венгрии, то юный Андрей с одноклассниками по гимназии им. Царя-освободи-теля рванул в Будапешт.
Это сплотило их. И превратило в победоносных «одноклассников» — влиятельную группу крымской элиты. Лучников изменился. Он не стал марксистом. И «другом СССР» не стал. Но возмечтал о единении страны, в котором видел свою историческую миссию.
И ведь точно знал: что там — в Москве — творится. И что царит и на самых на окраинах: пьянка, разруха, голодуха, тупость обывателей, наглость охранителей, маразм властителей. Почти полная подчиненность миллионов воль гнету основополагающего учения и политической машины. Исключение — музыканты, проститутки и фарцовщики. Прочие втиснуты в скрежещущий танк — ржавый, но способный стрелять и давить.
Эта махина пугает. Прежде всего — Аксенова. А еще — возможность капитуляции размягченного демократией, изобилием и левацкой демагогией Запада (витриной и образом которого он сделал Крым) — перед нищей мощью «красного проекта».
Если до 1917 года обсуждать мессианскую роль православной имперской России было уместно, если такая дискуссия была бы объяснима в 1920-х, когда экипаж будетлян — Лентулов, Малевич, Татлин, Хлебников и впрямь взлетал авангардом мирового артистического поиска, то мессианство СССР 1970-х представало клацающим вставными челюстями партийных боссов и лязгающим гусеницами кроваво-ледяным кошмаром.
Меж тем фантазия писателя рисовала будущую — свободную, капиталистическую и процветающую Россию, а тоталитарный СССР виделся травматическим наследием, исторической обузой, старым врагом юной и прекрасной страны, которому она, если это допустит ее элита, может и сдаться, откатившись в тираническое прошлое…
Впрочем, чего бы ни боялся Аксенов, его героя Лучникова и его друзей это не смущает. Их интеллект столь силен, посты столь высоки, а одержимость энергией заблуждения столь сильна, что они увлекают весь остров, включая завзятых монархистов и своих любимых, вслед за собой в пасть чудища. Рефлексируя при этом таким примерно образом: «…сможет ли большая и сильная группа людей не раствориться в баланде „зрелого социализма“, но стать ферментом новых, живых антисталинских процессов?» — хотя и задаваясь вопросом: посадят ли их во Владимирский централ или вышлют в Кулунду?..
«Зрелый социализм» отвечает им прикладом в темя. Избежать его удается лишь тем, кто, стоя вне политических перипетий, просто не принимает крымо-советского слияния-поглощения по причинам эстетического, этического и метафизического свойства. Джазисты, юродивые бродяжки, аполитичные девочки и невинные младенцы бегут с родных берегов в закатные сумерки. Новое поколение ускользает из цепких лап. И красной ракете его не догнать. Да она, в сущности, и не хочет…
В этом — надежда. Последняя надежда Запада, размякшего в неге и, по мнению Аксенова, почти готового, подобно кролику, прыгнуть в пасть удава. Именно метафорой Запада — сильного, но не способного противиться коммунизму, сделал автор остров Крым.
Конечно, об издании книги в СССР и речи быть не могло. Она вышла в 1979 году на русском языке в американском издательстве «Ардис».
Впрочем, главная крамола к этому времени уже была содеяна. В 1975-м в Коктебеле, под яблоней возле съемной мазанки, был закончен «Ожог» — роман, который, по мнению Аксенова, стал одной из самых жизненных, личных, главных его книг.
«Ожог» — роман трудной судьбы. И «Ожог» — это своего рода судьба Аксенова. Не случайно ему и его автору посвятил песню «Исторический роман» Булат Окуджава, как и Аксенов, ткавший многие тексты из ниток собственной судьбы…
Это — попытка сплести в пределах одного повествования несколько очень важных и личных рассказов. Первый — о любви. О реальности и силе любви в мире, где она, казалось бы, невозможна. Второй — о трагедии собственной семьи, о Магадане, о матери, отце и отчиме. Третий — о себе. Юном и скрытом под псевдонимом Толя фон Штейнбок. О себе молодом, ищущем свой писательский язык. О себе зрелом, измученном и спасенном любовью. Четвертый — о власти, Сталине и сталинщине, собранных в образе чекиста Чепцова. Пятый — об эпохе: 1950-х, 1960-х и 1970-х годах. Об их обещаниях и разочарованиях. Шестой — о Европе и Америке и о месте в мире русского человека. Седьмой — о друзьях и недрузьях: ведь при желании в Игоре Серебро легко узнать писателя Анатолия Кузнецова, в Вадиме Серебрянникове — Олега Ефремова, а в «Блейзере» Смухачеве-Богратионском — упакованных в общий пиджак Никиту Михалкова и Андрона Михалкова-Кончаловского. Можно увидеть в романе немало историй и попытаться угадать многих современников.
Но оставим это любителям таких упражнений и обсудим: а может ли быть так, что общая «рамка», объединяющая истории и людей, живущих в «Ожоге», это —
Конечно, был и протест. Этический, эстетический, экзистенциальный. Но главным было утверждение: можно спасти душу живу! Несмотря на сделки с совестью. На мат, перегар и хулиганство. На бардак, уныние и море грехов и соблазнов. Реальность покаяния и спасения несмотря ни на что!
Не потому ли книга так смутила власть? Включая КГБ. А точнее — его Пятое управление, занимавшееся защитой строя от инакомыслящих и сделавшее многое, чтобы не допустить распространения романа в самиздате в СССР и его выхода за границей.
Впервые свет на эту ситуацию пролил полковник КГБ Ярослав Васильевич Карпович. Сотрудник, отвечавший за операцию, связанную с «Ожогом», рассказал о ней в двадцать девятом номере журнала «Огонек» за 15 июля 1989 года в статье «Стыдно молчать». Текст вышел в рубрике «Прошу слова» и произвел фурор. Все, для кого это стало новостью, — изумились. Те же, кто читал иносказательную историю об «Ожоге» в романе «Скажи изюм», удивились меньше, и прежде всего тому, что высокопоставленный сотрудник спецслужб открыто сообщил следующее: «В конце 70-х я познакомился с писателем Василием Аксеновым, написавшим… резкий и талантливый роман „Ожог“. С разрешения начальства я встретился с Аксеновым и долго с ним разговаривал. Потом мы еще несколько раз встречались. Я заочно знал его как несчастного сына еще более несчастной Е. С. Гинзбург, автора искренней книги „Крутой маршрут“. Я искренне сочувствовал судьбе матери и сына, поэтому мне удался разговор с Аксеновым, и он пообещал не распространять рукопись романа „Ожог“. Издавать роман он пока тоже не собирался.
Состоялось джентльменское соглашение… Я был доволен. Начальство — тоже».
Проверить точность сведений, изложенных полковником Карповичем, не удалось, как и получить доступ к документации по этому вопросу (как сказано в ответе на запрос, в архивах она отсутствует). Но можно сравнить написанное Ярославом Васильевичем с тем, что пишет Василий Павлович. Аксенов с разной степенью иносказательности повествует о ситуации в трех текстах: в романе «Скажи изюм», в книге «Американская кириллица» и в изданном после смерти автора романе «Таинственная страсть».
В каждой из книг «джентльменскому соглашению» посвящены пространные периоды. Поэтому, имея в виду их доступность, ограничимся скромными цитатами.
«Скажи изюм»: «Если „Щепки“[77] появятся на Западе, у вас будет только две альтернативы… Или покаяться… Либо… отправляться туда, где издаетесь… Откровенно говоря, нам бы не хотелось, чтобы советское искусство теряло такого профессионала… Вас ведь и
— Да и не собирался никогда, — буркнул Огородников.
„Вру или не вру?“ Самому не понятно.
— Важнейшее решение вы сейчас принимаете… Отказ от публикации „Щепок“, безусловно, будет означать, что вы остаетесь в рядах сов… Ну, словом, в рядах отечественного искусства. Если по-джентльменски заключаем договор… то и от нашей организации хлопот у вас тоже не будет. <…> Итак, лад
— Ну, если угодно, лад
«Таинственная страсть»: «…Мы прочли ваш роман „Вкус огня“[78].
— …Никто не читал, а вы прочли. Как это так получается, товарищи офицеры?
— …Вы профессионал
— …Я согласен с оценками романа „Вкус огня“, за исключением одной. Да, роман получился сильный… но отнюдь не антисоветский. Роман вообще не может быть антисоветским по определению. <…> Я опасался подпасть под такую классификацию и потому вообще воздерживался от мысли о его возможной публикации…
— На Западе? — уточнил генерал.
— Ну не на Востоке же!..
— У нас… всё можно опубликовать — теоретически, а практически время еще не пришло. Согласны? Давайте так: вы зарекаетесь печатать „Вкус огня“, а мы обещаем ни на йоту не вмешиваться в ваши дела… не чинить вам никаких препятствий ни в публикациях, ни в экранизациях, ни в путешествиях. Скрепляем рукопожатием.
Все-таки пожал».
«Американская кириллица»: «…Я закончил свой главный крамольный роман „Ожог“. Сделал 4 экземпляра на пишмашинке и дал читать нескольким ближайшим друзьям. По прочтении собрались, и один из друзей сказал: „Эта штука, старик, не слабее ‘Фауста’ Гёте, а потому надо ее либо закапывать, либо засылать за бугор“».
Шансов на публикацию романа на родине не было. Просто в силу разницы в представлениях Аксенова и власти об искусстве и политике. Если для первого роман в принципе не мог быть антисоветским, ибо имел отношение не к земному, а к метафизическому, то для второй, — которую писатель и его друзья звали Степанидой Власьевной, — антисоветским могло быть всё. И прежде всего — метафизическое. Ибо — оно неуловимо. Не контролируемо. Не осязаемо органами пролетарской диктатуры. Дух дышит, где хочет, — эту евангельскую правду Степанида принять не могла. Ведь если есть нечто ей неподвластное, то какая ж тогда она власть? Если, веруя во спасение души, человек ее не боится, то это опаснее, чем обвинения в злодеяниях. Ибо бесстрашный говорит: деяния и слуги твои злы. И ты — зло. Но я не боюсь, ибо свободен в духе.
— Поня-я-я-тночка! — решила Власьевна. — Не могу уследить за творчеством как таковым — разберусь с его плодами. С конкретной книгой, например.
Но и это не удалось. «Ожог» «ушел» за рубеж. Как именно — выяснить, увы, не удалось. Ни друзья Аксенова, ни его оппоненты мне об этом не рассказали. А встречаясь с Василием Павловичем, я так и не спросил его. Эта операция описана в части второй «Американской кириллицы», но, не имея оснований полагать, что описание не вымышлено, отсылаю вас к этой захватывающей шпионской истории…[79]
Короче, «Ожог» («Щепки», «Вкус огня») отправился туда, где мог быть издан. И стал инструментом, изменившим жизненный маршрут автора.
Полковник Карпович (а с писателем толковал он — не генералы) вспоминает: «Я рассуждал таким образом: за рубежом пока не выйдет талантливая книга, компрометирующая нашу действительность, а я ничем не погрешил против творческой свободы хорошего писателя. При этом надеялся, что
В приведенных фрагментах обращают на себя внимание довольно странные намеки: «наступят другие времена», «время еще не пришло», «будем ждать»… Неужто вооруженные бойцы партии предвидели — и ждали — ее конец? Иначе и представить себе публикацию такой книги было невозможно… Впрочем, роман вышел в свет куда раньше, чем Степанида Власьевна покинула свою дымную кухню, — в 1980 году в «Ардисе».
Рядом с заголовком значилось: «
В романе хитро всё устроено с главными героями. Сперва кажется, что их пять — знаковых персон того времени: скульптор, джазмен, физик, медик и писатель. Скульптор Радий Хвастищев, джазмен Самсон Саблер, секретный технарь Аристарх Куницер, врач Гена Малкольмов и писатель Пантелей по фамилии Пантелей… Но потом, когда речь заходит о Толе фон Штейнбоке, приехавшем в Магадан к своей вышедшей из лагеря маме, выясняется, что эти очень разные (и порой встречающиеся друг с другом) люди — один человек. Один и тот же!
У них — одно детство. В нем их зовут Толя фон Штейнбок. И общее отчество — Аполлинарьевич. Они знают друг друга лучше, чем лучшие друзья. У них одна и та же любовь — рыжая Алиса — пришедшая из колымского детства в их московскую зрелость, из плена тюремного в плен богемный. И у всех — одна родина, и в каждом есть немного автора, плюс — знакомых ему физиков, джазистов, скульпторов, врачей…
При желании их можно увидеть в каждом. В Хвастищеве — условного Неизвестного. В Саблере — условного Козлова (что сделал и сам Козлов в книге «Козел на саксе»), В Куницере — то ли Револьта Пименова, то ли Вадима Янкова. В Малкольмове — Ильгиза Ибатуллина, студента-медика и друга Аксенова со студенческих лет на всю жизнь. Только в Пантелее не узнать никого кроме Аксенова. Но и это узнавание — не вполне верное. Ибо Пантелей — не Аксенов, как не Аксенов ни один из его героев, нередко обозначенных местоимением «я» и очень схожих с автором.
Пятерых главных мужчин «Ожога» объединяют детство, дружба, искусство, Москва, «общие облеванные мечты», контрабандно, за пазухой пронесенные в 1970-е из прошлого десятилетия… Общая любовь. И общий враг. Вечный аксеновский враг. Только здесь, в «Ожоге», он жестче, чем в других текстах.
Офицер МГБ Чепцов — сокрушительное детское воспоминание. Он арестовывал маму. Галантный изверг. Смешливый убийца. Веселый палач. Некто, не знающий чувства вины и боящийся только начальства. Человек ли? Человек, с полумертвой душой. Живодер, шагнувший из калымского белого ада в бедлам ниишных, интуристовских и кабацких гардеробных, в жизнь главных героев. Шагнувший, подобно всей сталинщине, мерным шагом вступившей в 1970-е. Поставив перед тысячами своих жертв мучительный вопрос: мстить или простить? Он вплетается в синкопированный сюжет «Ожога», имитирующий сюрреалистическую импровизацию советской жизни, но еще и мастерски закрученный в спирали личных судеб, сложными маршрутами устремленных к финалу. Это он тащит героев через валютные бары и творческие клубы, бега и пивные ларьки, ночь Магадана и ялтинский вытрезвитель, африканский зной и русский лед — к итогу, полному неопределенности… И оттого — не окончательному.
На их пути мелькают знакомые лица. То кому-то привидится артист Ефремов, а кому-то в одной из дам вообразится то ли Майя Кристалинская, то ли Людмила Зыкина…
Есть среди них те, кто автору
Но независимо от того, почитает их автор или презирает, он, похоже, не может их не жалеть. Ибо все они несут сквозь сюжет бремя несвободы. Прежде всего — от своей вынужденной лжи, вымученных компромиссов, выморочных уступок, неизбежных, когда ты слит с системой, а восстание против нее означает неизбежность вылета из — просто-напросто — жизни. Жаль ему и солдатиков, что, сидя на советской броне на пражских перекрестках, читают «Бочкотару»…
И эта горькая несвобода тем горше, чем яснее автору, что пока система, пронизывающая, в том числе и повседневную жизнь, лжива и репрессивна, в мире есть лишь один (едва ли достижимый) идеал — республика Россия марта — октября 1917 года — самая свободная на тот момент страна мира. Разгромленная, но не убитая попытка войти в западную цивилизацию — Большую Европу, которой принадлежат и США, и Южная Америка. Войти в свободу. Но это — воспоминание. А ныне все герои «Ожога» несвободны. Включая главных. И из этой рабской топи их выручает встреча — о, гротеск, гротеск! — в 50-м отделении милиции, известном столице как «Полтинник».
Те, кто их туда свозит, не знают, что автор устроил это, чтобы спаять пятерых Аполлинарьевичей воедино и превратить их в одного — «Потерпевшего». В альтер эго автора, в пьяном ступоре и жажде жалости бродящего по спаленному пожаром московскому пепелищу, где тлеют его надежды. Блуждания влекут его к одному из пиков романа — встрече с отцом… В убогом сельпо, в очереди за жалкой снедью, меж луж и рож, где какой-то дряхлый сатрап орет: «К стенке, к стенке всех!» А отец шепчет автору: «Беги пока не поздно! Беги на Юг! Беги без оглядки!»
И мчится он на Юг, в живые дали. Россия мчится вместе с ним в лучах луны… Однако этот бег ведет к тому, что вот: старик Чепцов лежит под колесами, передавленный на половинки. Лежит и говорит: «Претензий нет. Раздавлен в рамках инструкций»…
Тут уже настает Потерпевшему полный каюк, кранты, фул краш, сограждане! Моральная дилемма решена. Всё потеряно.
Но ведь не может же быть потеряно всё, коли есть на свете любовь. Она-то — любовь его Алиса — и спасает выпитого почти до дна автора, уводя через свой альков на «странный московский перекресток», где ясно и тепло ощущается Близость к Чему-то тому, что единственно осталось в этом мире двум влюбленным и не покидает их. К вере, что Что-то все-таки произойдет.
Спасительная любовь в «Ожоге» не абстрактна. Она имеет внятные женские очертания. Да, это любовь женщины. Точнее — любовь с женщиной.
Женщин, кстати, в книге много. Но почти все они проходят красивыми или мерзкими, но все же — эпизодами. Кроме двух — мамы Толи фон Штейнбока Татьяны Натановны, и Алисы — нимфы ночной столицы, рулящей желтым «фольксвагеном», пленяющей мастеров культуры и соединяющейся, наконец, с любимым…
При желании, ее можно принять за Майю — в то время жену режиссера Романа Кармена. Но это не она. В той же мере, в какой все похожие на Аксенова его герои —
Вот, скажем, генерал Планщин из будущего романа «Скажи изюм» или — некто
И не потому, что Карпович был не генералом, а полковником. А потому, что процесс общения Аксенова с органами лишь отчасти воспроизведен в его книгах. И сегодня передать его в виде
Как КГБ узнал о романе? Как-как? Узнал и всё… И уж совсем осерчал он, когда выяснилось, что роман будет издан на Западе.
О том, какие страсти разгорелись вокруг «Ожога», рассказал писатель Анатолий Гладилин. В пору подготовки к выпуску итальянского перевода ему в Париж, где он работал на радио «Свобода», в панике звонит переводчик: тираж ждут в магазинах, а из Союза приезжает некая Елена, подруга Аксенова, и от его имени просит пустить тираж под нож или задержать выход книги хотя бы на год.
Переводчик спрашивает: Анатолий, ты знаешь эту даму, можно ей доверять? Гладилин отвечает, что знает и хорошо помнит их с Аксеновым роман — тут она не врет. Но при этом сообщает, что когда они с Василием в последний раз обсуждали варианты поведения советских властей, желавших помешать выходу книги, то учли и этот. Причем Аксенов доверил Гладилину представлять его интересы. Поэтому последнее слово, — говорит Анатолий, — за мной. Будем печатать. Потому что издание книги и пресса вокруг нее — залог безопасности автора.
Потом Гладилин спросит у Аксенова-эмигранта, в курсе ли он «итальянского инцидента». Тот скажет: нет. Гладилин расскажет историю и посетует: как же так, Вася, ведь такая у вас любовь была, а она продала тебя с потрохами?!..
— Ну что ты хочешь? — философски заметит Аксенов. — Видимо, ГБ ее поймала на чем-то и завербовала. Слабая женщина. И не таких ГБ ловила и ломала…
Однажды интервьюер газеты «Ведомости» Антон Желнов спросил Аксенова: «Вы говорили, что есть человек, о котором вы никогда не будете писать, — это Иосиф Бродский. Почему?» Василий Павлович ответил: «У меня есть характеры… очень близкие к Бродскому. А писать о нем специально… зачем? Я не могу относиться к нему беспристрастно, ведь он мне сделал много плохого в жизни. Я признаю, что он поэт. И с меня этого достаточно». Это — 2005 год.
А в бурных 1960-х Аксенов и Бродский дружили. После возвращения поэта из ссылки Аксенов праздновал день его рождения в знаменитых «полутора комнатах» в Ленинграде, — пишет Наталья Шарымова.
В своих статьях, интервью и эссе «Как хороши, как свежи были розы» писатель Виктор Ерофеев вспоминал, как в 1966 году большой легальный писатель и большой подпольный поэт пришли в гости к Евтушенко, у которого сидел юный филолог Ерофеев, только что написавший курсовую о Велимире Хлебникове. Аксенов протянул руку и сказал: «Вася», а Бродский, насупившись, протянул: «Иосиф».
В статье «Иосиф Бродский» («Строфы века. Антология русской поэзии») Евтушенко вспоминает, что после возвращения поэта из ссылки он и опять же Аксенов фактически добились от Полевого дать «добро» на публикацию восьми стихотворений Бродского. «Его судьба могла измениться, — пишет Евтушенко, — но… когда Полевой перед выходом номера попросил исправить строчку „мой веселый, мой пьющий народ“ или снять одно из стихотворений, Бродский отказался». Это подтверждает и тогдашний редактор отдела поэзии «Юности» Юрий Ряшенцев. Будущий лауреат сделал выбор и отбыл в Штаты. При этом в «Таинственной страсти», где Иосиф Бродский живет под именем Яков Процкий, Евтушенко (Ян Тушинский) содействует его отъезду.
Но он, судя по ряду свидетельств, не прервал их приятельство. В опубликованной в «Известиях» статье «На памятник» приводится рассказ Виктора Ерофеева о том, что в 1975 году Аксенов «с Бродским проехались по всей Америке». Были у них и общие друзья. Например — Высоцкий, мама которого Нина Максимовна в альманахе «Мир Высоцкого» пишет, как в архиве «нашла две книжечки Бродского, которых раньше не видела. Одна — подписанная Михаилу Козакову, вторая, по-видимому, Василию Аксенову». Последний раз Высоцкий и Бродский виделись в 1979 году. Что же, Бродский не считал, что сделал Аксенову «много плохого в жизни»?
Как бы то ни было, Аксенов не только пересмотрел личные отношения с Бродским, но и свое отношение к нему как к литератору. В статье «Крылатое вымирающее» в «Литературной газете» от 27 ноября 1991 года он пишет, что Бродский «середняковский писатель, которому… повезло, как американцы говорят, оказаться в верное время в верном месте». В местах не столь отдаленных он приобрел ореол романтика и наследника великой плеяды. А в дальнейшем с удивительной для романтика расторопностью укрепил и «продвинул» свой миф. Происходит это в результате точного расчета мест и времен, верной комбинации знакомств и дружб. «Возникает коллектив, многие члены которого… считают обязанностью поддерживать миф нашего романтика. Стереотип гениальности живуч в обществе, где редко кто, взявшись за чтение монотонного опуса, нафаршированного именами древних богов, дочитывает его до конца. Со своей свеженькой темой о бренности бытия наша мифическая посредственность бодро поднимается, будто по намеченным заранее зарубкам, от одной премии к другой и наконец к высшему лауреатству…»
Этот текст не назовешь дружественным Бродскому. И хотя в романе «Скажи изюм» Аксенов говорит о «требовательности мастеров друг к другу», эта требовательность редко выносится в публичное пространство, если отношения мастеров хороши. Кстати, фотограф-эмигрант-корифей из «Изюма» Алик Конский очень схож с будущим нобелевским лауреатом. И действует он, с точки зрения главного героя романа Макса Огородникова (схожего с Аксеновым), отнюдь не приятельским образом. А именно — получив признание на Западе как главный эксперт по советскому фото, «топит» издание главного труда Огородникова — альбома «Щепки» (в которых легко опознается «Ожог»).
Глава американского издательства «Фараон» Даг Семигорски говорит Огородникову: «…Мы ему послали „Щепки“, но в отношении вас, Макс, это, конечно, было чистой формальностью… Все же знали, что вы друзья… Теперь, пожалуйста, вообразите мое изумление, Макс, когда однажды Алик звонит мне в офис и говорит, что „Щепки“ — это говно. Я переспрашиваю — говно в каком-нибудь особом смысле, сэр? Я думал, он что-нибудь понесет метафизическое, но он сказал: нет, просто говно, говно во всех смыслах,
В точности это слово — «говно» — по свидетельству друга Аксенова Анатолия Гладилина — сказал американским издателям Бродский об «Ожоге».
«Аксенов был разгневан» — думаю описать так его реакцию на отзыв друга, значит, не сказать ничего. Аксенов чувствовал себя преданным и оскорбленным — будто получил пощечину, да такую, на которую не ответишь…
«Здесь надо понимать ситуацию, — говорит Гладилин. — Представьте: мы с вами сидим в Москве, и вы говорите о моей книге что-то вроде того, что сказал Бродский об „Ожоге“. Я злюсь. Но, во-первых, могу вам ответить, а во-вторых, ваш отзыв вряд ли на что-то повлияет. По крайней мере — мы с вами в равном положении. А там было иначе. Бродский — в Штатах, не лауреат, но влиятельная фигура — его слово много значит для издателей. А Аксенов — в Москве. И у него проблемы. Еще не ясно, куда он уедет: на географический восток или на исторический Запад.
На такой случай у эмигрантов имелось правило: если человек в Союзе и его душат, надо либо его поддерживать, либо молчать. Его соблюдали все. Чтобы не навредить. Ведь в Союзе всё что угодно могли сделать. А мы — в безопасности…
Бродский это правило нарушил.
Почему он
Тяжко подумать, как было горько Аксенову. Ведь он, похоже, даже тайком пытался стих Бродского в СССР напечатать. Где? Как? Да так: в «Золотой нашей железке». Точнее не стих, а перевод, но и то — не худо… Дело в том, что Иосиф был влюблен в немецкую песню «Лили Марлен». И даже, как пишет Анатолий Найман, перевел ее на русский[80]. А в «Железке» Аксенова некий Ганс, наигрывая на аккордеоне, напевает следующее:
Если я в окопе
От страха не умру,
Если русский снайпер
Мне не сделает дыру,
Если я сам не сдамся в плен,
То будем вновь
Крутить любовь
Под фонарем
С тобой вдвоем,
Моя Лили Марлен…
Конечно, можно допустить, что это сам Аксенов перевел кусочек зонта да вставил в повесть. Так, признаться, и думало подавляющее число читателей. Но в «Романе с самоваром» Найман приводит эти строки как перевод Бродского. А через пять строк прозы в «Железке» идут и другие слова, хотя и слегка измененные:
Лупят ураганы!
Боже, помоги!
Я отдам Ивану
Шлем и сапоги…
Боже, помоги! Или Анатолий Генрихович напутал? Ох, вряд ли…
Как бы то ни было, «Ожог» — на Западе. И наделает шуму. А мы вернемся на несколько лет назад. Чтобы лучше понять причины поворота судьбы Аксенова, который пришелся на поздние 1970-е годы.
Итак, до «Ожога» и «Острова Крым» еще далеко.
Рубеж десятилетий. Оскомина чехословацких событий. Впрочем, то, что они сделали «оттепель» прошлым, еще не предвещало столь тугого закручивания гаек, под которое предстояло угодить литературе.
Аксенов много пишет. Готовит к публикации «Любовь к электричеству» — повесть о большевике-предпринимателе Леониде Красине, которая, будучи издана Политиздатом в серии «Пламенные революционеры», по свидетельству многих, читалась тогда фрондерами как написанный эзоповым языком учебник конспирации. Комсомольские же романтики хвалили ее за художественные достоинства. Так легко, живо, талантливо, интересно о большевиках давно не писали! — вздыхали они (да и теперь вздыхают).
Близится выход в свет в журнале «Костер» и пионерской бондианы «Мой дедушка — памятник», со всеми приметами жанра: юный Гена Стратофонтов, встреченный автором в Крыму (где же еще?), отправляется в дальний рейс на советском научном судне. Его ждут японские небоскребы, пляжный и футбольный рай на дивных островах Большие Эмпиреи, прогулки по коридорам власти, детская (но — большая!) любовь, битва с пиратами, «дикими гусями», авантюристками и коварными злодеями, неизбежная гибель, славная победа и обретение самого прекрасного на свете…
Конечно, бондиана это
Пробовал Аксенов силы и в приключенческом детском кино. 30 декабря 1973 года состоялась премьера фильма «Мраморный дом», снятого в Ялтинском филиале Киностудии им. Горького по его сценарию режиссером Борисом Григорьевым. Там в последние дни войны подростки Мастер Пит и Герцог Гиз — Петька и Ильгиз, как и положено, ищут клад. Но вместо дублонов и цехинов находят в подвале бывшего барского дома тайный склад сахара, сапог и лекарств. Все это, конечно, ворованное, и преступники не намерены отдавать добро. Находка чуть не стоит ребятам жизни. Но справедливость торжествует, и Мастер Пит с Герцогом Гизом одерживают победу. Правда — не без помощи некоего демобилизованного фронтовика.
Успех фильма не мог сравниться с успехом «Дедушки — памятника». И Аксенов сочиняет продолжение популярной повести — в 1976 году в «Костре» выходит повесть «Сундучок, в котором что-то стучит», также ставшая популярной. «Дедушка» уже издан в 1972-м стотысячным тиражом в издательстве «Детская литература». И это — не последняя книга Аксенова о Гене Стратофонтове. Мы встретимся с ним и его наследниками через много лет — в романе «Редкие земли», выпущенном издательством «Эксмо» в 2007 году.
Как и его герои, Аксенов много и красиво веселится, много путешествует… Творческие встречи и семинары, артистические клубы, джазовые фестивали, ЦДЛ и Коктебель, Кавказ и Прибалтика… Он хорошо освоил автомобиль и рулит вовсю.
В этой связи примечательно одно путешествие, состоявшееся летом 1970 года, когда Василий Павлович, его сын — десятилетний Леша и сын Катаева Паша отправились в литовское местечко Нида. Дорога пролегала по Белоруссии, где тогда разразилась эпидемия ящура. Шоссе, по которому катили в «запорожце» наши герои, перекрыли. Пришлось искать объезд. Объезд этот, похоже, был проложен еще в военное время посреди партизанских лесов и топей. Может, им и не пользовались с тех времен. И уж точно не ремонтировали. Назвать дорогу проезжей было трудно: непролазные рытвины сменялись булыжными баррикадами, всюду торчали то клочья бетона, то кровожадные куски арматуры. Порой появлялся асфальт. Ехали медленно. Темнело. Но остановиться было негде — вблизи никакого жилья. Приходилось продираться через полосу препятствий. И все же случилось то, чего могло и не случаться: удар — машина накреняется и останавливается, а правое заднее колесо катится в заросший кювет. Где и успокаивается, сорванное вместе с болтами.
Паша подбирает колесо. Кругом никого. Темно. Птицы. Пять утра. Звук мотора. Грузовик, а в нем — мужик. И никаких болтов. Еще грузовик — та же история.
Но вот, шкандыбая из дыры в дыру, появляется мотоцикл. Мощный, тяжелый, убойный «Урал» без коляски. На «Урале» — гражданин. Пьяный до такого состояния, когда люди уже не говорят, но всё понимают и могут совершать удивительные поступки. Он и совершил. Что-то мыча и стоя благодаря лишь цепкости руки, ухватившей руль, в другой руке он вертит болт, пытаясь сфокусировать взгляд. А когда это удается, изумленно поднимает брови, кладет болт в карман и отбывает в дальнейшее пространство.
Наступает тишина. Колесо лежит. «Запорожец» стоит. Экстрималы сидят у дороги. Часа через два они слышат звук мотора. Он появляется — еще более пьяный, но милый. Ибо достает из кармана четыре болта с гайками — точно такие, какие нужны, молча домкратит машину и ставит колесо.
Ну, то есть вот такая счастливая неожиданность! Аксенов старший вручает мужику зеленый советский полтинник.
— Это что?
— Пятьдесят рублей.
Теперь счастливая неожиданность случается в жизни мотоциклиста. Ведь он никогда и не видывал пятидесятирублевки. Дядька прячет банкноту в карман и отбывает в одному ему известном направлении. Наши же герои, усталые, но довольные, едут дальше и прибывают в Ниду, хорошенько прокатившись по Литве. Если не считать того, что в Ниде «запорожец», что называется, «накрылся».
Чинить его взялись местные алкаши-механики Антанас и Пятрас. Разобрали двигатель. Сели выпивать. И так — до осени, когда мотор, наконец, заработал и Аксенов вернулся в Москву. Где «запорожец» успокоился навеки.
Эта и подобные ей автомобильные истории кое-что проясняют в деталях ряда текстов Аксенова. Скажем — повести «Поиски жанра». Можно, например, догадаться, откуда в «Поисках» взялись в качестве почти самостоятельного героя пятидесятирублевые купюры и зачем Аксенов побудил ее персонажей подозревать в их преступном изготовлении главного героя — Павла Дурова, волшебника… То есть он всем говорит, что артист оригинального жанра. А так — волшебник. Ездит на «жигулях». Устраивая из советской повести какую-то местную керуаковщину, версию романа «В дороге», почти битнический травелог. Второй после «Бочкотары».
И, короче, катит этот Павел Дуров, мысленно пролагая на карте Европы маршрут от Бухареста до Варшавы; ввязывается и вляпывается то в одно, то в другое; кого-то спасает, кого-то подвозит, кого-то выслушивает… То ларечницу Аллу или хиппарика Аркадиуса. То курортную семейку или ментовского летеху. А то — халтурит в тихом городишке, творя спортивный праздник «День, звени!». И получает столько-то «дубов» пятидесятирублевыми деньгами. И едет дальше. И узнает, что в округе ловят фальшивомонетчика.
— Бывают еще такие? — изумился Дуров…
— Да-да, — кивнул лейтенант. — Бывают… Если бы не было, не искали б!
— И какие монеты у него? Рубли железные?
— Пятидесятирублевые банкноты.
И словесный портрет его уже готов. И все сличают Дурова с портретом. Ведь у него такие же банкноты. А банкноты эти — редкость в Стране Советов. Ибо зарплаты в ней такие, что на полтинник трудно разделить. И потому червонцами дают их. Так легче о холодильнике мечтать…
Ну, в общем, встречает он фальшивомонетчика. Друга своего — Сашку. Тоже волшебника. Одного из пятнадцати мастеров их цеха. Павшего духом до фальшивых купюр. И сидят они у костра. И Дурову кажется, что сам-то он никогда бы не…
А потом он добирается до горного приюта виртуозов белой магии, детей разных народов, кудесников дружеских пиров, творцов невиданных миров, что среди пиков и снегов готовят суперпредставление. Хотят обратить долину в рай. Осесть в ней до конца жизни. Принимать гостей со всего света. Дарить им чудеса. Разве это — не прекрасный удел? Тогда — начнем! И они приступили к работе.
Тут и убила их злая лавина.
Мало есть дел неблагодарнее, чем расшифровка метафор. Мол, цех волшебников — это аксеновский круг, «шестидесятники», а лавина с глумливой, нафаршированной камнями харей — тоталитарный поток, крушащий их мечты и их самих. Ведь важно ж писателю поделиться: как это — быть пожираемым лавиной. Читатель-то ни о чем таком не знает… Да он и не заметил, что она людей поглотила: подумаешь — лавина прошла…
Впрочем, мастера-то не погибли. А оказались в изумительной стране, где под небом голубым среди озер и дерев их встретил умный огнегривый лев и повел навстречу чудесам… Где, глядишь, появится и белый вол, и золотой орел небесный…
И причем здесь пятидесятирублевые купюры? Ведь на них, окромя болтов для убитого «запорожца», и не купишь почти ничего… А притом что нужны чудеса. Их-то и искал Аксенов. Задолго до публикации «Поисков» в 1978 году. Среди перемещений, впечатлений, удивлений — искал чудес.
В это время в его жизнь входит другая женщина. Майя Афанасьевна Овчинникова. В девичестве — Змеул. Жена знаменитого советского режиссера Романа Кармена.
Надо сказать, что к тому времени о Василии Павловиче нередко говорили как о дамском угоднике и любимце. Творческая Москва-сплетница по поводу и без повода вовсю шепталась о его амурных победах и скоротечных романах. Но здесь было другое. Чувство. Пронзившее обоих на годы.
— …В 1970-м я встретил Майю. Мы испытали очень сильную романтическую любовь… — так спустя много лет — в 2001 году — Аксенов расскажет Зое Богуславской об этой встрече, одной из самых важных и значимых в его жизни. — Потом это переросло в духовную близость. Она меня знает как облупленного, я ее — меньше, но оба мы, особенно теперь, в старости, понимаем, на кого мы можем положиться…
Аксенов был окрылен этой встречей. Пережившему в конце 1960-х тяжелый личный кризис, ему «казалось, что он проскочил мимо чего-то, что могло осветить его жизнь и письмо». Он сильно рисковал. Ведь Майя Афанасьевна была замужем. А мужем ее — то есть соперником Аксенова — был не кто иной, как знаменитый Роман Кармен!
Прославленный кинодокументалист, Герой Социалистического Труда, народный артист СССР, личный друг Брежнева… Корифей документального кино, снискавший немалую славу благодаря фильмам о гражданской войне в Испании, хронике сражений Великой Отечественной, картинам о «горячих точках планеты» и борьбе за мир. Это он снимал сдачу Паулюса под Сталинградом и подписание акта о капитуляции Германии. Снимал Мао Цзэдуна, Хо Ши Мина, Фиделя Кастро. Среди его работ немало шедевров советской эпохи — «Испания» (1939); «Разгром немецких войск под Москвой» (1942); «Берлин» (1945); «Суд народов» — фильм о Нюрнбергском процессе (1946); «Вьетнам» (1955); «Утро Индии» (1956); «Пылающий остров» (1961); «Пылающий континент» (1972) и др.
Отец Майи — Афанасий Андреевич Змеул — убежденный коммунист, в довоенное время возглавлял Московский педагогический институт им. В. И. Ленина и Всесоюзную академию внешней торговли, добровольцем ушел на фронт. Прошел войну и вернулся с ранами и наградами в ту же академию (которую в 1953 году закончила и Майя Афанасьевна). Вершиной карьеры Афанасия Андреевича стал пост руководителя Всесоюзного внешнеторгового объединения «Международная книга».
В 1970-х годах это учреждение занимало важный участок идеологического фронта. На пике развития оно состояло из пяти подразделений: Совинпериодика, Совискусство, Совинфилателия, Совинкнига и Союзкнига, имело офисы во многих странах мира и до основания ВААП курировало сделки по переводам.
Майя Афанасьевна любила отца и, как говорят, унаследовала его упорство, целеустремленность и прямолинейность. Что порой превращало их споры в жаркие баталии, которые, впрочем, завершались нежнейшим примирением.
До замужества Майя жила с отцом и приемной матерью, с которой была дружна. В 1951 году вышла замуж за внешторговца Мориса Овчинникова и отчий дом покинула. А потом покинула и Овчинникова, ради Романа Кармена.
Майя — человек прямой и вспыльчивый. Однако, как говорят, их отношения с Карменом протекали внешне ровно. Семья входила в советскую элиту самого высокого уровня. К их услугам было всё, чего мог пожелать творческий работник, — приемы и «пайки», путешествия, квартира в высотке на Котельнической набережной, автомобили, дачи, общение с иностранными гостями, пикники с членами политбюро. Всё это страховало от невзгод и недугов. В 1970 году Роман Кармен перенес инфаркт и отправился восстанавливать силы в Ялту. С Майей. Там они и встретились — Майя и Аксенов.
Старый друг Белла Ахмадулина вспоминала: «Они полюбили… Майя тогда была замужем, но это уже не имело значения. Вася… тоже был почти неженат…
Когда Майя уехала, Василий Павлович тяжело переживал. Мы стали звонить в Москву, к телефону подходят не те, кто нужен. Муж подходит, кто же еще? Роман Лазаревич Кармен, с которым я тоже была дружна, держал себя… благородно. Он не мог не знать… Понимал: и я что-то знаю, но ничего не выдам — даже „под пыткой алкоголем“»… Белла Ахатовна считала, что в посвященном ей Аксеновым рассказе «Гибель Помпеи» иносказательно описана эта ситуация: Ялта, море, беспечность… заря чувства. Легкомысленная Ялта: кто пьет, кто танцует, кто… во что горазд.
А в Москве… Аксенов, бывало, подходил к машине, проверить, в порядке ли в банке с водой на полу тюльпаны, ждавшие под газетой их с Майей встречи… И оказавшийся рядом друг — Анатолий Найман — испытывал острую нежность к покорным цветам и к трогательному их обладателю.
Много было толков о встречах Аксенова с Майей в Сочи, Коктебеле, Москве, Прибалтике. Найман вспоминает, как однажды в деревню на Рижском заливе, соседнюю с той, где он жил, приехал Василий на изумрудной «Волге». Он привез в холщовых сумках папки с «Ожогом». Анатолий Генрихович стал читать, а отвлекаясь, думал: «Всё у нас — и такая книга, и такая женщина, и такая на ней льняная блузка с крошечными зеркальцами в яркой вышивке…» После Аксенов признавался: «О наших изменах знали все. Юлиан Семенов раз чуть меня не побил. Кричал: „Отдай Роме Майку!“». Но он не отдал.
«О муже я вообще не думал, — говорил в одном из интервью Аксенов, — просто был влюблен. Никакого столкновения у нас с ним не было. Майя была очень привлекательна, ей нравилось, когда мужики смотрели ей вслед. Роман продолжался, она отходила от своей семьи, я — от своей… Майя — самый близкий мне человек. Мы иногда спорим, ругаемся, но я очень ее люблю, забочусь о ней, и так будет до конца».
— Кто бы мог подумать, — нередко восклицал Бенедикт Сарнов, когда речь заходила об Аксенове, — что такой стиляга и пижон, как Вася, станет примерным семьянином, опорой для Майи и ее семьи!
Несомненно, на многие годы Майя стала главной героиней его жизни. Но было бы опрометчиво утверждать, что Аксенов сделал ее героиней своих книг.
Да, можно принять ее за Алису Фокусову из «Ожога», к которой вожделеет богемная Москва-Тем более что спустя годы на вопрос: «А вы описали своих женщин в книгах?» — Аксенов ответит: «…в романах всегда отражался мой романтический опыт. Хотя в романе „Ожог“ очень близко описываются наши отношения с Майей. Там она зовется Алисой».
Он не мог ее и на час забыть… В чем признавался в «Таинственной страсти»: «И в записи… „Ожога“ ни один параграф не обходился без нее. По сути дела, это был роман о ней, и там, где ее по действию не было, она мелькала то в отражениях заката, то в пролетах ветра, то в саксофонном соло. Собственно говоря, она и вызывала этот космогонный огонь, а вовсе не политические революции; от них шел один тлен».
Здесь два важных момента: подтверждение: Алиса — «почти Майя» и слова «мой романтический опыт». Они помогают понять, что двигало Аксеновым в отношениях с женщинами. Возможно, был в них плейбойский задор, но прежде всего — жажда переживаний, поднимающих на ту высоту, на какой без головокружения не обойтись.
Нетрудно вообразить Майю Афанасьевну и Ралиссой Аксельбант из «Таинственной страсти». Она опять же — подруга главного героя и участница адюльтера — любовница писателя и жена советского дипломата и красного аристократа. Можно увидеть ее и в образе Норы Мансур из «Нового сладостного стиля», и Наташи Светляковой из «Кесарева свечения», да и в других героинях аксеновских книг. И все они — Майя лишь отчасти. В глазах каждой из них с разной степенью четкости отражены участницы романтических эпизодов жизни писателя. Говорят, если вглядеться, можно увидеть там эффектнейших дам, например — звезду питерской богемы Асю Пекуровскую или… Впрочем, так ли уж важны их имена?..
Размышляя вслух, Анатолий Гладилин говорил, что все героини Аксенова — это
Что же касается Майи, то она стала спутницей писателя и в горе, и в радости, и в СССР, и в изгнании, и в новой России. А пришла пора — и горько его оплакала…
Скажу прямо: в мои планы не входит описание подробностей крайне непростой истории отношений Аксенова, Киры, Майи и Романа Кармена и друзей их и близких, невольно в нее вовлеченных. Отмечу лишь, что многие говорят: правдива легенда, гласящая, что смертельно больной Кармен просил Майю не оставлять его до конца. И она не оставила. Подносила лекарства, поправляла подушки, слушала врачей, ободряла. Он ушел в 1978 году. А Аксенову и Майе предстояло пережить в оставшиеся им советские годы немало событий, бед и побед.
В 1972 году Аксенов, Овидий Горчаков и Григорий Поженян совместными усилиями изготовили полный стрельбы и сарказма роман-детектив «Джин Грин — неприкасаемый». Книгу о судьбе потомка русских эмигрантов, американского патриота, зеленого берета и агента ЦРУ, который, сражаясь под звездно-полосатым флагом, переживает множество удивительных приключений. А пережив, совершает диверсии во Вьетнаме. Попадает в сети агентуры Вьетконга (война, страсть, нежная Тран Ле Чин…). Участвует в операции в СССР. И тут узнает, что его наставник, друг и жених его сестры — нацист, предатель и убийца (в том числе — его отца); и, поняв, что это значит — быть русским и потомком рода Разумовских, проходит через жестокую личную драму. В результате он разочаровывается в битве спецслужб и холодной войне правительств, грозящей мировой бойней. А разочаровавшись, разоблачает подрывную нацистскую сеть «Паутина», преступные дела и планы агрессивных «ястребов», идет под суд, изгоняется из армии и отправляется в тюрьму. Хеппи-эндом это не назовешь, но зло в лице поджигателей войны всё же посрамлено, а интонация финала такова, что можно ожидать возрождения Грина в некоем новом, неизвестном, но многообещающем качестве.
В целом — не больно хитрая, но захватывающая история, из которой почти отрезанный от мира советский читатель мог узнать немало о жизни и нравах «зеленых беретов», «рыцарей плаща и кинжала» из Лэнгли и с Лубянки, нью-йоркских гангстеров, бывших эсэсовцев, бандеровцев, вьетконговцев и много кого еще…
В романе нередки пассажи, вроде «…обеими руками схватившись за распоротый живот, вылез Базз… Он слепо зашагал по дороге, дошел до ее края, сделал еще один шаг и с воем полетел на дно глубокого каменного карьера. Рок-рок-рок, — неслось из машины».
Или:
«— Кто ты? Говори!
— Отгадай! Получишь конфетку!
— А ну-ка прислоните-ка этого остряка к стенке! И уберите ковер, а то в чистку не возьмут из-за кровищи!..»
А то: «Перед ним была Тран Ле Чин, Транни… Глаза ее вспыхнули, она вся потянулась к нему. Лот… поднял „люггер“ к ее виску, раздался выстрел, тело Транни упало к его ногам».
В общем — не слишком мудреная пародия на международный триллер.
Однако ей предстояло сыграть особую роль в отношениях Аксенова с человеком, который много лет считался его другом — Евгением Евтушенко.
Среди легендарных историй, в которых, очевидно, немалая доля истины, есть следующая. В начале 1970-х годов Евтушенко пробивал в ЦК новый молодежный журнал «Лестница», главным редактором которого видел себя, а Аксенова и Гладилина — членами редколлегии. Говорят, он даже почти получил добро на это издание.
В это время и писался «Джин Грин», опубликованный в Воениздате и тогда же — стотысячным тиражом! — в «Молодой гвардии» под псевдонимом Гривадий Гарпожакс. Так авторы соединили имена и фамилии. А себя представили в предисловии как переводчиков «приключенческого, документального, детективного, криминального, политического, пародийного, сатирического, научно-фантастического» и просто — неимоверно увлекательного романа. Там же указывалось, что «острием своим он направлен против пентагоновской и другой агрессивной военщины».
Книгу читали. Прочел ее и Евтушенко. Чего не вынесла тогда душа поэта — неведомо. Возможно, он решил, что разгадал хулиганский замысел соавторов, выдающих за пародию апологию джеймс-бондовского стиля. И он отозвался на роман язвительной статьей в «Литературной газете», выдержанной в духе постановления ЦК КПСС от 26 января 1972 года «О литературно-художественной критике». Партия требовала активного разоблачения реакционной сущности буржуазной «массовой культуры», и Евтушенко разнес «Джина Грина» за то, что он, с его точки зрения, был продуктом этой культуры.
Больше того, в соответствии с тезисом тогдашнего секретаря Московского союза писателей Феликса Кузнецова о том, что среди советских литераторов не должно быть «некритикабельных», Евтушенко дал понять соавторам, что, в отличие от их героя Джина Грина, сами они «неприкасаемыми» не являются.
Евгений Александрович не увидел в книге ни порицания агрессивной военщины, ни сатиры, ни пародии. Ничего, кроме текста, написанного, как сказал поэт, «в четырех жанрах, почему-то не перечисленных в предисловии».
Первый, — пишет Евтушенко, — это жанр прейскуранта: вин (от «Мутон Ротшильд» до «Клико» 1891 года); закусок (от омаров до ухи «Валдайский колокольчик»)… <…> секса (от первородного греха до причуд похоти), пыток (от пыток огнем до пыток электричеством), известностей (от Отто Скорцени до Джины Лоллобриджиды). Второй — «жанр словаря: симбиоз хиппообразного сленга и языка лабухов». Третий — «жанр капустника». Четвертый — «жанр телефонно-адресной книги»: авторы приводят адреса и телефоны эмигрантских ресторанов Нью-Йорка.
Евтушенко обильно цитирует роман и, посмеиваясь, настаивает, что текст не пародирует «флеминговскую джеймс-бондовщину», а подражает ей. Он издевается над языком книги, доказывая, что «арго» не уместен «на фоне человеческой трагедии». Попутно давая понять, что еще менее уместно участие вьетнамки Тран Ле Чин в сексуальных сценах с американским агентом. Тем более что ее ждет гибель…
И вообще, сетует поэт, текст «навевает недоуменную скуку», «читателю трудно разобраться, где… серьез под пародию и пародия под серьез», а «переводчик» не уважает «автора» — то есть себя! Итог: «В предисловии роман выглядит колоссом, но в переводе — увы! — колоссом на глиняных ногах». Он — «не более чем неуместная шалость».
Такого от Евтушенко не ждали. Ни соавторы Аксенова: Григорий Поженян[81] — ветеран войны, поэт, автор популярных песен[82] и Овидий Горчаков — разведчик-профессионал, один из прототипов героя повести «Майор „Вихрь“» и одноименного фильма, автор сценария «Вызываем огонь на себя»[83] и лауреат премии Ленинского комсомола, ни сам Аксенов, полагавший, что, несмотря на несерьезность текста, его авторы достойны уважения.
После этого Аксенов и Евтушенко перестали быть друзьями. Василий Павлович ушел из проекта «Лестница». Ушел и Гладилин. Вообще проект не состоялся.
Аркадий Арканов утверждает, что был свидетелем сцены разрыва Аксенова и Евтушенко. Аксенов, Арканов и Гладилин сидели в Пестром зале ЦДЛ, когда влетел возбужденный Евтушенко, восклицая: «Слушайте все! Вот сидят Аксенов и Гладилин… Вы предатели! Вы антисоветски настроенные элементы!»
Как бы дико ни звучали эти слова и эта легенда, зная темперамент и жизненные установки Евтушенко, нетрудно допустить, что нечто подобное могло иметь место.
Сам же он в интервью «Эху Москвы» летом 2009 года описал причины разрыва так: «…Мы с Васей Аксеновым были одними из самых ближайших и нежнейших друзей… Нас соединяло очень многое, в том числе и любовь к поэзии. Кстати, Вася… много раз мне подсказывал строчки, потому что он удивительно и хорошо чувствовал.
Но нас развели, рассорили. Понимаете? Потому что есть люди, которые не способны к дружбе и к любви. Если… они видят двух любящих друг друга… делают все, чтобы не дать им жить счастливо и в согласии. То же самое, когда видят дружбу люди, не способные к дружбе. Вот так это и произошло.
Меня очень задело однажды, что Вася снял эпиграф мой из стихотворения „Наследники Сталина“[84]: „И я обращаюсь к правительству нашему с просьбой удвоить, утроить у этой плиты караул, чтоб Сталин не встал и со Сталиным прошлое“. Это меня глубочайше задело. Мы были большущими друзьями с его матерью — Евгенией Соломоновной. И я просто был потрясен тем, как он смог снять эпиграф без ее разрешения. Это просто было невероятно».
Никто из друзей Аксенова, которых я спрашивал о таинственном эпиграфе, ничего не мог сказать об этой истории. Как бы то ни было, дружба между Евтушенко и Аксеновым стала невозможна.
Тот же Аркадий Арканов вспоминает, как однажды Василий Павлович зашел в ресторан ЦДЛ и сел за стойку. А рядом устроился ветеран соцреализма Валерий Губарев — автор много раз переизданной повести «Павлик Морозов» и одноименной пьесы, создатель образа пионера-героя номер один.
Губарев, написавший также и сказку «Королевство кривых зеркал», по которой поставили популярный детский фильм, шумел, что вот, мол, сидит здесь всякая зелень и не знает, с кем рядом выпивает!
— Ну как же? — ответил Аксенов. — Знаю. Вы написали о предателе и доносчике Павлике Морозове, который сдал отца своего.
Разъяренный Губарев возопил: что?! А ну-ка посиди здесь, сейчас за тобой придут! И исчез. Но там, куда он прибежал, ему, видимо, объяснили, что говорил он со знаменитым Аксеновым, который был весьма уважаем даже теми, кто принадлежал к другому «лагерю». И секретари союза звали его Василием Павловичем…
Губарев Аксенова запомнил. И всякий раз, встречаясь с ним, старался задеть. Как-то Василий Павлович выходил из ЦДЛ с Владимиром Максимовым, что-то ему говоря. Рядом оказался Губарев и закричал: «Слышали?! Аксенов сказал, что надо вешать коммунистов на фонарях!»
Тут Василий Павлович и взял его за ворот, притиснул к стене и предупредил: «Еще раз пикнешь, прибью!..» Больше от него Аксенов никогда не слышал ни слова.
Вообще о Центральном доме литераторов 1970-х годов рассказано немало. В том числе и Аксеновым: «…Сюда можно прийти с деньгами и с бабой, а уйти без денег и без бабы. А можно прийти без денег и без бабы, а уйти и с деньгами и с бабой».
Возможно, это касалось не всех и Аксенов говорил о личном опыте человека, наделенного внутренней силой, энергией, ироничностью к другим и к себе. «При этом, — вспоминает Аркадий Арканов, — общаться с ним не всегда было легко. В его манере держаться было что-то княжеское. Он ни на минуту не сомневался: то, что он говорит, это безусловно интересно. Если ты бывал остроумен, он поддерживал тебя своим характерным коротким смехом, давая тебе понять: это — хорошо. То есть ты проходил у него под номером вторым. Не знаю, есть ли люди, с которыми он общался на равных. Он был центровым. Если сидел за столом, то стоило ему подняться — компания распадалась…»
Застолья в ЦДЛ Аксенов прославил в своих сочинениях.
Вот, скажем, кусочек рассказа «Рыжий с того двора»: «Мне здесь полагалось выглядеть вот каким: лицо у меня должно быть изнуренное, а движения вялые, но значительные. Если я буду таким, кто-нибудь сочувственно спросит: „Что, старик, перебрал вчера?“ — и на этом все успокоятся… Если же я буду каким-нибудь иным, тогда обязательно спросят: чего такой мрачный?
…Подошел Позументщиков.
— Чего такой мрачный? — спросил он, упираясь кулаками в край моего стола.
— Что-то ты опять поправился, — сказал я Юре. <…>
— А сам-то, — дрожащим голосом сказал Позументщиков. — Сам-то — поперек шире. Квадрат несчастный.
Всегда полутемный, заполненный, будто газом, мутно-розовым светом ресторан этот иной раз вызывал у меня невероятную апатию. Я здесь слишком часто бываю».
«Едва успели нам сервировать ужин, как в зале появился Казаков[85]. Покачавшись немного в середине помещения… он направился прямо к нам… <…> Не ожидая приглашения, он оседлал стул, налил себе полный фужер, подцепил моей вилкой закуску. Глотая, жуя и снова глотая, он не прекращал говорить… не давая мне ни малейшей возможности представить его моей спутнице.
— Слушай, стрик, я сегодня такой, УХХ, рассказ придумал. УСС, понял? Вот вообрази, один чувак идет по дремучему, БОБЛ, лесу… Вдруг видит — в чаще окна светятся, а там, БОБЛ, а там, вообрази, буфет с великим множеством, старик, ОХЕННООХИХ напитков, и там чувиха его встречает, ХУХ, обалденная, вот вроде твоего кадра; ты откуда, девушка?[86]
— Это Присцилла, Юра, она из Англии, — сказал я.
— Вы заказывать, Юра, что-нибудь будете? — спросила… официантка Рита.
— Нет, Ритуля, я заказывать НАФИОХУ, ничего не буду, а вот этот, который тут с кадром из Дании сидит, закажет мне БЛБЛ, граф-ф-финчик.
Тут его кто-то, вроде бы Конецкий, потянул за рукав…
— Кто это? — спросила потрясенная Присцилла. — Страшно сказать, но мне вдруг показалось, что это мой самый любимый русский писатель…»
Вообще прекрасные чужестранки не были в литературных компаниях вопиющей редкостью. Наезжали и знаменитости. Так, Аксенов и Гладилин порой развлекали Марину Влади во время ее визитов в Москву. Случались и курьезы. «Как-то, — вспоминает Гладилин, — …Марина сказала: „Толя и Вася, если бы вы знали, как мне хорошо с вами. Только я одно не могу понять. Почему вы оба такие антисоветчики? Вы живете в таком прекрасном мире социализма и всё время его критикуете! Что вам не нравится в Советском Союзе?“ И завелась. Мол, вы не представляете себе, какая жуткая жизнь в мире капитализма… Во Франции можно заработать деньги, если их тебе вручают в конверте под столом, а так всё съедят налоги. Ну, нам хватило ума не спорить о политике с красивой женщиной…» Но куда девался восторг Марины от СССР, когда однажды звезду, одетую в брючный костюм, не пустили в ресторан гостиницы «Советская»! «Постановление Моссовета, — твердил метрдотель, — в брюках нельзя». С Мариной была истерика. «Как ты можешь жить в этом фашистском государстве! — кричала она Гладилину. — Фашистские законы! Фашистские запреты!»
Впрочем, нередко то, что зарубежные гости возводили на уровень драмы, советские творческие работники просто не замечали. И выпивали себе с удовольствием.
Вот сцена из «Ожога», живописующая клубные нравы:
«Сюда, сюда, девочки! Наташа, Саша, Павлина!..
Это были примадонны Кокошкина, Митрошкина и Парамошкина, легконогие посланницы советского искусства… Девушек, впервые за долгое время попавших на родину, поражали сейчас русские запахи, помятость лиц, некомплектность одежды, вся обстановка отечественного кабака с его неизбывным духом близкого дебоша. <…>
Три девушки, звезды России, только головки поворачивали в немом изумлении, только лишь взмахивали диоровскими ресницами и приоткрывали валютные ротики при виде новых и новых литературных осьминогов, мохнатых киношных спрутов, театральных каракатиц, лепящихся к кораллу… Все были друзья, никого не выкинешь, и все были хамы. Независимость оборачивалась хамством…
Так, например, некий беллетрист положил голову в солянку Вадима Николаевича и стал ее есть нижней половиной головы, верхней же беспрестанно оскорблял хозяина солянки словом „коллаборационист“. Другой пример: некий пародист одной рукой гладил коленки подругам Вадима Николаевича, а другой беспрерывно рисовал шаржи, один позорнее другого, и подсовывал хозяину с гадким смешком. <…>
В дверях возникло замшевое божество, сущий ангел замши. Европеянка сия у себя в Европе замши никогда не носила, окромя как на охоту, но давно уже проживая в Москве и пребывая постоянно в раздражении, не вылезала из замши.
Она „усекла“, что замша есть символ жизненного успеха в нашей столице. Ей доставляло особое удовольствие ошеломлять московскую шушеру… замшевыми трусиками, высоченными замшевыми сапогами, замшевыми жакетами… замшевым мешком для овощей, с которым она иной раз появлялась на Центральном рынке… Московский люд помирал от восхищения…
…Она закричала с порога, как последняя жлобиха:
— Подлец, трейтор[87], где мой „мерцедес“ ундер замшевая крыша?!
Прямо с порога она заметила своего русского мужа… пьяненького, расхристанного, до боли личного, ради которого поплатилась дипломатическим иммунитетом[88]. Да ведь русский муж — он, как русский рубль, — пять, шесть, девять к одному! Ты, майн либер красавец… ты гоняешь меня за датским пивом на Грузины…[89]
Как это было стыдно с самого начала, с самой первой ночи… Она думала, что все русские мужчины такие наивные пастушки, и хотела ему показать один хорошенький европейский кунстштюк, а он, монстр, так жутко ее развратил своей царь-пушкой…
— Свинья, отдавай ключи! Забирай все свои пистоны, тоже мне счастье!.. Погоди, погоди, я все расскажу Адольфу, а он кому следует в Министри ов Калчур[90].
— Держи шершавого, мандавошка! Адольф мне лажи не сделает!
— Это варум же, варум?! — взвизгнула европеянка.
— Свои люди! — загоготал он».
И не только там. Но и в Домжуре, и в МОСХе, и в ЦДРИ, не говоря уже о Доме актера и Доме кино… Гуляли на совещаниях писателей где-нибудь на озере Иссык-Куль и семинарах с комсомольским активом в Подмосковье. Гуляли на дачах и в домах творчества — в Переделкине, Дубултах, Коктебеле, Ялте.
Арканов, участник многих эскапад тогдашней артистической тусовки, рассказывал, как в 1969 году в Крыму он, Василий Павлович и их знакомый — замминистра культуры Киргизии пошли в ресторан, в гостиницу «Ялта».
«Дружеская беседа, — вспоминает Арканов, — понятно, сопровождалась довольно серьезной выпивкой. Подошел официант из другого зала и сказал: „Ребята, там министр торговли Украины сидит, просит, чтобы вы потише разговаривали“. Вася говорит: „А не пошел бы он…“ И указал точное направление. Когда мы уходили, возле регистрации стали в шутку спорить, есть ли в гостинице свободные номера. Понятно, что… ответ на этот вопрос мог быть только отрицательным.
На улице к нам подошел молодой лейтенант милиции и спросил: вам далеко ехать? В Дом творчества.
— Давайте мы вас подвезем.
Мы благодарно соглашаемся, садимся в „воронок“. Поездка наша завершилась тем, что открылась задняя дверца, свет фонарика ослепил нас: „Выходи по одному!“
Оказалось, нас привезли в вытрезвитель; лейтенант доложил дежурному капитану: эти молодцы из Москвы, писатели — устроили пьяный дебош в ресторане „Ялта“, нецензурно оскорбили министра торговли Украины и… пытались ворваться в гостиницу.
Дежурный: „Раз-здевайсь!“ Наш замминистра попытался что-то возразить, но тут же здоровенный амбал в милицейской форме с засученными рукавами скрутил его, раздел, разорвав всю одежду, и втолкнул в какую-то комнату. Вася благоразумно разделся сам и ушел вслед за ответственным киргизом.
Вдруг лейтенант говорит: а этот — и указывает на меня — не матерился. Капитан: „Дорогу найдешь? Пшел отсюда!“ И я побежал в Дом творчества бить тревогу.
В 8.30 утра делегация писателей, включая секретарей союза, является в вытрезвитель. Там нам заявляют, что задержанных сейчас повезут в суд, где они получат по пятнадцать суток и будут указанный срок мести набережную Ялты. На что один из секретарей говорит начальнику вытрезвителя: задумайтесь, товарищ, сегодня Василий Павлович Аксенов будет мести набережную, а какой лай завтра поднимут вражьи „голоса“?! Начальник последовал совету, задумался, и ребят выпустили».
Отголоски этой истории довольно внятно слышны во всё том же романе «Ожог».
«Что касается Ялтинского медвытрезвителя, то здесь стенгазета называлась „На страже здоровья“. Латунные буквы этого названия были вырезаны когда-то… именитым клиентом, скульптором Радием Аполлинариевичем Хвостищевым. Доктор физико-технических наук Аристарх Аполлинариевич Куницер выпилил для стенгазеты художественную рамку с кистями винограда, похожими на титаническую мошонку. Писатель Пантелей Аполлинариевич Пантелей написал для стенгазеты передовую статью… а саксофонист Самсон Аполлинариевич нарисовал в нижнем углу почтовый верзошник и приписал неверной рукой „шлите письма“.
Весь темный коридорчик был заполнен дрожащими, голыми, всхлипывающими, стонущими мужиками. Сам я тоже был гол, и тоже дрожал, и тоже всхлипывал.
Дежурный санитар в халате, заляпанном кровью, блевотиной и йодом, с вечной ненавистью и презрением смотрел на голых из-за барьера… Он вчера закручивал мне за спину руку и надавливал подбородком на затылок… Сквозь пьяную муть нахлынула вдруг ненависть… Ах, эту сталинскую крысу-каннибала я бы не пожалел.
Вдруг все вспыхнуло разом, вихрь неповиновения охватил нас, голых, грязно-синеватых алкоголиков…
— Садист проклятый, убирайся из медицинского учреждения!
— Долой садиста!
— Все жилы вымотал, проклятый садист!
— Косыгину[91] писать надо!
— Да чего писать? Подождать его за углом, и п…дец садисту!
— Нет-нет, френды, только без насилия!.. Выразим голыми ж…ми наш протест против унизительных надругательств садиста!
Сколько уж лет я живу в своей стране, но никогда и нигде… не был я свидетелем массовой вспышки непокорства, взлета человеческого достоинства и гнева. Вот так… загорится духовная революция, которую предвещал граф Толстой.
— Ты лучше молчи, друг, — очень спокойным голосом посоветовал сосед. — Молчи, а то в психушку отправят. Оттуда не выберешься.
…В большом кулаке этого доброго человека была зажата четвертинка „Перцовой“.
— Три глотка, — прохрипел он. — Три глотка и только не жилить!
Глоток за глотком в меня вливались Жизнь, Юмор и Романтика.
Спасибо тебе, неистребимое человечество! Поистине только высшим приматам доступна такая хитрость — опохмеляться перцовкой, не выходя из вытрезвителя».
Вот так при всем своем колоссальном могуществе пресловутая Степанида Власьевна, воплощенная в этом фрагменте «Ожога» заляпанным блевотиной и кровью санитаром, была обманута кучкой пьяниц, и отповедь ей давших, и попутно похмелившихся. И всё же в бравых этих «трех глотках» сквозит не торжество, а — ужас.
Нельзя с уверенностью сказать, что эта и подобные ей истории стали Аксенову уроком. Но в 1978 году, по многим свидетельствам, он уже не пил. Был подтянут и трезв. Если многие его друзья и знакомые тех лет — например, Георгий Поженян или Евгений Попов в конце 1970-х крепко выпивали, то он — уже нет.
Бросил? Скорее —
Да, прежде Аксенов, случалось, выпивал, и немало. Но сокрушительные запои его героев — прежде всего Потерпевшего из последних глав «Ожога» и Ваксона из «Таинственной страсти» — это, скорее, доверительный рассказ о страхе перед алкогольной зависимостью, чем воспоминание о ней.
И, похоже, страх оказался благотворным. Судите сами: однажды Евгений Попов спросил его с похмелья: «Василий Павлович, что такое запой?» И Аксенов внятно объяснил суть явления (так, как ее понимал): «Утром, значит, еще не почистил зубы, натягиваешь джинсы, идешь на улицу, находишь открытый кабак — там выпиваешь стакан коньяку. Дома приходишь в себя, жаришь яичницу, работаешь за письменным столом. Потом обед с вином. Вечером ЦДЛ: там уже пьешь до упора. И так каждый день». Попов поинтересовался: и как это у вас кончилось?
— Да просто в один прекрасный день, — ответил Аксенов, — я понял, что мне надоела такая жизнь. И без всяких «торпед» оставил это дело.
В эти годы максимум, что он себе позволял — толику вина. Или бутылочку пива. А еще начал бегать. Трусцой. Тогда ему на глаза попалась брошюрка «Бег ради жизни», написанная двумя австралийскими стайерами. Они ушли на покой, обнаружили, что теряют форму, и снова стали бегать. Всемирной моды на джоггинг еще не было, и как книжечка вышла в СССР — неизвестно, но Аксенов ее прочел. И побежал.
«Мне тогда нужно было прекратить пить, и я последовал их примеру. Я был одним из первых таких „бегунов“ среди писателей, — вспоминал он в 2007 году[92]. — Я начал в литовской Ниде, у подножия огромной дюны. Бежал вверх, на вершине делал огромный круг, спускался. С каждым днем бегал всё больше и больше, до двух с половиной часов». Говорят, один старый друг с Кавказа, увидев Аксенова в новом обличье, чуть не заплакал: что ты, Васька, с собой сделал?! Был отличный парень, пузатый, глаза красные, а сейчас, прости за выражение, какой-то спортсмен.
Кто был этот друг — неизвестно, но сын писателя, Алексей, рассказывает, что близкий товарищ Аксенова и его соавтор по «Джину Грину» Григорий Поженян очень расстроился, узнав, что Аксенов ограничил себя в спиртном. Для него это было сродни измене их дружбе. Два года с ним не разговаривал.
Поженян слыл, что называется,
Частые гости дома творчества «Дубулты» под Ригой (а по свидетельству Гладилина, там, бывало, одновременно собирались: он сам, Станислав Рассадин, Аркадий Ваксберг, Алла Гербер, Герман Плисецкий, Станислав Куняев, ставропольский писатель Владимир Гнеушев, и не только они) почтительно вспоминают о Григории Михайловиче так: о этот брутальный крепыш! Где-то рядом с ним всегда имелись пиво и огромные копченые лещи. Нередко он появлялся в приморских аллеях в компании журналиста Валерия Осипова и еще какого-нибудь таланта. Они шли в город. По бокам — рослые мужики, в центре — коренастый Поженян в морском бушлате, под мышкой — колоссальная рыба.
Алексей Аксенов утверждает, что бушлат на Поженяне был признаком большой гульбы, которой этот суровый ангел мужской дружбы отнюдь не пренебрегал.
Однажды он прямо с утра куда-то увел Аксенова, и вернулись они сильно навеселе. Тогда Гладилин, взявшийся строго блюсти творческий процесс, учинил Григорию Михайловичу скандал. Он до сих пор думает, что тот ему этого не простил.
Дело в том, что Анатолий Тихонович настаивал, чтобы с утра и до семи вечера все работали. И, как утверждает Гладилин, если этот график соблюдался, то в засыпанных снегом Дубултах он и Аксенов успевали за месяц написать по книге. А после семи — пожалуйста, вытворяйте, что хотите, товарищи творцы!..
Бывало, после дневных воспарений — то есть во время вечерних возлияний — начинались мятежные толки. Порой — при Леше Аксенове. Как он рассказывает, рано или поздно, а заходила-таки речь о судьбе Степаниды Власьевны…
Готовились писатели к боям и походам. Подвыпив, Гнеушев заверял: станица Терская выставит 900 сабель! А Поженян: и крейсер «Москва» — шесть крылатых ракет…
У Григория Михайловича были друзья-моряки. Самый колоритный — капитан парохода «Грузия» Анатолий Гарагуля, который так любил творческих людей и, главное — Поженяна, что не отказывал им ни в чем. Немало времени на борту лайнера провел и Аксенов. И увековечил его в «Таинственной страсти», описав под именем «Ян Собесский».
Но… мятежные разговоры, отполыхав, завершались, и утро начиналось перемирием с занудной Степанидой — хозяйкой домов творчества, кухонь артистических клубов, «жигулей» без очереди, валютных гонораров, «Березок», безвозвратных ссуд, договоров на сценарии, зарубежных командировок, кооперативных квартир… Днем писатели работали над книгами, главным покупателем которых тоже была она — Степанида.
А она что желала — то и творила. Не захочет публиковать — и ничего ты не попишешь. Так залежалась в столе Аксенова написанная им к 1973 году повесть (или, как он говорил, небольшой роман) «Золотая наша железка» (сыгравшая, как мы помним, полезную роль в получении им разрешения на визит в США), в которой, казалось, не было ничего крамольного, кроме авангардной формы. И, может быть, слишком заметной любви к Западу. А еще слишком звенящей ностальгии по «золотым нашим 60-м». И, пожалуй, совсем несоветской жизни талантливых сибирских ученых, во главе с корифеем — физиком Великим-Салазкиным, в специальности и первой части фамилии которого угадывалось созвучие с уже хорошо тогда известной в научном мире фамилией Велихов…
В «Юности» повесть, в целом, понравилась. Но судьба ее ждала непростая. Были у нее и яростные противники, и сильные сторонники. Какое-то время казалось, что одолевают вторые. Была сделана авторская и редакторская правка. Борис Полевой читал книгу в больнице и писал оттуда Мэри Озеровой: «Дорогая Мария Лазаревна! Речь идет, конечно же, о великолепной, обожаемой Отделом. „Железке“… Мне тоже хочется напечатать Аксенова…» и далее — советовал, как сделать вещь «проходной». То есть сгладить авангардность формы и поменьше упоминать о Западе — не напрягать цензуру.
Полевой заканчивает так: «Это программа-максимум. Если хотите увидеть повесть напечатанной, реализуйте ее… А вообще-то взяться бы ему за ум, вернуться к временам великолепных „Коллег“, „Звездного билета“, „Апельсинов“… Ваш Б. Полевой».
Аксенов очень любил свои тексты. И хотел видеть их изданными. Поэтому многие советы принял и написал предисловие, облегчающее восприятие текста.
«В этой повести, — пишет Аксенов, — автор пытается выразить то, о чем он думал в течение долгих уже лет. Поколение автора… поколение юношей пятидесятых годов и молодых строителей шестидесятых, подошло сейчас к серьезному возрастному рубежу — сорокалетию, за которым начинается полоса, может быть, самых ответственных лет. <…>
Возможно, главная черта нашего поколения — это преданность своему делу… более того — поклонение своему делу. Именно с этой преданностью наше поколение поднимало целину, строило огромные сибирские электростанции и города науки, штурмовало космос. Да, ведь именно парни нашего поколения первыми покинули родную планету и первыми прикоснулись к другому небесному телу. Да, ведь Юрий Гагарин и Нил Армстронг — именно парни нашего поколения!
Конечно, поколение неоднородно, и рядом с одухотворенностью живет еще… дешевый снобизм, тщеславие… В столкновении духовности и бездуховности происходит размышление. Автор избрал для повествования юмористическую канву, ибо считает, что рядом с юмором размышление выглядит строже…»
Но изменения, внесенные Аксеновым, и сочувственное отношение к нему редакции текст не спасли. «Железка» легла «в стол» до издания «Ардисом» в 1980 году.
«Ардис» (уже нам знакомый и упоминаемый в дальнейшем не раз) — удивительное американское издательство, учрежденное профессорами-славистами Карлом Проффером и женой его Элендеей, влюбленными в русский язык и в русскую литературу. На рубеже десятилетий они установили в своем гараже печатную машину, выпустили сборник
Впрочем, бывало, всё решалось просто. В 1977 году «Ардис» пригласили на Московскую международную книжную ярмарку. И хотя разрешили выставить только книги на английском языке, Карл и Элендея (Гладилин считает, что нужно писать Эленд
Перед открытием у стенда «Ардиса» за барьерчиком собралась плотная толпа книжников. И в последний момент перед радостным криком «пущают!» Карл быстро расставил на полках и образцы продукции на русском языке — репринты забытых книг, стихи и прозу эмигрантов, альманах «Глагол».
Едва дорога к стендам открылась, толпа ринулась к полкам, отданным ей на разграбление. Книги прятали за пазуху, в карманы, в рукава. Аксенов (а он был там с друзьями Профферами) наслаждался зрелищем: некий матерый любитель чтения, одетый в просторные шаровары, схваченные на щиколотках, оттягивал широкую резинку на талии и невозмутимо опускал том за томом в недра необъятных штанов.
На следующую ярмарку «Ардис» не позвали. Но в 1977-м «жертвы ограбления» были в восторге — не мешкая, подбрасывали всё новые «Глаголы».
В 1976-м в журнале «Иностранная литература» в переводе Аксенова вышел роман Эдгара Доктороу «Регтайм». О нем заговорили. Враги плевались: вместо обличения расовой дискриминации в США — какая-то синкопированная джазовая безыдейность. Поклонники отмечали особую интонацию, внесенную переводчиком. Читавшие книгу на английском, признавались, что предпочитают перевод оригиналу. Мол, есть в нем внутренний ритм, и негры звучат как негры, а у пожарных-ирландцев — особая их манера говорить подчеркнута классной имитацией хохляцкого акцента…
В 1976-м уехал Гладилин. Рванул, как тогда говорили, «с еврейским билетом», не без скандала и затруднений. От эмиграции его отговаривал сам Валентин Катаев, обещавший убедить «самый верх», чтобы перестали придираться к Гладилину, а то, не ровен час, навсегда потеряем очень талантливого человека… Нет, ехать не надо. Ведь не весь же воздух перекрыт. Издала же как раз в 1976-м «Дружба народов» «Дом на набережной» Юрия Трифонова. И Гладилин дал слово, что до беседы мэтра с начальством будет сидеть тихо и ждать результатов.
Катаев обещал и сделал. Как рассказывает Анатолий Тихонович, позвонил ему через две недели и упавшим голосом сказал: «Толя, они сволочи, они суки. Они ничего не хотят. Поэтому вы совершенно свободны от всех обещаний, которые вы мне дали».
И Гладилин поступил, как хотел. Уехал. Вскоре парижское бюро радио «Свобода» приобрело нового сотрудника. Кстати, обошлось без громкой травли «отщепенца». Впрочем, когда, прощаясь с Союзом писателей, Гладилин сказал: «Ребята, зачем вы устраиваете похороны? Жизнь длинная. Может, мы еще увидимся?» — его приятель Александр Рекемчук вскричал: «Вы слышите, что говорит Гладилин — „мы еще увидимся“?! Значит, он думает, что советской власти не будет? Вы понимаете, что это речь врага?» Сдали нервы у человека… Вскоре с должности ответсека радиостанции «Юность» уволили брата Гладилина — Валерия. На его вопрос: «За что, у меня своя жизнь, у брата — своя?» — радионачальник ответил: «Но вы же его провожали в Шереметьево»…
Это трудно сравнивать с масштабами травли и преследований Александра Солженицына, когда в редакцию «Литературной газеты» шли письма такого содержания: «Господин Солженицын. Мы решили Вам сказать, что Вы проститутка и жадина. Вы за деньги продаете капиталистам… всё святое. Вы просто сволочь, убить Вас мало, Вас надо четвертовать, расстрелять при честном народе…»[94], и везде Вы — с уважительной заглавной буквы и подпись — Иванов. После начала газетной и телевизионной травли Солженицына схожих писем в «ЛГ» пришло 165. Впрочем, были и письма в его защиту, например: «Тов. Чаковский! Прослушал Ваше выступление… с осуждением Александра Солженицына… Льете Вы на человека грязь без зазрения совести. Таким образом у нас были оклеветаны и осуждены сотни тысяч людей… Видно, не скоро прекратятся страдания нашей несчастной Руси. Как Вы и Вам подобные позорите нашу Родину… Слесарь завода СМИ Н. Ненашев»[95]. И таких писем в «ЛГ» пришло 104.
До Гладилина покинули СССР и несколько других заметных авторов, например, Владимир Максимов, основавший в Париже журнал «Континент».
А Аксенова в Париж отпустили мирно. По литературным делам. И благодаря вмешательству сложного человека — Александра Чаковского — не одного, а с мамой — Евгенией Гинзбург. Василий подарил ей — тяжелобольной — праздник, который навсегда остался с ней — Париж. Путешествие в край ее любви.
В соседнем номере отеля «L’Eglon» («Орленок») жила Зоя Богуславская. Окна выходили на кладбище Монпарнас, где лежат Бодлер и Сартр. Василий Павлович, Евгения Соломоновна и Зоя Борисовна нередко встречались. Богуславская вспоминает восторг Евгении Гинзбург, на исходе жизни попавшей в мир, известный ей по музыке, книгам, репродукциям и фильмам, но живший до поры в воображении.
И вот — прием во французском ПЕН-клубе. В ее честь! Она слушает приветственную речь президента Жоржа Эммануэля Клансье. Ей жмут руку Эжен Ионеско, Натали Саррот, Пьер Эммануэль; все вокруг говорят лишь о ней и ее подвиге. Были и другие встречи — с Гладилиным, Галичем… Прогуливаясь по бульвару Распай, Галич шутливо делился тревогой: мол, «знал Ленин, что делает, когда писал: „а врагов нашей партии будем наказывать самым суровым способом — высылкой за рубеж“, старикашка был не так прост… понимал, что такое эмиграция». Аксенову лишь предстояло пройти через это понимание, а пока он воплотил задуманное: арендовал машину и увез маму на Лазурный Берег…
Вскоре она вернулась в Союз. Через месяц началось обострение болезни, название которой она отказывалась произносить при близких. Евгению Соломоновну выхаживала Майя, постоянно наезжая в Переделкино с фруктами, горячей протертой пищей, свежевыжатым морковным соком… Через полгода она умерла. Исповедовал ее православный батюшка, отпевал — католический пастор…
Евгению Гинзбург хоронили хмурым днем 25 мая 1977 года. У могилы на Кузьминском кладбище сомкнулся круг самых близких. Капли дождя не смешивались со слезами. Богуславская вспоминает, что люди, скорбя, не плакали…
Аксенов тяжело перенес утрату. Даже окруженный друзьями, талантливыми мужчинами и очаровательными женщинами, вечно находясь в движении, чувствовал себя одиноким. Не облегчали боль и приятные события, вроде выхода на экраны снятого по его сценарию Исаком Магитоном фильма «Центровой из поднебесья», где баскетболист, которому прочат большое будущее, влюбляется в солистку вокально-инструментального ансамбля «Приключения» Нину Челнокову, поющую песни Александра Зацепина голосом Аллы Пугачевой.
Чтобы следовать за любимой, гигант вступает в баскетбольную команду «Студент», которой руководит легендарный Самсон Грозняк — своего рода спортивный симбиоз Наполеона и Дон Кихота, который больше, чем в тренировки, верит в творческое вдохновение, артистизм и фантазию. На экране всё кончалось хорошо, в прокате же и в прессе успех фильма был скромным.
И в этом сценарии Аксенов говорит об одиночестве. Парень ростом два метра восемь сантиметров, возвышающийся над своими и чужими, чувствует себя в роли центрового один на один и с игрой, и с мячом, и с залом. Подобно тому, как Аксенов чувствовал себя один на один с листом бумаги, системой, читателем и всем миром.
Этим чувством пронизан рассказ «Право на остров». В этом тексте 1977 года после заголовка слово «
Похоже, что всё в мире уже сказано. Но не всё еще сделано. И разве борьба за независимость — мира, острова, личности — не стоящее дело?
Пожалуй. Но если бы все острова получили независимость, сколько бы понадобилось дополнительных виз! — размышляет автор, наслаждаясь горами, дорогой, хлебом, вином и встречами на Корсике. И своим на ней одиночеством. Попытка его нарушить кончается разбитым лицом героя. И всё время сквозь гостиничные обои и зеркала, известняк, череду пальм, сероватый, со слабыми проблесками солнца, чуть тронутый кистью автора холст рассказа проступает едва намеченное лицо другого ценителя одиночества и славного европейца, первого консула, имя коего впечатано в название и городской площади, и морского лайнера, и в сознание Леопольда Бара, пережившего на Корсике что-то схожее с личным Бородино…
Понятно, утром он просит авиабилет с очень сложным транзитом: Корсика — Лондон — Москва — Сингапур — Нью-Йорк — Варшава — Исландия — Рим — Корсика.
— Транзиты любой сложности, мсье, — отвечает ему невозмутимо малыш Бонапарт.
Авиация — и джамбо-джеты мировых компаний, и «Аэрокобры» Второй мировой — боевое братство наших асов и пилотов-союзников — как и трансатлантические перелеты более ранней поры, и особенно подвиги первых авиаторов — всегда вдохновляли Аксенова. Его изумлял пилот-поэт-футурист Василий Каменский, рвавшийся в прямом смысле в будущее — на «этажерках» начала XX века. Его восхищал Татлин с его мечтой о метафизическом прорыве в небесный океан.
Книга о небе не состоялась. Но получился сценарий, а за ним и кино — веселый мюзикл «Пока безумствует мечта», снятый в 1978 году Юрием Горковенко.
Влюбленный в авиацию юноша Юра Отверткин (Николай Караченцов), которому в родном Царево-Кокшайске не устают повторять: «Юра, выпейте брому», едет в Петербург, где выдает себя за знатного пилота Ивана Пирамиду. За базар приходится ответить — Юре надлежит выступить с показательным полетом. А как лететь-то? Ведь одеться в краги, кожанку и белый шарф — легко, а управлять аэропланом — взлететь, парить и приземлиться — совсем другое дело. Юра прочел кучу авантюрных романов и знал об аэропланах всё, но, усевшись в кабине, смятенно вопросил: «Где я — на этом или уже на том свете? Где руль высоты? Где газ? Где руль поворота? Может, драпануть?»…
Но можно ли обмануть надежды публики — этих фанатов прогресса? И как потерять лицо перед любимой — отважной дамой-летчицей Лидией (Любовью Реймер)? Нет! Юра находит газ и руль высоты и летит в сияющее небо, следуя указаниям вызубренных наизусть авантюрных новелл. И ловко садится. И гремит овация.
Но тут выясняется, что в гриме он схож с неким подрывным элементом, которого ищут бойцы невидимой войны — агенты под началом Владимира Басова… У них вообще все новаторы под подозрением, ибо «где чертежи, вашество, там и бомбы!»… Но ничего у них не выходит, а у Юры выходит всё! И на новейшем аэроплане «Киевъ-Градъ» (о котором злопыхатели твердят, что это «троянский конь нашей индустрии») он летит в Москву. А любимая, сберегая в сердце улетающий вдаль самолет, шепчет: «Ты, главное, долети, Юрочка! Что там еще будет…» А он — покоряя пространство и время — отвечает: «Спокойствие! Впереди вся жизнь!» Ну чисто — Гладилин перед отъездом… И мчится ввысь предвестник бури — кружащийся аэроплан.
В фильме играют Михаил Боярский, Ролан Быков, Эммануил Виторган, Николай Караченцов, Леонид Куравлев, Олег Анофриев, Евгений Светлов и др. И кажется, что буквально все в нем пляшут и поют под музыку Геннадия Гладкова. Однако в титрах автор текстов песен не указан. Похоже, они принадлежат перу сценариста. Картина получилась легкой и увлекательной, в ней разъезжают антикварные «роллс-ройсы» и «бугатти», парят «фарманы», «сопвичи» и «вуазены», а петербургское общество начала XX века выглядит компанией эрудитов, конструкторов и энтузиастов. Даже на сыскных смотреть смешно…
А бойцы тайной войны конца века людьми были скучными. И положили фильм на полку. Хорошо хоть не закрыли спектакль Анатолия Васильева «Взрослая дочь молодого человека» по пьесе Виктора Славкина на том основании, что его название придумал Аксенов, как-то подвозя друга домой. Видимо, повод показался несерьезным.
А вот того, что фильм сняли по его сценарию, было достаточно, чтобы на экраны он вышел десять лет спустя. Почему? Да сам автор попал под запрет. Ну и картина пережила трудное приключение.
Приключения… Острова, курорты, дворцы, взлетные полосы, причалы, — всё это бесконечно волновало, звало и влекло Аксенова, — славные и полные летящих мгновений, сомнений, томлений, цветов и любви — даже на фоне исторических сломов.
Например — крушение советской власти в отдельно взятом курортном городе в результате извержения вулкана. Надо сказать, оно происходит очень смешно. Милее же всех — главная героиня катаклизма — красавица Арабелла. Она танцует среди струй раскаленной лавы, взрывов и искр в компании пенсионера Карандашкина с ведром на голове, секретного снабженца Ананаскина, стащившего с базы спецснабжения огромного осетра (вспомните пожар писательского клуба в «Мастере и Маргарите»!), и гипсового Исторического Великана со следами позолоты на партейном пиджачке.
Казалось бы, вид неприглядный, а компания — неприятная, и в пору свалить от них совсем, типа за «бугор»; но! — «Да как же мне бросить их, этих любимых чучел? Как мне лишить их себя? Что у них без меня-то останется? Сафо? Жорж Занд?» Хороший вопрос,
о, девочка моя, Помпея,
дитя царицы и раба…
скажи: что делать-то? Да ничего особенного: очнуться и любить! Отломить от каравая, отщипнуть от сырной головы, запить ключевой водой и — в путь.
И здесь в финале у Аксенова — новый путь. Вот все спят холодным сном могилы, но поутру их пробуждает и куда-то влечет нечто красивое и нежное. Как Бочкотару. Как волшебников из «Поисков жанра», как Пострадавшего из «Ожога», как…
Ох, много их, таких финалов. И эта их повторяемость, вместе со сложностью транзитов, образа пути и проводника, и то, что путь открывается после рискованных и страшных событий, — не значит ли это, что Аксенов размышляет и рассуждает о новом рождении?
Эта тема — новое рождение и преображение человека — возникла еще в его ранних текстах. Что, как не новое рождение — оживление Сани Зеленина в «Коллегах»? А бой Вали Марвича с убийцами в «Пора, мой друг, пора»? А «поражение» гроссмейстера в «Победе»? Всё это — новые рождения. Как бы сейчас сказали знатоки: транскризисное образование человека.
Ведь и в «Ожоге» Потерпевший спасается в любви воскресения — в
Полный дружеской любви, посвященный Белле Ахмадулиной рассказ «Гибель Помпеи» Аксенов написал в 1979 году. И в том же году поздней осенью вышел у них с редактором «Недели» Анатолием Макаровым в ЦДЛ разговор. Час был не хмельной еще, а располагающий к умеренному застолью и деловой беседе. Угощаясь, что называется — в
— У меня и сейчас есть недурные рассказы, — сказал Аксенов и достал из сумки пачку рукописей. Стали смотреть. Один из рассказов назывался «Памяти Стасиса Красаускаса» — то был реквием по другу, прекрасному художнику и отменному пловцу, который, потеряв зрение и умирая от рака, просил приносить ему в палату тазик с водой, опускал в нее руки и чувствовал облегчение…
— Давай попробуем напечатать его в «Неделе», — предложил Макаров. — Только сменим название. «Памяти Красаускаса» — сделаем подзаголовком, а в заголовок поставим чудный образ из рассказа:
Так и сделали. Дней через десять рассказ, не сокращенный ни на абзац, вышел в популярнейшем еженедельнике той поры. А спустя неделю это стало невозможно.
«Непрерывная линия» — последняя публикация Аксенова в тогдашнем СССР.
— Я просто не понимаю, как мы проскочили! — удивляется Макаров.
И есть чему! Ведь уже затевалось «дело „МетрОполя“».
Но отчего же — именно «дело»? Почему историю создания литературного альманаха, которая сегодня была бы рутинной,
В 1970-х в СССР выходили тысячи журналов и газет. Огромными тиражами печатались книги, прошедшие редакторскую правку и цензуру. Союз писателей пополнялся новыми членами. В их числе были и молодые прозаики Евгений Попов и Виктор Ерофеев… Они встретились в 1976-м в Переделкине, на семинаре — официальная литературная жизнь была хорошо налажена.
Но уже сложилось то, что нынче мы называем «параллельной культурой», а то и «литературно-художественным андеграундом» — немалая группа авторов, тексты которых не имели шансов на издание.
Впрочем, «подполье» было условным. В цехе непечатных литераторов помнили о лагерной судьбе Андрея Синявского и Юрия Даниэля, однако ж не прятались по углам и не зарывали рукописи под кустами. (Виктор Ерофеев вспоминает, как у себя на даче Вениамин Каверин звал его в сад и, подводя к некоему деревцу, говорил: «Здесь закопаны мои воспоминания. Это тайна, но что б вы знали».) Новое литературное поколение не хотело ничего закапывать, а громко читало стихи и прозу, являя миру слова и имена.
Меж тем у многих официальных авторов в ящиках столов копились «нетленки» — тексты, ждавшие лучших времен. Но в них верилось слабо.
Аксенов вспоминал, что и он, «продолжая развиваться в качестве писателя, уходил всё дальше от поверхности советской литературы, на поверхности же… оставалось все меньше „написанного Аксенова“ — две трети, половина, треть, узкий месяц…».
Андрей Битов публиковал «Пушкинский дом» в виде эссе и рассказов, не имея возможности издать свой, быть может, лучший роман. Фазиль Искандер творил эпос о Сандро из Чегема тоже келейно, выкраивая порции, имеющие шансы на публикацию. Владимир Высоцкий при жизни не опубликовал почти ни одной строки, оставаясь легендарным голосом с магнитофонной ленты. Знаменитый не меньше Аксенова Анатолий Гладилин, сдав в «Юность» повесть «Прогноз на завтра», услышал вздохи: «Абсолютно непроходная вещь», и отбыл на Запад.
Дело было даже не в том, что тексты «рубил» Главлит[96]. Тексты «тормозили» в редакциях, зная, что пропуск крамолы (или того, что на нее похоже) чреват проблемами.
Всё больше книг уходило на Запад. Впрочем, многие избегали антисоветских издательств и журналов вроде «Граней», «Континента» и «Посева», предпочитая политически нейтральный «Ардис», но Гладилин передал «Прогноз на завтра» именно в «Посев». Там же вышел сборник Окуджавы. Там же публиковался Войнович. И прозаиков, и поэта, и других, кто без спросу печатался на Западе, строго журили и велели каяться. Кто-то — как Гладилин и Окуджава — это делал (указывая, что не отдал бы текст за границу, если бы печатали в Союзе), кто-то — отмалчивался.
За творчеством авторов, которые не были тотально ангажированы системой, следили службы идеологического контроля. Равно как за их встречами с зарубежными коллегами, походами в посольства и беседами друг с другом.
Одно время в конце 1970-х компания писателей собиралась в мастерской Бориса Мессерера — мужа Беллы Ахмадулиной. Белла Ахатовна вспоминала: «Напротив мастерской… было посольство. Его охранял милиционер по фамилии Скворцов, очень добродушный. Он нас предупреждал: „За вами приглядывают“. Для нас, разумеется, это не было сюрпризом, как и прослушка телефонов. Поэтому мы с Васькой (Аксеновым. — Д. П.) подчас разговаривали по телефону примерно в таком ключе: „Мне это о-очень нравится“. — „И мне это о-очень нравится“. — „У нас могут быть неприятности?“ — „У них могут быть неприятности“. — „По-моему, у них будут большие неприятности!“ По-моему, мы… способствовали умственному развитию наших „слушателей“. Мы, в принципе, ничего не скрывали, но они, видимо, просто не понимали, что мы затеяли. Иначе, отчего они так удивились, когда вышел „МетрОполь“?»
Похоже,
Их направленность была скорее сравнима с чаяниями героя пушкинского стихотворения «Из Пиндемонти», которому потребна свобода:
«…никому
Отчета не давать, себе лишь самому
Служить и угождать, для власти, для ливреи
Не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи;
По прихоти своей скитаться здесь и там,
Дивясь божественным природы красотам,
И пред созданьями искусств и вдохновенья
Трепеща радостно в восторгах умиленья»[97].
Вот о чем мечтал Пушкин. И Аксенов тоже.
Но власть настаивала на отчете и согбенности; не желая потакать никаким прихотям, включая потребность «скитаться здесь и там». А «созданья искусств и вдохновенья» виделись ей орудиями войны идей. Мечта «о простой свободе» была чужда и отвратительна власти. Ее раздражало, что большинство жителей подведомственной территории держат прихоти при себе, а такие, как Аксенов, дерзают чего-то желать, на чем-то настаивать… Власть самой своей природой прессовала его и всех, кто представлял «вторую культуру». Загоняла их в творческий протест, равнозначный, с ее точки зрения, протесту политическому, ибо он нарушал ее доминирование во всех аспектах повседневности и право решать: кого обласкать, кого поставить в угол, кого, когда и куда отпускать, а кого — нет; что издавать, а что — запрещать. Она требовала послушания.
Скоро выяснится, что Аксенов — да — не любил советскую власть. И отвергал ее идеологию. Но и не собирался активно участвовать в ее ниспровержении. Но, как творческий человек, желал воплотить в жизнь стремления, созвучные чаяниям «Пиндемонти». Желал, чтобы его тексты видели свет! И того же хотел для коллег.
В этой ситуации такой писатель, может, и рад был бы, да не мог подобно Пушкину заявить: «И мало горя мне, свободна ли печать». Ему нужна была свободная печать, чтобы издавать написанное. Из этой нужды и родился «МетрОполь».
Так что же это за злокозненный проект, в связи с которым разразился колоссальный сыр-бор в советской литературе?
Неподцензурный альманах «МетрОполь» придумали Василий Аксенов и Виктор Ерофеев. По тогдашним меркам «молодой» — тридцатилетний — прозаик рассудил, что огромное богатство современной литературы остается за пределами редакций и издательств из-за косности и вечной оглядки начальников разного ранга. Дошло до того, что, получив несколько отказов и предвидя следующие, авторы просто никуда больше не шли в расчете на публикацию. И отсеивались в «подполье».
Пора это изменить, решил Ерофеев. Надо явить весомо и зримо, что вне поля зрения начальства есть хорошая литература. И представить ее образцы в самостоятельно составленном сборнике.
Аксенов и Ерофеев считали, что возможна новая «оттепель», связанная с «политикой разрядки международной напряженности» 1970-х годов. Уж больно серьезный негативный резонанс вызвали в мире скандалы с запретами книг, высылкой Солженицына, разгонами выставок. Особо прогремела «бульдозерная выставка» 15 сентября 1974 года — уличный вернисаж художников, работы которых отказывались выставлять, разгромил комсомольский оперотряд, топтавший картины и давивший их бульдозерами. Мировая пресса отреагировала раздраженно. Потом настал период послаблений. Прошли выставки художников андеграунда (самая известная — в 1975 году в павильоне «Пчеловодство» на ВДНХ). В 1976 году в журнале «Дружба народов» был опубликован трифоновский «Дом на набережной». Казалось, охранители дают «задний ход».
«В 70-е годы, — пишет Ерофеев в книге „Хороший Сталин“, — власть уже находилась в полураспаде. Время стало мутным. Требования — непрозрачными». Сам Ерофеев три года подряд носил в журнал «Вопросы литературы», известный под именем «Вопли», свой очерк о маркизе де Саде. Сначала его отвергли. Через год сказали: стало лучше, но надо рассказать о роли садизма в современной западной культуре. А еще через год решили, что всё хорошо, и напечатали. «Я понял, — вспоминает писатель, — поле для игры есть. Маленькое, но есть».
Зимой 1977 года Виктор Владимирович снимал квартиру у Ваганьковского кладбища и, возможно, печальная музыка, что каждый день текла в его окна, навеяла мысль издать самодельный альманах, объединив и признанных, и «параллельных», но качественных авторов. «Бомба заключалась в смеси диссидентов и недиссидентов, Высоцкого и Вознесенского. Я, — вспоминает писатель, — без труда заразил идеей своего старшего прославленного друга Василия Аксенова (без которого ничего бы не вышло), к делу были привлечены Андрей Битов и мой сверстник Евгений Попов (Фазиль Искандер подключился значительно позже), и оно закрутилось.
Слова из предисловия к альманаху, что он родился на фоне зубной боли, — не метафора, а реальность. Мы с Аксеновым лечили зубы на улице Вучетича. Нас посадили в соседние кресла. Аксенов сразу принял проект издания».
Под плач и скрежет зубов он предложил: давай издадим альманах на Западе.
— Издадим здесь, — настаивал Ерофеев, верил, что шанс есть.
В этом ему удалось убедить Андрея Битова, а Аксенову — позднее — Фазиля Искандера. Евгений Попов узнал о плане сразу после Аксенова и, «ничего не говоря, обнял меня почти по-евангельски», — пишет Ерофеев в автобиографической книге «Хороший Сталин»[98].
Обнял его эдак Евгений Попов, и пошли они знакомиться с Аксеновым. Этот эпизод я излагаю со слов Евгения Анатольевича. Он тогда взял с собой пять или шесть рассказов. Робел. А на столе у мэтра была бутылочка чего-то красного и еще другая какая-то бутылочка. И хоть Попов робел, а и выпить хотел. И решал проблему нетворческую: самому налить или ждать, пока нальет хозяин. Тут Аксенов спросил: «Ты выпить хочешь?» — на ты сразу перешел. Налил. Попов выпил. И стали обсуждать альманах.
Прикинули список возможных авторов. Аксенов предложил Юрия Кублановского. «Вскоре появилась „амбарная книга“, куда я, Аксенов, Ерофеев записывали участников альманаха, — вспоминает Евгений Анатольевич. — Гипотетических. Кого-то вычеркивали, вписывали новых. Туда же вносили суммы, когда скидывались на вернисаж — так и не состоявшийся завтрак с шампанским по поводу выхода „МетрОполя“».
Ко второй их встрече Аксенов прочел рассказы Попова. Спросил: «Почему так мало принес? Тащи еще». Тот притащил. Так и составилась подборка под названием «Чертова дюжина», которое, как считает Евгений Анатольевич, дал Василий Павлович. А, может, и нет. «Он меня признал, когда прочитал тексты, — рассказывал Попов. — А так я для него был человек с улицы».
Узнав, что Попов ютится в Дмитрове, Аксенов предложил ему временно поселиться в квартире покойной Евгении Гинзбург и сделать ее «редакцией». «Квартира была полуразвалена, — вспоминает Попов, — бардак жуткий. Там я спал. Там же делали „МетрОполь“ — клеили листы…» Ну да, на длинном обеденном столе.
Расспрашивая Евгения Анатольевича об Аксенове и «МетрОполе», я поинтересовался: неужто вы — взрослые, опытные люди — и впрямь не понимали, что рассчитывать не на что? Он ответил, что рассчитывать было сложно, но можно. Во-первых, потому, что больно представительная подбиралась команда авторов, а во-вторых, иллюзий еще хватало — казалось, руководству многое можно объяснить, а поскольку политической крамолы в сборнике не планировалось, надеялись, что партия и органы могут вообще не вмешаться. И сдается мне, это и впрямь не была попытка смастерить и заложить под советские устои бомбу с часовым механизмом. А благонамеренное стремление собрать из добротных, но лишних деталей — самодельный, но хороший будильник.
Тем более что и по содержанию «МетрОполь» на
Были, конечно, и совсем непечатные, скажем, юный питерец Петр Кожевников. Горенштейна упорно отказывались признавать как прозаика. Юрию Карабичевскому с 1955 по 1979 год удалось опубликовать в СССР четыре стихотворения. Пьесы и проза Розовского оставались полулегальными, да и у остальных ящики пухли от «нетленки»… То есть при невозможности издавать нестандартные тексты в стандартных изданиях перспектива устроить издание собственное и выпустить на свет божий немало всего достойного казалась очень привлекательной… Дело виделось так: не станем пускать альманах в самиздат. Не отдадим на Запад. Соберем тексты. Сделаем макет. Принесем в союз на рассмотрение. Мы ж не диссиденты, в конце концов, а писатели. Но мы хотим, чтобы нас читали.
«МетрОполь» планировали как легальный сборник текстов, не желавших укладываться в стандарт. Сегодня в иных местах их определили бы термином «
Впрочем, риск был. И немалый. Понятие «антисоветчина» вышло за пределы политики. Чтобы быть причисленным к врагам режима, необязательно было выступать за права человека или свободу выезда за рубеж; достаточно было сделать нечто мало-мальски заметное
Иногда «МетрОполь» называют манифестом поздних «шестидесятников». Составители считают, что это не так. Во-первых, потому, что далеко не все «шестидесятники» хотели участвовать в альманахе. Во-вторых, потому, что «МетрОполь» не провозглашал ничего, кроме права писателя исследовать любые темы — например, жизнь фарцовщиков, как Борис Вахтин в повести «Дубленка» — и при этом
«МетрОполь» составляли и в прямом смысле слова
Случались и курьезы: как-то Фридрих Горенштейн — сын репрессированного при Сталине ученого и автор вышедшей в «МетрОполе» повести «Ступени» — пришел в «редакцию» в рейтузах. Аксенов удивился:
— Ты, кажется, забыл надеть штаны…
— Вася! — вскричал Фридрих. — Я не забыл. Я просто утеплился.
У составителей хватало помощников из числа непишущей публики. Кто-то клеил страницы, кто-то — считывал корректуру. Сборник тянул на 40 печатных листов — то есть с учетом того, что планировалось подготовить 12 смакетированных экземпляров, на ватман нужно было наклеить около двенадцати тысяч машинописных страниц.
Создатели видели альманах не стопой рукописей, а — пусть не полиграфическим, но все же — изданием. Художник Театра на Таганке Давид Боровский разработал макет, Борис Мессерер придумал фронтиспис и марку — граммофон. Хотели сопроводить тексты фотографиями авторов. Горенштейн принес две: анфас и профиль. От затеи отказались — фотобумага отклеивалась. То есть альманах готовился в виде книги. Один экземпляр собирались передать в Госкомиздат, другой — во Всесоюзное агентство по авторским правам[99] для публикации в СССР и за рубежом — то есть для переиздания того, что уже было бы ими сделано. Так и написали в предисловии.
Первое — оригинальное — издание «МетрОполя» впечатляет. Здоровенная зеленоватая плита — то, что Аксенов называл «штука литературы». Под обложкой ватманские листы, на каждом — четыре машинописные страницы. Всему предшествует программное предисловие составителей и авторов.
Предисловие написал Аксенов. Он же придумал название.
Читающая советская публика — независимо от взглядов и предпочтений — ошалела бы от «МетрОполя», выйди он даже тиражом в 500 экземпляров — у создателей альманаха были основания полагать, что так оно и будет! Слишком необычными были тексты… Слишком высок был спрос читающей страны на образ растабуированной России (как назвал его Виктор Ерофеев).
Но такая Россия была не нужна системе. Ничего из перечисленного в предисловии власть не хотела видеть в публичных изданиях. Хотя этого ждала изрядная часть читателей. Ждала, но почти не получала. И потому легальное издание, созданное без спроса, было обречено на успех и славу. И в СССР, и за рубежом. А изданный сверхмалым тиражом альманах мгновенно стал бы библиографическим сокровищем…
Конечно, не следует думать, что Аксенов, Битов, Искандер, Ерофеев, Попов и другие не знали, что творится в стране. Знали, конечно. И сказали об этом в предисловии. Но — рискнули. Ибо надеялись, что известные имена произведут впечатление на руководство СП и партийное начальство (если оно вмешается), а также считали, что похерить издание втихомолку не удастся — запрет вызовет скандал (возможно — международный), а он, как казалось, был не в интересах властей.
Чтобы подчеркнуть открытость работы и вывести альманах в публичное пространство, решили устроить «вернисаж» — презентацию «МетрОполя» в кафе «Ритм» близ Миусской площади. Действо было задумано в жанре «завтрак с шампанским» с участием академиков, космонавтов, артистов, советских и зарубежных журналистов.
«Завтрак с шампанским» вызывал сильное раздражение начальства. Но
Правила эти были не писаны только подпольщикам. Но если ты подпольщик, то действуй с оглядкой, в страхе перед карой, и кару эту неси. А самочинно — да еще с помпой! — составлять и презентовать альманахи — это, товарищи, явный вызов.
И не такова была система, чтобы этот вызов не принять и на него не ответить. Приняла и ответила. Да так, как никто помыслить не смел! И хотя создатели учитывали целый веер вероятных последствий, они не ждали, что их зачислят в «литературные власовцы» — то есть в изменники родины.
Чтобы знать юридическую сторону вопроса, они обращались к юристу Константину Симису — мужу известной дамы-адвоката Дины Каминской, защищавшей диссидентов Александра Гинзбурга и Владимира Буковского. В изданных в 1979 году в США воспоминаниях «„Метрополь“ как социальное явление» он писал[101]: «Когда идея альманаха уже созрела, некоторые из тех, кто был вовлечен в проект, пришли ко мне получить консультацию. Они поставили передо мной два вопроса: а) нарушает ли публикация напечатанного на машинке сборника аполитичных работ какой-нибудь советский закон и может ли такая акция повлечь за собой административное или уголовное преследование? и б) сохраняют ли авторы права на свои работы при издании, осуществленном таким способом? Я ответил, что если строго следовать букве советского закона, то ответ на первый вопрос будет отрицательным, а на второй — положительным»[102]. То есть авторских прав участники альманаха не утрачивали и советских законов не нарушали. И всё же были готовы, в том числе, и «получить по зубам». Но что бить будут толпой и с редкой злобой и силой — не ожидали.
Как уже говорилось, работу над альманахом не скрывали, хотя и не афишировали. Но когда стали планировать презентацию, о нем мгновенно узнала «вся Москва»: Аксенов, Ахмадулина, Битов, Вознесенский, Искандер, Попов, Ерофеев и другие собрали альманах «бездомной» литературы и объявят об этом публично. Больше того — будут его издавать. Бес-цен-зур-но!
Ничего себе?! Само собой, первый секретарь Московской писательской организации Феликс Кузнецов, без ведома которого была подготовлена столь крупная акция, решил ознакомиться с изданием. А также обсудить ситуацию с авторами проекта.
Их вызвали на беседы. Первыми — 12 января — Ерофеева и Попова. А следом Феликс Кузнецов, Олег Попцов[103] и Виктор Кобенко[104] позвали и Аксенова. Всё шло спокойно. Попутно, как всегда при обсуждении тонких тем, говорили и о материально существенном — Василию Павловичу предложили помочь сохранить мамину квартиру. Попросили представить и сам альманах. Для изучения.
Само собой! Около трех часов пополудни 17 января Ерофеев и Попов — в одиночку весомую «штуку литературы» нести было неудобно — доставили в штаб советских писателей ЦДЛ и передали лично старшему литературному товарищу одну из собственноручно изготовленных копий, принадлежавшую Попову. Сотрудники союза размножили тексты и раздали авторитетным экспертам для рецензирования. Некоторые хотели взглянуть на сам альманах, но к «плите» их не допустили.
Альманах и способ его издания экспертам не понравились. Последовали доклады в инстанции. Встречи, обсуждения, согласования мер. Что, кем и с кем обсуждалось, отчасти известно. Это мы озвучим чуть ниже. А сейчас подчеркнем: меры были приняты.
Через несколько часов после получения оригинала составителей вновь стали вызывать на беседы. Попова и Ерофеева спрашивали, зачем они связались с Аксеновым, якобы имеющим тайные планы — «валить за бугор». Вскользь интересовались, что связывает простого сибирского парня Попова с рафинированным сынком дипломата — Ерофеевым, объехавшим полмира… Упрекали в непатриотизме. Глумясь, звали поэта Липкина — «Влипкиным». Грозили исключением.
Пока шли частные беседы, готовилось публичное действо. Готовились и «метропольцы». Попов рассказывал, как после очередного промывания мозгов он и Ерофеев пришли к Аксенову и рассказали, как «всё было» и кто что говорил. Тот выслушал и, не говоря ни слова, набрал номер Кузнецова. И без всяких «здрасте», с характерной хрипотцой сказал литературному боссу: «Феликс, ты зачем терроризируешь ребят? Учти, мы завтра же выйдем на Леонида Ильича».
Письмо генеральному секретарю было отправлено 19 января 1979 года[105]. В нем, в частности, говорилось: «Мы подготовили новый литературный альманах, отражающий художественные поиски различных поколений современных советских писателей. Основная задача нашей работы — расширить творческие возможности современной советской литературы, способствуя тем самым обогащению нашей культуры и укреплению ее авторитета как внутри страны, так и за рубежом.
К сожалению, наша инициатива была встречена руководством Московской писательской организации… с необъяснимым подозрением, тут же перешедшим в необоснованные обвинения и угрозы… Секретари Московской писательской организации объявили наш альманах опасным мероприятием… Мы думаем, что такое обращение с писателями недопустимо и резко противоречит ленинской культурной политике. С глубоким уважением, от имени авторов альманаха члены Союза писателей СССР В. Аксенов, Вик. Ерофеев, Белла Ахмадулина, Евг. Попов, А. Битов, Ф. Искандер».
Читал ли это Леонид Ильич — неизвестно. Но письмо достигло адресата, о чем говорит наложенная резолюция: «Отделу культуры ЦК — тов. Шауро В. Ф. Рассмотреть с участием руководства СП СССР и правления Московской организации СП заявление группы авторов альманаха от 19.01.79 и представить необходимые выводы в ЦК. 22.01.79. М. Зимянин»[106].
То есть письмо было «расписано» в тот день, на который планировалось заседание расширенного секретариата Московской писательской организации. Значит, вряд ли руководство МПО исполняло поручение Зимянина и Шауро, ведь «метропольцев» пригласили на встречу заранее — повестками. «Звонок в дверь… — вспоминает Ерофеев. — Нарочный. Распишитесь. Вам предлагается явиться… в случае неявки…» и т. д.
Заседание проходило в ЦДЛ в комнате № 8 и, судя по стенограмме, началось в 15 часов 00 минут под председательством Кузнецова. Возможно, к тому времени он уже получил указания от товарища Шауро. Так или иначе, но заседание было выдержано в рамках ленинской культурной политики, о которой взывали к Брежневу авторы письма.
Примечательная вышла встреча. Вот ряд ее существенных фрагментов, записанных Евгением Поповым[107]:
Василий Павлович продолжает разъяснять непростые ситуации авторов альманаха. В ответ поэт Николай Грибачев начинает спор о вкусах. Лазарь Карелин[110] интересуется: где другие экземпляры и читают ли их? Аксенов отвечает, что читают. Рассказывает о предстоящей презентации — «встрече друзей, маленьком литературном празднике». Приглашает присутствующих на «пардон, выпивон…». Но высказывает опасение, что «закуски на всех не хватит»… Грибачев шумит: это, мол, самиздат. Попов парирует: «Мы ведь хотели идти к Стукалину, так какой же это самиздат?», а Аксенов читает черновик письма в Госкомпечати. И тут задаются два из нескольких ключевых вопросов:
На второй вопрос Аксенов и все составители отвечают дружно: Нет!!! А к первому всем еще предстоит вернуться.
Тем временем Аксенов и Ерофеев рассказывают о планах издания альманаха в СССР через Главлит, а на Западе через ВААП. О работе над альманахом. О позитивной атмосфере первой встречи с секретарями союза. О том, что в Москве 100 тысяч иностранцев и прятать от них сборник бесполезно.
Затем Кузнецов читает нараспев и с выражением текст известной песни Высоцкого «Подводная лодка» («Лечь бы на дно как подводная лодка и позывных не передавать»), «Заразу» («Что же ты, зараза, бровь себе подбрила»), «Охоту на волков» как «образец политической лирики», попутно вопрошая: «Чувствуете, о каких флажках здесь идет речь?» Читает Алешковского, Вознесенского, Сапгира. Клеймит «пакостью» прозу Петра Кожевникова и Ерофеева. Делает вывод:
Но сравнительно мягкие формулы «литературная мистификация» и «зловещая картина» устроили отнюдь не всех. Некоторых устраивала только «антисоветчина». Николай Грибачев перебивает начавшего было говорить Евгения Попова:
В разговор вступает Юрий Жуков[115]. Веско, как и подобает политическому обозревателю «Правды», недавно получившему звание Героя Социалистического Труда, он говорит о классовой борьбе, международной напряженности, стремлении Запада разложить советское общество, чтобы скорее покончить с ним, заявляет, что он убежден: альманах будет издан на Западе. Вот тогда, — говорит, — будет проработка.
Неожиданно Андрей Битов предлагает прослушать статью Тростникова о литературном поиске, но не встречает понимания. «Философов нам слушать не надо. Здесь и так много философии, — отвечает Лазарь Карелин и произносит заветные слова: — Все вместе это — политическая диверсия и желание литературного скандала. Мы дали вам возможность одуматься… Вы были с нами неискренни. <…> Может быть, это и отличная литература, но издана она не будет. Поезд может уйти. Одумайтесь! Подумайте в течение ближайших дней, часов, откажитесь от саморекламы и шумихи».
Станислав Куняев пытается оценивать тексты «МетрОполя» с художественных позиций, но аудитория настроена на другое. Михаил Алексеев[116] заявляет составителям: «Вы за границей бываете больше, чем здесь…» И его слова звучат как упрек. «Некоторые из вас печатаются в „Посеве“, „Гранях“» — а это уже прямое обвинение. Его поддерживает Михаил Барышев: «Этот „литературный шалаш“ (помните предисловие?)… устроен, чтобы скрыть политическую диверсию, враждебную стране, КПСС, нашей политике. Не случайно в альманахе нет ни одного коммуниста… Сборник нацелен на молодежь. Это — идеологический героин, который мы хотим подсунуть под видом литературы».
Александр Михайлов[117] попытался было призвать «воздержаться от эмоций» и устроить вместо проработки товарищеское обсуждение. Но его не услышали. Большинство настроилось клеймить. Между тем Феликс Кузнецов отмечает, что «товарищ Попов стенографирует…», и вспоминает, что «один вот тоже писал, резидентом потом оказался»[118]. Он четко описывает ситуацию: «Или мы сможем повернуть это дело налитературные рельсы, или это будет политическое дело. Завтра — роковой день!!!»
Ну да! Ведь завтра — 23 января — день «презентации» «вернисажа», «шампанского с красной икрой», который так смутил литературных консерваторов.
— О боже! Роковой день! — восклицает не без сарказма Аксенов. — Шекспир!
Похоже, ситуация кажется ему фарсом. Даже весомость обвинений в «антисоветчине», «диверсии», «публикациях за границей», «враждебности политике КПСС» не может заставить его отнестись к происходящему иначе.
Но Кузнецов очень серьезен:
Вдруг выясняется, что публичная презентация пугает его и многих собравшихся не меньше самого «идеологического героина». Оказывается, со многими приглашенными на бокал шампанского уже проведена работа. И в совсем других помещениях. Олега Ефремова вызывали для беседы в МГК КПСС. Юрия Любимова — в Министерство культуры. С Андреем Вознесенским беседовал лично оргсекретарь Союза писателей СССР Юрий Верченко[120]. Булата — как члена партии — призывали не идти в СП…
И снова речь зашла об ответственности — как в 1963-м. И о двурушничестве. И — об антисоветчине, «против которой мы, как граждане и коммунисты, будем протестовать».
Удивительно прозвучало на этом фоне выступление Льва Гинзбурга[121]:
Возможно, этот призыв к любви что-то меняет в общем настрое. И хотя одни еще рвутся карать, другим уже хочется всё спустить «на тормозах». Юрий Грибов[122], считавшийся активистом так называемого «русского центра» в СП, миролюбиво дает составителям совет: «Кончайте вы это дело. Унесите вы альманах ваш домой, да раздайте его по авторам, а потом и выпьете». Олег Попцов печалится об авторах издания и их участи. Говорит, что «МетрОполь» в том виде, в каком он есть, — слабая литература… Материал для «неуправляемой среды слухов, сплетен». В его словах звучит горечь: «12 лет связывает меня с Искандером. Это чувство любви. И я не хочу, чтоб с одной стороны сидели глухонемые, а с другой — кричащие».
Говорит Искандер. Начинает спокойно, но гнев крепчает:
Красноречие и страсть Искандера, казалось бы, переламывают ситуацию. После бледной реплики поэтессы Юлии Друниной о вреде порнографии и краткого выступления Андрея Битова слово снова берет Феликс Кузнецов. Он благодарит Искандера за искренность и заявляет:
В ответ Кузнецов зачитывает письмо автора «МетрОполя» Генриха Сапгира по поводу публикации его стихов в «Континенте». Сапгир отмежевывается от этой публикации. Кузнецов поясняет:
Дискуссия завершается. Последнее слово Феликс Федосьевич оставил за собой — это финал, протокольная часть. Председатель читает проект решения секретариата:
Голосуют единогласно. Но Александр Михайлов вносит поправку, чтобы альманах априорно не назывался «безыдейным и малохудожественным».
Снова голосуют. Снова единогласно.
И вот — 23 января. Роковой день!
Аксенов пишет и направляет письмо секретарю ЦК КПСС Михаилу Зимянину. Просит принять его, указывая на агрессивное отношение руководства Союза писателей к нему и составителям «МетрОполя»: «…хочу указать на неблаговидную роль, которую играет первый секретарь МПО Ф. Ф. Кузнецов в так называемом деле альманаха „Метрополь“. Феликс Федосьевич, возомнивший себя „политиком и немалого ранга“, стремится превратить наше литературное начинание в политический скандал, преследуя, по всей вероятности, карьерные соображения. Заседание секретариата… началось в спокойной атмосфере… однако Кузнецов, демонстрируя на редкость дурные манеры, театральными выкриками и угрозами вызвал что-то смахивающее на истерию с политическими обвинениями. Между тем мы работали над альманахом целый год, ничего ни от кого не скрывая, и никакого „ажиотажа“, никаких сплетен не возникало до вмешательства Кузнецова, который успел за одну неделю взбаламутить всю Москву.
Я обращаюсь к Вам с личным письмом, потому что именно на меня Кузнецов в основном катил зловещие бочки своих угроз. Именно меня он старался представить как хитрого и коварного закоперщика этого „чудовищного дела“, как „политического лидера“, по его выражению.
Должен Вам сказать, что в отличие от Кузнецова я никогда не имел, не имею и не буду иметь никаких политических амбиций. Я писатель и только писатель. Этот год для меня юбилейный, двадцать лет назад я напечатал свои первые рассказы, сделал я за это время, кажется, немало для родной литературы, надеюсь и дальше поработать на ее благо… С лучшими пожеланиями В. Аксенов. Был бы очень рад, если бы Вы нашли время принять меня».
К письму приложена резолюция: «Т. Шауро В. Ф. 5.02.79. М. Зимянин»[127]. То есть письмо было «расписано» товарищу Шауро для дальнейшей работы. Чувства Аксенова понятны.
Попытка Феликса Кузнецова и ряда литераторов перевести разговор об альманахе и его составителях из литературной в политическую плоскость таила в себе серьезную угрозу. В том числе и возможных репрессий. Какие-либо другие инстанции, к которым можно было апеллировать в этом случае, в стране попросту отсутствовали. Вот почему Аксенов направляет секретарю ЦК КПСС личное письмо — он стремится обезопасить себя и коллег от огульных политических обвинений.
Коллеги всё понимали. И тоже беспокоились. Но завтрак с шампанским в «Ритме» не отменили. Хотя мнения по этому поводу разделились.
Описание событий на Миусской площади, сделанное Виктором Ерофеевым, широко известно, так что обратимся к свидетельству другого, реже цитируемого автора «МетрОполя», в ту пору преподавателя Московского историко-архивного института — Леонида Баткина[128]: «…„МетрОполь“ раскололся. Половина участников туда идти не хотела… они не хотели бросать дополнительный вызов. Мы с женой все-таки туда пошли — к тому кафе, которое Белла Ахмадулина заказала для презентации.
Кафе было заперто, в витрине надпись — „Закрыто по техническим причинам“. Мы… увидели в телефонной будке человека, которой держал трубку у уха, но не набирал номер и не разговаривал, а оглядывал окрестности. Было ясно — КГБ не дремлет.
Потом подошли еще несколько человек из наших. Потом кто-то еще пришел и предложил пойти на квартирку Гинзбург, собраться в своем кругу, выпить вина… Так это и было сделано. Но раскол был яростный. Мы сидели и спорили часов до четырех утра».
Верно сказал на обсуждении в ЦДЛ Виктор Кобенко: «Профессионалу достаточно увидеть лишь их первую страницу» — то есть предисловие. Видимо, спецы из КГБ ее увидели и сделали выводы. А также снова приняли меры: «вернисаж» не состоялся.
Зато состоялась передача «Голоса Америки», в которой хозяин издательства «Ардис» Карл Проффер на вопрос: будет ли альманах издаваться массовым тиражом в Советском Союзе? — ответил:
«— Я не знаю. Я знаю, что те, кто составили альманах, послали экземпляр советским издательствам… и очень надеются, что альманах будет издан в Советском Союзе. Но в то же самое время разные издательства на Западе стараются переводить альманах.
— Карл, в вашем издательстве „Ардис“ вы собираетесь издать этот альманах?
— Мы собираемся издать альманах на русском языке для рынка вне Советского Союза, и главное для нас — это его английский перевод».
В том же 1979 году «МетрОполь» был издан «Ардисом». Это было факсимильное воспроизведение его оригинального макета. Тогда же вышла книга обычного размера. Через год парижское издательство
А тем вечером услышавшие эту передачу Попов и Ерофеев понеслись к Аксенову звонить Профферу — прояснять ситуацию. Ведь до этой минуты «дело „МетрОполя“» было частным советским делом, и даже проще — делом писательским. А в эту минуту стало международным. Но попробуй тогда дозвонись в Америку!
— Да и что толку? — пожал плечами Аксенов. — Поздно.
Заявление состоялось. И было услышано не только друзьями, но и противниками. Отныне им стало ясно, что альманах передан за рубеж и, значит, можно квалифицировать действия «метропольцев» как идеологическую и политическую диверсию против СССР.
Начались горячие споры. О том, как вести себя с властями — государственными и литературными. Что могут и будут они делать, а что могут, но, скорее всего, не станут. От зловещих угроз и обвинений в антисоветской диверсии многим стало не по себе.
«…Говорили, — вспоминал Марк Розовский в интервью американскому автору Марку Цибульскому, написавшему любопытный очерк „Как это было. Записки об альманахе „Метрополь““[129], — что с нашей стороны была явная провокация!.. На самом деле, если и была, то обратного свойства. Ведь ни у одного автора не было никакого вызова советской власти, это вовсе не был диссидентский сборник…»
Однако власть держалась другого мнения.
Второго февраля Отдел культуры ЦК КПСС направил в ЦК записку с грифом «секретно». В ней сообщалось, что«…члены Союза писателей СССР В. Аксенов, А. Битов, Ф. Искандер и начинающие литераторы, недавно принятые в Союз писателей и еще не получившие членских билетов, Е. Попов и В. Ерофеев подготовили сборник под названием „Метрополь“ и, минуя общепринятый порядок, намеревались потребовать от Госкомиздата СССР его немедленной публикации.
Объемистому сборнику (около тысячи страниц на машинке) предпослано предисловие. В нем утверждается, что существующая в СССР редакционно-издательская практика для авторов сборника неприемлема. <…>
В некоторых сочинениях, включенных в альманах, отчетливо прослеживается преимущественное внимание к изображению негативных сторон нашей жизни. Отдельные из них двусмысленны по идейно-политической направленности. Ряд произведений изобилует… откровенно порнографическими сценами. <…>
Организаторы наметили провести… пресс-конференцию для иностранных корреспондентов. <…> Попытки разъяснить организаторам альманаха неприглядный идеологический характер их затеи, несовместимость их действий с нормами нашей литературной жизни не увенчались успехом.
22 января секретариат правления и партком Московской писательской организации… квалифицировали действия составителей сборника как политическую провокацию, направленную на разжигание очередной антисоветской кампании на Западе, как попытку легализации „самиздата“.
Присутствовавшие на заседании В. Аксенов, А. Битов, Ф. Искандер, Е. Попов и В. Ерофеев… уверяя, что они не связаны с зарубежными пропагандистскими центрами и не намерены направлять рукопись за границу… сообщили, что не будут проводить свой „вернисаж“ и пресс-конференцию. Однако в тот же вечер радиостанция „Голос Америки“ сообщила, что рукописи „Метрополя“ находятся за рубежом и будут изданы в США и во Франции».
Если до сих пор текст записки напоминал рапорт о раскрытии заговора, то далее идет пассаж, схожий со сводкой о боевых действиях: «Секретариат правления Московской писательской организации по согласованию с МГК КПСС и Союзом писателей СССР разработал меры по нейтрализации этой вылазки. В многотиражной газете „Московский литератор“ готовится публикация… Готовится также выступление „Литературной газеты“, в котором будет дана принципиальная оценка сборника и показана неприглядная роль его организаторов».
Далее сообщалось об индивидуальной работе с авторами и о том, что тексты альманаха, не противоречащие принципам советского искусства, могут быть изданы в соответствующих советских изданиях. Записка подписана «Зав. Отделом культуры ЦК КПСС В. Шауро»[130].
Абзац, где речь идет о материале в «Литературной газете», подчеркнут, а на полях рукой А. П. Кириленко приписано: «Надо бы снять». Видимо, патриарх решил, что о «вылазке» не стоит трубить на весь Союз. Статья в «Л Г» выйдет позднее — 19 сентября 1979 года. Текст Феликса Кузнецова «О чем шум?..» будет сочтен уместным ответом на письмо американских писателей, заступившихся за составителей «МетрОполя».
Как видим, документ составлен с внятной целью: сформировать у высшего партийного руководства представление о «МетрОполе» и его участниках как о лицах, не приемлющих советскую редакционно-издательскую практику, намеренных «требовать немедленного издания» своего сборника (а можно было только просить), изображающих негативные стороны жизни в двусмысленных текстах, а также склонных к рисованию порнографических сцен, о чем они хотят поведать иностранным корреспондентам. А это уже диверсия, подрывная деятельность!
При надлежащем обобщении создавался образ заговорщиков, осуществивших «политическую провокацию, направленную на разжигание очередной антисоветской кампании на Западе, как попытку легализации „самиздата“». Врагов, возможно связанных с подрывными центрами, совершивших «вылазку», требующую нейтрализации.
Записка была получена и, судя по пометке А. П. Кириленко, — прочитана. Мнение составлено. Задачи определены. Во многом они обусловили дальнейшие действия сторон.
Составители «МетрОполя» обратились в ВААП с просьбой обеспечить авторские права. И одновременно — с письмом в Госкомиздат с предложением рассмотреть возможность издания альманаха в любом из профильных издательств. Госкомиздат направил их в «Советский писатель». Туда же ушло соответствующее письмо.
Тем временем руководство СП СССР и МПО работало с авторами. Индивидуально, активно, но не слишком эффективно.
Марк Розовский, автор опубликованной в «МетрОполе» статьи «Театральные колечки, сложенные в спираль», вспоминает: «Когда от меня потребовали объяснений участия в „МетрОполе“, я был в Ленинграде и послал телеграмму: „Мое участие в ‘МетрОполе’ объясняется желанием содействовать поиску и эксперименту в советском театре. С уважением, Марк Розовский“. Телеграмма была воспринята как издевательство.
…Феликс Кузнецов вызвал меня для личного разговора. Он мне говорит: „Что это ты мне отписки шлешь?“ Я говорю: „Вы меня просили объяснить, а я именно так и думал, как написал“. И мне он объяснял ситуацию эдак, по-чапаевски… В фильме Чапаев на картошке объяснял? А Кузнецов положил на стол белый лист бумаги, нарисовал точку и сказал: „Вот это — ты“. Потом обвел эту точку кружком и сказал: „Вот ты — член Союза писателей“. Потом нарисовал точку отдельно, а кружок — отдельно и показал: „А вот это — если ты не с нами“. Такая вполне откровенная угроза, что могут и исключить… <…>
Властям очень не понравилась одна фраза во вступлении, написанном Васей. Там было сказано, что у нас что-то вроде круговой поруки. („Альманах „МетрОполь“ представляет всех авторов в равной степени. Все авторы представляют альманах в равной степени“. — М. Ц.) Их желание главное было — нас раздробить… Чтобы кто-то струсил. Поэтому со всеми стали вести индивидуальную работу. Обработка иногда принимала очень смешные формы. Скажем, я жил на одной лестничной площадке с Володей Амлинским, которого прекрасно знал по журналу „Юность“. Тогда он был секретарем Союза писателей, уж не помню, какого — то ли российского, то ли московского. И вот ему было поручено со мной провести работу.
Он пришел: „Надо поговорить“. Я ему: „Ну, я понял, кто тебя послал. Давай, разговаривай“. Мы пошли с ним на балкон, и Володя говорит: „Ну, чего мне им сказать-то?“ Я говорю: „А что — я должен тебе сказать, что ты должен им сказать?“ Совковая такая дурацкая ситуация. Мы же друзья были. Ему тяжело, и мне тяжело. Вот стоим мы на балконе. Он молчит, и я молчу. Постояли и разошлись. Что он потом написал, как он отчитался за проведение беседы со мной, я не знаю.
Потом еще одна беседа была. У меня был друг, секретарь парткома МПО. Он пришел ко мне с бутылкой водки: „Давай выпьем“. Мы выпили, стали трепаться… О „МетрОполе“ — ни слова. Он ушел. Хотя понятно было, зачем он приходил…»[131]
Пожилого поэта, ветерана Великой Отечественной войны и орденоносца Семена Липкина взялись было стращать секретариатом СП. Он спокойно ответил:
— Я вскоре предстану, — и показал глазами, — перед другим секретариатом…
Автор «МетрОполя» Аркадий Арканов свидетельствует: «…Участников „МетрОполя“ пытались „растащить“. Ко мне тоже подсаживались достаточно известные люди, говорили: Аркадий, ты что, не понимаешь? Это все заранее продумано Аксеновым, который хочет вымостить себе дорогу на Запад. Он вас кинет, ему на вас наплевать!»
— У Аксенова на Западе миллион! — шептали доброхоты Евгению Попову.
— В какой валюте? — интересовался он.
Попутно шла работа с отцом Ерофеева — видным дипломатом, представителем СССР в международных организациях в Вене (по словам Ерофеева, он ожидал назначения замминистра иностранных дел. — Д. П.). «В 1979 году, — пишет Виктор Владимирович, — они были настоящими палачами. Один пример: моего отца… вызвали в Москву, и секретарь ЦК Зимянин от имени Политбюро… предложил ему поистине нацистский ультиматум: либо твой сын подпишет отречение от „МетрОполя“, либо не поедешь обратно в Вену… Зимянин не пожелал говорить с моим отцом наедине, так как воспринимал его уже как противника. Присутствовал Альберт Беляев[132], в ту пору „центровой“ гонитель культуры, и заведующий Отделом культуры ЦК Шауро, с которым отец был знаком со студенческих лет. Когда Зимянин показал на отца и спросил: „Вы знакомы?“ — Шауро протянул руку и представился: „Шауро“. Так проходил водораздел. Такой был страх…
Зимянин усмехнулся:
— Александров предложил отправить твоего сына в командировку на БАМ. Написать статью о стройке.
Отец подумал: „Молодец“; в этой мысли была хоть какая-то надежда.
— А что, — пробросил отец. — По-моему, это идея.
— Чтобы он нам обосрал БАМ? Он же умеет писать только о сортирах.
Надежда угасла. Зимянин с нажимом продолжал:
— К тому же он собрался эмигрировать.
— Откуда это известно? — насторожился отец.
— Мне Кузнецов об этом сказал. Ему твой сын сам признался.
Это была чистая клевета».
«Зимянин зачитал из альманаха наиболее „острые“ куски… а насчет меня заметил: „Передай сыну, не напишет письма — костей не соберет“».
Жена Виктора Ерофеева Веслава боялась водить сына в детский сад.
Порой происходило удивительное. То распространялся слух, что Попов и Ерофеев гомосексуалисты и затеяли «МетрОполь», чтобы проверить силу своей мужской дружбы. То в гости приходили диссиденты, уверенные, что Ерофеев — агент ЦРУ («тебе подчиняются все американские журналисты, цитируют тебя как начальника»), а Попов — агент КГБ («мы… сидели за одним столом. Я спросил: кто поддерживает идею насильственного свержения советской власти. Многие поддержали. Попов отмолчался»).
— Вон, — сказал Ерофеев.
Ушли. Обиделись.
Жесткое давление на авторов побудило составителей обратиться 8 февраля с новым письмом в ЦК КПСС и СП СССР — вновь к секретарю ЦК Зимянину и первому секретарю СП Маркову: «…авторов альманаха… вызывают по одному и проводят с ними „беседы“ в тоне проработки, шельмования, запугивания, пытаются противопоставить нас друг другу в заведомо тщетных попытках нарушить нашу товарищескую солидарность, распространяют слухи, оскорбляющие достоинство советского писателя, будоражат литературную общественность, что приводит уже к скоропалительным оргмероприятиям на местах: к отмене выступлений, публикаций и т. д.
Авторы альманаха „Метрополь“ чувствуют себя глубоко оскорбленными этими действиями… Действия эти скорее напоминают недоброй памяти времена культа личности, чем ту ленинскую политику в области культуры, которую проводит нынешний ЦК КПСС. С уважением, составители альманаха „Метрополь“ В. Аксенов, А. Битов, Евг. Попов, Вик. Ерофеев, Ф. Искандер».
К письму приложена резолюция: «Тов. Шауро В. Ф. Прошу переговорить 21.02.79. М. Зимянин»[133].
Уже на следующий день, 9 февраля, в газете «Московский литератор» вышла статья Феликса Кузнецова «Конфуз с „Метрополем“», в которой первый секретарь МПО громил альманах. А резолюция Зимянина была наложена 21-го — то есть на следующий день после состоявшегося 20 февраля в СП совещания, о котором в письме сказано: «За нашей спиной готовится тенденциозное мероприятие по безоговорочному осуждению нашего скромного начинания, то есть настоящий разгром»[134].
В нем участвовали Сергей Михалков, Юрий Бондарев, Борис Полевой, Виктор Розов, Римма Казакова, Егор Исаев, Олег Волков, Сергей Залыгин, Сергей Наровчатов, Григорий Бакланов, Яков Козловский, Мария Прилежаева, Александр Борщаговский, Леонард Лавлинский, Владимир Амлинский, Владимир Гусев, Николай Старшинов и другие коллеги «политических провокаторов» по литературному цеху.
Обсуждение, как сообщалось в записке Отдела культуры ЦК КПСС от 15 марта 1979 года, «показало высокую политическую зрелость актива столичной писательской организации. Участники совещания единодушно осудили организаторов „Метрополя“… В связи с тем, что в ряде западных стран сборник используется для очередной антисоветской кампании (в прессе США, Англии, ФРГ и Франции опубликовано по этому поводу около 50 статей), АПН[135] принимает меры к тому, чтобы довести до сведения зарубежной общественности оценку „Метрополя“ видными советскими писателями. Индивидуальная работа с составителями и авторами сборника „Метрополь“ продолжается. Секретариат правления и партком Московской писательской организации намерены и далее в этой работе использовать силу общественного мнения, не прибегая пока к другим мерам. <…> Завотделом культуры ЦК КПСС В. Шауро»[136].
Какова же была оценка альманаха писателями (среди которых, кстати, оказались если и не близкие друзья, то хорошие приятели шельмуемых)? Что гласило общественное мнение? Что ж, «все писатели сошлись в одном… уровень материалов сборника… убеждает, что его организаторы, по-видимому, и не помышляли о литературных целях. Они ставили перед собой совершенно иные, далекие от литературы, искусства и нравственности задачи». Ознакомимся с рядом суждений, изложенных 23 февраля в газете «Московский литератор» в публикации, посвященной итогам дискуссии 20 февраля.
Сергей Михалков: «Произведения, представленные в этом альманахе, и есть „хвороба литературы“, о которой говорят составители».
Юрий Бондарев: «Большая часть прозы альманаха вызывает ощущение стыда, раздражения, горькой неловкости за авторов…»
Борис Полевой: «Сборник, судя по стилю его редакционной статьи, был адресован нашим идейным врагам за границей…»
Римма Казакова: «Налицо невероятная безнравственность поведения…»
Евгений Сидоров: «Альманах заслуживает самого решительного морального и идейного осуждения, ибо писатели, в нем представленные, сыграли по шулерским, а не джентльменским правилам…»[137]
Виктор Розов: «Мы печатать это не собираемся, потому что это не художественного уровня издание…»
Егор Исаев: «Ложь неизбежно разрушает талант…»
Мария Прилежаева: «Выступления ряда писателей сегодня меня эмоционально обогатили и показали моральную чистоту нашего писательского коллектива…»
Спустя несколько лет Аксенов вспоминал, как Феликс Кузнецов и Иван Стаднюк объявили его агентом ЦРУ, а Владимир Карпов требовал «применить законы военного времени, то есть поставить к стенке».
Не станем судить этих людей. Они сами сказали и о шулерстве, и о лжи, разрушающей талант, и о своих представлениях о моральной чистоте… И все же страшно думать о том, что пережили участники альманаха, столкнувшись с огульной травлей…
Как видим, бурление бюрократической нелепицы достигло высочайшего градуса. Стало ясно, что «МетрОполь» не только не опубликуют, но при неблагоприятном развитии ситуации «наверху» решат изъять все его экземпляры.
Так что не зря составители еще до заседания секретариата 22 января озаботились безопасностью своего детища — отправкой за границу. Потом это дало повод для обвинений в заведомом намерении издать альманах на Западе. Но это «фактически неверно», — пишет Виктор Ерофеев, а Евгений Попов подтвердил мне это почти дословно: «Мы тайно договорились со знакомыми французскими и американскими дипломатами вывезти альманах за границу, но не чтобы печатать, а на сохранение, — оказались предусмотрительными». Ерофеев лично перегрузил «французский» экземпляр из багажника своих зеленых «жигулей» в багажник «рено» атташе французского посольства и знатока православия Ива Амана в переулке возле Нового Арбата. И тот рванул с ним в Париж, не спеша проследовав через Шереметьево с матерчатой сумкой с длинными ручками, где лежал увесистый том. «Американский» экземпляр был передан советнику по культуре посольства США в Москве Рею Бенсону…
«Акт „противозаконной“, если не сказать „преступной“ (с точки зрения советского закона) передачи Рею, — вспоминает Ерофеев, — состоялся в один из самых холодных январских дней в истории России. Термометр показывал минус сорок по Цельсию. Московские улицы были пусты — большинство автомобилей замерзли. Рей немедленно понял значение „бомбы“. Хитро улыбнувшись и весело шмыгнув простуженным носом, он после обеда взял ее под мышку и унес с аксеновской дачи в Красной Пахре по глубокому снегу в свою машину. На следующий день в секретной комнате посольства США он доложил послу, и тот, ни слова не говоря, утвердительно щелкнул пальцами — давай! Альманах улетел в Вашингтон с дипломатической почтой».
Так два экземпляра «МетрОполя» счастливо миновали бдительных стражей рубежей СССР, обманув и суровых борцов с непослушанием. Впрочем, их приемы порой срабатывали — люди пугались,
«…Обыска мы ждали все, — вспоминает Леонид Баткин. — Тростников был уволен с работы. <…> Я тогда спрятал весь самиздат — письма от обозревателей „Свободы“, Би-би-си, другие самиздатовские тексты. По-моему, сходным образом поступали и другие. Обыск в этих условиях казался абсолютно естественным. У меня уже на тот момент было несколько вызовов в КГБ, я знал, что мой телефон прослушивается. И я был готов к тому, что с работы могут выгнать. Большего я не предполагал, но к тому, что мог потерять работу, как Тростников, я был готов. Но не выгнали. Я отделался тем, что мне запретили защищать докторскую, хотя уже был отпечатан реферат»[138].
Но, несмотря на хорошо организованную индивидуальную работу, «метропольцы» не раскалывались. После исключения из СП Попова и Ерофеева соратники по альманаху, члены союза, написали письмо протеста: если исключенных не восстановят, они выйдут из союза — это были Аксенов, Битов, Искандер, Лиснянская, Липкин. Такое же письмо послала и Белла Ахмадулина. Случай был уникальный. Липкин дивился:
— Со времен Кронштадтского восстания 1921 года не было ни одного коллективного действия оппозиции, которое советская власть не довела бы до раскола, предательства и позора.
Отца Ерофеева вернули в СССР, уволили со службы. Самого Виктора Владимировича исключили из СП и долго не печатали. Забавно: когда его приняли в союз, пожилая секретарша сказала: «Ну, это навсегда». «Секретарша сглазила меня, — горько шутил Ерофеев. — Я установил рекорд самого минимального пребывания в союзе за всю его историю с 1934 года. Меня выгнали через семь месяцев и тринадцать дней».
Исключили и Евгения Анатольевича Попова[139]. В постановлении секретариата Союза писателей РСФСР — тогда принимали и исключали на этом уровне — сказано:
«Учитывая, что произведения литераторов Е. Попова и В. Ерофеева получили единодушно отрицательную оценку на активе Московской писательской организации, секретариат правления СП РСФСР отзывает свое решение о приеме Е. Попова и В. Ерофеева в члены Союза писателей СССР».
Узнали изгои об этом так. В мае поехали в Крым — снять стресс. На аксеновской «Волге». Как вспоминает Ерофеев, Василий Павлович в дороге сообщил ему и Попову, что передал «Ожог» за границу.
— Значит, ты уезжаешь? — спросил Ерофеев.
— Почему уезжаю?
— Ты нарушил свое соглашение с ГБ[140].
— После «МетрОполя» все изменилось, — ответил Аксенов.
Он, видимо, полагал, что теперь, когда литературные власти, побуждаемые властями партийными и спецслужбами, открыто преследуют его самого и его друзей, все «джентльменские договоренности» можно считать аннулированными.
Попов вспоминает об этом так: «После жуткой зимы 79-го мы втроем (с Аксеновым и Ерофеевым) поехали в Крым. Прибыв в Коктебель, встретили там Искандера в черных сатиновых трусах. Когда пили вино на холодке, Фазиль, между прочим, показал нам полученную им анонимку: „Радуйся, сволочь! Ваших сукиных сыновей выгнали, наконец, из Союза писателей!“ То есть меня и Ерофеева.
Когда вернулись в Москву, оказалось — да, выгнали. И что Василий Павлович? Говорит нам с Витькой: я как сказал, так и сделаю, — выйду из Союза писателей. И вышел. Это был поступок мужчины и старшего товарища. Этого я никогда не забуду».
Когда Попова и Ерофеева отказались восстановить в союзе, советский писатель Аксенов вернул свой членский билет в эту организацию. То же хотели сделать другие члены СП. Тогда Попов и Ерофеев — теперь окончательно исключенные — призвали их не покидать союз, «не обнажать либеральный фланг» литературы. Андрей Битов, Фазиль Искандер и Белла Ахмадулина к ним прислушались, а Семен Липкин и Инна Лиснянская вышли, лишившись средств к существованию. Им предстояли трудные годы.
Но до этих событий оставалось несколько месяцев. А пока моральный террор продолжался — нарушителей литературной дисциплины и общественного спокойствия продолжали тащить сквозь строй, под безжалостным градом шпицрутенов.
Веселый бал советской литературы 1960-х годов, отголоски которого нередко были слышны еще и в следующем десятилетии, был окончен.
Однако это только казалось, что с изгнанием из Союза писателей зачинщиков альманаха «дело „МетрОполя“», превращенного гонителями в подобие знамени восстания, было закончено. Те, кто не мог быть изгнан из СП, пережили преследования иного рода. Например, Леониду Баткину не разрешили печатать его «совершенно безобидные книжки по Возрождению», в издательстве «Искусство» рассыпали его книгу о гуманистах, уже набранную и отредактированную.
Математика, физика-теоретика, кандидата философских наук Виктора Тростникова уволили из Московского института инженеров транспорта, где он работал на кафедре высшей математики. Многие годы он был вынужден перебиваться заработками дворника, сторожа, разнорабочего, строителя, прораба…
Запланированный вечер Марка Розовского в московском Доме учителя отменили, сказали, что прорвало трубы. Розовский проверил. Трубы были в порядке. Дальше — больше: сценарий — зарубили. Книгу — «рассыпали». В театре Маяковского лежала пьеса под названием «Высокий». Тогдашний главный режиссер Андрей Гончаров, не следивший за перипетиями в Союзе писателей, позволил Розовскому ее ставить. Но, будучи введен в курс событий, перевел постановку с большой сцены на малую, отдав другому режиссеру.
Трудности испытывали многие, и Белла, и Фазиль Искандер…
Впрочем, Баткин сообщает, что «судьба потом сложилась у всех по-разному. <…> Например, мой покойный ныне друг Юрий Карабчиевский, никому не известный, не печатавшийся ни в самиздате, ни в тамиздате… стал очень известен. Он написал прогремевшую книгу о Маяковском („Воскресение Маяковского“. — М. Ц.) и трезво отмечал: „Я от этого только выиграл“»[141].
Фридрих Горенштейн, в отличие от Аксенова, эмиграцию свою не готовил, но пришлось уехать…
Последнее суждение Баткина явно перекликается с мнением оппонентов «МетрОполя»: Аксенов хочет уйти на Запад, но — с треском; для того и затеян «МетрОполь». Приведем для иллюстрации фрагмент интервью одного из тогдашних секретарей Союза писателей — Олега Попцова, который наряду с другими вел с редакторами и авторами альманаха индивидуальную работу.
К январю 1979-го Олег Максимович уже более десяти лет возглавлял журнал «Сельская молодежь», который многие считали и считают одним из лучших «тонких» журналов тех лет. Трудно сказать, много ли у него было читателей на селе. Но с 1968 по 1990 год Попцов напечатал немало хороших авторов — Фазиля Искандера, Юлия Кима (в 1970-х публиковавшегося под псевдонимом Ю. Михайлов), Юрия Нагибина, Владимира Померанцева, Валентина Распутина, Василия Шукшина… Такова была жизнь — «либерализм в рамках дозволенного» «проходил» не всегда, и в моменты выбора: проявить лояльность или попасть под подозрение в сочувствии «литературным власовцам», люди часто принимали сторону системы.
«Я помню все эти дискуссии… — рассказывал Олег Максимович. — „Метрополь“… вызвал протест со стороны официальных властей, — но это и понятно. <…>
Это было время Михаила Андреевича Суслова. Нелепо было ждать от Суслова восторга по поводу альманаха, но… можно было и необходимо было „Метрополь“ отстоять. Я был сторонником — причем категорическим — того, чтобы издать „Метрополь“.
Я выступал и говорил, что если мы сейчас дадим возможность журналу уйти за рубеж, то закроем на энное количество лет творчество этих людей[142] в нашей стране. Поэтому его надо издавать здесь, во что бы то ни стало.
В альманахе были вещи, которые следовало беспощадно критиковать, а были вещи совершенно прекрасные. Скажем, я очень люблю Женю Попова… но его рассказ о том, как человек сидел над дырой и оправлялся, мне крайне не понравился. <…> Но ведь были там и прекрасные вещи! Например, повесть Горенштейна „Ступени“.
Но, в общем, это была хорошая литература, сделанная настоящими писателями. Появление „Метрополя“ здесь, в России, только прибавило бы авторитета русской литературе и позволило бы сказать, что ситуация меняется.
Произошло столкновение двух тенденций…
Кто-то мне сказал: „А вот помните, как Вы выступали против ‘Метрополя’?“ Я ответил: Господа! Есть все стенограммы обсуждений. Я не откажусь там ни от одного слова. Там выступал Бакланов, там выступал Бондарев… Посмотрим, кто и о чем говорил, тогда станет всё ясно. <…>
Я говорил: „Что вы делаете? Настоящих литераторов мы просто зачеркнем! <…> Ни в коем случае нельзя дать альманаху уйти за рубеж“. Но было бессмысленно всё…»[143]
У кого-то из тех, кто начал читать книги после 1990 года, может возникнуть вопрос: почему творчество писателей, чьи тексты были опубликованы на Западе, оказалось «закрытым в нашей стране» до изменения политической ситуации? Таковы были правила тоталитарного государства. И сыгравший по этим правилам Олег Попцов, дороживший Искандером, Горенштейном, Поповым, остался в памяти многих из них не защитником, а гонителем. Почему? Возможно, так выглядел любой, кто в тот момент не уклонился от участия в широком обсуждении, звучавшем как единодушное осуждение.
Могло ли быть иначе? Наверное. Но не ясно — как. Ведь и впрямь было «время Михаила Андреевича Суслова» — стража догматических твердынь, видевшего в любом живом движении, жесте, слове угрозу строю. В сравнении с ним Леонид Ильичев — организатор погрома 1963 года художников в Манеже и писателей в Кремле — выглядит довольно бледно.
Знающие люди рассказывают, что Суслов купно с начальником Главного политуправления Советской армии генералом армии Алексеем Епишевым и министром обороны маршалом Андреем Гречко старались «зарубить» даже картину «Семнадцать мгновений весны». Гречко, говорят, прямо так и заявил: «Мы на брюхе ползли по Кавказскому хребту, а, оказывается, это разведчики, сидя в отелях, выиграли войну». Но председатель КГБ Юрий Андропов фильм поддержал. Его отправили на дачу Брежневу. Тому кино понравилось, и все исполнители главных ролей получили звания народных артистов и Государственную премию. Но «МетрОполь» Андропову не понравился…
Олег Попцов полагает, что в деле «МетрОполя» столкнулись две тенденции — одна
Третья — подход составителей альманаха: хватит закрывать путь в литературу новым людям, стилям, поискам; хватит диктовать авторам, что и как писать. Этот подход люди, сторожившие систему, отрицали и порицали как вражеский.
Для них вопрос стоял так: есть проблема — как ее решить: крутым кнутом или сухим пряником? А для составителей проблемой было устройство литературной жизни в СССР. Хотя, очевидно, многие из них понимали, что она есть отражение жизни общественной, политической. Это знали и их противники. В том числе и главный открытый оппонент — Феликс Кузнецов, клеймивший «МетрОполь» с особым усердием. Отчего? Видел ли он в альманахе хитрую атаку на общественные устои? Исполнял ли волю начальства? Формировал ли ее? Или искренне не принимал эстетику сборника? Любопытна версия Леонида Баткина[144]: «Он делал то, что было ему по уму и помогало сделать карьеру. В этом смысле он был вполне искренним».
Так или иначе, суждения главного борца с «МетрОполем» о тогдашних событиях представляют немалый интерес. Познакомимся со свидетельством Феликса Кузнецова[145].
«…Забавным фактом было то, что, возможно, первым человеком, кому поступило предложение сформировать такого рода сборник из текстов, которые не прошли советскую цензуру, и опубликовать это на Западе, был я. Это забавно, конечно, но факт. В те годы, 70–80-е годы двадцатого века, разворачивался очень активный роман между Госдепом (Государственный департамент США. — М. Ц.) и… советскими писателями… Ряд писателей стал получать приглашения в Штаты… с возможностью поездить по стране, почитать лекции, получить за них приличные гонорары.
…Была разработана программа обмена делегациями. У истоков ее стоял покойный Солсбери[146]. Проводились разного рода дискуссии по вопросам советской и американской литературы… Пять наших делегаций ездили в США, и пять американских… к нам. Как мне думается, это всё входило в программу размягчения официальной советской идеологии и нащупывания тех мягких мест, на которые можно оказывать воздействие… Это был блистательный пример ведения „холодной“ войны в новых условиях.
Я был удостоен чести входить… в эти делегации. <…> И вот однажды ко мне пришел от Солсбери один человек, его правая рука… Он пришел ко мне, потому что начинал я как „шестидесятник“, и в этом плане интерес ко мне был, и предложил подумать о такого рода акции. Я отказался, сказав, что не хотел бы этим заниматься.
Потом, некоторое время спустя, я вдруг узнаю, что Вася Аксенов и Витя Ерофеев собирают такого рода тексты… Это была акция продуманная, проработанная на перспективу, с очень тщательным анализом плюсов и минусов. Эта акция была обречена на успех, и обречена на очень мощную кампанию информационного сопровождения.
…Война шла через целый ряд очень умных операций. „Метрополь“, по моему глубочайшему убеждению, был такой операцией. <…> Акция с „Метрополем“ была необходима Западу потому, что акция с выдворением Солженицына показала, до какой степени эффективна информационная война… Но потом всё это стало затухать и не было информационного повода, чтобы это дело, как говорится, раскочегаривать. Этот повод необходимо было создать… Как мне думается, Аксенов не осознавал, что он — чье-то орудие. Витя Ерофеев, скорее всего, осознавал, Попов — вряд ли. Большинство же участников „Метрополя“ искренне полагали, что они ведут борьбу за свободу слова в СССР. <…>
Власти были растеряны и не понимали, как себя вести. Как ни парадоксально, самым умным человеком оказался Кириленко[147], который, в общем-то, был достаточно дубоватым. Он сказал: „Эту историю надо замолчать, и ничего об этом не писать“.
Однако вскоре стало ясно, что молчанием здесь не обойдешься, поскольку… участники „Метрополя“ подготовили зал в кафе „Север“[148], куда были приглашены корреспонденты зарубежной прессы… И первой заботой властей было этой презентации не допустить, чтобы избежать всемирного ажиотажа.
Стали думать, как это сделать. Я тогда возглавлял Московскую писательскую организацию. Меня пригласил к себе секретарь ЦК по идеологии Зимянин. На заседании присутствовали Виктор Чебриков, в ту пору — заместитель председателя КГБ, курировавший 5-е управление, Василий Шауро[149]. Они пригласили меня, чтобы узнать мою точку зрения, как этот вопрос решать и как из этой ситуации выходить.
Моя точка зрения была такой: нельзя никого наказывать, исключать, применять репрессии, потому что всё это — материал для информационного пожара. Я предложил спокойное обсуждение этого вопроса на заседании писательской организации, предварительно размножив альманах… чтобы люди прочитали и высказались.
Было сделано пятьдесят копий „Метрополя“. Высказывались, в основном, очень хорошие писатели. Большинство альманах не приняло с точки зрения эстетической.
Материалы этого обсуждения были напечатаны в газетке „Московский литератор“ тиражом пятьсот экземпляров. И эта газетка… вдруг стала любимой газетой всех иностранных средств массовой информации… И этой газетки было достаточно, чтобы возник международный скандал.
Вдобавок, к сожалению, не было выполнено мое предложение никого не наказывать… Они все-таки исключили Ерофеева и Попова… Исключили очень своеобразно: мы их за год до этого приняли, но они не получили вовремя членские билеты. Союз писателей России после всех событий отказался им эти билеты выдать. Не дают билеты — значит, исключение. <…>…Весь этот ажиотаж, весь этот скандал был неслучаен. Это просто — эпизод холодной войны».
На вопрос, как он оценивает ситуацию с точки зрения сегодняшнего дня, Феликс Кузнецов ответил: «…Конечно, это надо было спокойно напечатать и здесь, и через ВААП издать на Западе — и закрыть тему. <…> Но в ту пору, когда было обостренное политическое противостояние, это оказалось, к сожалению, невозможным.
Я не чувствую своей вины. Я просто испытываю горечь оттого, что… не хватило ума — не только у меня,
Практически, в этом альманахе, за исключением чуть-чуть задиристого предисловия, написанного Васей Аксеновым, да пошлых рассказов Ерофеева и Попова, не было ничего такого, что могло быть рассмотрено хоть в какой-то степени как антисоветское. Стихи Высоцкого? В них не было ничего антисоветского! <…>
Скажу вам так: в этом деле было две стороны. Одна… была очень заинтересована в этом скандале, и она его получила, благодаря своей умной политике. А вторая, благодаря своей глупой политике, тоже этот скандал получила, — но себе в бок».
Эта позиция понятна, удобна и выгодна: «МетрОполь» — подрывная операция, в которой враг использовал наших писателей. Феликс Кузнецов разоблачил эту вылазку. Шла тайная война. А где война — там взятки гладки. А что до писателей, то многим из них нравилось в СССР, они были верны принципам социалистической эстетики и не могли не пресечь диверсию… И поддались на «провокацию». Ибо заговорщики знали: их не издадут. А — прижмут (вспомним слова Кузнецова на секретариате 22 января: «…Книга выйдет за границей, и у нас будет с авторами жесткий разговор. После чего начнутся вопли о культурной оппозиции. О том, что нет свободы, прав человека, свободы творчества»). Но нашим простакам «не хватило ума» разгадать эту каверзу…
Это легко спустя много лет признать: надо было издавать. Как будто и не существовало пресловутого «фактора Суслова»…
«Дело „МетрОполя“» повлекло за собой ряд важных последствий. Одно из них таково: пребывавшие доселе в почти бетонном единстве официальные литераторы СССР зримо разделились на группы. Три. Неравные.
Первая (меньшая) — авторы «МетрОполя» и те, кто их поддержал. Вторая — гонители (их было куда больше). Третья — огромное большинство тех, кто просто наблюдал. Парил над схваткой. Кто-то — в силу склонности держаться подальше от острых ситуаций. Кто-то — сочувствуя «метропольцам», но боясь их поддержать.
Думается, если бы «МетрОполь» опубликовали, сам этот факт утвердил бы такое разделение. Негласное, но реальное. Люди вроде Суслова и Андропова это понимали. И потому не могли допустить подобное. Ибо в еще большей степени, чем Кузнецов, жили в мире борьбы систем, идеологических атак и контратак, подрывных операций.
Что же до составителей и авторов «МетрОполя», всё это не имело для них слишком большого значения. Они видели литературу отнюдь не оружием тайной войны, да и войну эту считали выморочной и вредной. Власти — литературные, политические и полицейские — это знали. Потому и пропустили их сквозь строй с такой неумолимой суровостью.
«Метропольцы» не смирились с исключением из СП. Ерофеев и Попов требовали восстановления. О них писала иностранная пресса. Зарубежная общественность волновалась. Их пытался защищать Генрих Бёлль. Когда он приехал в СССР, то встретился с участниками альманаха, что было запечатлено на коллективном памятном снимке. Встречались в квартире, оставшейся Майе от покойного Романа Кармена, в небоскребе на Котельнической набережной. Наряду с авторами-составителями пришли Окуджава, Копелев, Владимов.
Пятого августа в
Они ошиблись.
Небеса рухнули.
Сборник выпороли в печати, а их самих подвергли грубому давлению. Ерофеева и Попова изгнали из Союза писателей. Шестеро других участников пригрозили выходом, если их не восстановят… Выход из союза таких людей может вызвать шок непредсказуемого масштаба. Этот мятеж угрожает всем уровням контроля».
В Москве противники альманаха читали
Не прошло и недели, как 12 августа та же газета опубликовала обращение видных американских литераторов к Союзу писателей СССР. В нем маститые Джон Апдайк, Курт Воннегут, Артур Миллер, Эдвард Олби и Уильям Стайрон выступили в защиту советских собратьев. Эти авторы много издавались в СССР и проходили по разряду «здравомыслящих американцев» и «людей доброй воли». И хотя эти словосочетания к тому времени превратились в пропагандистские штампы, так оно и было. Именно проявляя добрую волю, заморские коллеги требовали возвращения Ерофеева и Попова в Союз писателей.
В газетном изложении послания говорится, что издание «МетрОполя» «знаменовало собой исторический момент в борьбе за свободу литературы в Советском Союзе» и американские писатели надеются, что «отношение к участникам альманаха будет достойным и справедливым». Апдайк, Воннегут, Миллер, Олби и Стайрон протестовали против исключения Виктора Ерофеева и Евгения Попова и выражали «признательность и поддержку популярным писателям — Василию Аксенову, Фазилю Искандеру, Андрею Битову и Белле Ахмадулиной, рискующим карьерой, заявляя о готовности покинуть союз, если в нем не восстановят их коллег». В конце публикации сообщалось, что с момента отправки протеста Уильям Стайрон узнал о двух других литераторах, готовых покинуть СП. Об этом сообщил один из авторов «МетрОполя», которому удалось передать весточку друзьям в США, призывающую американцев, известных в СССР, поднять голос против «реакции советских властей… боящихся свободы слова и против их попыток задушить ее»[150].
Получив послание и прочитав его, в СП струхнули — подумали, что в случае негативного решения по поводу восстановления Попова и Ерофеева пятерка знаменитостей откажется издаваться в СССР. Чтобы сгладить эффект от телеграммы, 19 сентября «Литературная газета» опубликовала статью Феликса Кузнецова «О чем шум?..». Она заметно превосходит размерами заметку в
В редакционной врезке к этому
А далее в статье, выдержанной в тоне поучения, разъяснялось, что «серьезные, думающие люди», какими он считает авторов протеста, «оказались введены в заблуждение пропагандистским шумом и звуковыми эффектами», устроенными вокруг «МетрОполя» подрывными силами. Что это «не укрепляет взаимопонимание между нашими литературами». Что коллеги не в курсе: осуждение альманаха и его создателей «говорит не об отсутствии „свободы слова“, а о наличии художественного вкуса у наших редакторов и издателей». Что напрасно они не верят, что «наша литература — проза, поэзия, драматургия — наполнена напряженнейшими духовными исканиями… об этом, кстати, свидетельствуют переводы на русский язык ваших книг».
Возможно, расчет был на то, что, скажем, Воннегут мог не знать, что изданный в «Иностранной литературе» перевод «Завтрака для чемпионов» изобиловал купюрами…
Что же до Попова и Ерофеева, то строгий наставник указывал наивным собратьям, что «прием в Союз писателей уж настолько внутреннее дело нашего творческого союза, что мы просим дать нам возможность самим определять степень зрелости и творческого потенциала каждого писателя. Еще раз примите мое искреннее уважение».
Далее в постскриптуме следовали фрагменты выступлений Юрия Бондарева, Сергея Наровчатова, Сергея Залыгина и Григория Бакланова в газете «Московский литератор», сведенные в ней вместе с другими суждениями участников заседания в СП в материал под заголовком «Мнение писателей о „Метрополе“: порнография духа»[151]. И, конечно же, разъяснялось, что «пропагандисты… пытаются использовать… „Метрополь“ для облыжных, далеко идущих обвинений в адрес нашей литературы и нашей страны». Кодой звучала надежда, что «те писатели среди авторов „Метрополя“, которые стремятся к подлинной литературе, это уже поняли, а ежели нет, то со временем поймут».
Но телеграмма американцев сработала: начались переговоры о восстановлении изгоев в СП. К работе со строптивцами подключился весомый деятель союза Юрий Верченко — опытный администратор от литературы, 20 лет прослуживший оргсекретарем правления, а до того прошедший крутую аппаратную школу управления творческими людьми. Это о нем писал Михаил Веллер[152]: «Генерал КГБ Юрий Верченко присматривал за этим крикливым кагалом дармоедов, чтоб… соблюдали субординацию», имея в виду под «крикливым кагалом» сонм жадных до ласк власти литераторов. Был ли Юрий Николаевич генералом или нет, мне лично неизвестно, но он, без сомнения, обладал немалым опытом.
Как-то во время переговоров с Поповым и Ерофеевым в его кабинет зашел Георгий Марков[153] (как пишет о нем Ерофеев — безликий начальник всех советских писателей). Полный, тяжелый Верченко резво вскочил и зашумел:
— Вот я и говорю, что ваш «МетрОполь» — это куча говна! Андрей Битов говорил Попову и Ерофееву: «Вот примут вас обратно — первыми людьми станете — знаете все начальство».
Об этом начальстве и его нравах — в частности, о Георгии Маркове — в газете «Культура»[154] впоследствии расскажет Альберт Беляев: «Почти каждый из тех, кто считал себя преданным… „делу партии“, осыпанный почестями и наградами… чувствовал себя недооцененным и обделенным.
…Я был членом президиума Комитета по Ленинским и Государственным премиям СССР. Государственные премии присуждались ежегодно, Ленинские — раз в два года. Претендентов было значительно больше количества премий. <…>
Не забывал о своих интересах и Георгий Марков, руководитель СП СССР и председатель Комитета по Ленинским и Государственным премиям СССР. Когда была опубликована вторая часть его романа „Сибирь“, его тут же выдвинул на соискание Ленинской премии секретариат Союза писателей РСФСР (С. Михалков). Однако положение о премиях предусматривало, что выдвигать произведение… можно лишь спустя год после опубликования… По времени роман Г. Маркова на ближайшее присуждение никак не попадал…
Когда С. Михалкову это разъяснили, он пошел советоваться к Г. Маркову. Но Г. Марков отвел все его сомнения: „Пусть это вас не смущает. Выдвигайте! Если захотят дать премию, то дадут, несмотря ни на какие сроки и ни на какие положения. Такие случаи бывали и раньше. Если же скажут, что надо придерживаться положения о премиях, что ж, комитет перенесет мой роман на следующий срок. Я не обижусь. Такие случаи тоже бывали. Для меня важна поддержка России. Если вы за меня, выдвигайте. Если начальство соблаговолит поддержать меня, оно не будет смотреть на сроки. А если не соблаговолит — что ж, буду знать, как оно меня ценит…“ Комитет конечно же присудил Маркову Ленинскую премию… ЦК КПСС утвердил это решение».
Альберт Андреевич расскажет и об Анатолии Софронове, который вместе с Николаем Грибачевым, Виктором Кочетовым называл себя «автоматчиком партии», чья верность и меткость оплачивались переизданиями, премиями, орденами, званиями, депутатством, членством в ЦК…
Почти три десятка лет провел Софронов на посту главного редактора «Огонька». И многого достиг. Как вдруг вышла незадача — написал пьесу «Малая земля» (вскоре после выхода мемуаров Брежнева). Но пьеса оказалась столь слабой, что по поручению ЦК КПСС Василий Шауро лично вразумлял Софронова.
«Последней каплей» стала публикация в «Огоньке» серии статей об отношениях Маяковского с Лилей Брик и выпуск собрания сочинений поэта, в пятом томе которого эти отношения описывались так, что советская цензура изъяла книгу. ЦК решил убрать Софронова с поста главного редактора «Огонька». Ему предложили уйти на пенсию. Как-никак 72 года, пора. Он взъерошился: «А почему? Я здоров и готов продолжать работать. И потом, мне Черненко[155] обещал — работайте спокойно и сколько сможете».
— Пришла пора решать вопрос. Надо дать дорогу молодым.
— А если я не согласен? Почему вы ко мне так плохо относитесь?
— Вам присвоили звание Героя Социалистического Труда — это плохо? Второе прижизненное собрание сочинений — это плохо? Сколько вы получили за первый том?
— Около тридцати тысяч рублей.
— Значит, за все собрание сочинений вы получите более двухсот тысяч… И вы говорите о плохом к вам отношении?
Софронов понял, что протекции его не спасут, и ушел на покой.
Эти воспоминания Альберта Беляева свидетельствуют о прямой связи литературной бюрократии с бюрократией партийной. Это иллюстрация того, как и ради чего консерваторы в Союзе писателей оберегали идеологию КПСС. А помня о записках по поводу «МетрОполя», направленных Шауро в ЦК, можно ли сомневаться, что люди, подобные Георгию Маркову, громя «МетрОполь», исполняли волю партии? Как свою.
Воля эта состояла в доведении до конца начатых мероприятий. И в отношении Попова с Ерофеевым, и в отношении «ренегата Аксенова», самовольно — экая вражеская наглость — «положившего билет на стол».
Что же касается самого Василия Павловича, то, несмотря на постоянный стресс, он упорно работал. Писал пьесу «Цапля». Причем, как человек уже (почти) не связанный с системой и (почти) не стесненный ее запретами, писал не «в стол», а за границу. И, возможно, уже размышлял над новым романом — книгой о «МетрОполе». История: группа советских фотографов готовит неподцензурный фотоальбом. Название подобающее: «Скажи изюм» — саркастический призыв явить унылую беспомощность — сложить губки трубочкой, пронюнить: ю-ю-ю-ю… Дескать, пока где-то звучит энергичное say cheese, за которым следует пусть не всегда искренняя, но бодрая улыбка, у нас нюнятся нюни, люли и тюти. С понятными результатами. В этих нюнях — вся суть печального бытия заторканного советского человека.
Но светлая метафизика творчества, явленная в романе в тайне фотографии, одолевает железную физику угнетения, представленную в образах преследующих фотохудожников бюрократов из Союза фотографов, а также представителей власти, которые и в постели с женщиной говорят на языке команд и отчетов с примесью комсомольской фени 1970-х, потому что так, «во-первых, Родине больше пользы… а, во-вторых, конечно, материально получается лучше, чем в оргсекторе МГК ВЛКСМ. Судите сами: ставка выше на 52 рэ плюс 60 рэ за звездочки… Плюс!.. 5 рэ 50 коп „оперативных“ на вечер… Ну, если нужно в ресторанчике посидеть…».
Ну а фотографы, творящие в это время свой «Изюм», говорят легко и свободно на простом, веселом и в чем-то даже чуть-чуть чрезмерно поэтическом русском языке: «Вот такая, фля, получается конспирация. Такая флядская навязывается нам игра этой шиздобратией. Охранка рыщет, мировая пресса свищет, тренированные курьеры курсируют. Короче, сегодня вечером надо передать этому парижскому феру штуку „Изюма“, и это сделаешь ты!..»
Речь здесь идет о передаче на Запад как бы фотоальбома (а на самом деле — «МетрОполя»). О попытке подстраховаться: мол, если вы с нами станете делать что-нибудь совсем нехорошее, в мире рванет неслабая культурная бомба. И тряхнет вас, товарищи, не по-детски. И хотя и в этой подстраховке сквозит Удручающая наждачная несвобода, издатели выглядят неизмеримо свободнее надзирателей. И даже друзей, партнеров и покровителей в «странах свободного мира», где ведь, согласитесь, странно корить начальство за попрание прав человека. Особенно — при русских…
Впрочем, не без помощи светлых, если угодно — надмирных сил, побеждают в романе вольные фотографы — их вождь Максим Огородников, его команда и еще один таинственный персонаж — чудесный юноша Вадим Раскладушкин, в котором трудно в какой-то момент не увидеть представителя тех самых сил света… Расскажем, пожалуй (с сокращениями), как всё происходит.
«Утро следующего дня оказалось кристально прозрачным и свежим. За ночь как-то сбалансировалось атмосферное давление, так что можно было… исключить большое число негативных сосудистых реакций, что ведут нередко к принятию дурацких партийных и правительственных решений.
Вадим ехал на велосипеде к Миусской площади и… читал вслух кое-что из молодых стихов Пастернака. „Пью горечь тубероз, небес осенних горечь“…
В Союзе фотографов в этот час начался закрытый секретариат, который должен был подвести итог борьбе боевого отряда „объективов партии“ за сплоченность своих рядов перед лицом очередной провокационной попытки спецслужб Запада. „Изюмовская“ кампания всех уже основательно измочалила. Ну вот, подведем итоги, и — в заслуженные, очень даже заслуженные загранкомандировки!
…Предполагалось одобрение текста статьи „Чужой“ — о предательстве Огородникова. В тексте высказывалось пожелание общественности СФ СССР о привлечении предателя к уголовной ответственности. Далее ожидалось условное исключение из союза всех „изюмовцев“… Из союза, как и из Партии, самому выйти нельзя, как нельзя одной отдельно взятой личности возвыситься над народом!
Едва расселись… как в кабинет вошел светлоглазый человек.
— Я — Вадим Раскладушкин. Разрешите поприсутствовать?
Все секретарские рожи будто поплыли… обращаясь в одно коллективно улыбающееся лицо.
— Нужно ликвидировать всю эту мерзость, которую вы, товарищи… заготовили против честных фотографов.
Все взволнованно загудели. Конечно же, и чем скорее, тем лучше! Всю эту гадость — в корзину! Корзину — в печку! Пепел — в коробку! Коробку — хоть в Мировой океан! Быстро собрали всё подготовленное… Стол очистился, и участники секретариата навалились на него в сторону Вадима Раскладушкина. Какие еще будут предложения?
— Закажите сюда обед, — сказал юноша.
…Окончательный восторг! Если бы все проблемы решались в этом ключе!»
Но то — в Союзе фотографов. А ведь есть еще ГФИ — тайная служба надзора за фотолояльностью. Там идет допрос арестованного фотографа Жеребятникова. При отсутствии, впрочем, унижения достоинства. В прежние времена из-под каждого ногтя уж торчало бы по иголке! А так… «Стоял стул. На нем сидел мощага… Вокруг прогуливались генерал-майор Планщин, майоры Плюбышев и Крость.
— Жеребятников, брали деньги у иностранца по имени Лерой?
— Был грех…
— В каком размере?
— Сто тысяч…
— В какой валюте?
— В монгольских тугриках…
В кабинет тут вошел Вадим Раскладушкин с двумя бутылками массандровского шампанского. Присутствующие ахнули. Чекисты — про себя… Жеребятников — громко.
— Вадька, да как ты сюда попал?
— Через седьмой подъезд…
Генерал схватился за телефонную трубку… Вы, так-вас-рас-так-четырехэтажным, на проходной. Кого это вы пропустили? Вадима Раскладушкина. Товарищ ведь пришел, чтобы… погодите, я записал, вот… чтобы „развеять недоразумения и предрассудки, мешающие нормальной жизни общества“. Генерал, потрясенный, положил трубку.
— А шампанское-то зачем? — мягко спросил он…
— Отметить освобождение… — пояснил Вадим и попросил принести стаканы.
Они смахнули в корзину следственный хлам… Бум. Ура! Стаканы с пузырящейся влагой взлетели в радостном тосте. Эх, хорошо, толи думал, то ли говорил генерал. Вовремя пришел Вадим Раскладушкин. Ведь экая гадость готовилась, уму непостижимо!»
Ну, что ж — так разрешилось дело в ГФИ. Но ведь есть инстанции повыше ГФИ. Скажем, ЦК… Но и туда поспел юноша.«…Хотел с ходу проскочить на велике под арку Спасской башни, да пара огромных ментов обратала его за милую душу. Ты кто таков?
— Да бросьте, ребята… Я ведь… на заседание Политбюро иду…
…Никогда эта дверь прежде не скрипела, а тут чуть пискнула. Вошел скромный и милейший, одетый в стиле „ретро“ — кардиган в оксфордскую клетку, брюки гольф. Сел в углу, сделал жест — продолжайте, продолжайте, товарищи!
Брежнев смотрел на него с опаской. Товарищ у нас тут по какому вопросу?..
— Не волнуйтесь, Леонид Ильич, я только лишь по вопросу „Скажи изюм!“.
Генсек величаво зачмокал. Изюм? Что там у нас с изюмом? Неужели не обмануть Вадима? Хрущева обманул. Дубчека обманул. Картера поцелуем усыпил, даже Андропова ведь в конечном счете запутал… Какой-такой изум, что-то не припомню…
— Не нужно врать, Леонид Ильич, — сказал Раскладушкин и подошел к главному столу государства. Это напомнило захват кабинета министров в октябре 1917 года, но в отличие от Антонова-Овсеенко визитер был вооружен не „маузером“, а улыбкой.
Брежнев застонал. Да ведь дело-то идеологическое, товарищ Раскладушкин… Не может партия пойти на компромисс в идеологическом вопросе…
— А от жестокостей нужно воздерживаться. — Вадим остановился возле секретаря ЦК товарища Тяжелых, заглянул тому в глаза и добавил: — Это ко всем относится.
По большевикам прошло рыданье. Раскрыта была крайняя тайна партии — истинная власть. Ведь именно товарищ Тяжелых с его старушечьим мордальончиком, а вовсе не генсеки… произносил магическую фразу „есть мнение“ в послесталинском ЦК.
— Есть мнение, — заговорил товарищ Тяжелых под взглядом Вадима, — закрыть дело фотоальбома „Скажи изюм!“. Поставить перед сессией Верховного Совета вопрос об отделении искусства от государства.
Брежнев на полсекунды опередил Андропова:
— Я за!»
Вот как хорошо всё выходит в романе. А в финале вообще разыгрывается удивительное: советский народ собирается на Красной площади, творится всеобщая восторженная фото-сессия. А у Вадима Раскпадушкина, ведущего съемку с крыши Исторического музея, за спиной разворачиваются ангельские крылья.
Далеко не так легко обошлось всё в реальности.
Во второй половине августа Юрий Верченко направил авторам альманаха, заявившим о возможном выходе из Союза писателей (почему-то кроме Беллы Ахмадулиной), письмо, в котором упрекал их в гордыне, упрямых попытках противопоставления их издания всей советской прозе и поэзии, в неблагодарности СП СССР, который «неоднократно и заинтересованно помогал вам в творческих и в житейских вопросах… всегда выступал и выступает за разнообразие творческих индивидуальностей, стилей и манер, но… впредь будет объединять на основе добровольности авторов, разделяющих проверенные временем принципы советской литературы…».
А вы неизвестно еще — разделяете ли эти принципы и вообще «занимаетесь политиканством и продолжаете наносить серьезный ущерб своей писательской и гражданской репутации»[156].
Что же касается Ерофеева и Попова, то о них в письме сказано, что «литературное будущее этих начинающих литераторов зависит целиком и полностью от них самих. Решение секретариата СП РСФСР не закрывает им дорогу в литературу, а, напротив, оно ставит их на настоящий литературный путь…».
Продвигаясь по этому пути, Ерофеев и Попов настойчиво добивались отмены решения о своем исключении.
На этом фоне возникли слухи о подготовке второго номера «МетрОполя». «По полученным оперативным данным, отдельные московские литераторы, причастные к изготовлению альманаха „Метрополь“… вынашивают планы осуществить ряд других антиобщественных действий», — говорится в записке Комитета государственной безопасности СССР, направленной в ЦК КПСС 24 июня 1979 года[157]. И далее там же: «Относительно дальнейших замыслов Аксенов в категорической форме заявил: „В Союзе писателей я не останусь“; Попов предложил „восстать в книгах“.
Отдельные участники „Метрополя“ (Аксенов, Битов, Попов, Вахтин и некоторые другие) высказываются за подготовку „сборника № 2“, Аксенов при этом выразил мнение, что дальнейшие действия по подготовке второго номера альманаха надо определить с учетом опыта распространения первого выпуска… принимая во внимание… меры, применяемые к участникам со стороны „властей“.
Сообщается в порядке информации.
Председатель комитета
Ю. Андропов».
На документе резолюция: «Тов. Шауро. Тов. Тяжельников[158]. Прошу обратить внимание. М. Суслов. 26.06.».
То есть, во-первых, речь шла о том, что КГБ постоянно мониторил оперативные данные по «делу „МетрОполя“» — сообщения агентуры в писательской среде. Во-вторых, о том, чтобы встревожить ЦК возможностью издания «сборника № 2» — новой «диверсии». И, в-третьих, о том, чтобы создать образ Аксенова (а он в записке упоминается чаще всех и с наиболее негативными и содержательными репликами) как лидера проекта — главного врага.
Между тем переговоры с Ерофеевым и Поповым шли всё лето и осень. Попов рассказывает: «Нас исключили весной, а восстановить должны были в декабре.
Заседание секретариата СП РСФСР было назначено на 21 декабря 1979 года в Хамовниках — в здании на Комсомольском проспекте, где и сейчас расположен Союз писателей России. Ситуация должна была разрешиться. Но мы настаивали на восстановлении без нашего участия в секретариате СП РСФСР и на особой форме заявления. Нас склоняли к
Потом кое-кто говорил, что нас не исключили, а отозвали решение о принятии. Нет. Исключили. И объясняли, что поскольку мнения видных деятелей союза, включая секретарей, по нашему поводу не совпадают, для восстановления надо пройти через секретариат. А мы предвидели, что там нам придется туго.
Сначала переговоры шли с Кузнецовым. Но зашли в тупик. Он не хотел нашего восстановления. Потом — с Юрием Верченко. Мы говорили: давайте так — выгнали заочно, заочно и восстанавливайте. Идет время. И вот дома у меня звонит телефон. Нас всё-таки тащат на секретариат. Мы идем к Верченко, с которым вели переговоры. Он нас не принимает. Мы сидим полчаса, час. Вдруг появляется запыхавшийся Сергей Михалков — глава Союза писателей СССР. Дальше диалог был… Я вам говорю дословно…
— Х…ли пришли?
— Потому что ная…вают.
— Кто ная…вает?
— Не знаем кто, а только — вызывают.
— Я вам говорю, что завтра вас в союзе восстановят. Только не будьте му…ками. А к Верченко не ходите. Приходите завтра, всё будет в порядке[159].
Ну, в порядке, так в порядке. Это было 20 декабря. Мы поехали в Красную Пахру к Аксенову. Передали ему этот красочный диалог. Он развел руками, сказал: „Наверное, вас завтра восстановят. Это прекрасно. Огромная победа. Тогда — всё. Жить будем здесь“.
Он говорил совершенно искренне. Жить хотел здесь! Я готов в любом суде свидетельствовать: Аксенов уезжать не желал. Думаю, мой рассказ это подтверждает».
Но что же случилось на секретариате СП РСФСР?
Попов продолжает: «Состоялось судилище. Самое настоящее. Мы зашли вдвоем, но нам велели заходить отдельно. Сперва меня минут 40 допрашивали. Потом — Ерофеева. А после — уже обоим — заявили, что мы ничего не поняли, не раскаялись и тут нам делать нечего. Плюс сослались на Даниила Гранина, который якобы сказал: „Рано еще, нечего им делать в Союзе писателей“.
Меня восхитил Михалков. После всего позвал и сказал шепотом: „Ребят, я сделал всё, что мог, но против меня было 40 человек“… Премудрый».
В «Хорошем Сталине» есть подробности: «То, что нас вызвали порознь, никакого значения не имело. Мы потом смеялись: отвечали абсолютно одинаково. Они хотели свалить всё на Аксенова. Кто вас подвигнул на это дело? Попов сказал:
— Я не шкаф, чтобы меня двигать».
Ерофеев вспоминает, что, когда вошел, его сразу спросили: считаете ли вы, что участвовали в антисоветской акции? «Было нетрудно сообразить, что шьется дело: антисоветская акция — это 70-я статья Уголовного кодекса РСФСР (от пяти до семи лет строгого режима). А не прием в Союз писателей. Кузнецов сказал:
— Как же вы, пишущий про всяких Сартров, не понимали, что вас используют как пешку в большой политической игре!
Совсем иначе вели себя Расул Гамзатов, Мустай Карим, Давид Кугультинов. В какой-то момент Гамзатов встал и сказал Попову:
— Хорошо отвечаешь! Принять их, и всё!»
И снова Попов: «Это было 21 декабря[160] 79-го года…[161] И вот мы, злые как собаки, идем с Ерофеевым, а на пороге союза нас ждет журналист
Аксенов сразу покинул СП. А назавтра вышла газета с его портретом и заголовком «Советский писатель заявляет: он покинет союз в знак протеста». Крег писал, что «Василий Аксенов, которого считают лучшим советским писателем послевоенной поры, выходит из официального Союза писателей, протестуя против отказа в восстановлении двух молодых авторов, исключенных за выступление против цензуры.
Он сообщил, что не знает, последуют ли за ним другие авторы „Метрополя“.
Руководитель Союза писателей России Сергей Михалков обещал, что Евгения Попова и Виктора Ерофеева восстановят, но 45 членов секретариата разочаровали их.
— Это было поражением здравомыслящих сил в Союзе писателей, на которые мы рассчитывали, — сообщил Виктор Ерофеев. — Мы очень благодарны шести коллегам, готовым покинуть союз в знак солидарности. А также американским писателям, выступившим в нашу поддержку.
Другим участникам „Метрополя“ пришлось пострадать от запретов на выход их книг, потери доходов от переводов и гонораров. Включая Аксенова, который заявил, что его побуждают к решению об эмиграции».
На фоне этих перипетий как-то слегка потерялась личная жизнь писателя Аксенова. Между тем и она была не простой.
Примерно за год до описываемых событий скончался муж Майи — Роман Кармен. Она до конца ухаживала за ним. Но он ушел, и вместе с ним — препятствие, не позволявшее ей быть с Аксеновым.
Но у Василия Павловича имелась семья. И его жена Кира отнюдь не была готова к разводу. Беседы с ней убеждают: она самоотверженно любила мужа. И, — хотя трудно сказать, что в большей степени движет женщиной, которую фактически покинул супруг — стремление защитить его или желание сохранить, — ее мотивы, при всей их серьезности, мы, пожалуй, обсуждать не станем. Для нас важно, что Кира Людвиговна сделала всё, что было в ее силах, чтобы оградить Аксенова от преследований, не дать изгнать из страны, не допустить покушения на жизнь. Видимо, она не очень хорошо представляла себе, что она в состоянии сделать. Возможно, ее поступки диктовались болью, отчаянием и надеждой, что всё еще можно исправить. Но она, прекрасно зная об отношениях мужа с другой женщиной, тем не менее старалась поддержать его. Быть рядом в самое трудное время, когда Аксенов покинул СП, лишившись возможности издаваться и присутствовать в творческой жизни страны, когда покрышки его «Волги» прокалывали, телефон прослушивали и всё меньше становилось звонящих, смыкалось кольцо неузнавания. Поэты, посвящавшие ему стихи, снимали посвящения…
Кира Людвиговна не раз звонила полковнику Карповичу, кричала в трубку: «Как вы смеете выдавливать его из страны?! А еще говорите, что боретесь за кадры!»
— Вася никогда не был политическим диссидентом, — рассказывала мне она. — Но всё его поведение как видного писателя, публичной фигуры — было вызовом властям. В той мере, в какой было вызовом самостоятельное мнение и независимые поступки. Аксенов оказался слишком свободной и яркой личностью на фоне торжествующей серости. Да еще и личностью бунтующей. Они хотели добиться его отъезда. В какой-то момент мои звонки вывели их из себя, терпение лопнуло, и на Красноармейскую отправили скорую помощь с психиатром и санитарами.
Вошел импозантный доктор в пыжиковой шапке и предложил Кире Людвиговне проследовать в больницу. Та наотрез отказалась, заявив, что здорова и у нее всё в порядке. Врач удалился, а Кира с горечью поняла, что ее звонки ничего не изменят. И со здоровьем у нее вовсе не было всё в порядке. Измотана она была до предела, до грани нервного срыва… Жгла на кухне в медных тазах советский самиздат и заграничные запретные книги. Постоянно ощущала внимание органов и их участие в жизни семьи, которую всё еще считала общей с Аксеновым.
— Они были очень заинтересованы в том, чтобы мы скорее развелись, — говорила Кира Людвиговна. — Думали, что тогда Аксенов с Майей скорее уедут. А я так выступила в суде, что нам дали три месяца на раздумье. Но через две недели вышло постановление о разводе. Причем судья был другой…
Аксенов стал, что называется, свободен… И значит, волен самоопределиться с местом жительства. Они с Майей поселились на даче Кармена в Красной Пахре. Нередко наезжали в Москву — в большую, хоть и темноватую, квартиру в Котельниках. Возникла странная ситуация — знаменитый и любимый многими писатель Аксенов перестал быть советским. Утратил возможность напечатать в СССР хотя бы строчку. А за границей — в Италии, в издательстве
— Насколько я понимаю, — делилась со мной Кира Людвиговна, — тогда у Василия Павловича было еще несколько встреч с людьми из органов и Союза писателей, и, возможно, ему предложили выбор: либо отказаться от издания «Ожога» и, тихо сидя в Москве, писать в стол, либо, расторгнув «джентльменское соглашение» с органами, ждать отправки «на Восток». Или — уехать «на Запад».
Разговоры эти, видимо, начались до злополучного секретариата СП РСФСР, на котором Ерофеева и Попова не восстановили в союзе.
Виктор Ерофеев пишет об этом так: «Незабвенный сентябрь осыпался в Красной Пахре. Я приехал к Юрию Трифонову на дачу. Мы собрались пить чай, но приехал Аксенов. В основном обращаясь к Трифонову, он сказал, что встретился с Кузнецовым. Вот это новость! Возможность примирения? Кузнецов согласился на то, чтобы отпустить всю его семью за границу. Дело выглядело так, будто это аксеновская победа. Они стояли на террасе — большие взрослые писатели…
— Это победа Кузнецова, — сказал я. — Он везде кричал, что ты свалишь.
— Но если вас восстановят, я не поеду. <…>
Эта тема стала главной темой осени. Майя учила нас с Поповым мужеству».
Не меньшее мужество было нужно и Аксенову.
Поддержка Юрия Трифонова и Булата Окуджавы (так и не снявшего посвящение Аксенову в своей песне «Исторический роман») была отдушиной, но свинцовое бремя несправедливости продолжало давить на писателя. Именно в нем власть видела зачинщика крамолы. Именно его было удобнее всего представить заправилой антисоветской операции. Его сделали главным объектом травли и морального террора.
«Чтобы уехать из страны, „МетрОполь“ Аксенову был не нужен, — утверждает Попов. — Он был достаточно известен на Западе. Но это не аргумент. А аргумент какой. Меня и Ерофеева должны были восстановить в союзе писателей в 79-м году». Если бы это случилось, он бы остался. Если бы позволили.
Но — не случилось. И — не позволили.
Итак, Аксенов, покинув Союз писателей, утратил право легально публиковаться в родной стране. Это было, по сути, казнью. Но Василий Павлович был сильным. Слово «сила» жило в его имени. И он не спешил сдаваться. Но была и внешняя — недобрая — сила, и она Василия месила и косила…
Моральный террор делал свое дело. Нормой стали не только намеки на то, что он здесь чужой и должен покинуть страну, но и понукания ехать поскорее. Некоторые знакомые, зазвав на чашку чаю, якобы недоумевали: «Что-то ты очень медленно уезжаешь. Ты бы лучше побыстрее отсюда уезжал, а то ведь всякое ненароком может случиться, и знаешь, будь поосторожнее за рулем».
А между тем жизнь продолжается. Василий и Майя живут в Красной Пахре, встречаются с друзьями; а их, несмотря на неудобство этой дружбы, остается немало — эпоха, когда знакомые, увидев на улице опального Зощенко, отворачивались или переходили на другую сторону, прошла. Среди оставшихся верными дружбе не только «метропольцы», Трифонов и Окуджава, но и многие другие писатели, актеры, режиссеры… Майя и Василий путешествуют. По Подмосковью, в Казань, где жил его отец… И хотя Владимирка не была лучшей из дорог, добраться до родного города и вернуться в столицу не составляло труда.
Однажды, навестив Павла Васильевича — бывшего зэка, верного ленинца и орденоносца (у которого незадолго до того партийцы и сотрудники КГБ выманили как бы на сохранение единственный экземпляр мемуаров о годах сталинского террора и его заключения), Василий и Майя тронулись в обратный путь. То, что случилось с ними в дороге, стало, видимо, одним из главных факторов, побудивших их покинуть страну.
Смеркалось. Они мчались в Москву. Чтобы Василий не спал, Майя постоянно меняла кассеты в магнитофоне. Изредка на узком шоссе попадались встречные машины, порой на мгновение ослепляя фарами. Внезапно, прямо впереди в сумерках возникли очертания медленно движущейся, но постоянно ускоряющейся темной громады.
Чем она ближе, тем четче становились ее очертания — КрАЗ, подфарники еле теплятся. На изгибе трассы за ним видны силуэты трех мотоциклистов. Когда их разделяет не более 100 метров, КрАЗ неожиданно пересекает осевую, скатывается на встречную полосу и разом врубает весь свет. Вспышка превращает летящее навстречу пространство в непроглядную стену. В ту же секунду свет врубают мотоциклисты. Дорога полностью блокирована. Аксенов почти ослеплен. Секунды летят, скорость встречных растет, но время замедляется, давая осознать смертельную неизбежность столкновения с убойной глыбой грохочущего железа.
Всё, что случилось в следующие мгновения, Аксенов описывал несколько раз и дважды — в книгах. Так что мешает нам обратиться к свидетельству участника событий?
«…При попытке отвернуть его ждал глубокий кювет и серия беспомощных кульбитов с ударом о сосны и взрывом бака. И вдруг, словно кто-то другой взял руль. Он мощно выкрутил до отказа направо. Вслед за этим мгновенно выкрутил влево и до конца утопил педаль газа. С неистовым ревом по самой кромке кювета „Лада“ проскочила мимо КрАЗа. Не менее километра его машина неслась на своей максимальной, если не сверхмаксимальной скорости. Потом он стал тормозить, выехал на асфальт и остановился. Они отчетливо увидели, как КрАЗ с его эскортом без всяких огней уходят за поворот».
В магнитофоне ровно звучал голос Армстронга:
Так выглядит сцена спасения в книге «Таинственная страсть».
В романе «Скажи изюм» она описана не совсем так: «За темной массой грузовика обнаружились еще две, одна за другой одиночные фары. Похоже, что там идут два мотоцикла… Свет четырех фар слепил глаза… Вдруг произошло невероятное. За сто метров до встречи грузовик скатился на левую полосу и пошел… прямо в лоб. Мотоциклы остались на своей полосе. Показалось, что вспыхнули еще какие-то дополнительные фары… Все расплылось в глазах, а потом как бы обрело объем. Огромный сверкающий шар летел прямо на него, слева летели два шара поменьше. Послышался вопль „Конец!“…
Ничего не понимая, он выкрутил руль до отказа вправо и тут же стал мощно выкручивать влево, одновременно выжимая до упора педаль акселератора. Взревев, его „Волга“ проскочила по самому краю глубокого кювета…»
Оставим в покое другие версии этой истории, звучавшие в устных рассказах и интервью писателя. Во-первых, они очень схожи, а во-вторых, их правдивость не вызывает сомнений. Ну, разве что у тех, кто сомневается во всем. Отметим попутно, что разночтения в романах касаются марок автомобилей и маршрута следования пары. В «Страсти» она возвращается по Владимирке из города Булгары (читай Казань), а в «Изюме» — по Симферопольскому шоссе с Кавказа. Причем в первой версии — на легких «жигулях», а во второй — на солидной «Волге».
Возможно, эти детали не слишком важны, однако они указывают на аспект, связанный с точностью информации об эпизодах жизни Аксенова. Особенно, когда речь идет о художественных повествованиях, в которых прототипом героя в той или иной мере является он сам. Важно помнить, что «в мемуарах работает ложная память». Так считал Аксенов. И потому так их и не написал. «Я многое использую в беллетристике. Но всё, что берется из жизни, перелопачивается. Боюсь наврать с три короба. Люди же всему верят…»[162] Точно удостоверить событие биографии как факт может только документ. Да и может ли? Мало ли мы знаем подчищенных протоколов, фальшивых мандатов, подправленных фото? Однако и без документов, подтверждающих или опровергающих факт покушения на Василия Аксенова, нет оснований подозревать, что мы столкнулись с художественным вымыслом.
Итак, со слов самого Аксенова известно, что атака на него произошла на шоссе во Владимирской области (как в «Страсти»), но ездил он уже на «Волге» (как в «Изюме»). «Волга» была зеленой. С надписью на заднем стекле «
Да уж. Жизнь изобиловала смешными случаями. Но рядом всё время висела угроза. А после случая на шоссе — и угроза жизни, своей и близких. Этого достаточно, чтобы покинуть опасную зону. Особенно, если видишь, что силы неравны, а жертвовать собой еще рано.
И всё же отъезд Аксенова долго был под вопросом. Арканов рассказывает, что на обращенные к нему вопросы: когда? когда? — он отвечал: никуда Вася не уедет!
— И сейчас, — вспоминает он, — у меня нет оснований думать, что он «построил» «МетрОполь» под себя. Наоборот, возможность эмиграции в разговорах Вася всячески отрицал. Больше того, говорил: «Нужно изо всех сил существовать здесь».
И пытался существовать. Было где. По нынешним меркам дом в Красной Пахре не слишком велик. Тогда же он казался огромным. Еще и флигель имелся отапливаемый. Жить в нем Аксенов и предложил Попову. Осенью 1979-го квартиру покойной мамы отобрали. Евгений поскитался-поскитался, поснимал углы, и Василий и Майя, глядя на его неустройство, позвали Попова к себе. В Пахру. Во флигель. Временно. Так и зажили: они — в доме, он — во флигеле. И прожили всю зиму 1979/80 года.
Аксенов закончил пьесу «Цапля» — романтическую историю об удивительной польской девушке, вдруг превратившейся в необъятную любовь опытного и циничного мужчины. Своего рода прибалтийскую версию чеховской «Чайки».
Цапля. Девушка. Мокрая болонья плащичка. Коленки торчат. Тянет не в Москву, а напротив… Бедная, слабая, своим полетом она освобождает, вдыхает страсть, но и вбирает в себя очнувшуюся силу героя — изможденного суетой, но лелеющего повадки светского советского самца — международника Ивана Моногамова. И он решается на Любовь. Но — схвачен с поличным. Уличен. Разоблачен и отвергнут народом пансионата «Швейник». Компашкой пустобрехов и притвор. Включая жену Степаниду. Впрочем, в первую очередь — женой: той, что из прекрасной, любящей и нежно любимой феи превратилась в партейного тюремщика и семейного Кербера. В Степаниду Власовну[164]. А ему-то ведь только и хотелось — слышать ночные крики птицы-юности — хоть на аэродроме в Дакаре, хоть на диком бреге Амазонки, хоть на пустынном пляже Биг Сур.
Но всё. Отныне он невыездной. Хана, кранты, товарищ Моногамов. Стоит ли удивляться, что по-чеховски меткое настенное ружьецо, несмотря на все мольбы, палит прямо в сердце немыслимой Цапли. Убита.
Я Цапля! Я Цапля!! Я Цапля!!! Кричи — не кричи. Убита. Всё.
Но Аксенов не был бы Аксеновым, если бы в финале из кучи растерзанных перьев не встала прекрасная птица с яйцом под крылом. И не прошептала: эй, россиянин, жди…
Когда-то в романе «Ожог», а глядишь — и в жизни, в театре «Современник» Олег Табаков, убегая играть буфетчицу в спектакле «Всё на продажу» и водружая на место ватную грудь, осведомлялся у героя: ну, что, старичок — «Цапля» наша? А тот гундел: да не написана еще… Теперь написана. Но летать ей не в «Современнике», а в Париже. «Цаплю» напечатал «Континент». Аксенов узнал об этом в Москве. Накупил шампанского, погрузил в багажник и помчался в метель. Вот и Пахра. По аллее идет человече. Пурга. Тулуп. Борода. Попов. Ослеплен светом фар.
— Ты куда?
— Я в кино.
— Поехали праздновать! Пьеса вышла.
Аксенов тогда почти не пил спиртного. Но по такому поводу хлебнул шампанского. И Попов увидал его прежнего, о котором столько слышал. Он искрился, горел, парил… Подвыпив, пошли к Трифонову. Хмель уходил. Майя нервничала, спрашивала Юрия: «Ты будешь его защищать?» Трифонов засмеялся: «Меня бы кто защитил…»
Новый год справляли сначала дома, потом в гостях, там и Высоцкий был, пел… Провели полночи с Владимиром, и он уехал в Москву на машине. Утром узнали — разбился, авария. Никто не знал, что он на наркотиках…
Когда Василий и Майя уезжали путешествовать — в большом доме оставляли Попова. И вот как-то просыпается он… Мороз и солнце, хозяева в отъезде… И тут здрасьте-пжалста, Евгений Анатольич! С вами говорят из КГБ по Москве и Московской области. Вот такой звоночек. Это — вторая встреча Попова с КГБ. Первая была в 16 лет.
Это — важно. Ибо проливает дополнительный свет на истоки «МетрОполя» и на дружбу Аксенова с Поповым. Он рассказывал эту историю так:
«Я жил в Красноярске. Было мне 16. Хотел писать прозу. И мы с друзьями издали журнал. Машинописный. Чисто литературный. Провинциальный вариант „Юности“. В шести экземплярах. С обложкой, с адресами участников. С эпиграфами из Евтушенко: „Свежести! Свежести! Хочется свежести!“ и Окуджавы „А мы рукой на прошлое — вранье, а мы с надеждой в будущее — свет!“. Не знали, что „самиздат“».
Из участников этого журнала, как писатель состоялся Эдуард Русаков, по мнению Евгения Попова, — один из лучших в стране. Они дружат.
Крамолы в журнале не было. Если не считать статьи Попова «Культ личности и звездный билет». Давай, мол, свободу! — тогда будет правильно. А у Русакова была статья о Пастернаке… Но собрался горком комсомола. Бетонщики с Красноярской ГЭС ругали их страшно. За то, что нет в журнале ни Титова, ни Гагарина, ни лихого ворога татарина. Попова — вон из комсомола. А он и раньше в нем не состоял. И ушел веселый…
И вызвали его в красноярскую «Лубянку». То ли из-за журнала, то ли из-за чего еще… Осудил, говорят, вас комсомол. Что, говорят, думаешь делать? Куда поступать?
— Никуда поступать, — говорит, — не собираюсь. На завод пойду, поварюсь в рабочем классе, в трудовом котле.
— Ну, ладно. Иди.
А он пиджак схватил, да прямо к поезду. С аттестатом в Москву. В Литинститут.
Тот журнал красноярский был предтечей «МетрОполя». А «МетрОполь» предварял «Каталог Клуба беллетристов». То есть встреча Попова с Аксеновым была по делу, Евгений для «МетрОполя» не случайный человек…
«
А я его спросил: я что — слабоумный, по-вашему? Я, наверно, радоваться должен, что меня выгнали на х… р из Союза писателей и теперь не печатают. Меня в сумасшедший дом надо бы, если б я этому радовался. Похихикали. „Уезжать-то не собираетесь?“ — „Не собираюсь, если вас
Еще была недавно купленная Аксеновым дача в Переделкине. Там и сыграли их с Майей свадьбу. 30 мая 1980 года.
Дача Евтушенко была через несколько домов. Узнав о торжествах, Евгений Александрович объявил: еду в Москву. Не хочу слушать пьяных воплей с дачи Аксенова.
Свидетелями в ЗАГСе были Ахмадулина и Мессерер. Когда приехали на дачу, они — поэтесса и художник — выставили на улицу стулья и выложили на них свадебные подарки. Какой-то винтажный шарф, антикварное платье какое-то… Писатели, проходившие мимо, дивились: что за стулья, что за платье?.. Привыкли-то к другому…
Печали, грусти, скрежета зубовного не было в помине. По словам Попова, на свадьбе, изрядно выпив, играли в футбол, плясали, бегали, резвились, матерились… Окружающие советские литераторы глядели на это с ужасом: им казалось, гости Аксенова должны были в отчаянии голову пеплом посыпать. А они бухают, под газом в футбол гоняют, толпу народа собирают, автомобили по обочине…
«…Евтушенко, пожалуй, был прав, — рассуждает Попов. — Вышла немалая пьянка. С драмами, воплями, какими-то побегами, истериками, может, и с драками…»
Но торжества — торжествами, гулянки — гулянками, а была и литературная жизнь. Только теперь — другая, не клубная.
Говорят, жил в ту пору в столице человек — Саша Кривомазов. Физик… Насчет фамилии не вполне уверен, но для нас важно другое — он устраивал домашние читки. Тогда много где читали, но у него — именно андеграунд. И однажды Саша попросил Попова узнать: не согласится ли и Аксенов почитать у него в Орехово-Борисове. Как-то там читал Попов. И пришла милиция. Она постоянно приходила. И никого это особо не удивило. Одни пришли, другие сидят, слушают. Только какая-то нервная дама вскрикнула: «Ах! Вы не имеете права! Документы покажите!» Те показали. Малость послушали. Да и пошли себе. Служба такая. Время такое…
Аксенов согласился. Поехал и попал в чудовищную пробку. Кое-как пробрался к тротуару, добежал до телефона-автомата, звонит: «Опаздываю на полтора часа». А те ему: «О'кей, ждем». И ждали терпеливо два с лишним часа. А потом примерно столько же слушали. Аксенов вернулся глубокой ночью. Разбудил Попова: «Эх, хорошие ребята!»
Странное время. Все (или почти все) какие-то бесшабашные, безбашенные, наивные… Саша этот все чтения записывал на пленку. И собрал уникальный, потрясающий аудиоархив, плюс архив рукописей — поскромнее. Как-то Попов его спросил: «Ты где всё это держишь?» А он: «Дома». Попов: «Ты в своем уме? Тебя же обыщут и всё». А Саша: «Я ж ничего не нарушаю». Попов: «Я бы на твоем месте унес».
Саша потом Попова благодарил: «Женя, спасибо. Я всё унес к дяде. А через неделю пришли. Только дома ничего уже не было».
Тогдашний детективно-репрессивный напряг вокруг культуры до сих пор изумляет Попова. Зачем и кому он был нужен? Он разводит руками: «До сих пор не понимаю: почему меня исключили из СП? Наверное, потому что коммунисты идиоты. Я считаю — и писал об этом, — что если бы они не ссорились с писателями, художниками, режиссерами, если б не расплевались с интеллигенцией, то, может, еще бы сто лет продержались.
Я дружу с венгерским писателем Петером Эстерхази. Он там знаменит так же, как Аксенов был у нас в 60-е годы. И в 1984-м он написал книгу под названием „Производственный роман“ — пародию на венгерскую жизнь. Издали. Когда? В 84-м. Где? В Будапеште. Как? У нас за такое исключали — там же издевательство неприкрытое над парткомом…
Впрочем, „Малую венгерскую порнографию“ он был вынужден издавать в Вене. А Малая Венгерская Порнография — МВП — это на мадьярском не что иное, как аббревиатура названия их компартии.
— И что, — спрашиваю, — тебе за это было?
— Ничего, — отвечает, — Женя, мне за это не было. Я же писатель, художник — я смеялся над строем, но не выступал против него…
Вот бы и наши помнили эту заповедь: кто не против вас, тот за вас. Мы, делая „МетрОполь“, верили, что есть шанс это объяснить. Но не вышло.
У художников их автономный „горсовет“ состоялся. А у писателей — нет. Может, потому что СП был ближе к партии? И к карательным органам. Ведь чтобы быть художником, надо уметь рисовать. Кого хочешь художником не назовешь, не назначишь и на важных постах в союзе не разместишь. А писателем кого хочешь можно объявить. Все грамотные. Потому на ключевые места и ставили… идейных борцов.
Мне говорили жители писательского кооператива в Безбожном (Протопоповском) переулке, что жена Кузнецова, гуляя с собачкой, делилась: „И что это Феликс волнуется, что его снимут? Снимут и ладно… У нас ведь уже всё есть: и квартира, и дача“.
Когда потом мы с Ерофеевым спрашивали: зачем нас исключили? Некоторые — как бы лучше сказать? — вменяемые люди говорили: ошиблись, не надо было. Но кто-то хотел преподать урок „молодым“… Не вышло.
Кстати многие эмигранты сперва не приняли „МетрОполь“ всерьез — решили, что это богемная выходка. Но когда начались гонения, мнение изменили. И сделали рекламу и альманаху, и нам. Хотя, по совести говоря, меня бы просто устроило, если б альманах вышел. Стал литературным фактом. Он бы не затерялся как „Калужские страницы“. Да, диссиденты объявили бы нас конформистами. И что? Участвовали-то не одни подпольщики, но и Ахмадулина и Вознесенский… И Аксенов был официальным автором.
Короче, становилось ясно, что кампания против нас — пустое сотрясение воздуха. И в союзе были прагматичные люди. Они говорили: давайте их восстановим, а скандал закончим; теперь ребята будут сидеть смирно, спокойно писать… Не идиоты же. То есть предлагали выход, который устроил бы многих. Но их не слушали».
Не уверен, что и впрямь, что хотели, то и делали. Ведь удар-то по нервам вышел ого-го какой. И его пришлось держать. Постоянно. Порой это влекло за собой эксцессы. Как-то Попов с приятелем крепко выпили в ЦДЛ. После закрытия заведения пошли на остановку такси. Там некий ныне покойный член союза поинтересовался: «Ну, как дела?» А дней за пять до того он выступал с речью: «Я возмущен текстом Попова в „МетрОполе“! Он позорит наше поколение!» Теперь же мирно, по-товарищески спросил: как дела, мол? Ну, Попов развернулся и… началась неслабая драка.
После на секретариате обсуждали: вот, говорят, надо бы восстановить Женю Попова в союзе-то, а он напился, подрался, кричал «красные фашисты»…
Попов поведал эту историю Аксенову. Тот спросил: «А где это было?»
— На остановке такси.
— А во сколько?
— После одиннадцати.
— А точнее?
— Ну, минут в двадцать двенадцатого.
Аксенов: «Я на этом месте дрался не меньше десяти раз. И примерно в это самое время. Это же час закрытия ресторана. Само собой, поддатые писатели идут на остановку. А где ж им еще выяснять отношения?»
Ну, они и выяснили. Там стоял некий видный литератор с тремя красотками в богатых шубах. У одной дамочки раскрылось декольте и наружу выскочила удивленная титька… Попов-то хоть и дрался, а внимание обратил… Потом бойцов разняли. Потом они помирились. Попов первым позвонил писателю: «Я вообще-то неправ был. Человека живого бить нельзя. Но ты тоже хорош — зачем спрашиваешь, как мои дела, если знаешь, что хреново?» Ну, встретились они. Ну, выпили коньяку. И писатель тот побитый приник эдак к Попову и говорит: «Эх, тяжело тебе, Женя, в „МетрОполе“».
— Почему? — вопросил удивленный Попов.
— Ну, ты ж полукровка.
— Что значит — полукровка?
— Ты же только наполовину еврей…
Анекдот. Он и впрямь думал, что все авторы альманаха — евреи. И с этим связана вся затея. Что тут скажешь? Пришлось объяснять: «Милый, если б был я евреем, то давно бы уже жил в Израиле, в Святой земле, на родине. А я вот здесь живу…»
Так он и жил на родине героев… А герои звонили ему по ночам пьяные: «Ты, сука, — кричат, — Шукшина жидам продал за мацу!» Тем временем писатель, с которым вышла драка, подал донос на поэта Цыбина, где сообщал, что ожидал такси, как вдруг явились хулиганы и один из громил — двухметрового роста и сионистской внешности — избивал его, крича «красные фашисты». А бывший рядом Цыбин никак не реагировал. А когда избиение закончилось, сказал: «Так тебе и надо». Через пару дней Попов в ЦДЛ встретил Цыбина, с которым знаком не был. Тот молча пожал ему руку.
А Аксенова пригласили читать лекции в Мичиганском университете в Анн-Арборе. И разрешение на выезд он получил куда легче, чем на визит в Калифорнию. Начались прощания.
В июле 1980 года — за неделю до отъезда из СССР, жарким безоблачным днем Василий и Майя приехали в Абрамцево попрощаться с Юрием Казаковым. Его солидный старый дом — венец литературных заработков — стоял среди большого запущенного сада.
Юрий Павлович спал, а матушка его Устинья Андреевна сидела на веранде то ли с шитьем, то ли с вышивкой. «Юрочка стал слаб, — сказала она, — подолгу спит… Повремените с полчасика, а потом уж я его разбужу».
Но Казаков проснулся, вышел, подтягивая джинсы, буркнул «Привет!» и исчез в густых травах и кустах своего сада. Временами он выныривал из этого буйного благоухания с раздутыми ноздрями и опять исчезал. И, наконец, вышел с огромным букетом георгинов. Он собрал их для Майи. Больше они не виделись.
Как вспоминает литературный агент Аксенова, поэт и тонкий ценитель искусств Виктор Есипов, Майя и Василий не забыли заехать и в Малеевку, к Галине Балтер, в ее бревенчатый терем близ тамошнего Дома творчества. Все собравшиеся понимали, что хотя друзья отбывают с советскими паспортами, это надолго, а может, и навсегда.
Но их настроение не было мрачным. Мытарства последних месяцев, до окончания которых остались считаные дни, настолько измотали их, что отъезд казался избавлением.
Погожее утро. 22 июля 1980 года. Шереметьево-2. Закончена посадка на рейс
Попов щелкал «Сменой». Вышло плохо, но всё же видно. Контроль пройден. С близкими прощается Майя. Алена — ее дочь — тоже прощается. А Аксенов сидит, задумался. Тут Попов его и снял.
Перед Олимпиадой страну покидали многие. В аэропорт приезжали ватагами. Прощаясь, обнимались, плакали, целовались… Потом провожающие отправлялись пьянствовать… Расставались-то ведь навечно. Почти никто не надеялся когда-нибудь еще увидеть отбывающих. Мало кто всерьез воспринимал слова Гладилина: «…Зачем вы устраиваете похороны? Жизнь длинная, может, еще увидимся?» Никто не ждал, что скоро грянет буря… До самых до окраин стоял студень застоя.
Но жизнь оказалась длинной…
Однажды, в 2004 году, после выступления Василия Павловича в клубе «Дума», я спросил: отчего в его книгах так много островов?
Кусочек земли на Волге, где посреди грохочущей чугуном и железом советской стройки укрылся сияющий тихими лампадами таинственный Свияжск… И утес на Гудзоне, где вздымаются отроги Нью-Йорка — остров Манхэттен… И Корсика, как хранилище невероятных возможностей человека, как символ вечной победы своего знаменитого сына, но и как тень Святой Елены… И Западный Берлин, отгороженный от мира бетонным валом красного потопа, приграничный, но обитаемый, веселый и свободный… И уютный архипелаг Большие Эмпиреи, не будь которого — юному герою Гене Стратофонтову некого и нечего было бы спасать… И Кукушкины острова, такие далекие, что, читая «Кесарево свечение», порой чувствуешь: они-то и есть (отчасти) та самая подкожная сердцевина России. И ликующий Ки Уэст, где всюду витает дух праздника, что всегда с тобой и с которым не до конца ясно: что лучше — иметь его или не иметь?.. Не говоря уже об удивительном острове Крым, превращенном автором в приют своей мечты о будущей России, которая богаче, веселее, свободнее Америки.
Аксенов отшутился: наверное, в этом есть что-то детское… В юности многие из нас мечтают о городах и странах, о морях и океанах, о новых просторах, о каких-то неведомых местах, ну и, само собой, об островах…
— О тех, что желают открыть, или о тех, где можно укрыться? — сорвалось у меня с языка…
— И то и другое, — ответил Аксенов. — Кто-то эту мечту оставляет, выбрасывает. А кто-то бережет и несет через жизнь и, если, конечно, получается — осуществляет. Не уверен, что можно воплотить ее полностью. Но частично некоторым удается. А с другой стороны, приятно думать, что каждый человек может решить, что он — это тоже своего рода остров. Как хотите: в океане жизни, в океане приключений, в океане любви, в океане скорби, в океане творчества и удивительных открытий. И он имеет полное право быть таким островом — его замкнутым или гостеприимным хозяином. Вот как-то так.
Я тогда ни с того ни с сего подумал о Джонатане Свифте и одном из прибежищ странника Гулливера — удивительном летающем счастливом острове Лапуте. И еще —
И вот — 22 июля 1980 года, начинается новый, головокружительной сложности транзит Василия Аксенова. Считается, что на Западе он как бы временно, но никто не сомневается, что его билет — в один конец. В том смысле, что возвращение в СССР в обозримом будущем не предусматривается.
С Аксеновым в Париж прибывают Майя, ее дочь Алена и сын Алены — Иван. Перед отлетом они сфотографировались все вместе у знаменитой высотки в Котельниках.
В аэропорту Орли их ждут пресса, телевидение и радио, включая сотрудника «Свободы» Анатолия Гладилина. Происходит как бы импровизированная пресс-конференция — очередной советский изгнанник дает интервью американскому и французскому телевидению, делится впечатлениями о последних днях в Советском Союзе, о «МетрОполе», о возможных вариантах развития ситуации в советском искусстве, которая тесно связана с ситуацией политической.
Для местных СМИ прибытие из СССР именитого писателя и основателя ставшего в последнее время знаменитым альманаха «МетрОполь» — изрядное событие — big deal…
После церемониала встречи предупредительный Гладилин, сам недавно переживший стресс перелета из советской действительности в западную, устраивает семейство в автомобиле, чтобы отвезти его на загодя приготовленную временную квартиру.
Гладилин выруливает из аэропорта, а Майю почему-то бьет какая-то странная дрожь. Он понимает: что-то не так. Но относит состояние жены Аксенова на счет драматичности ситуации — не такое ведь это простое дело — покинуть Россию
Видавший виды эмигрант был поражен. Жена, а теперь — вдова друга генсека Леонида Брежнева, обласканного властью кинорежиссера Романа Кармена, еще недавно вхожая в высший советский свет, подверглась такой унизительной, мерзкой процедуре. И сейчас Гладилин не хочет верить, что Брежнев, хотя и был в маразме, все же отдал указание поступить так с дамой, которая не раз навещала его на даче… Однако такое указание с наивысшей кремлевской верхотуры вовсе и не было обязательно. Его могли дать чины и пониже. Просто, чтобы еще раз — на прощание — показать строптивому фрондеру: летишь? ну — лети! Но в наших силах твое прощание с родиной изгадить вот этакой финальной мерзостью.
Трудно сказать, с каким чувством покидал Аксенов СССР. Испытал ли он облегчение? Возможно. Тревогу? Вероятно. Печаль? Наверняка. Но при всем том, несомненно — уверенность в своей правоте. Его выдавили в эмиграцию за стремление оставаться максимально свободным в ситуации несвободы. За неспособность не писать прямо о том, что советская система стремилась упрятать в складки своих обвисших, траченных молью переходящих знамен. Его принудили покинуть его страну за подрывную деятельность, которой власть в своей чудовищной слепоте считала любую вольную мысль и каждое независимое слово. Проще говоря — за литературу.
А он знал: ему не в чем себя упрекнуть. Знал это и любой другой нормальный человек в здоровом мире, откуда за такое не изгоняют. Возможно, именно это знание и позволило Василию Павловичу не обидеться на страну.
Это, кстати, очень верно подметил именно человек власти, далеко не чуждый именно того сектора, который Аксенов и его компания некогда именовали «органами глубокого бурения». Я имею в виду Сергея Степашина, на которого несколько встреч с Аксеновым произвели сильное впечатление: «Самое удивительное, что этот человек, который в советское время был ни за что обижен, тем не менее сохранил и любовь к России, и чувство собственного достоинства, и чувство юмора. Я ни разу от него не слышал, чтобы он сетовал на судьбу».
Возможно, тому есть и другие резоны. Скажем, такой: во многом Аксенов хотел быть и чувствовал себя частью другой — несоветской России, а демократической республики, растоптанной большевиками в 1917 году. Кроме того, он знал, что за пределами того недружественного пространства, которое он покинул, лежит другой мир, где отчасти живы идеалы той страны, сопричастным которой он себя ощущал.
Думается, ощущение нормальности среды, куда он переместился из горячечного озноба советчины, было одним из главных для Аксенова в первые годы изгнания.
Ведь «с тех пор, как вырос и осмелился размышлять», он «жил в подлой и коварной социалистической империи, почти адекватной тюрьме». В том-то и был один из острейших его конфликтов с советской действительностью, что он, будучи ее частью, подобно многим своим героям — от Гены Стратофонтова и Леопольда Бара — до Андрея Лучникова и Славки Горелика — ощущал себя глобтроттером — шагающим по шарику космополитом. Этому способствовали поездки за границу: и в гости к соседям, и в Аргентину, Японию, Англию, Францию, Штаты — хотя они были лишь своего рода отлучками из казармы туда, «где плещутся солнце и ветер мировых просторов…».
Теперь была не отлучка. Он парил среди солнца и ветра, глотая горький и пряный коктейль из счастья воли, страдания от разлуки и сострадания тем, кто
Осадок от последних лет жизни в Союзе не стал помехой для связи ни с этими дорогами, ни с друзьями. В обе стороны полетели письма, зазвенели звонки.
В тексте «Веселье дружбы» Белла Ахмадулина вспоминает: «Письма передавали через дипломатов, но по телефону говорили свободно, иногда даже с расчетом на „прослушку“. Вот Вася мне говорит, что его сына к нему не пускают… А я отвечаю: „Мне это, Вася, не нравится! Да и не только мне. Понимаешь?“…
И этот ужас в день смерти Володи Высоцкого! Вася ведь только-только уехал и звонит мне из Парижа: „Ну что у вас, Белка? Как дела?“ Я говорю: „Володя умер“. — „Нет, этого не может быть! Не может!“ — „Увы, но это так“»…
В 2001 году в интервью программе «Сто лиц» Пятигорского телевидения сам Аксенов вспоминал об этом так: «Я узнал о смерти Володи, позвонив из телефона-автомата Борису Мессереру… И Белла была дома…
Был очень жаркий вечер, бульвар Сен-Жермен был полон людьми… Толпы! — Какие-то фокусники, глотатели огня… Какие-то светящиеся веночки на головах…
…Странная атмосфера, не совпадающая с моими чувствами и ощущениями. Все-таки… — четвертый день после отъезда из Союза — и вдруг такое сообщение… Я пошел в церковь Сен-сюр-пис и молился. Неграмотно, но все же — молился…»
Как горько Аксенов оплакал Высоцкого, видно из его последней книги[165]. Там, с присущей ему виртуозностью, он то ли сам говорит, то ли читает мысли героя — Роберта Эра[166]: «И вот его везут — над несметными головами толпы… его везут, увозят
Писатель мысленно шел за гробом любимого актера и поэта.
Остановка в Европе была краткой. А дальше — «Марш теперь в Америку, и вот мы уже в Америке!» Где на каждом шагу — в домах друзей, в стенах университетов, да что там — в придорожной закусочной — он находит подтверждения своей правоты. В том смысле, что хотя Северная Америка континент, но и ее при желании можно превратить в метафору острова. Того, что стал для Аксенова
Так, покинув форт СССР (что, как известно, стоял меж Германией и Китаем) и погостив на милом острове Европа, остров Аксенов прибыл на остров Америка.
—
—
Эта беседа пришлась на вторую половину пути из Анн-Арбора (Мичиган) в Лос-Анджелес (Калифорния), чуть не доезжая до городка Юма на стыке границ Техаса, Аризоны и Мексики. Незадолго до 21 января 1981 года, когда Василий и Майя, прибыв в Санта-Монику, были ошарашены известием: Указом Президиума Верховного Совета СССР он лишен советского гражданства.
Реакцию писателя на это читатель легко найдет в книге «В поисках грустного бэби». Мы же заметим только, что лишение гражданства у Аксенова не столько юридический факт, сколько акт символический.
Он был убежден, что сила, изгнавшая его за рубеж, не имела оснований, не смела делать такие жесты. Трудно сказать, чего было больше в реакции писателя, возмущения или презрения.
Ничуть не ценя «красную картонку с плотной розовой бумагой внутри», он вопрошал: «Почему госмужи СССР так поступили со мной? Неужели сочинения мои так уж сильно им досадили? Разве я на их власть покушался? Пусть обожрутся они своей властью. <…>…Идеологические дядьки не только ведь книжечки говенненькой меня лишили. Это они в своих финских банях постановили родины[168] меня лишить. Лишить меня сорока восьми моих лет, прожитых в России, „казанского сиротства“ при живых, загнанных в лагеря родителях, свирепых ночей Магадана, державного течения Невы, московского снега, завивающегося в спираль на Манежной, друзей и читателей, хоть и высосанных идеологической сволочью, но сохранивших к ней презрение».
После ужина хозяин дома в Санта-Монике, приютивший семью, и гости пошли на Океанский бульвар и встали там в молчании под пальмами. Калифорнийская ночь была полна мерцаний и звуков. Сверкал огнями гудящий лайнер Осака — Лос-Анджелес. Рождалась луна. Где-то мигали и сигналили патрульные машины; искрясь во тьме, горели папиросы
А жизнь продолжалась. И писательство продолжалось. Больше того — нашлась работа в университете. Надо было испрашивать вид на жительство — «зеленую карту»: заполнять анкеты, ходить в присутствия… Селиться, обзаводиться, трудиться. Окружать себя комфортом, которым так уместно насладиться.
Комфорт, без сомнения, увлекал и радовал его. Нет, в свои последние 20 лет в СССР он жил не в хижинах без света и тепла, не голодал и не нуждался в самом необходимом, однако там комфорт был изыском, а здесь — нормой. И ему приятно было окунуться в эту норму. В Союзе он чувствовал себя человеком мировой культуры, а здесь погрузился, вернулся в нее, нашел в ней себя. И в той ее части, что касается музыки, и в той, что касается одежды, и в той, что связана с окружающей средой, и в той, где есть стол, а на нем такая, казалось бы, обыденная вещь, как еда. Ведь как, видимо, важен был для автора его американский завтрак, если он писал о нем (и не раз!) с таким смаком, к примеру: «Пока заваривал чай и подогревал краюху хлеба, смотрел в окно на поведение птиц… здешней крылатой братии: все эти финчи, роббины, ориолы и кардиналы, иной раз залетает и мэгпай, а то вдруг из зеленых глубин безликого леса, словно воздушный разведчик, пожалует хупу[169]. Все они, кажется, уже обожрались моим зерном…»
Сам же автор питается умеренно… И это тоже своеобразная — аскетическая — сторона комфорта и изобилия. А еще недавно было не так! Поначалу беженцы из полуголодной страны увлеклись пищевым изобилием свободного мира. Но «годы прошли… всё меньше хочется жрать. Завтраки сведены к черной булке и чашке чая…». Ну, как здесь не вспомнить знаменитый «Завтрак аристократа» Павла Федотова, где одетый в роскошный халат хозяин дворца закусывает ломтем черного хлеба, как бы украдкой, чтобы никто не решил, что по скромности средств, а не по совету врача.
Вот в чем штука: эта краюха — добровольный выбор едока, окруженного яствами… Островитянин Аксенов отнюдь не от скудости умерил гастрономический пыл. Остров Америка богат — не беднее острова Крым. Сравним, пожалуй, ассортимент продуктовых полок этих островов, который он описывает сдержанно, но вкусно.
Вот лавка жителя «Острова Крым» господина Меркатора, что на Синопском бульваре являет пример «прохладного и чудесного изобилия», заполненная «такими прелестями, каких и в спецбуфетах[170], и в „кремлевках“[171] на Грановского[172] не сыщешь… Здесь преобладал особенный дух процветающего старого капитализма — смесь запахов отличнейших Табаков, пряностей, чая, ветчин и сыров». Также имелся бенедиктин «прямо из монастыря», виски, плоды киви… Приятен был и размер магазина, не похожего на гигантские супермаркеты, тоже забитые «дефицитом»[173].
Какими же виделись Аксенову эти храмы потребления? Забавно, но они ему «чем-то неуловимым напоминали распределительную систему Московии». Ведь и в самом деле, полагал писатель, «эти гигантские супермаркеты, должно быть, и есть то, что простой советский гражданин воображает при слове „коммунизм“»… Мечта
Аксенова восхищала технологическая цивилизация, причастным к которой он стал в своей новой повседневности. А также скорость, с какой она совершенствуется. И, судя по всему, изрядная доля восхищения была вызвана именно ее инструментальной, полезной применимостью в его, как он говорил, ремесле. Аксенов был писателем каждую минуту и относился к современной технике подобающим образом: с легкой серьезностью, удивлением и иронией.
В этом смысле и лифт был его инструментом: вез писателя с пробежки — к компьютеру (по велению эпохи потеснившему пишущие машинки). И устройство для прессовки мусора — оно освобождало время для байронических витаний. Кассеты, пластинки, магнитофоны, приемники, телевизоры, фотоаппараты, автомобили и прочие, как мы бы сказали, дивайсы (включая ксерокс, видео и фен) служили писателю. С одной стороны — частично превращали его существование в увлекательную технологическую акцию, а с другой — побуждали к размышлениям о пределах развития.
Он видел: богатство соседствует с убожеством. Под высотным силуэтом Нью-Йорка лежали мостовые в выбоинах, лужах и дырах, откуда поднимались зловонные дымы. Казалось, для сходства с Миргородом не хватает лишь пары свиней. Впрочем…
…Вот на Седьмую авеню (что считается улицей моды и где выходящая из лимузина шестифутовая красавица столь же обычна, как бабушка с авоськой на улице Горького) является некий серокожий персонаж, встает у треснувшей вазы с чахлым цветком, расстегивает штаны, оправляется, заправляется и отправляется. Чем не Миргород?..
Эта встреча была для Аксенова одним из сильных впечатлений его первой недели в Америке. И, судя по рассказам печатным и устным, подобных эпизодов и позже хватало. Порой они были просто шокирующими, а то и страшными. И впечатлительный прозаик невольно примерял их на себя, вставлял себя в жуткие и угрожающие сюжеты.
По южной стороне 42-й улицы, «вдоль подмигивающих огоньков порношопов и киношек „для взрослых“, несся, как страус, белый юнец-провинциал. Он был без штанов и без обуви, однако в носках и бейсбольной шапке.
За ним валила толпа мировых подонков, нелучшие представители всех человеческих рас — выпученные в жутчайшей радости глаза, обезображенные хохотом пасти, преобладали поджарые и мосластые, но были и жирные, с вываливающимися из лифчиков титьками и мотающимися животами.
Толпа накатывала на мальца, швыряя ему в спину банки из-под пива…
…WE WANNA GET HIM-HIM-HIML[174] над нею неслись, словно знамя, стащенные с мальца джинсы, она накатывала, уже готовая его поглотить, но он из последних сил высоко задирал ноги, в остекленелом ужасе всё еще вытягивал, вытягивал, вытягивал, не давая себя пожрать, хотя, быть может, ничего особенного не случилось бы, отдайся он этой толпе, ничего особенного, кроме издевательства над его половыми органами и задним проходом.
Я перелетел через улицу и помчался рядом с юнцом. Толпа позади взревела еще сильнее от удвоенной радости: она сразу поняла, что я не преследую деревенщину, что я, возможно, и сам такой же деревенский юнец, во всяком случае — я дичь, а не охотник.
— Strip the pants off him! Lets get his balls! We wanna chew his balls! <…>[175]
Чья-то жадная южно-океанская рука между тем влезла мне в штаны, захватила, рванула, располосовала пополам, штанины упали, я едва успел выскочить из них, чтобы нестись дальше уже голыми ногами.
— That’s fun![176] — изнемогала толпа. <…>
Я споткнулся о спящего на асфальте араба и пролетел вперед лицом — вниз, и в ужасе понял, что позора мне не избежать, а в этом возрасте позора уже и не пережить».
Вот оно: любой ценой — избежать позора, разгрома, потока и разграбления. Не поддаться толпе. Сохранить себя и все пережитое и сделанное. Отстоять свое право на суверенное «я». На отдельность от людской кучи. На остров личности в океане толпы. А если учесть, что его лирический герой — всегда немного автор, то и на «остров Аксенов». Вот цель, явленная в прозе и драматургии Василия Павловича в американский период.
Об этом он рассказывает и в своих американских текстах — в «Бумажном пейзаже» (откуда взят приведенный выше пассаж), в «Желтке яйца», в «Новом сладостном стиле», в «Авроре Горелика» и других…
И сама Америка предстает в них в очень разных обличьях — порой и омерзительных — но, тем не менее, как спасительный остров в океане агрессивного безобразия. Остров благодатной и свободной отдельности, которому угрожают и извне, и изнутри. Извне — кровожадные, беспощадные и бесчестные красные, одурманенные нефтяной мощью шейхи и другие «люди юга», а изнутри — жадная до кайфа и хамских услад местная гопота, одежкой так несхожая с привычной заскорузлой советской шпаной с ее фиксами, кепариками и охнариками, а глазами и повадкой — очень даже.
Автору и герою кошмарной сцены преследования удалось избежать пленения. Ускользнуть. Улизнуть. Обмануть жадные надежды шпаны. А вот мистеру Гопкинсу — нет. Подобно небезызвестному персонажу, мечтавшему выручать из беды малышей, блуждающих во ржи, и самому в беду угодившему… Хорошо, хоть на нем шапка была бейсбольная, а не охотничья с длинным козырьком. А то можно было решить, что они и встретились лично — писатель Аксенов и школьник Колфилд в переводе Райт-Ковалевой. Но обошлось. Уж больно неприглядны были обстоятельства для их свидания…
Этот отнюдь не элегантный фон технотронного торжества не радовал писателя. Прежде, во время командировок на Запад, он как-то не успевал (или не желал) замечать его. Не обратил внимания и летом 1975-го. А точнее — и скорее всего — видел в нем экзотическую декорацию, поскольку тогда остров Америка был для него литературным объектом, а не местом жительства. Жить здесь — по свидетельству родных и друзей — он и не мечтал. Желал лишь свободно путешествовать и сюда, и в любую точку мира. А теперь жил. И рядом, под удобным твидовым боком, жили те, кто еще недавно шуровали в «Квартале Тартилья Флэт» и в «Консервном ряду» уважаемого им Джона Стейнбека, или — в «США на пороге 70-х годов» и в «Бурном десятилетии» не слишком уважаемых Юрия Жукова и Мэлора Стуруа… А тут — что ни день, нагло вторгались в его реальность, искажая ее и раздражая его.
Однако Аксенов вскоре понял: это не так сложно — обходить зоны, где тусуется не его «толпа», и пребывать в своей «толпе» — писателей, профессоров, интеллектуалов, издателей, предпринимателей — воспитанных, хорошо одетых, сдержанных и остроумных, приятных
Как-то выходя из Линкольн-центра с церемонии вручения премии «Либерти», которую присуждают за вклад в укрепление дружбы, сотрудничества, взаимопонимания и развития и на этот раз дали Аксенову и собирателю русских картин Нортону Доджу, лауреаты столкнулись с сильно поиздержавшимся и, похоже, только что заправившимся субъектом, спросившим: не удалось ли джентльменам сэкономить для него по пятерке?
Каждый американец знает, что в таких случаях лучше дать и идти дальше. И потом, хотелось, чтобы и американский плут получил награду… Выдав ему по пять баксов, лауреаты поинтересовались:
— А кто вы будете по профессии, наш друг?
— Я по профессии — координатор, — самоопределился субъект. — Не думайте, что я нищий. Просто поиздержался при случайных обстоятельствах.
И, как подобает воспитанному собеседнику, в свою очередь поинтересовался: а вы кто будете, почтенные джентльмены?
— Мы лауреаты! — весело ответили лауреаты.
— Значит, я не ошибся! — воскликнул довольный бродяга, козырнул и отбыл в свой мир. А деятели культуры пошли в направлении своего… Но несмотря на забавность и неопасность встречи, осталась от нее какая-то неловкость — некий диссонанс пропищал: после великолепного пения хора Йельского университета с его изысканным русским репертуаром прямо здесь столкнуться с таким вот координатором. Бррррр.
Но разве писатель, джентльмен, глобтроттер-открыватель островов не должен каждую минуту быть готов к вызовам, которые порой таит новый остров?
Василий Павлович, в целом, был готов. Хотя, похоже, в глубине души и волновался, и робел. Робел, но хотел, точнее — мечтал покорить остров Америка не только как его открыватель, но и как писатель.
Мог ли писатель Аксенов жить в Америке без мечты? Без мечты об американском романе? Больше того — об американском бестселлере? Может, и мог. Но не стал.
Похоже, он размышлял об этом с первых дней пребывания в Штатах. И сложилось так, что свои большие американские романы он написал, а бестселлер сделать не старался. Ибо понимал простую вещь, о которой и сообщал потом в эссе и интервью: «В Америке меня издавали не из соображений больших денег, а из соображений престижа». Очень многое виделось впереди, 48 — благодатный созидательный возраст! И потом — большой и вдохновляющий пример — Набоков. Русский, ставший успешным американским писателем. Или Бродский — человек советский (хотя в то же время и
То есть образцы — имелись. Энергии хватало. Отношения с издательством
А пока следовало осмотреться на новом месте. И поскольку оно было весьма обширно, то требовалось — благо возможность была — проехать его, что называется, вдоль и поперек — от побережья до побережья и от канадской границы до Мексиканского залива. И повсюду примечать и находить зерна сюжетов, прообразы героев, завязки интриг.
Однажды в Лос-Анджелесе в кафе у океана, средь шумного ланча случайно, в тревоге мирской суеты, он вдруг услышал какие-то сумбурные фразы на русском языке. Речь шла о системе Станиславского. Говорил, отхлебывая пиво, неопрятный молодой человек средних лет. На большом пальце его закинутой на коленку ноги болталась стертая сандалия… Неглубокие, но заметные морщины, нечесаная шевелюра, выцветшие шорты, несвежая футболка, из-под которой кучерявятся жесткие черные волоски… Много повидавшие, прикрытые воспаленными веками глаза. Язык родных осин. Пивная пена. Система Станиславского. Многообещающая встреча.
Через несколько лет мы прочтем об этом пальце и системе, в том виде, как ее понимал молодой человек средних лет, и о его удивительной судьбе в романе «Новый сладостный стиль». Пока же о сладости нового стиля ничего не было известно. Просто писатель «вдруг почувствовал момент зачатия „американского романа“. И, прибыв домой, записал в альбом — тот самый, Беллин, драгоценный, что-то вроде: „Вэнис, солнце, босая нога, система Станиславского,
Get up! — это приказ: эй, поднимайся, задело принимайся. Команда самому себе.
Аксенов понимал, что определенная известность среди образованной части местного общества, принесенная освещением в СМИ «дела „МетрОполя“» и лишением советского гражданства, будет работать на него недолго. Так что пора браться за писательский гуж, осваивать американский литературный мир и рынок. Осуществлять проект «Василий Аксенов» на новой стадии и новой земле, в новых — весьма необычных — обстоятельствах. И, хоть и не с чистого листа, но — заново.
Американское искусство вообще и здешняя литературная жизнь в частности — он хорошо это знал — весьма отличались от своих советских версий. Нужно было вписываться в эту внешне позитивную, но сложную среду. Вписываться в прямом смысле слова — писать и издаваться. Причем желательно — на английском языке. Но и в переносном смысле тоже — постигать ее законы, налаживать связи, осваивать тусовки. Без этого и думать нечего занять подобающее место в литературном истеблишменте США.
Истеблишмент — это, понятно, не только творчество. Это и бизнес. Если в Союзе часто важен был сам факт издания книги или ее выхода в журнале, а продажи играли, в целом, вторую роль, то в Америке они были и остаются важным показателем. Именно от числа проданных томов зависит благосостояние издательства и писателя, а также и их имя, бренд — и эти два фактора тесно связаны. А это значит, что благосостояние нужно обеспечить, а имя — приобрести. В случае с Аксеновым это требовало своего рода ребрендинга — превращения из советского литературного мятежника в творческую фигуру Америки, примечательную и привлекательную во всех отношениях и для издателей, и для критиков, и, конечно, для читателей, считающих родным английский.
Для этого нужно было не только много работать, но и погрузиться в атмосферу местного мира искусства. Ощутить ее особенности. Принять табу. Понять взаимосвязь между массовым вкусом и массовым спросом.
Даже для прозаика с талантом, наблюдательностью, мастерством, смелостью и находчивостью Аксенова это оказалось непростой задачей. Даже ему — человеку, имевшему довольно богатый опыт общения с миром и непосредственно с США, многое поначалу показалось странным. К примеру — подчеркнуто скромное внимание массовой прессы к культурным событиям. В городе могла проходить национальная конференция театральных деятелей — ведущих режиссеров, актеров и драматургов страны, но в новостях о ней могли не сказать, а в газетах — не написать ни слова…
Кроме того, удивляла и отчасти раздражала необходимость следить за тем, как бы по недосмотру не «наехать» на женский пол или меньшинства. Так, на первом году своей жизни в Штатах, выступая на международной конференции «Писатель и права человека», Аксенов опрометчиво сравнил советскую цензуру с психически неуравновешенной теткой. Сравнил — и тут же получил отпор. Как вы смеете? — возмутилась одна из участниц встречи. — Как смеете вы сравнивать паршивую советскую цензуру с женщиной? Позор!
Спасли писателя лишь вовремя принесенные извинения за свою, показавшуюся ему удачной, но оказавшуюся неуместной в этой аудитории — саркастическую метафору…
Остерегайся задеть женщин, — предупреждали знакомые, — а то костей не соберешь. Однако избегай и открывать перед ними двери — оплеуху можешь схлопотать… Социальные табу — серьезная штука, важно научиться иметь с ними дело.
Аксенов, подобно большинству людей, ориентировался, с одной стороны — на нормы поведения, принятые в среде, где ему предстояло вращаться, — художественной среде США, а с другой — на свое представление об успешном здешнем литераторе.
Наблюдение и осмысление им образа «знаменитого американского писателя» или — ЗАПа — «через увеличительное стекло американского быта» весьма любопытно.
ЗАП, по мнению Аксенова, независимо от того, известен ли он очень и очень, как, скажем, покойный Хемингуэй, Фолкнер, Стейнбек, или не очень — как Апдайк, Мейлер или Доктороу, есть символ всего отчетливо американского — отваги, раскованности, рисковости, спонтанности. Всего, чего не хватало советскому обществу того времени и чему иные его представители стремились подражать. Кстати, Аксенов вспомнил, как Набоков когда-то «пренебрежительно назвал Хемингуэя „современным Чайльд Гарольдом“. Довольно точное определение, — заметил Василий Павлович, — но при этом нельзя забывать, что и Байрон в свое время поразил русское общество, возбудил дворянскую молодежь. Разве уникальные таланты Пушкина и Лермонтова начинались не по разряду провинциального байронизма? А восстание в декабре 1825 года разве не было вызвано отчасти и байроническим вдохновением?»
Резонные вопросы и важное суждение. Минимум — по двум причинам. Первая: писатель Аксенов выступил с ним, работая над книгой «В поисках грустного бэби» — то есть в первые годы пребывания в США, что, возможно, указывает на время начала разработки им темы
Современный «знаменитый американский писатель» в его глазах больше не Чайльд Гарольд. Он не взрывает мосты, не прощается с оружием, не ищет подводные лодки и не ездит на бой быков. А если и взыскует приключений, то на приемах, в которых, как кажется Аксенову, есть нечто античное — «будто кто-то здесь всё время околачивается с парой кинжалов за складками тоги. А где же Цезарь? А вот и он, автор чего-то „самого захватывающего, самого фундаментального“». И вот, с дринком в руке, он перемещает среди высоких красавиц свою симпатичную седину или плешь, никого не будя, не возбуждая и не увлекая. А лишь развлекая.
Аксенову представляется, что теперь «аурой рискованного приключения окружена сопротивленческая литература Восточной Европы и Советского Союза». И его несложно понять, ведь он и сам в этот момент погружен в приключение литературного изгнания… А ЗАП — в рутину производства штук литературы.
Но при всей важности этого занятия, — замечает Аксенов, — в принципе, писатель везде озабочен созданием и сохранением персонального обличья. Так «в Советском Союзе поэт Островой, автор бессмертной строки: „Я в России рожден, родила меня мать“, — ни при каких обстоятельствах не снимает тяжелых очков. „Народ знает меня в этих очках!“ — заявляет он. ЗАП тоже не меняет обличья, не запускает бороды, или наоборот, не бреется, если был бородат к моменту славы, держит в зубах погасшую сигару, даже если она ему осточертела, живет в отшельничестве, если имеет репутацию отшельника.
Общество обожает ЗАПа, он — любимец, такой немножко капризуля; из множества культурных мифов, внутри которых развивается жизнь читающего американца, он один из самых обаятельных, он, кроме всего прочего, и сам является персонажем американской литературы. Процент „писателей“ из общего числа персонажей — весьма внушителен. Начинающий писатель пишет роман о начинающем писателе. Приходит первый успех, и появляется книга о первом успехе… Соблазн велик, знаю по себе».
Видимо, это был весьма своеобразный опыт: при всей опытности и умудренности становиться вновь как бы молодым автором, начинающим карьеру претендентом на успех.
Сложно сказать, часто ли, садясь за стол над крышами Вашингтона, Сан-Франциско, Лос-Анджелеса, другого города или веси, он хотел написать: «Мистер Акселотл, писатель в изгнании, сел к своему столу над крышами…» Но пометим: Аксенов, видимо, хорошо понимал, что в Америке он сам есть не кто иной, как герой собственной жизни — «писатель в изгнании», а не
Твой язык — другой. Твой опыт — не здешний. Твоя аудитория — тайна; когда-то ты знал ее хорошо, теперь же — очень приблизительно. Да и твой жизненный опыт — из другого мира. И хотя современный мир — в том числе США — уже не требовал безоговорочно от творческого человека национальной или языковой идентичности, но в своей американской версии он отдавал предпочтение жителям окрестностей — Нью-Йорка, Сан-Франциско, Бостона, штата Мэн, в конце концов. Чех Энди Уорхолл, стяжав великую славу и заработав огромные деньги, как творец — так и не стал
Освоение литературной среды и жизни было бы невозможно без освоения everyday life[178]. Помогли друзья. Всё те же Элендея и Карл Профферы.
Василий и Майя прибыли к ним в Анн-Арбор 10 сентября 1980 года, через два месяца после приезда в Штаты. Беженцы. Близкие люди. Милые люди. Попавшие в сложную ситуацию. Во дворе своего дома — бывшего кантри-клуба, стоящего посреди бескрайних полей для гольфа, Карл перебросил Василию ключи от джипа: мол, рули себе, но не забывай платить штрафы за неправильную парковку.
Профферы вводили Аксеновых в американскую жизнь. Мало кто мог подумать, что теперь у них может возникнуть какая-то другая. Начали с такой необычной для советского человека вещи, как открытие банковского счета и поддержание его положительного баланса. И глядь — изгнанники, что ни день, то лучше осваиваются. Вот уже и съехали на квартиру. Поставили телефон. Освоили оплату товаров и услуг кредитной картой.
Ну просто как литературные герои… Вот, скажем, как устраивался на новом месте герой романа «Бумажный пейзаж» Игорь Велосипедов, отсидевший десять лет в Потьме как диссидент и отпущенный в США: «…С каждым днем становлюсь я всё американистей. Уже имеется у меня соушел секьюрити намбер[179] (прошу не волноваться, никакого отношения к госбезопасности), уже я член клуба „Трипл Эй“[180], уже застраховался по групповому плану в Блу Кросс и Блу Шилд[181], книжки получаю из Бук-офси-Монс[182], счет открыл в Кэмикл Бэнк, там же и Индивидуал Ритаермент Аккаунт[183], надо думать о старости — всё это хозяйство американской жизни обрушивает на меня за неделю столько бумаги, сколько в Советском Союзе и за месяц не наберется»[184]. Вот примерно тем же самым занимались в первые месяцы своего пребывания в США Василий Павлович и Майя Афанасьевна. Через это проходит каждый, прибывший в Америку на сколько-нибудь длительный срок. А они устраивались на всю жизнь. Становились американцами и готовились получить гражданство приютившей их страны.
Карл и Элендея дивились: вот уже и знакомства заводят, отважно дискутируя с представителями местного академического и литературного сообщества. Вот они какие — русские писатели.
— Не надоела ли вам русская литература? — как-то спросил их Аксенов.
— Даже больше, чем ты думаешь! — засмеялись они в ответ. И вручили ему приглашение на гала-прием «Ардиса» в честь выхода «Ожога».
Но настало время расставания. Купив первую свою в Америке машину — олдсмобиль «омега» — за полную цену! вау!! — Аксенов и Майя едут со Среднего на Дальний Запад — в теплую Калифорнию, где царят мирные и очень легкие либеральные нравы и взгляды. Там, как известно, они и узнают, что Василия Павловича лишили советского гражданства…
Мудрено ли, что многое казалось им курьезным. Например — жалобы американцев на цензуру. Мол, школьный совет некоего округа запретил чьи-то книги за фривольное поведение героев и использование автором четырехзначных слов[185]. Между тем эти книги издавались в СССР. Впрочем, как замечал Аксенов, будь сделан обратный перевод с русского, всё бы наладилось — власти сразу разрешили бы новые версии этих сочинений.
Увидел Аксенов и сходство между тем, что он называл «американской коммерческой литературной халтурой», и советской халтурой идеологической. Вот в talk-show одна писательница, подняв пальчик, заявляет: «Прежде, чем начать новую вещь, я тщательно изучаю спрос. Писатель должен знать литературный рынок». Разве трудно вообразить ее речь в Союзе писателей СССР: «Писатель должен изучать последние решения партии, быть в курсе постановлений по вопросам литературы и искусства».
И то и другое Аксенов считал отражением бессмысленной и беспощадной псевдотворческой суеты. Когда почти никто друг друга недопонимает и недослушивает, а то и не слушает вовсе. Когда книгу берут не для чтения, а для оставления автографа или вручения для подписи собрату по суете. А собрат, подписав, вливается в ряды других собратьев, что лупят по клавиатурам, мечтая о членстве в престижных гильдиях и клубах. Ожидая гонораров и процентов с продаж. Желая ухватить фант в фонде Форда или каком еще, получить сверхмощную премию, а то и «Нобелевку»… О, страсти! О, волненья! О надежды! «Хапнуть-хапнуть-хапнуть, создать вокруг себя клику подхалимов и отшвырнуть подальше малопочтительных коллег, которые и сами, погрязая в… пустопорожних интервью, презентациях, публичных дискуссиях, зверея от телефонных звонков, гонят, гонят, гонят круговую безостановочную гонку без промежуточных финишей, стараясь хоть на секунду задержать внимание совершенно озверевших под потоками книжного дерьма читателей, поразить мир злодейством… плюнуть в суп соседу по коммуналке, в наши дни, когда хрипящий в идеологической астме стражник призывает и дальше высоко нести знамя, создавать возвышенные образы современников…»[186]
Но если в СССР препоны мотивировались, скажем так, морально-идеологическими соображениями, то в США ограничитель в первую очередь был другой: спрос. Хотя, как замечал Аксенов, сравнивать жесткость ограничений в Штатах и в Союзе значило уподоблять Афины времен Перикла Персии Дария Гистаспа.
В 1982 году в интервью видному слависту, историку и литератору Джону Глэду (автору книги «Беседы в изгнании») на вопрос, как он видит свои, русского писателя, шансы найти американского читателя, Аксенов ответил: «Я думаю, что американскому читателю как раз интересно будет читать про неизвестный мир, читают же сейчас научную фантастику… Со временем, может быть, я как-то начну больше жить внутри американского общества. И это не значит, что я уйду из своего прошлого. Прошлого у меня достаточно, чтобы писать до конца жизни… Вот когда уезжаешь из страны в 48 лет, этого уж хватит тебе, чтобы писать, а новый американский опыт мне очень интересен».
Этот опыт, в частности, состоял в том, что, общаясь с литераторами и издателями, Аксенов убедился: задача написать бестселлер разрешима. Просто надо попасть в список создателей бестселлеров. Так устроен здесь читатель — он доверяет списку. И часто берет книгу потому, что имя ее автора на слуху, как продаваемого. Да-да, необязательно как мастера, а как писателя, чьи тексты хорошо идут на рынке. Это же так понятно, — думает он, — вкладывать с трудом заработанные деньги не в абы что, а в доходное дело.
Попасть в такой список нелегко. И попав, важно в нем удерживаться. Поэтому нужно регулярно публиковать то, чего ждет рынок. А он, похоже, не ждал «исповедальней прозы» Аксенова, сдобренной иронией и сарказмом. Это смущало.
И Аксенов говорил об этом прямо. Вот фрагмент интервью. На вопрос, всё ли ему нравится в стране, оказавшей ему гостеприимство, он ответил:
«— …Я люблю эту страну. Возможно, США — это модель будущего человечества. Это уникальная страна, созданная сравнительно недавно из многих этнических групп… Но, похоже, в ней не хватает того, что на одном конгрессе ПЕН-клуба назвали…
— Конгрессе ПЕН-клуба?.. — удивленно переспросил ведущий теле беседы, будто бы не поняв сперва, о чем идет речь… А может, и в самом деле — не поняв?..
— Конгрессе ПЕН-клуба в Нью-Йорке в 1980 году.
— О! Писатели?.. — как бы догадался ведущий, но в голосе его звучал вопрос.
— Да. Так вот, там один из выступающих сказал: „На самом деле Америка выполнила все обещания, которые она дала людям, кроме тех, что касаются культуры…“, и я бы с ним согласился.
— Почему?
— Потому что есть трен к производству так называемой массовой культуры, к превращению искусства в товар. Книги — в объект маркетинга. И пьесы. И фильма… С оглядкой на вкус среднего потребителя. С ориентацией на максимальную прибыль.
— То есть прибыль — это не всегда благо?
— Да, конечно. Хотя извлекать прибыль — например, из фильма — отнюдь не плохо. Однако окупаемость и рентабельность не должны быть главными критериями и приоритетами в подходе к созданию произведения искусства, литературы.
— А как насчет книг, которые вы написали и продали здесь — в США, а также — в СССР? Много они продают книг там — в СССР?
— Если бы в СССР издали эту (тогда в беседе речь шла о публицистической книге „В поисках грустного бэби“ и о романе „Скажи изюм“. — Д. П.) — то продали бы миллионы экземпляров. А здесь для нее хороший результат — тридцать тысяч.
— А почему там — миллионы, а здесь тридцать тысяч? — вопросил изумленный ведущий.
— Начнем с того, что — понимаете? — советские читатели всё еще „голодны“ до чтения. Им его не хватает. И еще они до сих пор рады искать ответы на многие вопросы. А здешняя публика выглядит немного, ну, что ли, пресыщенной заголовками.
— Каждый месяц выходит около трех тысяч книг. А сколько в Советском Союзе?
— Не знаю. Там публикуют много мусора, который никто не читает. Но люди знают, как… найти бриллиант в куче дерьма».
Трудно сказать, сколь сильно задача американского читателя отличалась от задачи советского. Но критерии
Пожалуй, книгам Аксенова, написанным в Штатах, американская пресса посвятила больше статей, чем текстам любого русского автора, если не считать нобелевских лауреатов — Бунина и Бродского и, может быть, Пастернака.
То, что Аксенова издавали
Удивительно, как всего за несколько лет до перемен на родине жизнь в ней виделась совсем беспросветной, парализованной, не оставляющей надежд и на самые скромные смягчения, не говоря уже о возвращении.
А американская жизнь и в своем самом простом — пищевом — измерении дарила море надежд. Войдешь в супермаркет — необъятное море надежд. А если — в лавочку по соседству? Чуть меньше. Но тоже — полно. Мудрено ли, что тогда Аксеновы на время увлеклись американскими завтраками: стаканище свежевыжатого сока, поджаренный бекон, тосты, яйца, свиные сосисочки, блинчики с патокой, кофе со сливками — пальчики оближешь!.. Гой ты, Русь моя, родина кроткая…
Меж тем Михаил Горбачев был, как говорится, на подходе. Но пока что в Москве царили красная геронтократия, ее вездесущий вооруженный отряд, все менее адекватная агитмашина и бдительная рать стражей великих заветов. И пока там господствовали кремлевские старцы, надежды не было ни на что. Как и уверенности — ни в чем. Кроме того, что успех в Штатах достижим только своими силами.
Нон-стоп. Трудиться круглые сутки без остановки. Ежедневно выдавать по шесть и более страниц, имеющих хорошие шансы на издание в США, то есть сработанных с учетом требований издательства — лишенных любой идейной подоплеки, а сопряженных со знанием вкусов и склонностей аудитории.
Аксенов берется за большие дела. В ноябре 1980 года он приступает к роману «Скажи изюм», задуманному еще в Союзе — феерической истории из жизни «Нового фокуса» — группы бесшабашных советских фотографов, истинных байронитов, создающих неподцензурный фотоальбом «Скажи изюм».
Скажите: изю-ю-ю-юм. И вам станет более или менее ясно, что имели в виду эти фотари, когда, собираясь в квартире добродушнейшего героя отечественной фотографии Олехи Охотникова, сооружали свой проект.
Их конспируха располагалась в здании жилкооператива «Советский кадр», что в Москве близ станции метро «Аэродинамическая». Сам же Олеха сильно напоминает одного из создателей «МетрОполя» Евгения Попова, на момент написания «Изюма» бывшего с его автором в переписке посредством почтовых голубей — то есть дипломатов и журналистов.
Там же есть и другие персоны, вроде Вениамина Пробкина, в коем иные проницательные ловят черты Виктора Ерофеева. Или Шуза Жеребятникова, в чьей недюжинной фигуре кто-то зрит сходство с Юзом Алешковским. И Стелы Пироговой с Эммой Лионель, которых иные то соединяют в образе Беллы Ахмадулиной, то Беллу Ахатовну делят надвое… Мастера Цукера почитают — кто Леонидом Баткиным, а кто — Марком Розовским… В Георгии Автандиловиче Чавчавадзе видят очертания Фазиля Искандера. В Андрее Древесном узнают Вознесенского. И так далее.
И хочется вновь шепнуть интересующимся, что попытки строить параллели — тщетны. Что не было во время подготовки «МетрОполя» у Ерофеева машины «Мерседес-Бенц-300», как у Пробкина, как не было у него и троих детей. И не летал Вознесенский на Венеру. И не был Попов рыжим помором, а черным был сибиряком… И уж подавно не появлялся поблизости талантливый юноша ангельских статей по имени Вадим Раскладушкин, не вправлял мозги офицерам госбезопасности, секретариату Союза фотографов, ленинскому политбюро и лично товарищу Брежневу.
Хочется это сказать, а не надо. Ибо хоть и не рыжий был Попов, ан «метропольцы»-то у него собирались, а Вознесенский хоть и не в космос летал, а на Северный полюс, что, по совести говоря, для читателя почти одно и то же… Так что к чему подчеркивать, что ни рожна ты не смыслишь ни в иносказаниях, ни в праве автора на вымысел, ни во вторжении метафизического в обыденную реальность. Продолжим лучше об «Изюме».
В редакции самовольного издания царят всеобщая радость и непринужденное творчество. Туда проникают иностранные журналисты и искусствоведы. Английский язык мешается с русским, а прекрасные в своей простоте водка «Российская», вино «Солнцедар» и портвейн «Кавказ» — с двенадцатилетним виски
Все это сильно беспокоит сотрудников спецподразделения госбезопасности — Государственного фотографического управления, — надзирающих за тем, чтобы в среде советских фотографов царили тишь, гладь и советская благодать, своевременно, даровито и самовито отраженная в идейно выдержанных работах мастеров объектива. Надежных соратников партии, которая дала им все права, кроме одного — снимать плохо.
Но вот — альбом готов. Одна его копия переправлена на Запад, а другая похищена бойцами невидимой войны. Третья отдана в Союз фотографов, где заправляет кумпанство замшелых воротил во главе с бывшим дядькой кадетского корпуса Блужжаежженым. Самый же активный среди них — некто Фотий Феклович Клезмецов, громит «изюмовцев», ведомый с одной стороны — карьерным порывом, а с другой — диковатым постулатом: что, а-а-а, свободы захотели? Свободы сейчас нет! Нет нигде! Есть бо-о-орьба-а-а!!!
Эффектный фон событий — непростые отношения главного героя романа и закоперщика «Изюма» Максима Огородникова (он же — Огород, он же — Ого) с органами безопасности — из-за альбома «Щепки» (о котором мы уже говорили); с любимой девушкой Анастасией; с бывшим другом Аликом Конским, который, считаясь в США главным экспертом по советскому фотоискусству, назвал «Щепки» говном; с товарищами по проекту, ибо во время и после погрома эти отношения и не могут быть простыми.
В Огороде прозорливцы различают черты Аксенова Василия Павловича. Но и тут я ничего не скажу, кроме того, что иные фрагменты биографии гражданина СССР Огородникова М. П. напоминают эпизоды жизни бывшего гражданина Аксенова В. П. Но при этом один писатель, а другой — фотограф; а фотографы всё фиксируют таким, как оно есть, в то время как писатели переиначивают да перетолковывают. Вот так.
И если вы не видите разницы, так что я-то могу сделать? Что с того, что у Аксенова нет старшего брата, а у Огородникова есть, и к тому же — по имени Октябрь, да еще и сотрудник органов (уж не отсыл ли здесь к поэту Юрию Живаго и его таинственному брату-генералу?). А с другой стороны, они оба — и Аксенов, и Огородников любят фокстрот «Гольфстрим»… И главное — зачем ломать вам кайф от узнавания?
Ну, в общем, всё кончается чудесно. А что еще сказать о сцене, когда на Красной площади веселится и ликует весь народ, в едином порыве говоря: изю-ю-ю-юм? И остается в таком виде запечатлен навеки. Конечно, сцена хорошая. Тем более что герои обрели различные награды и подарки судьбы, а злодеи посрамлены, но не казнены, что открыло им путь к исправлению.
Вот как-то так.
Рана «МетрОполя» была свежа. Оскорбление изгнанием и лишением гражданства — тоже. Роман писался живо — в Анн-Арборе, Санта-Монике, долине Шугарбуш, в Вашингтоне. А будучи в декабре 1983 года завершен и в 1985-м опубликован в «Ардисе», стал надолго звездой тамиздата. Диссиденты, помнящие те времена, утверждают, что за «Изюм» если и не давали срок (как за «Ожог» и «Остров Крым» — семь лет лагерей и пять ссылки), то проблемы могли быть серьезные. И не мудрено. Книга очень смешная, а советские владыки предстают в ней тупыми тиранами.
Потом, когда после выхода романа в свет в
Саксофонист изображен на обложке книги «В поисках грустного бэби», изданной в России РПК «Текст» в 1987 году. Василий Павлович подписал ее мне: «Дмитрию, в день оптимистической беседы 28 ноября 03. В. Аксенов». Там много чего есть о джазе. Об удивительной роли этого искусства в формировании музыкальных вкусов и мировоззрения немалой части поколения 1950–1960-х годов. Мы, кстати, обсуждали ряд фрагментов, посвященных этой музыке в главе «Джаз на костях»…
Но речь в ней отнюдь не только о джазе. Думается, эта книга — своего рода ключ. Начинающий американский писатель русского происхождения Василий Аксенов намеревался открыть ворота в литературу США. А стало быть — и на их книжный рынок. Для старта ему нужна была книга, которая бы продалась. Книга интересная американцам.
А что интересного может сказать им приезжий, чего не скажут местные? О чем таком он может написать? О тяготах советской жизни? О тоске тоталитаризма? О ЧК? Так об этом давно рассказал Солженицын. И, признаться, так много и страшно, что не все дочитали до конца.
Что же до исповедальной прозы, подобной «Ожогу», то это литература не для всех. Что подтверждает рецензия в Los Angeles Times, где роман назван «одним из шедевров диссидентской советской литературы». А нужна она в Штатах? Подите, поставьте по «Ожогу» фильм… А по Достоевскому — пожалуйста. Вон как в «Братьях Карамазовых» хороши Юл Бриннер в роли брата Дмитрия и Мария Шелл в роли Грушеньки!
Или, скажем, Пастернак! Каков Омар Шариф в роли Живаго и Джулия Кристи в роли Лоры?! О как! А «Ожог» — эту модернистскую историю любви в эпоху тотального распада как в кино превратишь? Пусть даже и говорят о ней, что, мол, «написана в блистательно подрывном стиле, полна сатиры, сюрреализма, анархической генримиллеровской непристойности[187] и брошена в лицо советскому реализму».
Ну — да! Вот потому-то «Братья Карамазовы» и «Доктор Живаго» имели хороший рынок, а «Ожог» — не особенно.
Короче, надо было написать нечто такое, что американцы решили бы купить. О’кей: расскажем им о них самих — любимых. О таких, какими их видит русский, позавчера прибывший из страны большевиков. А попутно внедрим в текст отсылы и к Союзу, и к мировой политике, и к собственной биографии, и много чего еще. Можно делать и художественные вкрапления и дать волю фантазии, метафорике и поэзии. Но главное — Штаты. Увиденные с разных сторон русскими глазами, частично пощупанные русскими руками и вкушенные русскими устами.
Так, фактически в первые месяцы жизни в США Аксенов взялся за травелог, сперва названный «In Search of Melancholy Baby, a Russian in America» (ибо вышел он на английском), а потом — «В поисках грустного бэби».
Этот момент — момент включения в круговую безостановочную гонку, неизбежную для любого, кто хоть и не жаждет забацать бестселлер, но ищет успеха. Успех требует движения. Без остановки. Так начал Аксенов свой новый
Название этой главы можно писать в кавычках — как заголовок первой книги, написанной Аксеновым в Америке, — «В поисках грустного бэби». Но не нужно. Потому что поиски грустного бэби — это не только всё то многое и разное, что в ней описано; это то, чем на самом деле занимался Аксенов. То есть — именно поисками. Хоть и не всю жизнь без перерыва, но точно, в тот его американский период.
А вообще: это кто — грустный бэби? Как зовут ее или его? Зачем этот бэби понадобился (лась) международному писателю?
В беседе со мной друг Аксенова писатель Александр Кабаков предположил, что «грустный бэби» для Василия — это, кроме просто нежной и проникновенной песенки, еще и один из музыкальных символов современной и повседневной Америки — связь с ее текущей реальностью. Так и есть. Но сдается мне, здесь кроется что-то еще. Ну, скажем, великая американская мечта.
Своя. Личная. Собственная. Тот образ Америки, который начал прорастать в его душе в юности — в пору создания «великих и ужасных» детских поэм о героических караванах ленд-лиза, в пору чтения довоенных американских стихов, в пору знакомства с джазом и стильным образом жизни… Это связь с теми Штатами, которые он воображал, можно сказать — придумывал; и одновременно — связь с юностью.
В одном из интервью 1989 года он скажет: «В конце концов, я… принял Америку как новую родину. Но когда я начал писать эту книгу, то мне пришлось искать, по меньшей мере, какую-то крупицу взаимной ностальгии. И я нашел ее глубоко в своей памяти — эту давнюю песенку „Come to Me My Melancholy Baby“ — „Приходи ко мне, мой грустный бэби…“ Когда-то я ее услышал в старом американском фильме „Ревущие 20-е“. И прекрасно помню, как все мы — тогдашние дети послевоенного СССР — радовались этим знакам, которыми общалась с нами Америка».
Грустный бэби Аксенова — это, похоже,
То есть поиск грустного бэби — реальный процесс, он сродни удивительному путешествию беспечных easy-rider’ов Джека Керуака и Дина Мориарти[188]. Или героев все той же песенки Саймона и Гарфанкла «America». Или воннегутовского Килгора Тратуа (тоже, кстати, писателя[189]). Или Вуди Гатри, чей поезд мчится к славе[190]. И, может, даже отчасти — Гекльберри Финна с негром Томом… которые мчались и плыли по Штатам, но на самом деле, возможно, были лишь тенями странников из «Затоваренной бочкотары»… То есть людей, отправившихся в путь не столько ради исследования, сколько ради встречи с мечтой. Причем путешествовать они могут при помощи множества средств: автомобилей, аэропланов, поездов, автобусов, плота… Или песен, кинофильмов, телепрограмм, общения с людьми, чтения и, конечно, писания.
Так получилась эта книга — «В поисках грустного бэби. Русский в Америке». В 1986 году она вышла в свет на английском, в твердом переплете в издательстве
Аксенов, как он умеет и любит, пишет не слишком быстро, но много и легко. И издает. При этом понимает, что даже прекрасно зная условия, которые необходимо соблюсти, чтобы вклиниться в список топовых продаж
И хотя в его книгах среди главных появляются и американские герои (скажем, профессор Патрик Тандерджет в «Ожоге», Генри Трастайм и Джим Доллархайд в «Желтке яйца», Стенли Корбах, Лора Мансур и Арт Даппертат в «Новом сладостном стиле», отрывная Кимберли Палмер в «Негативе положительного героя», профессор-баскетболист Эйб Шумейкер в «Кесаревом свечении» и много других), всё равно площадку в них держат русские: Игорек Велосипедов, Фенька Огарышева, Саша Корбах, Славка Горелик, Наташа (Какаша) Светлякова и прочие удивительные создания.
Гладилин пишет в «Аксеновской саге», что увидеть свое имя на обложке американского бестселлера Василий Павлович, вероятно, всё же желал. Однако Анатолий Тихонович согласен: у него «даже теоретически не могло получиться». Потому что, «чтобы написать американский бестселлер, — как утверждает Анатолий Тихонович, — надо писать плохо и о глупостях». А этого Аксенов не умел.
Нет никакого проку повторять, что писал он о важном. И это было трудно. Потому что из-за этой своей склонности в 1980-х он столкнулся с явлением, о котором будет много размышлять, говорить и писать в конце XX века и первые годы века XXI. Назовем его: коммерциализация издательской деятельности, одним из следствий которой стал постепенный уход серьезной книги. Не случайно в одном из интервью на вопрос: «Что вам не нравится в США? Что надо изменить?» — писатель ответил: «Здесь море ярких обложек и зовущих названий… И классно сделанных триллеров… Но их слишком, слишком много… Плюс — агрессивная реклама, создающая нездоровую атмосферу… Часто издатели озабочены только продажами. Это превращает книгу в просто товар. Это — проблема. И ее обсуждают не только иностранцы вроде меня, но и ваши интеллектуалы. Очень многие весьма обеспокоены».
Как и многим американским интеллектуалам, Аксенову, очарованному Штатами, кое-что было не по душе. Потом он расскажет об этом. Что же до «Грустного бэби», то речь там идет о простом: отсутствии в Америке живого массового интереса к окружающему миру, о «зажиме авангарда», о провинциализме. И хотя всё это не всегда можно счесть недостатками, писателю эти черты американской жизни не приглянулись.
Однажды в интервью журналист процитировал следующий фрагмент из книги: «Американцы до сих пор держатся клише 30-х годов, видят свою страну самой богатой и сильной, ее науку самой передовой, а свои фильмы самыми лучшими, своих атлетов — сильнейшими, и так далее… и доказательств не требуется. И на самом же деле, очень возможно, что все это так и даже лучше, но доказательство все же требуется»[192] и поинтересовался: «Как вы считаете: Америка на верном пути или она уже не богатейшая, интереснейшая и прекраснейшая страна на земле?»
Аксенов ответил: «Я не хотел этого сказать. Быть может, США — богатейшая и сильнейшая страна на земле, но я пытался объяснить, что заметил здесь явную нехватку интереса к остальному миру.
Я всегда стараюсь избегать обобщений… В США живут очень разные люди. Есть среди них и те, кто знает всё и обо всем… Они, несомненно, великолепные эксперты в самых разных областях. Но общее отношение к ряду вещей за пределами США, оно, мягко говоря, довольно прохладное. Вновь избегая обобщений, скажу, что когда я наблюдаю за тем, как здесь пишут о спорте и показывают спорт — а это одно из самых массовых развлечений, — то вижу, что заграничный спорт американцам не интересен.
Даже те соревнования, в которых участвуют американские спортсмены — выигрывают, проигрывают, — никого это не интересует.
— Вы писали, что искали в газетах хоть что-то о международных спортивных событиях и…
— Ничего не нашел. Ничего.
— А как вы считаете — почему?
— Не знаю. Не могу понять. Иногда ребята с телевидения объясняют это так: у нас нет времени рассказывать обо всем этом. У нас у самих очень активная спортивная жизнь. Но, хм… У них есть время на рассказ о проблемах с коленом футбольного квотербека. И о его планах на сезон. Но у них нет времени на сюжет о том, как команда Национальной баскетбольной лиги съездила в Европу на турнир по этому виду спорта, где впервые в истории состязаний играла с лучшими европейскими баскетболистами, выиграла и так далее. Ничего подобного. Ничего. Это и в самом деле странно».
Но любимый Аксеновым баскетбол — баскетболом, а телевидение — телевидением. Однако сказанное касается также и кино. В «Поисках» есть глава «Кафе „Ненаших звезд“». В ней лирический герой Аксенова внезапно встречает Жана Поля Бельмондо, который прохаживается в кожанке под нью-йоркским дождем, и приветствует его: месье Бельмондо? Тот вздрагивает: откуда, мол, меня знаете?
Оказывается, незнакомец видел, по крайней мере, десяток фильмов с участием именитого француза. Тот поражен: как видно, сэр, вы тоже иноземец. А узнав, что собеседник из России, унывает: так я и знал, меня здесь знают только русские эмигранты. Но ррраз, и он снова в настроении: вы бы, Василий, не линяли так быстро… Почему бы нам не выпить?.. В русском стиле, ха-ха-ха, как в Москве, на фестивале, с утра… С русским революционным размахом и галльским острым смыслом, давайте, что ли, пообедаем?..
Однако лирический герой Аксенова по имени Василий — не единственный в кафе, кто знает Жана Поля. Его приятельски приветствует бармен, а официант, приняв пальто, спешит за его любимыми пожарскими котлетами… Василий и Жан Поль устраиваются в углу, озирают помещение и — ну надо же! — видят вокруг немало мировых (но — не американских!) звезд. Здесь и японский режиссер Акира Куросава, и русский поэт Булат Окуджава, и Фредерик Шопен — варшавский музыкант, и кенигсбергский мыслитель Иммануил Кант, плюс — скромные нобелевские лауреаты из Старого Света — Уильям Голдинг[193] и Элиас Канетти[194]. Вообще знаменитостей немало — с минуты на минуту ожидаются Франц Беккенбауэр[195] и Клаудия Кардинале[196]. А это что за личности с уникального слайда? Ба! Да это же Фолькер Шлёндорф и Анджей Вайда!..[197]
Вечер, как видно, задается, но выводы так себе. Здесь если у кого и просят автограф, то у героев «Санта-Моники» и «Династии». Можно наслаждаться популярностью в Европе и мире, а в Штатах быть известным лишь бармену и сотне гостей, кое-что слышавших о глобальном кумире…
С литературой примерно то же самое.
Более того, речь идет не только о незнании зарубежных авторов и их текстов, но и о невостребованности массовой аудиторией того, что называют
Аксенов считал, что лично он столкнулся с этим явлением с первых месяцев пребывания в Америке. И это касалось любого автора, который мог и хотел создавать в Америке эту самую
Ибо и в самом деле — XX век был столетием торжества книги. В СССР — уж точно. А вместе с ней — и торжества писателя. Как творца, учителя, знаменитости, образца. Того, кому подражают, кого обсуждают и обожают, — так, в рассказе «Рандеву» некая барышня, заслышав о приходе в ресторацию Левы Малахитова, ахает: «Ой, девочки, я б ему с закрытыми глазами отдалась, только страшно…» Вот кто был в XX веке писатель — создатель книги. Места, где можно было искать ответы на важнейшие и сложнейшие вопросы: «почему мир устроен так?», «куда мы идем?», «в чем смысл?», «где Бог?», «что же делать?», «кто виноват?», «где справедливость?» и, конечно, на вопрос про любовь (во всей бесконечности вариаций). Книги славили и жгли. За них давали сроки и вручали венки. Их брали почитать на одну ночь, прятали под матрас, знали наизусть. Их фрагментами — как пассажами из «Бочкотары» — разговаривали студенты и мыслители. Книга была драгоценностью и предметом вожделений.
Но вдруг стало казаться, что всё как-то отчасти не вполне так. Что книга превращается в слишком магазинный товар. Вроде коммерческого кантри, джинсов «Левайс» или кока-колы. Да и сама кока-кола из таинственного снадобья, в котором еще неизвестно чего больше — пузырьков или свободы, — перетекала в обычный напиток средь сотен других. Включая и датское пиво, что, теряя идейный блеск, просто пенилось в желтом бокале.
Это было своего рода вызовом, ибо снимало актуальность борьбы с мифологией советской пропаганды, изображавшей «Карлсберг» несуществующим, а колу наркотиком. Аксенов рассказывал мне, что в 1967 году какие-то моряки поведали ему, как вышла у них поломка близ греческого порта. Звучал рок-н-ролл и огнем сияло в ночи: «Кока-кола». «И вот два юноши-матроса-комсомольца явились к капитану и спросили: „А можно мы, как пришвартуемся, пойдем кока-колы выпьем?“ Капитан глянул на них из-под козырька и шепнул: „Идите на х…!“ Чудный ответ! Мужик виртуозно снял с себя ответственность… Но что еще он мог сказать?»
И правда — что еще мог сказать отважный капитан в ответ на просьбу разрешить вкусить яд капитализма? Впрочем, считал Аксенов, «один из сильнейших ударов по красной идеологии нанесло баночное пиво. Это был предел мечтаний совка — пиво, которое не бьется и не тухнет!
Один большой специалист по пиву написал статью о том, почему советское баночное пиво получалось халтурой. Купили на Западе оборудование, запустили — и ничего не вышло: пиво тухло и тухло. Оказывается, забыли про состав, покрывающий внутреннюю поверхность банок и не допускающий скисания! Эксперта вызвали на Политбюро! И он доложил. А после рассказывал, как пятнадцать мрачных старцев за ним записывали! Так, сидя в святая святых созданной им системы, руководство ядерной сверхдержавы решало проблему протухания баночного пива…».
Понятное дело, почему отнюдь не в одном тексте Аксенова — да в том же «Острове Крым» и в той же «Цапле» — иные персонажи уделяют сугубое внимание именно датскому пиву. В «Крыме» высокопоставленные партийцы в тайной сауне пьют именно его. В «Цапле» директор пансионата и тайный делец Филипп Григорьевич Кампанеец требует от младшего партнера по черному бизнесу: «Мне сюда подкинь пару ящиков датского пива. Что? Где взять? Ты в своем уме, Игорь? Действуй, а то уволю!»
Вот чем был когда-то «Карлсберг»! Вот чем была кока-кола! Символами причастности к дефицитной свободе и изобилию Запада.
А книга (в ряде случаев) была неизмеримо круче. Но вот стала превращаться в просто пачку бумаги с буковками.
Когда-то Аксенову, зажатому в крепких рамках социалистического реализма, Америка виделась заповедником артистического авангарда, где «литературно-театрально-киношная сцена представляет собой пульсирующий и светящийся космополитический плейграунд. Глядя изнутри, видишь со всё нарастающим удивлением, что эта сцена, при всем ее гигантском размахе, носит черты деревенской лавки — поиски „вернячка“, боязнь риска, паника при слове „эксперимент“».
Ведь и гениальному Стивену Спилбергу долго не давали «крутого» бюджета — продюсеры подозревали его в склонности к авангардизму, на котором
На это дело дали 13 миллионов долларов, а заработала картина 25 068 724. Так Мазурски оправдал доверие финансистов и перестал их беспокоить своими поисками.
Забавно, замечает Аксенов, что когда-то Ленин провозгласил: «Искусство принадлежит народу!» И в Америке оно ему принадлежит: массы платят за искусство…
Впрочем, в «Грустном бэби» автор пишет не только об отношениях денег и культуры. Они — лишь часть рассказа о судьбе писателя в Америке. А он стоит того, чтобы уделить ему столько места.
В нем есть детали быта — все эти теперь хорошо нам знакомые посудомоечные машины, задержки с доставкой мебели и изумление консьержа, понявшего, что эти русские знают, что такое лифт. Вот и славно: разбираются в лифтах и с фондовой биржей разберутся.
Есть и повесть о черных американцах — таких разных в зависимости от места работы. И о тамошних бюрократах, таких похожих манерами и нравом на советских коллег, несмотря на свой компьютерный эквипмент. Есть и о сочетании черного цвета кожи и места за начальственным столом.
Лишенный советского гражданства писатель решил получить гражданство американское. Первым шагом было прошение об убежище — с присягой, заполнением многих бумаг, потерей этих бумаг в административных недрах. Осев в Вашингтоне, Василий и Майя почти год ждали их из Лос-Анджелеса. Не дождались и были вынуждены повторить процедуру в столице. Вторым шагом стало выправление «зеленой карты» — вида на жительство в США, дающего право на легальную работу и ряд других.
Ирония ситуации заключалась в том, что в Вашингтон чета приехала потому, что Василий получил стипендию в Институте Кеннана, где собрался писать роман «Бумажный пейзаж» о бедствиях советского человека среди бюрократических гор и твердынь, и именно эти твердыни Аксенову пришлось штурмовать в Вашингтоне. Его много раз отправляли прочь из-за нехватки некой справки или неверно заполненной формы. И вот бумаги собраны, представляя собой идеальный набор документов.
Но бесстрастная чиновница опять дала соискателю гринкарты от ворот поворот — в наборе не хватало какой-то второстепенной справки, предъявлять которую прежде никто не просил. Информацию по ней можно было легко получить, справившись в базе данных. Уставший от хождения по учреждениям и ожидания в очередях писатель посоветовал было чиновнице это и сделать. Тут-то и столкнулся он с начальственным гневом.
— Вы что, учить меня собираетесь моему делу? — вопросила суровая дама, в момент превратившись в
На скромные возражения она разразилась гневной отповедью: что это вы разговорились, мистер? У вас тут нет никаких прав… Вы просто беженец, понятно?! Правительство США не настаивает на том, чтобы вы жили в этой стране!
Ничего подобного привыкший ко многому писатель не только еще не встречал в США, но и не ожидал встретить. Он привык, что благополучие и отсутствие чувства вины делают американскую бюрократию вежливой, позитивной. А тут: «Если вы считаете, что с нами трудно иметь дело, можете убираться из нашей страны!» Опаньки…
Ему все разъяснил оказавшийся рядом поляк-эмигрант. Эта дама, сказал он, черная расистка. Но ведь вами-то тоже занималась черная, и ничего?! — изумился писатель. Но ведь не все же белые расисты, мой друг, — мягко описал ситуацию поляк. И поделился важным наблюдением: белому беженцу, особенно из Восточной Европы, где ему все уши прожужжали про угнетенных негров США, свойственно по отношению к ним — даже начальникам! — особое чувство: смесь высокомерия и снисходительности. Оно, бывает, и провоцирует агрессию: ну как же — эти бесправные беженцы чувствуют себя белыми, доминирующей расой. Даже унизиться им перед нами неунизительно…
Да, — писали американские критики об этом фрагменте «Грустного бэби», — Аксенов не оставил в СССР присущей ему иронии — этой частой спутницы русской литературы. И она позволила ему увидеть, что и он отнюдь не свободен от расистских комплексов, как, возможно, считал прежде. Ну что ж — добро пожаловать в Америку, где расовые ритуалы могут быть столь же непростыми, как придворные церемонии средневековой Японии. И при этом — столь же исторически обусловленными.
Аксенов сказал спасибо случайному наставнику. Он вообще хорошо относился к полякам — еще со знакомства с польским джазом и польскими журналами. А главное — с первого своего визита в Варшаву в 1960-х, когда увидел в этом народе некий тайный и интригующий источник вечной фронды, неубитого гонора, шляхетского норова вельможного панства. Он сочувствовал «Солидарности» и в 1982 году — в первые же недели военного положения в Польше выступил в печати с письмом «Помогите полякам»:
«Польский народ нуждается в немедленной помощи.
Военно-полицейский переворот, произведенный польскими генералами, при очевидной поддержке Москвы, грозит отбросить страну на многие годы в прошлое — в фашистскую диктатуру сталинского типа.
Много месяцев польские рабочие, крестьяне, интеллигенция и духовенство защищали свои гражданские права и свободы, героически и ненасильственно сопротивляясь темным силам партократии, которые довели их страну до полной разрухи. Сегодня тысячи патриотов арестовывают и избивают. В городах правят автоматы и дубинки, уже пролилась кровь многих людей.
В Польше решается судьба не только ее многострадального народа, но, как и в 1939 году, решается судьба Европы и всего человечества. Поляки, как это часто бывало прежде, борются за свою и за нашу свободу.
Мы призываем правительства всех стран, членов ООН, особенно тех, кто подписали Хельсинкские соглашения, мы призываем всех людей доброй воли: ПОМОГИТЕ ПОЛЯКАМ. Примите все возможные дипломатические и общественные меры. Еще не слишком поздно. Всё еще можно с помощью экономических и политических санкций, посредством постоянного гражданского действия остановить эту новую атаку тоталитаризма, усиливающую угрозу военной катастрофы.
Василий Аксенов, Ефим Эткинд, Петр Григоренко, Зинаида Григоренко, Лев Копелев, Павел Литвинов, Майя Литвинова, Михайло Михайлов, Карл Р. Проффер, Элендея Проффер, Андрей Синявский, Борис Шрагин и другие».
Воззвание было опубликовано в СМИ, в том числе и в
Взятие военными власти в Польше стало для Аксенова бедой. Как и для всех, кто видел в успехах «Солидарности» один из прообразов перемен в СССР. Сообщения о полицейской неумолимости спецназа, о разгонах забастовок, об арестах лидеров уже, казалось, победившей оппозиции звучали для писателя похоронным маршем надеждам.
Операция Войцеха Ярузельского похоронила и робкие (и если смотреть из нашего времени — довольно странные) надежды на то, что приход к власти «команды Юрия Андропова» после смерти Леонида Брежнева может обусловить какие-то реформы. Развитие событий в СССР — в том числе и в культуре — не обещало ничего хорошего.
Вот как оценивал Аксенов ситуацию в августе 1983 года, беседуя в Вашингтоне с основателем издательства и альманаха «Третья волна»[199] и журнала «Стрелец»[200] Александром Глезером: «…Там события развиваются очень печально. Все надежды на какой-то более разумный, более современный… подход со стороны андроповской группировки к литературе и искусству рухнули. Появившаяся за подписью „Литератор“[201] статья в „Литературной газете“ хорошо отражает мнение нового руководства. Там современностью и не пахнет.
Это… уровень райкома комсомола в… тридцатые годы. Опять призывают к созданию героя, похожего на Павку Корчагина… намек, что и деревенщики… не устраивают, так как неправильно оценивают коллективизацию…
Если у деревенщиков было хоть что-то живое в остром национальном чувстве, то это теперь тоже не нужно. Нужен, видимо, уровень литературы типа произведений Юлиана Семенова, образы разведчиков и других передовых современников. Но…
Это показывает только их безнадежно устаревшие вкусы и невозможность для них приспособиться к современному развитию культуры и вообще мира».
Но печаль не мешает Аксенову быть оптимистом! Он говорит: «Это не значит, что культура и литература заглохнут… Я уже не говорю о подпольной литературе. То и дело будут пробиваться живые ручейки. Возможно, они станут
То есть и по этой беседе, и по «Грустному бэби» выходило, что Россия — это не горькая беда человечества, как казалось многим на Западе, включая и иных эмигрантов, а временно свернувшая с торного пути страна культуры настолько мощной, что она способна, преодолев себя, вновь слиться с культурой цивилизованного мира.
Однако «атака тоталитаризма, усиливающая угрозу военной катастрофы», беспокоит писателя. Американская демократия представляется ему слишком хрупкой и уязвимой перед лицом советского колосса и его союзников, наступающих, как он считает, на всех фронтах. И если в Европе наступление удается сдержать, то на юге оно идет полным ходом и по многим направлениям, угрожая жизненным интересам свободного мира.
В книге сквозит страх перед слабостью Запада, его склонностью к компромиссам, а в чем-то и к капитулянтству. Аксенова раздражают сытые, наслаждающиеся благами демократии и рынка левые западные интеллектуалы. Он пишет об общении с ними как о попытке толковать со слепцами, слегка повредившимися умом. Они видятся ему политическими самоубийцами с острова Крым, почти готовыми сдать последнюю надежду западной цивилизации красному потопу.
Общение с этим, пусть немногочисленным, но влиятельным слоем стало для Аксенова вызовом. Похоже, он с горечью видел в его представителях «пятую колонну» «красного проекта», не подозревающую о своей опасной роли. Вызов был столь силен, что промолчать о нем Аксенов не мог. Однако был и другой вопрос: как делиться опасениями, не нарушая правил толерантности, принятых в обществе, где воспоминание о маккартизме[202] вызывает брезгливость почти у всех, в том числе и у добропорядочных консерваторов.
То есть, говоря об этом, писатель не желал уподобиться ни американским «охотникам на ведьм», ни советским разоблачителям крамолы, начиная с первых лет революции и заканчивая… ну, хотя бы — гонителями «МетрОполя». И он находит выход — помещает этих людей в пространство поучительных историй.
Вот, к примеру, однажды он с приятелем гулял по Вашингтону, и остановились они у витрины магазина
А вот другая история… Как-то, выгуливая своего щенка Ушика, писатель познакомился с приятной дамой, гулявшей с красавцем сенбернаром. Дама пригласила его и супругу в гости. Там — красивая компания. Старший — муж, седовласый юрист. Напитки, закуски, разговоры. Вдруг речь зашла о напряженности в Сальвадоре. Вставил слово и Аксенов: «Сальвадор, это очень серьезно». Все согласны. «Очень уж близко к дому», — развил он тему. И вновь — поддержан. «Да, да, очень уж близко…» — гомонили гости. А писатель видел, что занимает их вовсе не то, что волнует его: не угроза создания еще одной — плюс к Кубе и Никарагуа — красной базы вблизи США, а Пентагон, «готовящий новый Вьетнам». На сей раз — по соседству.
Потом заговорили о некоем сенаторе. Аксенов и тут не смолчал. «Третьего дня, — говорит, — он напугал меня чуть не до смерти». — «Да как же?» — спрашивают.
— Утром включил телевизор, а там он говорит: «Если стану президентом, сразу позвоню Юрию Андропову!» Такая вот первая фраза дня. Есть чего испугаться.
Всеобщее недоумение.
— Ну, ведь это всё равно, как если б он взялся звонить Берии!
Гостей эти слова настолько удивили, что они даже заметили иностранный выговор собеседника: «Кто этот незнакомый человек с таким неопределенным акцентом?»
— Откуда вы? — спрашивают.
— Из Советского Союза, — отвечают им.
Они поражены. Им интересно. Дальше — беседа со всё нарастающим числом знаков вопроса.
— А к нам какими судьбами?
— Меня выгнали из Советского Союза.
— Выгнали из Советского Союза?? За что???
— Я писатель…
— Писатель, которого выгнали из Советского Союза??? За что??? On Earth???[203]
— За книги.
— ???????
Поток вопросов иссяк. Тема изгнания из СССР «за книги» исчерпана.
Писатель догадался, что оказался в обществе американских левых. Видно, хозяйка сенбернара как-то неверно его прочла, причислив к их тусовке.
Тем временем Майя толковала с хозяином. Похоже, о Кастро.
Тот увещевал: он же выдающаяся личность!..
— Он выдающийся подонок! — рубила Майя. — Я там была и видела, как эти вожди живут в роскоши посреди пустоты, я и его самого видела — наглый тиран!
— Они там ликвидировали проституцию, безграмотность, всем дали жилье…
— Как в концлагере, — парировала Майя с несколько чрезмерной московской пылкостью.
О нет, супругам не указали на дверь, и вечер, в который они вторглись с этой яркой дискуссионной московской манерой, прошел вполне светски — с хорошими винами и сырами, в беседах о новых фильмах и книгах. Оказалось: у иных гостей русские корни. «В каком-то смысле, — подумал Аксенов, — их взгляды — вещь наследственная. Дедушки и бабушки привезли с собой антиимперскую и антибуржуазную крамолу, и здесь она как бы законсервировалась».
Глядя на этих людей, глухих к проблемам тогдашней Восточной Европы и СССР, Аксенов, защищавший польских рабочих, подумал о ловушке, куда угодили многие умники мира. О делении на «левых» и «правых». А как же электрики и профессора из «Солидарности», с рогулькой «V» над головой — они левые или правые? Советы клеймят этих людей в свитерах контрреволюцией. Значит, их оппоненты — революционеры? То есть вот эти щекастые в дорогих костюмах и блестящих лимузинах?
Таков был вызов реальности, брошенный и СССР, и США, и миру, и лично Аксенову тем новым, что родилось на верфях Гданьска. Но ничего — новое, когда приходит, порой несет с собой не только энтузиазм, но и неразбериху. Ведь и в СССР «левыми» назвали нонконформистов-«шестидесятников», а «правыми» — сталинцев: Кочетова, Грибачева, Софронова. Но в Штатах Василий и Майя оказались «правыми»…
Вложенное в пересказанный пассаж послание Аксенова, как видится, таково: у фронды, которую может себе позволить сильное общество с долголетней здоровой, либеральной, демократической традицией, нет шансов в системе, стержнем которой является классовая борьба, а задачей — удержание людей в послушании.
И потом, что бы запели эти живущие в элегантных квартирах, привыкшие к добрым винам и сырам, хорошо одетые и привыкшие к свободе слова американские левые, живи они в СССР, в Польше или в Румынии в разгар «красного проекта»?
Ведь эта система не приемлет фронды. Не терпит асимметрии ни в социальном действии, ни в идейном поиске, ни даже в застольной дискуссии.
К счастью, со времен полицейских побоищ 60-х — начала 70-х годов XX века Америка так окрепла и помудрела, что в 80-х могла спокойно принимать разномыслие и протест. Жестко пресекая попытки насилия.
Вот так стало мне ясно, что, возможно, задуманный как рефлексия иностранца на тему США «Грустный бэби» по мере работы над ним превратился в переосмысление автором отношений СССР и США и места Василия Аксенова — американского писателя русского происхождения — в борьбе систем. В авторский взгляд на США через призму СССР и — наоборот. В непрерывное сравнение, открытие, разъяснение. В том числе — себе.
Работая над «Грустным бэби», Аксенов отточил свое видение Америки — как ее повседневности, так и исторической миссии. И одновременно — понимание: что есть СССР. Что он значит для планеты и что в нем происходит. Осознание этой проблематики облегчалось удаленностью от оплота мира и социализма — воистину, лицом к лицу лица не увидать; анализу американской ситуации помогала свежесть восприятия — когда одна нога гостя, как говорится, осталась где-то вне. Это позволило ему выступить с рядом неожиданных и парадоксальных суждений. В том числе и о политике.
Так, если сами американцы видели в Уотергейтском деле[204] пример торжества демократии и того уровня свободы слова и печати, когда и глава государства, поправший этические нормы, не защищен от публичной критики, то Аксенов изгнание хозяина из Белого дома газетой
Эти слова звучат предупреждением американцам, убаюканным свободой, хозяйственной и военной мощью, мифом о глобальном величии.
Но Аксенов не был бы объективным исследователем, если бы не рассказал, как удалось ему увидеть и другую сторону этого дела, представить его в виде катаклизма, благотворного для политической системы США. Ибо без кризисов развития нет, и нормальные общества выходят из них окрепшими. «Нам трудно понять, — пишет Аксенов, — что американцы, в гигантском большинстве патриоты, не отождествляют страну с правительством (курсив мой. — Д. П.). Коммунисты всем вбили в голову, что… партия — это и есть Советский Союз, государство, воплощение национальной гордости… Мощь Америки автоматически вызывает у советских людей предположение, что и здесь происходит нечто подобное… что где-то существует единый (может быть, невидимый) центр, контролирующий всю американскую жизнь. Иначе как, мол, можно все это удерживать и приводить в действие?»
А вот так. Путем развития демократических институтов, преодоления самодовольства бюрократии, склонности военных к боевым операциям, а политиков — к интригам…
Удивительно. Как будто вчера писал. И не для американцев, а для нас. Он открыл (и в первую очередь себе), что мощь политической и социальной системы состоит не в железобетонной
Впрочем, без этого материального измерения мечты и не было бы. Иной раз, прогуливаясь по городу, взирая на людей, беседующих у фонтанов или на террасах кафе, Аксенов думал: о чем они толкуют? А уловив отдельные слова, понимал: о фондовом рынке, учетных ставках, процентах, депозитах. О налогах и тарифах. Короче — о деньгах.
С того момента, как Василий Павлович стал писателем, он был человеком состоятельным. Надо жить хорошо — таков был его разумный девиз. На смену не слишком частым денежным неурядицам обычно приходила светлая полоса. При этом он относился к деньгам без ханжества, не прятал от друзей и недругов.
Широкие траты, дорогие покупки и подарки считались в Союзе чем-то неудобным, непоказным, не вполне приличным. В Штатах же Василий и Майя обнаружили себя в обществе, где любые траты — дело почетное. Хотя покупка машины за полную цену, когда можно в рассрочку, или за наличные, когда можно платить карточкой, слегка удивляет…
Однако отношения с деньгами в основном наладились быстро, а что осталось за пределами понимания, вроде списания налогов и биржевых операций?.. Так ведь на то есть наемные бухгалтеры и юристы, готовые оказать клиенту услуги в этой сфере.
Вывод Аксенова: все американцы — финансисты, что не мешает многим из них быть духовными. Просто чья-то духовность живет только в храме, а чья-то — еще и в работах Леонардо, Шекспира, Брамса, Фолкнера, Кандинского, а глядишь — и Аксенова…
Публика его услышала.
Расчет был верным. Тем более что к моменту выхода книги в СССР началась перестройка и американские массмедиа вовсю рассуждали о
Вот, например, что писал Ричард Эдер в
„В поисках грустного бэби“ это рассказ о том, как долог путь эмигранта к желанному берегу; писателя-эмигранта — особенно. Цветы здесь другие, заметил Иосиф Бродский; и — что важнее — названия у цветов другие».
К этому времени, надо сказать, Аксенов уже освоил названия и здешних цветов, и местных зверей и птиц. И они ему, похоже, понравились. Это оценили критики. Как и рассуждение об искусстве, принадлежащем народу, который платит за него. «Но за какое искусство он платит? — задался вопросом Ричард Лингеман[205] из
— Разве подлинное искусство не всегда элитно? — спросил он Аксенова.
— Ну, конечно, — засмеялся тот.
Вообще, людям, хорошо живущим в хорошей стране, обычно приятно, когда о ней говорят хорошо. Даже если их профессия велит им быть объективными. Поэтому когда Дональд Моррисон в статье «Светлая изнанка»[206] в журнале
Отмечал он и справедливый сарказм писателя. Но обнадеживал: не надо бояться, что Америка вас отвергнет. Она рада своим сатирикам. Она любит их. «На самом деле, — подтрунивал Моррисон, — опасность в другом: как и другие остроумные гости, Аксенов может так полюбить эту страну, что его критицизм утратит зубастость».
Впрочем, Америка — страна великих возможностей. Аксенов знал, что имеет в виду, когда писал: «Вставая утром, сразу ищи, откуда тебе сияет улыбка Фортуны».
Жизнь покажет. Так или иначе, книга, изданная
Пока Аксенов скитался в поисках грустного бэби, пока писалась и готовилась к печати эта стратегически важная книга, издавались другие его сочинения.
В 1983 году в крупнейшем парижском издательстве
В Париже, в театре Шайо старый знакомый Антуан Витез поставил его «Цаплю», как парафраз чеховской «Чайки».
Структурно спектакль представлял собой переплетение смыслов и текстов Чехова и Аксенова, что Василию Павловичу было по душе. Премьера состоялась в конце 1983 года, с замечательной польской актрисой Богушей Шуберт в главной роли, и получила хорошие отзывы. В тот вечер Аксенов с Майей пришли в Шайо. Тысяча билетов была раскуплена. Все кресла заняты. В зале Александр и Ольга Зиновьевы, Владимир Максимов с Татьяной, с близкими Анатолий Гладилин, Александр Глейзер, Виктор Некрасов…
Кстати, Виктору Платоновичу спектакль не очень понравился. А что поделать — не любит человек авангард. И даже когда у тоненькой и трепетной Эдит Скоб, играющей Степаниду, начинают раздуваться тяжелые шары грудей и ягодиц, превращая ее в смехотворный символ претендующей на тотальность власти, лицо Некрасова сохраняло кисловатое выражение. Видно, не проняла его игра праправнучки генерала Скобельцына, некогда начальника 1-й Финляндской дивизии, с которой он и ушел от красных в Суоми…
«Остров Крым» в Штатах перевели быстро. Он вышел осенью 1983-го. И хотя «Ожог» из-за медлительности переводчика подзастрял, и он скоро увидел свет.
Кстати в Париже с романом сперва вышел конфуз. Издательство
Тем временем книги Аксенова выходили в Финляндии, Швеции, Западной Германии, Дании. «Ардис» выпустил «Бумажный пейзаж», начатый и законченный на Западе и ждущий выхода на английском в
Важно заметить, что говорить о книгах Аксенова в этот период приходится условно, используя вовсе не русскую грамматическую конструкцию настоящего продолженного времени —
Или, скажем, замысел «Нового сладостного стиля»… Возник он в 1980-х, тогда же началась и подготовка к работе над романом. Но писать его Аксенов стал в 1994-м. А свет он увидел в 1996-м. При этом список названий городов и весей, где Аксенов работал над книгой, занимает пять строк мелким курсивом. Среди них — Вашингтон, Москва, Стокгольм, пароход «Иван Кулибин», Тель-Авив, Самара, Берлез-Альп и др.
Кстати, география перемещений автора имеет самое прямое отношение к содержанию его книг, как и впечатления, полученные от развлекательных и деловых поездок, пришедшие на ум мысли, эмоции, встречи, приключения, занятия. И среди них такое особое дело, как преподавание.
Когда-то путь Аксенова по Америке начался с лос-анджелесских кварталов Венис-Бич и Пасифик Палисейдс — если дословно по-русски: с Венецианского пляжа и Пацифистских палисадов. Напомним, что тогда он был
С этой-то литературно-академической экскурсии 1975 года и началось многолетнее партнерство Аксенова с Американским университетом в самом широком смысле слова.
Северо-американская университетская традиция породила немало разнообразных ролей, в той или иной мере важных для учебного процесса. Одна из них — и не сказать, чтобы самая необычная — это writer-in-residence — дословно «писатель-в-доме». То есть в резиденции.
Словари дают несколько определений этой академической позиции. Среди них мне больше всего понравилось такое: «профессиональный писатель, временно участвующий в образовательном процессе, чтобы делиться озарениями».
Позиция эта почетная. Вот и Уильям Фолкнер занимал ее в университете штата Вирджиния с 1957-го до своей кончины в 1962 году. А Курт Воннегут и Джон Апдайк — в Смит-колледже и Эмерсон-колледже в Массачусетсе. Да и Владимир Набоков, бежавший из Франции от нацистов, в 1940 году был писателем-в-резиденции в Уэллеслей-колледже в том же Массачусетсе. Вспомним его профессора Тимофея Пнина и описание профессорского местопребывания: «…провинциальное заведение, искусственное озерцо посреди кампуса с подправленным ландшафтом, увитые плющом, соединяющие здания галереи, фрески с довольно похожими изображениями преподавателей в миг передачи ими светоча знаний от Аристотеля, Шекспира и Пастера толпе устрашающе сложенных фермерских сыновей и дочурок…»
Вот и Аксенов в 1981 году взялся за передачу светоча знаний, сперва приняв предложение от Мичиганского университете в Анн-Арборе, а затем — став «писателем-в-резиденции» в университете Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе. Потом он в этой же роли и в других должностях трудился в ряде ведущих учебных заведений: в 1982–1983 годах — в университете Джорджа Вашингтона, в городе Вашингтоне. Затем последовательно — в Гаучеровском колледже; в одном из престижнейших частных университетов — имени Джонса Хопкинса, что на Чарлз-стрит в городе Балтиморе; и в университете Джорджа Мэйсона на севере штата Вирджиния. Попутно он читал лекции, участвовал в конференциях и круглых столах, встречался со студентами и учеными более чем пятидесяти учебных заведений, которые называл «городами американской молодости». Среди них самые именитые — Беркли, Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе, Станфорд, Вашингтонский и Мичиганский университеты, университет Вандербильта, тот самый университет Вирджинии, где трудился Фолкнер, нью-йоркская «Колумбийка», Чикагский и Бостонский, сверхпрестижный Принстон…
Профессор Аксенов (а этот статус в США многозначен: так могут называть любого преподавателя, а с другой стороны — это официальный ранг в академической иерархии) питал немалое почтение к американской высшей школе. Университеты, утверждал он, — это «чудесная, ободряющая, очень положительная струя в американской жизни», которую он склонен был выделять на фоне всех положительных струй, под сенью которых творил в Америке. Его вдохновляло само это странноватое слово —
Фигура полисмена непривычна на кампусе. Фигура же писателя — вполне. Школа, стяжавшая престижный статус или претендующая на него, непременно находит писателя, который как бы еще больше облагораживает своим присутствием ее лужайки, аудитории, столовые и дискуссионные площадки. Твид, вельвет, ботиночки со скрипом, небрежно, но сложно завязанный шарф… То ли усы, то ли трубка, то ли сигара… А то и всё вместе — вот приметы субъекта, который вроде и не жестко необходим, но так хорошо смотрится, прогуливаясь по 340 акрам полян и лесов кампуса Гаучер, а то в задумчивости стоит над прудиком с красными рыбками близ ректорской виллы университета им. Джонса Хопкинса. Особенно если при этом он опирается на элегантный зонт.
«Можно было найти и альтернативы этому типу существования, — пишет Аксенов в „Грустном бэби“, — но, однако, все эти альтернативы посягали в большей степени… на мое писательское время». И далее: «Я выигрываю от этого ежемесячное жалованье, которое позволяет мне оплачивать хорошую квартиру в центре Вашингтона».
Однако ж и университет не оставался без выгоды. Взять хотя бы Гаучер-колледж. Василий Павлович три года состоял писателем-в-резиденции в этом чисто женском (что было в Америке уже редкостью) учебном заведении. Примерно тысяча девиц, исправно оплачивающих образование в престижной школе, — таков был состав этой более чем столетней институции, которую возглавляла дама-историк Рода Дорси. И всё это время — то есть три года — колледж платил за рекламные объявления, скажем, в газете
Главным же плюсом профессорской работы Аксенов считал «неизменный подскок настроения, когда обнаруживаю себя среди веселой и здоровой… благожелательной и любознательной молодежи».
Гаучер-колледж удостоил его звания
А что же именно поднимало писателю настроение в школьных городках? Простор, ухоженность лужаек, цветников и посадок. Чистота дорожек из гравия. Множество белок и других живых существ, снующих там и сям. Тысячи светляков, что маячат вечерами. Аккуратность построек. Предупредительность служителей и охраны. Продуманность и ненавязчивая рациональность всей организации жизни. А еще — радость от того, что удается показать американским студентам, что русская литература — это отнюдь не искусство унылых, пришибленных, угнетенных невротиков. Что, к примеру, в последние три десятилетия в ней царила такая страсть, какой в Штатах и не видывали. Не случайно, один из первых его семинаров назывался «Существование равно сопротивлению». Речь там шла об альманахе «Литературная Москва», о бунте против литературного сталинизма, о Нобелевской премии Пастернака и глумлении над ним, о противостоянии «Нового мира» и «Октября» как зеркале духовной борьбы 1960-х годов, которые в 1980-х еще не были так далеки от нас, как нынче…
А еще ему нравилось благообразие, усердие — материал они проходили с бешеной скоростью — воспитанность и сравнительная аполитичность его студентов. Сравнительная — с недалекими 1960–1970-ми годами. Ведь всего-то 10–15 лет назад родители или даже старшие братья и сестры этих юношей и девчонок в продранных на коленках штанах и маечках с дерзкими надписями очень раздражали писателя. Потому что бунтовали в сравнительно безопасной среде, тогда как в СССР, где проживал автор, их сверстники на это не решались. Ибо, во-первых, воля даже самых мятежных из них была раздавлена репрессивной машиной системы, а во-вторых, «виртуальность» подавления легко могла, скрежеща, переползти в реальность. А здесь — на Западе — давай, бунтуй… Обидно. Нет, не то чтобы бесились с жиру. Но по всему выходило, что угнетение уж куда круче на Востоке, чем на Западе, но Восток — молчок, а Запад — охоч до эскапад. А что нам эти эскапады? Отсюда и раздражение. И оно зафиксировано литературой.
Вспомним, что, завершенный в 1975 году и изданный на русском в 1980-м, «Ожог» вышел на английском в 1984-м. Вопрос: какое время реально актуально для текста, напечатанного через десять лет после завершения работы над ним? Точно не скажешь. Но американские читатели «Ожога» — а большинство из них, можно предположить, составляли люди, вышедшие из студенческого возраста, — хорошо помнили, как «во дворе кампуса… готовился революционный штурм. Всю ночь революционеры жгли костры, танцевали хулу, играли в скат, курили „грасс“, пели революционные песни, обсуждали проблему смычки с рабочим классом, ну и, конечно, факовались на всех ступеньках Ректорской лестницы». То есть перевод романа был для них вполне актуален и, возможно, значим.
В ту пору что-то подобное можно было наблюдать и в Беркли, и в Роттердаме, а потом (как говорили журналисты-международники и
Кстати, дух этот, о чем говорят иные события последнего времени, не выветрился ни из европейских кварталов, ни из российских посадов… Однако читаем дальше: «…Сопредседатели ревкома Джонни Диор и Эвридика Клико…» (Кстати, в книге нигде не указано, что имеются в виду знаменитые гламурно-шампанские дома «Dior» и «Clico». Впрочем, с давних пор «революционной» оппозиции, в частности и нынешней российской, строго говоря, не вполне чужда принадлежность к так называемым элитным слоям…) Итак, «сопредседатели ревкома Джонни Диор и Эвридика Клико… разработали план восстания. Как только телевизионщики расставят осветительные приборы, начнется штурм библиотеки[207]. Одновременно вспыхнут чучела профессоров и старших преподавателей. Вознесутся в небо портреты „святых“: Ленин, Мао, Сталин, Троцкий, Гитлер, Че Гевара, Арафат. Затем будет подорван тотемный столб либерализма, пятидесятиметровый обелиск с именами буржуазных ученых…».
Василий Павлович не раз бывал на Западе в разгар «революций». Посещал и бунтарский Беркли. И за время своего там пребывания насмотрелся на их причуды, а равно и на огромную удаленность западных мотиваций и практик восстания от восточных аналогов. Но на фоне всех разниц было у бунтов и общее: скажем, притом что западный бунт предусматривал известную гуманность, а русский тяготел к беспощадности, оба они казались писателю в равной мере бессмысленными.
Эту бессмысленность подчеркивает и приведенный им перечень фамилий красных «святых». Кстати, с той поры к этому списку добавилось не так много имен…
Но тогда«…первые лучи румяного пасторального солнышка осветили облака… Эвридика в последний раз провела юным пупырчатым языком по уставшему еще до революции отростку Дома Диора, глянула в небо и… закричала от изумления и ярости…».
Почаще бы глядели в небо, товарищи, — возможно, так следует понимать русского писателя Аксенова, — а не то оттуда явится нечто разочаровывающее. Так и вышло в книге: «На вершине университетского обелиска (предназначенного к разрушению. — Д. П.) отчетливо была видна койка-раскладушка, а на ней… профессор кафедры славистики Патрик Генри Танджерджет. <…> Как реакционер оказался на вершине, да еще с ящиком пива… осталось невыясненным. Наконец в разгаре дня профессор встал и попросил внимания.
— От имени и по поручению молодежи Симферополя и Ялты я сейчас обоссу всю вашу революцию, — сказал он… и, попросив извинения у девушек, исполнил обещание».
В «Ожоге» это звучало очень смешно. О, сколько радикальных движений того (и не только) времени приобрели весомость и значимость по вине властей университетов и штатов, не умевших общаться с ними, иначе как применяя насилие. Между тем, возможно, достаточно было одному отрывному профессору влезть на обелиск…
В этом фрагменте ясно отражено отношение советского мятежника Аксенова к мятежникам западных кампусов. Стоит ли удивляться, что его радовали спокойствие, внимание и дисциплинированность американских студентов 1980-х годов?
Во всяком случае, так было удобнее обсуждать и русский авангард, и Серебряный век, и тему «Роман — упругость жанра». Ему хотелось спокойно и без помех исследовать с подопечными важные вещи. А не бояться, что в аудиторию — как случилось когда-то в Беркли — толпой войдут суровые революционеры. И какой-нибудь черный атлет повелит отныне читать лекции исключительно о пролетарском писателе Максе Горьком. А в ответ на замечание, что, мол, и Влад Маяковский был пролетарским поэтом, услышать: «Нет. Только Макс Горький. Решение ревкома. Что-то неясно, проф?»
Ничего такого большинство профессоров не хотят. Если не считать завзятых анфан-терриблей XX, а, отчасти, и XXI века, вроде Герберта Маркузе или, скажем, в известных обстоятельствах, Жана Поля Сартра, Режи Дебре или Ноама Чомского. Но это — исключения очень специфические, по-своему особенные люди… А Аксенов был человеком особенным
А желал рассказывать о литературе. Любил ежесеместровую частичную смену лиц — американская система, в отличие от нашей, позволяет каждый семестр «брать» те классы, какие студенты считают нужными, а не пребывать в одной и той же группе все годы учения. Любил толпу школяров. Вот они топают от паркингов к корпусам — кто в джинсовых или полотняных лохмотьях, кто — с иголочки: рубашечка баттнз-даун, стильный галстучек, блейзерок, шортики, розовые коленки. Касается это и сугубо женских заведений… Там еще гольфики могут добавиться. И вообще, эти фермерские (хотя и не только) дочурки и сыновья сложены вовсе не устрашающе, а, за рядом исключений, вполне пропорционально, спортивно и привлекательно.
Аксенов так вдохновлялся общением со студентами, что увековечивал их (частично — под. псевдонимами) в романах и стихах. О романах расскажем чуть погодя, а со стихами произошла забавная история: они здорово перекликаются с набоковскими описаниями пнинских студентов. У Владимира Владимировича читаем: «Реестр записавшихся на курс русского языка включал одну студентку промежуточной группы, полную и старательную Бетти Блисс, одного, известного лишь по имени (Иван Дуб — он так и не воплотился), в группе повышенной сложности и трех в процветавшей начальной: Джозефину Малкин, чьи дед и бабка происходили из Минска, Чарльза Макбета, чудовищная память которого уже поглотила десяток языков и готова была похоронить еще десять, и томную Эйлин Лэйн, — этой кто-то внушил, что, овладев русским алфавитом, она сумеет без особых затруднений прочесть „Анну Карамазову“ в оригинале…»
У Василия Павловича подопечных было больше. К нему пожаловал не более и не менее, а
Двадцатилетний Стенли Яблонский
В стильном рванье — сплошной атлас! —
Обнаруживает странно японский
Абрис лица и рисунок глаз.
С ним его подруга, на груди монисто,
Калифорнийка Роксана Трент,
Голубоглазая постмодернистка,
Чья философия — эксперимент!
Рядом из глубинки «Дунька с трудоднями»,
Отряхивает с набрюшника потейто-чипс:
Звать ее Джейн, а фамилиё — Пастрами,
Уши продолжаются баранками клипс…
Аксеновские описания богаче. Студентов больше, палитра многоцветнее…
Бывший сержант дорожного патруля
Старательно отглаженный Рэнди О:
Глаза, что две разбалансированные пули,
Жизненные планы грандио —
Зны, в отличие таковых у Грэга
Миллера, что и так доволен собой.
Своими зубами цвета снега
И соломенной шевелюрой «голден бой».
Огненно-рыжая Шила О’Коннор
Символизирует весь свой клан:
На фоне зеленых проемов оконных
Она преподносит набор ирлан —
Дских многоцветий…
И еще пара страниц о тех, кто изучал «Модернизм и авангард в России начала XX века: Образы Утопии», или «Два столетия русского романа», либо проходил курс «Роман — упругость жанра» — в зависимости от того, когда и где судьба столкнула их с профессором Аксеновым.
Что касается Набокова, то мастер, думаю, был столь краток потому, что, во-первых, считал достаточным вдохновить пусть и незнакомого собрата-изгнанника и профессора на литературные изыски, а во-вторых, полагал, что о студентах — довольно.
Впрочем, не так просты перепутья писательско-профессорской жизни: Пнин у Набокова, бывало, отступал от канвы урока — шутил, веселился, хохотал до грушевидных слез, и «к тому времени, когда сам он становился совсем беспомощным, студенты уже валились на пол от хохота: Чарльз прерывисто лаял, как заводной, ослепительный ток неожиданно прелестного смеха преображал лишенную миловидности Джозефину, а Эйлин, отнюдь ее не лишенная, студенисто тряслась и неприлично хихикала».
Студенты Аксенова тоже не скучали. Он пробудил в них интерес не только к русской литературе, но и к писательству. Приходит, скажем, к профессору Аксенову некий, к примеру, Чарли Кукул или Моника Смит и заявляет: проф, меня тянет к роману, а как начать — не знаю.
— Заведите альбом, — отвечает проф (помните альбомчик Ахмадулиной?), — и записывайте туда всё, что думаете о романе. Всё, что находите нужного в книгах, на улице, в болтовне, диалоги, описания природы, варианты начала, финала. Только не составляйте плана. Роман интересно писать, когда не знаешь, что будет через пять страниц. Заполните альбом и увидите, что роман начинается.
В глазах Чарли (Моники) загорается удивительный свет, а лицо обращается в лик одержимого. С сиянием на лике он бежит за альбомом, чтобы заполнить его буковками — фразами, наблюдениями, главами… Или — не заполнить.
Ясное дело, о жизни на кампусе Аксенов рассказал в романах. Например — в «Кесаревом свечении», где поживает-переживает писатель в изгнании Стас Ваксино (он же — Влас (Влос) Ваксаков). И в «Новом сладостном стиле», где геройствует режиссер Саша Корбах. Причем оба, изгнанные с родины за убеждения и творческие вольности, преподают в одном и том же университете Пинкертон. Даже повествующие об этом главы называются одинаково! Только в «Свечении» название школы взято в кавычки, а в «Стиле» дано просто так — на босу ногу. А что такого? Один трудится в Центре исследования и разрешения конфликтных ситуаций (ЦИРКС), другой — в университетском театре «Черный куб». Они могли вообще не пересекаться. Кампус-то большой… Разве что в столовой — любимом месте их создателя, которому Аксенов посвятил немало строк.
Но нет. В Америке они не встретились. Им предстояло пересечься в будущем, в России, в другом романе и в сложной ситуации.
Пока же у Власа (он же Стас) — по утрам проверка зачетных работ, обсуждение темы «Любовный конфликт в русской литературе» на примере — понятно — «Дамы с собачкой» и показ слайдов супрематизма. У другого — сочинение чумовой пьесы и постановка обалденного спектакля.
Сперва он проболтался: мол, хочу ставить нечто о Данте, но был остановлен начальством, в американской простоте не умевшим понять: что
Виртуоз иносказаний, Аксенов нередко описывает личные ситуации, включая их в судьбу героев. Думается, и в истории постановки Корбахом Гоголя звучат отголоски дискуссий вокруг университетских курсов Василия Павловича.
Так или иначе, Саша чудодействовал в своем «Черном кубе». Студенты отпечатали дюжину маек с его фото, сделанным в мгновение высшего вдохновения, и яростно репетировали. Завкафедрой театра Найджел Таббак — довольный — повторял: «Саша, твой Достоевский мне спать не дает». — «Гоголь, Найджел, Гоголь», — уточнял режиссер-в-доме. «Для меня всё это Достоевский», — упорствовал зав. В подражание уже упомянутому нами вдохновителю — Набокову с его Толстоевским Саша придумал и себе мифического автора пьесы — лейтенанта Гоглоевского. И представил удивительное хулиганское шоу «Мистер Нос и другие сторонники здравого смысла», и впрямь замутив спектакль по Гоголю, но пронизав его от начала — то есть от вешалки, и до конца (понятно — фуршета с шампанским) новым сладостным стилем обожаемого Данта…
Студенты оттянулись по полной. Лабали в свое удовольствие. Замирали в барельефных стопах. Акакий Акакиевич виртуозно кружил на велосипеде. Шинель пела арию Каварадосси. Что делал Вий, сказать страшно. Панночка мгновенно превращалась в ведьму и обратно. Финал же пронзила такая заноза «неизлечимой печали», что президент «Пинкертона» миссис Миллхауз была в слезах. Соперники — соседи из университета Джорджа Мэйсона пристально присматривались к россиянину…
А в это самое время его любимая Нора Мансур летела в спейс-шаттле к неведомым звездам…
Воспарения Саши Корбаха могут ли не отражать, хоть отчасти, счастье Аксенова от преподавания? Могут. А нам это надо? Тем более что свидетельства Василия Павловича подтверждают: в университете он нашел себя. Университет, — напишет он, — мое самое любимое место в Америке.
Не есть ли этот триумф своеобразное переописание писательских успехов Аксенова, которому преподавание оставляло время, нужное для творчества? Ведь именно в пору профессорства явились только что упомянутые герои и романы, плюс — ряд других текстов. Например — «Желток яйца»…
Этот роман Аксенов писал по-английски. Взял и стал писать на языке, на котором преподавал и по большей части говорил. Как потом рассказывал автор, он с первых дней жизни в Штатах хотел написать в полном смысле слова «Американский роман». Этому помогло то, что преподавание требовало совершенствования его английского языка.
Аксенов и здесь завел альбом — как для романа — и принялся вносить в него новые слова, обороты, истории, стишки… Все это складывалось в серию забавных зарисовок. Вопрос: почему не объединить их в большое повествовательное полотно? Почему не убить двух зайцев —
Между тем всё реже английские фразы строились по-русски. Всё реже приходилось копаться в словарях. Всё забавнее были англоязычные шутки. Милее звучали проборматываемые английские фразы… К удовольствию от фонетики прибавлялась радость тугого сюжета.
ФБР узнает, что КГБ испытывает повышенный интерес к абсолютно открытой и аполитичной гуманитарной институции под названием Либеральная лига Линкольна (ЛЛЛ). Никаких секретов там нет — просто команда разноплеменных писак и болтунов осуществляет свои неинтересные разведкам проекты в здании сверхсовременной конструкции, имеющем форму яйца. Однако интерес Советов к учреждению очевиден: в столице действует их суперагент по кличке Зеро-Зет, попутно в Штаты — спасибо перестройке — прибывает таинственный исследователь Филларион Фофанофф. Вокруг ЛЛЛ замысловато сплетаются академические, шпионские и любовные сюжеты, и агенту ФБР Джиму Доллархайду поручают разобраться с этим делом.
Пережив кучу приключений, преодолев сотни препятствий и совершив массу открытий, Джим узнает, что цель красных — «Висбаденский дневник» Достоевского, где он рассказывает о своих отношениях с Карлом Марксом и их встречах в Германии. Товарищи почему-то считают этот документ «самым острым идеологическим материалом в мире» и стремятся завладеть им, что намерен сделать шпион под прикрытием — советник советского посольства (и тайный монархист) полковник КГБ Черночернов. Детективная история стремительно развивается. Вершатся сумасшедшие события с участием неуловимых русских суффиксов
Написав этот текст на английском, Аксенов познакомил с ним, что называется, носителей языка и после редактуры принялся читать фрагменты в различных аудиториях — от университета до столичного писательского общества. Приняли текст хорошо. Отчего ж не напечатать? И вот некий незадачливый агент направляет рукопись в 15 ведущих издательств. И все они ее возвращают с комментарием, выдержанным примерно в одном ключе: несмотря на немалую фантазию автора, читатель не примет его «тотальной иронии по поводу серьезных проблем». Так роман погиб для американского рынка. Лишь небольшие фрагменты публиковались в журналах, да французы издали его в издательстве
Потом Аксенов сам не без труда переложил «Желток» на русский и отдал в журнал «Знамя». А тот познакомил россиян с президентом ЛЛЛ Генри Трастаймом, язвительной феминисткой Урсулой Усрис, способным агентом Доллархайдом, старшим поваром посольства СССР генералом Егоровым и другими персонажами книги, главный герой которой, без сомнения, — город Вашингтон.
Автор стремился написать образ милой его сердцу столицы, в которой видел сходство с яйцом: скорлупа — это огромный, пересеченный парквеями Большой Вашингтон, белок — полумиллионная столица с офисами, музеями, кафе и книжными лавками. Желток — Старый город, где проживал сочинитель — профессор Аксенов.
Преподавание доставляло Аксенову такое удовольствие, что почти полуторачасовой путь от квартиры в Вашингтоне до парковки на кампусе не утомлял его.
К этому времени Василий и Майя определились с пристанищем в США. Местом жительства был выбран район Адамс-Морган, своеобразный центр которого — площадь Дюпон-серкл — это еще и достопримечательность американской столицы.
По московской привычке жить хотелось в центре — даунтауне. Несмотря на то, что на вирджинском берегу Патомака — в нескольких минутах от Белого дома, Конгресса и памятника Вашингтону, выше которого дома в городе не строят, за деньги, которые стоила квартира в столице, можно было снять целый дом. И приятели отговаривали: опасно, того и гляди — ограбят. Меж тем дом одного из них, в солидном пригороде, в последний год обворовали дважды, так что еще неизвестно, где риск был выше.
Искали не долго. Но и не коротко. Ибо не всякий апартамент отвечал ожиданиям прихотливой четы. А ей — чете — хотелось, чтобы, с одной стороны, окружающая среда слегка, пусть неуловимо напоминала прежнюю, московскую, а с другой — чтобы всё было таким, какого прежде не было и быть не могло. Так что поиски были не просты. Однако ж всё вдруг сладилось: прибыв по газетному объявлению в северо-западную часть города — Старый Вашингтон — на улицу Вайоминг и осмотрев жилье, супруги поняли: это то, что нужно. Двухэтажный, с винтовой лестницей, белоснежный, с огромными окнами, откуда открывался вид на всю американскую демократию и крыши Вашингтона, — столичный этот терем был исполнением их ожиданий. Стоили покои по тем временам очень прилично — 1200 долларов в месяц. Но чего не заплатишь за воплощенную мечту? А также — за оборудование. Всё прочее — стереосистема, пишущие машинки, компьютеры, ксерокс и мебель — было вскоре доставлено.
Улица Вайоминг застроена в основном домами в викторианском стиле. Магазин сети
По соседству располагалась (как, впрочем, и теперь) вашингтонская посольская слобода, включавшая немало и советских учреждений, а ныне — и новое российское посольство — на Висконсин-авеню, дом 2650.
Соседний с Вайоминг район Адамс-Морган, получивший название благодаря двум расположенным в нем десегрегированным школам, привлекал сочинителя сексуальной, социальной и конфессиональной пестротой. Как-то Майя пошла за покупками и сказала чернокожей продавщице, что скоро праздник — православная Пасха. Вау! — воскликнула та. Это же и наш праздник. Мы — эфиопы. И празднуем Пасху Христову в один день с русскими!
Рядом — славная площадь Дюпон, названная в честь адмирала — героя Гражданской войны и радующая сходством с Парижем, Брюсселем или, скажем… словом — с Европой. Начиная с середины 1970-х район стал популярен в богемной тусовке и среди сторонников альтернативных образов жизни. Там витает дух творчества и небезгрешной любви.
Всё это расположено на вершине и склонах холма Кафедрал Хейте — Храмового. По утрам улицы и бульвары заполняют трафик и бегуны. Среди последних в 1980-х и 1990-х можно было встретить зрелого молодого человека с аккуратными усами, седой шевелюрой и острым взором — профессора Аксенова на ежедневной пробежке…
«Дорогой господин Александр Корбах, зная Вас как одного из выдающихся режиссеров современного Мирового театра, Президент и Совет Попечителей университета Пинкертон имеют честь предложить Вам позицию „режиссера-в-резиденции“ сроком на три года (с полной возможностью продления) и с годовым окладом 70 тысяч долларов (переговоры по поводу увеличения этой суммы возможны). В договоре, разумеется, будут предусмотрены все дополнительные бенефиты, в частности, по медицинскому страхованию и пенсионному фонду.
Мы искренне надеемся, что Вы примете наше предложение и академическая общественность нашего университета, а также и всего Большого Вашингтона обогатится таким исключительно ценным сотрудником. Мы предвкушаем удовольствие от новых спектаклей в Вашем экспериментальном театре, созданных под влиянием Ваших театральных, поэтических и философских идей.
С более подробным письмом к Вам обратится заведующий Кафедрой театра профессор Найджел Таббак.
Искренне Ваш
Бенджамен Ф. Миллхауз, Президент».
Это приглашение получил герой романа «Новый сладостный стиль» от руководства вымышленного университета Пинкертон, который, судя по сведениям, приведенным в книге, расположен примерно там же, где и университет Джорджа Мэйсона.
Из этого последнего Василий Павлович Аксенов, весьма вероятно, получил похожий текст, с поправкой на то, что Саша все же был лицедеем, а его создатель — писателем, а также на вольную волю автора романа называть всё что угодно как угодно, в том числе и университеты. Ручаться за близость содержания и стилистики писем нельзя, но, честно говоря, стиль послания очень схож с эпистолярной классикой такого рода.
Как бы то ни было, Аксенов принял приглашение. И вот — с 1988 года — он преподает в
«Джордж Мэйсон» и Василий Аксенов — особая история. По свидетельству его литературного агента Виктора Есипова, университет шесть раз выдвигал писателя на Нобелевскую премию по литературе. Таков был его авторитет среди руководства, студентов и профессоров элитной академической группы Кларенса Робинсона.
Его ученица — единственная, «взявшая» у Аксенова пять семестров — Юлия Бикбова вспоминает, что от других профессоров Аксенова отличало всё.
«Он всегда строго держался заявленной темы занятий, но вел их очень живо, — рассказывает Юля. — Случалось, люди приезжали из других мест именно послушать лекции Василия Павловича. При этом его отличала редкая требовательность к себе и к студентам. Было хорошо видно, что его лекции тщательнейше спланированы. Казалось совершенно естественным, что он требует того же от наших работ.
Кто-то — особенно студенты из России — шел на его курс в надежде на легкое „А“ — американскую пятерку. Ребята ошибались. Легких зачетов им не „светило“. Зато они узнавали невероятно много о русской литературе. Впрочем, речь в лекциях не шла о литературе и только. Аксенов погружал нас в жизнь людей искусства, в хитросплетения биографий, мировоззрений и отношений героев тогдашней художественной среды, которые казались головокружительными. Он полагал, что, не погрузившись в богатейший культурный контекст, нельзя понять творчества российских писателей тех эпох.
Можно ли, не имея представления об Андрее Белом, его взглядах и переживаниях, понять, про что он говорит нам в таких романах, как „Петербург“ или „Котик Летаев“? Можно ли, на зная, как жили создатели и авторы „Мира искусства“, разобраться, почему журнал был именно таким, а его роль — столь значимой? Можно ли судить о стихах Ахматовой или Гумилева, не будучи знакомым с духом литературных кабачков, вроде „Бродячей собаки“ или „Кафе поэтов“? И уместно ли рассуждать о литературе, зная лишь тексты, но не ведая о страстях, влюбленностях и поисках их авторов? А, кроме того, можно ли предположить, что литературный процесс и литературная среда отгорожены от сред и процессов, свойственных другим искусствам? Аксенов считал, что нельзя. И предлагал курс, где речь шла об архитектуре, живописи, театре, кино, модах и стиле жизни. Всё это делало его лекции захватывающими, а вопросы превращали их в увлекательный диалог».
Впрочем, спрашивал и Аксенов. И ошеломленным «неординарным неандертальцам из вашингтонских пригородов», как называет их Юлия Бикбова, приходилось попотеть. Попотела и она.
Вообще, Юлина история очень любопытна, просто уникальна. Профессиональная фигуристка, член молодежной сборной СССР, окончив школу, она оставила родной Киев, отправившись в США, где упорством и настойчивостью добилась возвращения в большой спорт, работала тренером, параллельно учась в колледжах, а потом избрала карьеру юриста. И поступив в бизнес-школу университета Джорджа Мэйсона, двинулась дальше — к цели. Тут кто-то подарил ей книгу «Новый сладостный стиль». Состоялось первое знакомство с аксеновской прозой. Книга ошеломила Юлю! «Это была фантастика! — говорит она. — Отличный язык, удивительные ситуации, потрясающие герои, феерический вихрь свободы… Это поразило меня». Каково же было удивление девушки, когда она увидела имя автора в списке преподавателей университета. Без долгих размышлений будущая дама-юрист записалась на курс Аксенова. Это не помешало ей идти к цели, но… «безмерно обогатило жизнь…» — признается Юля.
Несколько лет спустя она увидит в зале московского суда Михаила Ходорковского и невольно назовет его именем героя только что прочитанного в самолете аксеновского романа. «Ген!» — скажет она. Все удивятся… Название романа — «Редкие земли». Его герой — Гена Стратофонтов. Мы еще встретимся с ним…
Аксенов проработал в «Джордж Мэйсон» с 1988 по 2004 год. Этот университет стал последним, где он преподавал.
Штаты ностальгируют по Европе. При кажущемся самодовольстве и нарочитой самодостаточности они скучают по Старому Свету. Несложно представить себе, как ночами Эмпайр-стейт-билдинг шлет послания Эйфелевой башне, а монумент Вашингтона переговаривается с памятником Тысячелетия России.
Травма разъятости европейской культуры отзывается в исторической памяти американцев. И хотя общий язык с бывшей метрополией — а теперь уже и с почти всем миром — сильное лекарство, ностальгия чувствуется…
Она отражается в архитектуре колледжей и министерств, в репликах героев фильма Тарантино «Криминальное чтиво» (уважительно о мистере Вульве: «настоящий европеец») и обилии селений с именами европейских городов — Москва, Париж, Мемфис, Сиракузы, Афины… Ну а коли есть Афины, то как не быть Парфеновну?
Есть в Америке Парфенов! Его учредил Аксенов. Так он назвал американский университет.
«Я благодарю небо, что попал в американский университет, — рассказывал Василий Павлович в интервью журналу „Аэрофлот“. — Во-первых, я мог неплохо зарабатывать, а во-вторых, я оказался в прекрасном обществе». Неплохо зарабатывать, находясь при этом в прекрасном обществе, — согласитесь, это очень здорово и случается не так уж и часто!
Василий Аксенов работал в университете, с перерывами, конечно, с первых дней своей жизни в США до ухода в отставку из «Джордж Мэйсон» в 2004 году.
На устроенном по этому случаю приеме после речей президента Алана Мартене, провоста Питера Стерна, драматурга Пола Д’Андреа и политолога Джона Пэйдена выступил виновник торжества — Василий Аксенов.
Его речь, полная тепла и признательности, называлась «Парфенон не лжет». Аксенов говорил, что благодарен Провидению за то, что оно открыло для него ворота кампуса, за которыми ждала настоящая автономия, «обеспечивающая своим гражданам все свободы» и ставшая для писателя«…настоящей Америкой, приверженной своим традиционным ценностям: либерализму, гостеприимству, сдержанности и отпущению грехов». Он говорил о счастье быть членом академического сообщества, о радости синергии. Парфенон же в античных Афинах был храмом Акрополя, посвященным Афине, которая в дохристианскую эпоху почиталась богиней мудрости. В таких речах не нужны сложные метафоры. Достаточно простых.
— Университет — это мой храм, — провозгласил Аксенов. — Университет — источник вечного кислорода. За все эти двадцать четыре года[208] университет ни разу меня не подвел, никогда не предал. Университет — это Парфенон, а Парфенон не лжет.
Все эти годы, относясь к студентам как к равным, он старался внедрить в их умы важную для себя идею: входя в университет, и студент, и преподаватель присоединяются к интеллектуальному меньшинству общества. Тому, от коего зависит, сумеет ли оно успешно встретить «цунами новых угроз и вызовов на заре XXI века».
«Вечерний ритуал распития хереса в вашингтонском институте, известном под кличкой Тройное Эл, то есть Линкольн Либерал Лииг, или иначе — Либеральная лига Линкольна, был в полном разгаре. Не менее сотни исследователей с международной репутацией толпились вокруг овального стола, жужжа как рой трудовых пчел. Дух академического сотрудничества… явно преобладал над сплетнями.
Можно легко предположить, что никто (или почти никто) в этой славной толпе, так живо потребляющей всеобщую элегантность вместе с традиционным академическим напитком, не догадывался, что находится под пристальным наблюдением сверху.
…Мы имеем в виду, говоря „сверху“, один из прихотливых балкончиков, расположенных под гигантским куполом супермодернистской конструкции, известной в Вашингтоне, округ Колумбия, под кличкой Яйцо. Одним из наблюдателей был спецагент Джим Доллархайд, контрразведка ФБР. Вторым — Каспар Свингчэар, начальник службы безопасности Тройного Эл.
— Скажите, что вы думаете об этой симпатичной толпе внизу? — спросил спецагент.
— Вы имеете в виду эту свору бездельников? Большинство из них — это отходы человеческой расы…
— Но кто же все-таки в этой толпе может быть советским шпионом?
С полным презрением Каспар Свингчэар пожал плечами:
— Да никто! Слишком низкая квалификация для любой ответственной работы».
Так шутливо описывает Аксенов в романе «Желток яйца» как бы нравы знаменитого Института Кеннана, в котором в 1981 году ему довелось получить фэллоушип[209] и потом год — до истечения в 1982-м срока проекта — писать свой другой американский роман «Бумажный пейзаж» — первый, название которого пришло ему в голову не на русском, а на английском языке.
«Бумажный пейзаж» — это сатира. Сатира на советскую жизнь. История о том, как научный сотрудник Игорь Велосипедов — простак, тридцатилетний мальчик нежный, кудрявый, влюбленный — попадает в сложную ситуацию. С одной стороны, любовь и ревность — Фенька Огарышева, юная художница-гедонистка, уверенно прокладывающая себе в царство свободы дорогу не только грудью, но и другими частями тела, энергично блудя с наставниками по живописному ремеслу. С другой — советская власть — все та же Степанида — со всей своей бюрократией, счетами, уведомлениями, заявлениями, извещениями агитпункта и избирательного участка, календарями Ленинского университета миллионов… С горами бумажного хлама, заполняющего жизнь человека, погребающего под собой эту жизнь, высасывающего соки из ее человечьего тела в тело бумажное — незнамо чье — чудовищное. А тут еще письмо из ОВИРа: «Вашу поездку в Народную Республику Болгария Мосгорисполком счел нецелесообразной». И еще повестка к следователю в качестве свидетеля, плюс — зов в военкомат, на поверку готовности к утверждению мира во всем мире.
Ну как тут — завтракая яйцом и кефиром — не понять: жизнь не удалась… А ведь это не самое лучшее, чем можно начать созидательный день. И как тут младшему лейтенанту Велосипедову не включить воображение: восстание в войсках, в предрассветном тумане — танки на перекрестках, два младших лейтенанта в одной башне — он и она… Короче — броня крепка. Короче — Сенатская площадь. Константина! Константина! Короче, героическое поражение и глубина сибирских руд. А может — победа? Триумф демократии над бюрократией, флаги на башнях?!.. А, Велосипедов?
Короче, при прямом столкновении двух могучих сил на бранном поле нежной душе может быть (почти) гарантирован нервный срыв.
А тут еще кругом юные люди — любители джазовой скрипки — со своими элитарными замашками. Советские партаппаратчики во всей красе. Опять же — Комитет государственной безопасности: с генералами, офицерами, проверками на мужскую дружбу и лихими утехами. Нежнейшие требования: подписать немедля письмо деятелей науки, культуры и всего остального, осуждающее Солженицына и Сахарова. А также — диссиденты и около того, циничные деятели искусств, ну и, конечно, африканские гости, наглядно демонстрирующие местным жителям свое к ним презрение.
А ведь жизнь не стоит на месте — влечет! А что ей ответишь, если у тебя яйцо да кефир, а у начальства — по талонам языковой колбасы кило, шейки полкило, британский джин, да итальянский чинзано, да водка винтовая, плюс — крабовое мясо, и всё для баб? Не ровен час — задиссидуешь! Не успеешь оглянуться — пропадешь. Бар «Лабиринт». Драка. Стычка во дворе с сутяжной старушенцией Анной Светличной. Получение чугунным утюгом по голове. Суд. Приговор. Потьма. Америка. Да что ж это, чувачки?
Попал поневоле в Нью-Йорк — обратно возврата уж нету. И надо тебе, юноша бледный со взором смущенным, постигать капитализм. Ан — оно и не так трудно — ибо там уже и бывший секретарь комсомольской организации Большого театра Саша Калашников, и звездочки-балериночки, и менты, и умные сионисты, и почти все участники советского периода романа. И вот ты обнимаешь свою любовь на Юнион-сквер, не понимая — то ли схлопывает над вами Манхэттен сияющие зубья, толи простирает бескрайние дали, где ты — в жерле вулкана или на пике горы… И пока по небесному окоему текут мимо вас облака, полные огня и мрака, видишь, что счастлив и будешь жить дальше.
Вот такие сочинения выходили из-под пера Аксенова в Институте Кеннана — во флаговой башне Смитсониевского замка, что стоит прямо на Молле — между зданием Конгресса и монументом Джорджу Вашингтону. Архитектурно это странное кирпичное здание и в самом деле представляет собой замок с башней, на которой трепещет знамя высокой академической институции.
Сама же институция, учрежденная в декабре 1974 года в структуре Международного научного центра имени Вудро Вильсона по инициативе видного дипломата Джорджа Ф. Кеннана и историка Фредерика Стара и названная в честь видного исследователя России Джорджа Кеннана-старшего, имеет целью обогащение знаний о России и странах бывшего СССР. Впрочем, когда Аксенов был приглашен в институт в роли исследователя-стипендиата, СССР не был бывшим. И по понятным причинам, институт не давал стипендий советским ученым, чиновникам, представителям СМИ и частного сектора. Но уже тогда стипендиаты имели доступ к лучшим библиотекам, архивам, научным ресурсам США, а также возможность общаться с интересными и полезными людьми.
Такому общению и служил описанный Аксеновым ритуал распития хереса (шерри) в зале, именуемом «Ротонда». Кстати, он, похоже, произвел на Василия Павловича такое впечатление, что был увековечен не только в «Желтке яйца», но и в написанном под крышей института «Бумажном пейзаже», а также в книге «В поисках грустного бэби». Причем во всех произведениях автор не столько наслаждался аристократическим напитком, сколько тревожился по поводу беззаботности американцев.
Казалось бы, что тут такого? Собрались милейшие и, весьма вероятно, умнейшие люди гуманитарного сообщества употребить по рюмашке, о чем тревожиться-то? А о том, что «вот так они доупотребляются. Вот так доиграются. В тревожное время, когда тоталитаризм прет отовсюду, они болтают и попивают шерри». На это не преминул указать автору некий знакомый ему по СССР эмигрант. Ну, то есть ни минуты покоя. Вечный бой. Держи, товарищ, порох сухим!.. И хотя писателю удалось успокоить гостя, сообщив, что немедленно после шеррипития вся компания разойдется «по офисам чистить дедовские карабины», в тираде беглеца слышались отголоски тревоги автора.
Была ли она обоснованной? Мороз на Востоке крепчал. Вслед за Леонидом Брежневым у кремлевского штурвала встал Юрий Андропов. То есть для американских советологов и кремленологов настала интереснейшая пора — смена владык! Есть, что поизучать. О чем потолковать. Обо что поломать умные копья. А когорта специалистов по России подобралась в Штатах весьма солидная и компетентная.
Кстати, к тому времени Аксенов был уже 16 лет знаком с директором и одним из основателей центра Вудро Вильсона историком Джимом Биллингтоном. Они познакомились в 1965 году, когда последний появился в Москве в тридцатиградусный мороз в черном пальто, оксфордском шарфе и всепогодном кепи светлого окраса, очень подходящем для прогулок по осеннему Переделкину или Кускову, но не по ледяной улице Горького. Меж тем высокий, краснощекий, окутанный паром профессор, казалось, чувствовал себя прекрасно. Если бы его ученые уши не обещали отвалиться.
Тем временем, — как рассказывал мне Аксенов, — готовясь к отправке в новый поход от одного творческого клуба к другому, Джим и Вася «отчаянно напились, вывалились на мороз, и я сказал: „Чтоб ты не сдох, я тебе дарю меховую шапку“». То есть молодой, сообразительный и милосердный советский прозаик Василий снял с буйной головы богатую русским теплом шапенцию и надел на хрустящую льдинками макушку интересующегося, но угасающего заокеанского интеллектуала.
И тот в долгу не остался — отдарился «кепи олл сизонс». Этот головной убор ждала занятная судьба. В том же году Аксенов прибыл в ней в город Прагу. Прибыв, был увлечен в бар «Ялта», где восхитился игрой пианиста, которому в знак расположения отдал кепочку. А какое-то время спустя она выпрыгнула в другом заведении. Пианист передарил ее, отправив гулять по Праге, Европе и миру… «Я про это кепи написал рассказ, — делился Аксенов, — но потерял — не могу найти. А оно время от времени всё попадается. То там, то сям…»[210]
Так вот этот Джеймс Биллингтон, прощаясь со спасителем близ отеля «Метрополь», сообщил, что увозит из Москвы труд по истории русской культуры под названием «Икона и топор», который лежит вот здесь — в чемодане. Чтобы подкрепить это сообщение, он открыл кейс и предъявил пачку страниц. Тут неожиданный порыв ветра, пролетавший по проспекту Маркса, вырвал листы из рук исследователя, и он, вместе с русским другом, комично запрыгал посреди одной из главных магистралей столицы, вырывая свой труд из пасти беспощадной зимы.
И вот теперь автор «Иконы и топора» принимал в Вашингтоне своего надежного партнера по московским похождениям и приключениям.
Тут важно добавить несколько слов о Научном центре имени Вудро Вильсона[211]. Это в высшей степени респектабельное учреждение было основано в 1968 году и служит мемориалом президенту США, который возглавлял страну в один из сложнейших моментов истории — во время Первой мировой войны и послевоенного периода. Этот человек был убежденным пацифистом, верил в возможность мира и стоял у истоков Лиги наций — первой попытки создания международной системы безопасности.
Центр Вудро Вильсона не связан с политическими партиями и существует на средства государственных и частных фондов, занимаясь изучением международных отношений и обеспечивая свободный диалог интеллектуалов из разных стран. Сотрудники и стипендиаты центра видят свою миссию в развитии связей между миром идей и миром политики, миром забот и тревог креативного класса и пространством принятия решений.
Тот факт, что Василий Аксенов стал стипендиатом института, работающего в структуре именно этого центра, конечно, не случаен и объясняется не столько приятельством с Джеймсом Биллингтоном, сколько верностью центра классическим либеральным ценностям. Как известно, многочисленные американские
Это устраивало наследников президента Вильсона. Они, впрочем, давали стипендии и китайским партийцам, и польским диссидентам, и новым философам Галлии.
Их кабинеты располагались как раз в башне Смитсониевского замка — удивительного здания с витражными окнами и подъездом, подобным парадному входу в королевский дворец, где царствует гарант конституции какой-нибудь небольшой благородной монархии. Представители разных мировоззрений, погруженные в свои занятия, общались, тем не менее, живо и дружелюбно. Когда китайский партиец, познакомившись с советским беженцем, услышал, что тот был лишен гражданства за литературную деятельность, на его лице отразилась тень благородной эмоции и он выразил изгнаннику сочувствие и недоумение по поводу этого акта. То есть повел себя так, будто за его спиной не красный Китай, а как минимум британский парламент. Француз же печально пожал плечами: видимо, возможность торжества свободы и справедливости в этом мире казалась ему весьма туманной. Что же до польского профессора, то он как раз работал в Институте Кеннана во время переворота Ярузельского и теперь не знал, кто он: то ли политический беженец, то ли гость. Гражданства его не лишали, но возвращение становилось всё более проблематичным.
Работалось Аксенову хорошо. Обретенные благополучие и покой резко контрастировали с последними годами жизни в Союзе. Он мог читать советские издания (не зря говаривал Виктор Некрасов: чтение «Правды» — хорошее лекарство от ностальгии), писать «Бумажный пейзаж», общаться с гуманитариями всего мира.
Впрочем, не все гости чувствовали себя спокойно в его присутствии. Так, советские визитеры при встрече с ним на ученых мероприятиях обнаруживали либо медленную дрожь, либо нежданную потерю памяти. «Один из них, — пишет Аксенов в „Грустном бэби“, — мой в прошлом приятель, как-то сидел в двух метрах от меня, однако не замечал меня до такой степени, что я даже стал ощущать некоторую бесплотность».
Но вот вопрос: так ли уж нужна писателю значительная плотность? Не мешает ли она ему парить? Отправляться в полет над башнями Смитсониевского центра, монументами, музеями и водоемами Молла, над куполом Капитолия и портиками Национальной библиотеки? Говорят, такие парения помогают преодолевать притяжение бумажных и иных земных пейзажей… А порой таят и возможности удивительных встреч. Вероятно, в одном из таких воспарений Василий Павлович и познакомился со своей соседкой по башне — древней и мудрой совой, что по легенде прилетела в Вашингтон с дальнего юга, и вот уже 150 лет проживает на чердаке большой башни замка.
Аксенов даже как-то описал, что, когда флаг сильно хлопает под порывами южного ветра, можно увидеть старика, выбирающегося из неоготической амбразуры и «плюхающегося в воздушный потоп. По всей вероятности, это самый „продвинутый“ мыслитель Международного центра, а может, и всего дистрикта Колумбия».
Конечно, можно допустить, что Василий Павлович видел соседа с земли или из окошка офиса, но что мешает предположить, что они встретились над Вашингтоном, где-то близ колоннады мавзолея Томаса Джефферсона… Сова летела погулять в не столь отдаленный национальный парк Шенандоа. Аксенов парил просто так, по-писательски.
Но вот точка в «Бумажном пейзаже» поставлена. Проекты соседей завершены. В последний раз пригубив шерри, они расстаются. Париж, Пекин —
Всё это время Аксенов не то чтобы был погружен в эмигрантскую среду, но контактов с ней не чурался. Его можно было видеть в православных храмах Балтимора и Вашингтона, в Русском доме. Он перезванивался, а бывая в Европе, виделся с Максимовым, Войновичем, Некрасовым, Гладилиным, Зиновьевым, а в Штатах общался с Соколовым, Довлатовым, Алешковским, Неизвестным и другими изгнанниками. И хотя к представителям разных волн эмиграции он относился с разной степенью иронии, отношение было товарищеским, понимающим… Он верил, что, несмотря на ностальгию и сложности «вписывания» в новый мир, эмигранты могут добиться в нем успеха. Чем они хуже ирландцев, поляков, немцев, мексиканцев, а также восточных европейцев, сделавших в Штатах карьеру и деньги? Хотя, конечно, лучше не мерить Америку родным осиновым аршином, сохраняя в то же время свою особенную стать. И потом, никто не мешает верить в Россию, а жить на Западе…
И хотя Аксенов в основном рассказывал success stories — истории успеха русских беженцев, судьба людей, оторванных от родины, печалила его. Как и смерть на чужбине.
Об этом — трогательный рассказ «В районе площади Дюпон», где повествуется о судьбе умершего от СПИДа вашингтонца Жени Кацнельсона, под именем которого, по словам Анатолия Макарова, скрыт знакомый ему бывший артист театра «Современник» Лев Вайнштейн. Да-да, тот, что так здорово играл штурмана Леню Гуревича в «Хронике пикирующего бомбардировщика» и Янкеля в неповторимой «Республике ШКИД»… В официальной биографии сказано, что Лев скончался от осложнения после пневмонии, и, возможно, так и было, но это не делает историю Жени менее печальной.
Тема особой экзистенциальной ситуации, душевного состояния под названием «эмиграция», оторванности человека от своей страны звучала в текстах Аксенова и прежде — в очерке «Под небом знойной Аргентины» и в книгах 1970-х годов «Мой дедушка — памятник», «Джин Грин — неприкасаемый», «Круглые сутки нон-стоп». Прозвучит и в больших русско-американо-французских романах «Бумажный пейзаж», «Новый сладостный стиль», «Кесарево свечение», «Редкие земли» и в других…
А пока, работая над романами, Аксенов пробует себя и в англоязычной эссеистике. Он считает, этот жанр близок его читателям — американским интеллектуалам. Сложно сказать, ошибся ли он в оценке аудитории, но другой он не знал и публиковался в изданиях, рассчитанных на осмысленно читающего американца, а не на выбирающего книги по обложке…
Десятого марта 1985 года в
А люди, которых читали миллионы, от трудов праведных не нажили алмазов в каменных пещерах, да и палаты у них были более скромными, чем у американских коллег.
Четырнадцатого апреля того же года в другом престижном журнале
Как всегда, Аксенов пишет о своем. О близком лично себе. Имея в виду новую книгу. Уже обсуждавшиеся нами пассажи из «Грустного бэби» и интервью писателя во многом перекликаются с суждениями, высказанными в этих журнальных текстах. Логично увидеть в эссе и фрагменты будущей успешной книги.
Хотя — как посмотреть… Зависит от того, о каком успехе речь — советском или американском? Впрочем, продажи «Бэби» в США были не плохи, как и пресса. А о продажах и прессе в СССР (только уже СССР 1991 года) и говорить нечего.
Нельзя сказать, что Аксенов был баловнем американской критики. Порой появлялись статьи отнюдь ему не дружественные. Так в июле 1985 года американская писательница и постоянный автор журнала
И хотя у себя на родине они считались солами беллоу, грэмами гринами и гюнтерами грассами местного разлива, западному читателю, считает Фернанда, они чужды. Прежде всего, потому, что эти «ренегаты-коммунисты», «гедонисты — дети „оттепели“» и «православные консерваторы, равно враждебные и коммунизму и Западу», пишут не то, не так и не о том. Вот Аксенов, например, — яркий пример буйного и самовлюбленного анархиствующего гедониста. Обласканный советской властью, баловень системы, он до эмиграции на Запад, подобно Евгению Евтушенко, служил «официальным повстанцем», которого журили, но почти всё ему позволяли. А он дрейфовал от мятежных эскапад к покаяниям и обратно. В остальном же это такой как бы советский Норман Мейлер (хоть и склонный считать себя Хемингуэем) — футболист, саксофонист, друг знаменитостей, хипарь, кутила, киношник и бабник.
Кроме того, он сюрреалист. Почитайте «Затоваренную бочкотару» (по английски — Surplussed Barrelware) — это полное невнятного сарказма сочинение непонятно даже переводчикам, пояснительные ссылки в нем едва ли не превосходят объемом сам текст! И хотя у него есть неплохие вещи, вроде «Стальной Птицы» и рассказа «Поэма экстаза» (образ героя которого, по мнению Фернанды, навеян Мохаммедом Али), в целом, западный читатель, опрометчиво раскрыв сборник, рискует потонуть в потоке «литературных эхо», каламбуров и аллюзий. А «Ожог» — это просто какая-то биография алкоголика и эротомана, который, «несмотря на присущую ему энергию, склонность к красочности в описаниях и дар слова», тем не менее, ничему хорошему не учит.
А чему может научить роман, где «секс, наркотики и алкоголь сделаны основными метафорами иллюзорных свобод», а «все описанные свободолюбцы — пафосные развратники и бездушные дорогие шлюхи»? — сетует Фернанда. «Аксенов, — вздыхает она, — всё к чему прикасается, превращает в какую-то гадость: выпивку — в похмельную дрожь и слезливый бред, секс — в развязность, мастурбацию и насилие. Всё у него редуцировано до уровня бренд-неймов, даже врач у операционного стола благоухает „московским плейбойским букетом: коньяком ‘Реми Мартен’, одеколоном ‘Ярдли’, сигаретами ‘Кент’, спермой и женской секрецией“». И если убрать из «Ожога» все «грязные слова», то там «останется мало что сверх зажигалок „Ронсон“, виски „Джонни Уокер Блэк Лейбл“, автомобилей „фольксваген“ и костюмов от Кардена». И что самое неприятное, пока размазанные в своей ненависти и любви русские герои романа остаются патриотами России (пусть даже неведомой республики 1917 года), герой-американец Патрик Генри Тандерджет обзывает свою страну «шлюхой, чудовищным осьминогом, мешком полумертвой протоплазмы, а американский флаг — заблеванной простыней». Понятное дело, любовь к своей стране — это, пожалуй, единственная добродетель в этой трясине анархистской сентиментальности.
А куда это годится?! Ругал бы лучше свою эсэсэрию и не марал нечистым пером старую славу USA! А он взял да из России удрал и наслаждается жизнью в Вашингтоне, получая денежки за жалобы на американскую массовую культуру. Плохо, что Советская страна так устроена, что «пожирает своих детей, а потом изрыгает их» на американские лужайки.
Можно, дескать, догадаться, что Советы этого типа 20 лет терпели, разрешали ему издаваться тысячными тиражами и разъезжать по миру, включая и Америку, а потом всё же сожрали. А как такого терпеть?
И все они одним миром мазаны — есть получше, есть похуже, но все друг дружки стоят. И чего наши издательства взялись их издавать? Держали бы в эмигрантском гетто, где они понемногу печатались бы для подобных себе. Такой, примерно, вывод можно сделать из объемистой и пафосной статьи Фернанды Эберстадт.
Надо ли говорить, что Фернанда рассердила русских писателей в изгнании?
Владимир Максимов направил в
Что же касается ситуации в американском литературном бизнесе, то Максимов соглашается с Аксеновым: «Мы, воспитанные на вдохновляющих примерах Томаса Вульфа, Уильяма Фолкнера, Скотта Фицджеральда… и других мастеров, стали свидетелями того, как литературные спекулянты превращают великую американскую прозу в базар саморекламы и вульгарного приспособленчества к читательским вкусам».
Отправил письмо в редакцию и Алексей Цветков[214], указав на ошибки Эберстадт (причислила Есенина к символистам и вообще немало напутала), предположил, что она не вполне компетентна для писания подобных статей.
Не скрыл своего возмущения и Аксенов. В книге «Американская кириллица» в главе «Гнев Фернанды» он с горечью пишет, что в ее статье «очень много неправды, которую можно отнести и за счет хорошо мне ведомых „русских консультантов“ Эберстадт (она была студенткой в классе Бродского), а можно, впрочем, оставить и на ее совести. <…> Что касается поездки 1975 года в Беркли, то за эту поездку я бился едва ли не целый год… и по приезде написал книгу американских очерков „Круглые сутки нон-стоп“. Забавно, что в них… не содержится почти никакой критики американской жизни».
Кстати, в 1984 году госпожа Эберстадт путешествовала по СССР, о чем написала заметки в Commentary. Судя по ним, Союз показали Фернанде с наилучшей стороны…
В 1975 году Америку к Аксенову никто красивым боком не поворачивал. И он, без сомнения, уже тогда видел вещи, которые вызывали немало вопросов. Но считал нелепым указывать на недостатки американской жизни, будучи советским писателем. И счел правильным делать это, поселившись в США. Чего, видимо, не поняла Фернанда.
Он не хотел писать, подлаживаясь под рыночные вкусы. И тем более под вкус госпожи Эберстадт. Но ситуация неумолимо менялась. Причем не только в Америке, но и в Западной Европе. Выживание издательств во всё большей степени зависело от продаж. Это диктовало политику в области тем, жанров, стилей, имен. И хотя процесс растянулся во времени, это мало что изменило. Еще годы пройдут до того, как владелец крупнейшего французского издательства
Еще в 1980 году агент сказал ему: «Василий, здесь нет авангардной традиции». Гротеск, ирония, искренность в искусстве всегда настораживали тех, кто думал о прибылях. Это смущало еще Есенина: «…места нет здесь мечтам и химерам, / отшумела тех лет пора, / все курьеры, курьеры, курьеры, / маклера, маклера, маклера… / если хочешь здесь душу выржать, то сочтут: или глуп, или пьян, // вот она мировая биржа…»
И хотя Аксенову есенинское «ржание души» близко, видимо, не было, настороженность в глазах издателей беспокоила его. Но он оставался оптимистом.
Впрочем, не станем глубоко вникать в перипетии, связанные с изданием книг Василия Павловича в США. Тем более что сам он потом говорил о них, как и о многом другом, так:
There was a man in well known a nation,
He was worth of a modest quotation.
Having beer once he said:
You can grasp outset.
You cannot understand termination.
По-русски это могло бы звучать… ну как-то вот так, что ли:
Жил-был дяденька в некой известной стране,
Был он скромной цитаты достоин вполне.
Как-то сидя за пивом,
Рек: начало — красиво.
Но, ей-богу, финал не по мне.
— Добрый вечер, господа… — начинал он эфир.
Передача шла на русском, но заголовок был английским. Хорошо освоив язык, Аксенов принялся играть с ним так же, как играл с русским, используя богатство и разнообразие созвучий и многозначных слов. Вот английское capital. С одной стороны, это существительное означает именно «капитал» (не только финансовый, но любой — человеческий, репутационный, культурный). С другой — существительное, означающее «столицу». А с третьей — прилагательное: «главный», «большой», «капитальный»… В итоге в заголовке уместился целый ряд значений.
«Смена столиц» — это лежит на поверхности, отражает факт: мол, раньше жил в одной столице, а нынче в другой. «Капитальная смена» или «Большая перемена» — указывает на то, что перемещение не было простым, значило для ведущего немало и в корне переменило его жизнь. Теперь он во многом оперирует не тем капиталом, что прежде… Хотя, думается, главным капиталом Аксенова всегда был талант — способность творить, это ведь тоже самовозрастающая стоимость, если уметь ею управлять…
Сам же Василий Павлович писал: «В названии рубрики, ясное дело, с одной стороны, речь шла как бы о капитальных изменениях в жизни, а с другой, как бы подразумевалось отсутствие таковых; ничего, мол, особенного не случилось — раньше жили в русской столице, а теперь в американской». То есть, ко всему прочему, в названии отразилась присущая ему сдержанность в выносе на люди драматических эпизодов жизни: дескать, ничего особенного, всё нормально — живем в Америке, пишем книги, преподаем в университете, путешествуем, а сейчас выходим в эфир: добрый вечер, господа!..
Выступать на радио «Свобода» и «Голос Америки», то есть в каком-то смысле говорить от лица страны — не простое было дело. Не в том смысле, что тяжко давались скрипты, а в том, что разговор шел с людьми из СССР — то есть поверх «железного занавеса», который стал, казалось, еще железнее, крепче, непроницаемее…
Между тем в самом СССР сложилась курьезная ситуация. С одной стороны, власть глушила, а пропаганда громила «вражьи голоса», а с другой — их аудитория неизменно росла, и, по американским данным, к 1980-м годам число слушателей «Свободы» в СССР составило семь миллионов, Би-би-си — около пятнадцати миллионов, а «Голоса Америки» — более тридцати миллионов человек. В 1984 году Политбюро ЦК КПСС и Совмин приняли секретное постановление о строительстве восемнадцати новых систем глушения. И все равно секретарю ЦК КПСС Егору Лигачеву и сменившему Юрия Андропова на посту председателя КГБ Виктору Чебрикову в письме в ЦК от 25 сентября 1986 года пришлось отметить: «…средствами дальней и ближней защиты… перекрываются регионы страны, в которых проживают около 100–130 млн человек». Это означало, что передачи западных радиостанций могли слушать около половины жителей Союза. Чтобы обеспечить более плотное глушение, собирались ставить «глушилки» во Вьетнаме и Сирии.
Вот такое значение придавалось проблеме свободного эфира. Стоит ли удивляться, что в СССР иностранные радиостанции, вещающие по-русски, именовали «вражескими»? На карикатурах их обычно изображали в виде выползающих из радиоприемника смертоносных змеюк. И первым среди этих «ядовитых голосов», конечно, был голос радио «Свобода». Трудно найти печатное ругательство, которым бы советская печать не клеймила радиостанцию. Чем же она занималась, по мнению оппонентов? «Вела оголтелую антисоветскую, антикоммунистическую пропаганду, прямо призывая к ликвидации советской власти». «Была частью системы лжи и обмана, системы заговоров с целью ввести в заблуждение… всякого, кто был готов слушать». «Обрушивала потоки беззастенчивой лжи и подлой клеветы на народы СССР и стран народной демократии».
Доставалось и «Немецкой волне», Би-би-си, «Голосу Америки», другим передатчикам. «Русская пословица „с кем поведешься, от того и наберешься“, — пишет в книге „Бизнес на правах человека“ советский эксперт-международник Владимир Большаков[215], — как нельзя лучше подходит для характеристики тесных контактов „Голоса Америки“… и других западных радиостанций с радио „Свобода“».
Так в СССР писали о «радиоголосах». Меж тем ежевечерне множество советских слушателей настраивали свои «спидолы», шарили по волнам, меняли положения приборов, заземляли их на себя, тянули антенны под потолки.
По мере приближения к перестройке глушение становилось плотнее, а агитация яростнее. Тому были причины. «Существенно изменилось соотношение сил на мировой арене, — говорил на июньском (1983 года) пленуме ЦК КПСС генсек Юрий Андропов. — Произошло небывалое обострение борьбы двух мировых общественных систем». Будучи лучше всех информирован о реальном положении дел в советской экономике и обществе, бывший председатель КГБ хорошо понимал, что социализм проиграл соревнование с Западом, что обостряло ситуацию: чем слабее становилась система, тем громче ревела пропаганда. В материалах того же пленума указывалось: «Против Советского Союза, стран социализма ведется беспрецедентная по масштабам и оголтелости психологическая война». На острие этой войны охранители видели всё, что представляло точку зрения, не схожую с официальной. И в первую очередь — зарубежные русскоязычные издания и радиостанции, и всех, кто там работал.
«Радиоголоса, — пишет Большаков, — по команде Картера и К°[216] включились в „психологическую войну“ против стран социализма, не стесняясь даже использовать подстрекательские призывы разного рода „отщепенцев“ к борьбе с существующим в СССР… строем. Начиная с 1977 года „Голос Америки“, Би-би-си, „Немецкая волна“ стали всё чаще предоставлять им свои микрофоны…»
Кого же имел в виду товарищ Большаков? В том числе близких друзей Аксенова — Владимира Максимова, Виктора Некрасова, Анатолия Гладилина.
В ноябре 1985 года в журнале «Крокодил» вышел памфлет А. Балакирева «Полное превращение», посвященный Гладилину и Максимову. Самый мягкий эпитет, адресованный им, — «проходимцы». «Презренно их существование! — усердствует автор. — Жалок и бесславен будет их закат», что же касается Виктора Некрасова, уже ушедшего на пенсию, то по отношению к нему нет предела авторскому злорадству: «Ах, как самозабвенно заходился он у микрофона „Свободы“. О, эти океанские пляжи. О, комфортабельные тюрьмы! И как же отблагодарил благословенный Запад своего панегириста? Когда у Некрасова иссяк запас антисоветского красноречия, он тут же получил уведомление, что в его услугах больше не нуждаются. И вот семидесятилетний старик выброшен на улицу с пенсией, которая… в два раза ниже официального уровня бедности. Где вы теперь, Виктор Платонович? На каких шикарных пляжах собираете объедки? В какую комфортабельную тюрьму в зимнюю стужу вас пустят погреться?»
Но товарищ Балакирев злорадствовал напрасно. Аксенов утверждал, что в годы холодной войны на радио «Свобода» всегда было ядро русских интеллектуалов, влиявшее на американскую администрацию станции. И в том числе — в хозяйственных вопросах, например — гонораров и пенсий. Так благодаря помощи входивших в него младших (по возрасту, а отчасти и по литературному авторитету) друзей и коллег Виктор Некрасов до конца дней не нуждался ни в чем. Куда более молодому Аксенову приходилось рассчитывать в основном на себя…
Ярость кадровых советских солдат тайной войны вызывала готовность западных радиоголосов вещать «часами бредовые произведения разного рода подонков, опубликованные путем „самиздата“ и переправленные на Запад». Между тем оставалось всего несколько лет до дня, когда те, кого Владимир Большаков именовал «подонками», выйдут из подполья или заключения, вернутся из ссылок и изгнаний и будут обласканы признанием. А их машинописные тексты увидят свет тысячными тиражами. Но пока всё было не так. И когда-то известный советский писатель, а теперь ведущий «Смены столиц» причислялся к «отщепенцам». Вот такая «Большая перемена».
Между тем у части московской публики сложилась привычка: собравшись на выпивон, включали приемник, и услышав: «Добрый вечер, господа», говорили: «Ну, теперь поехали…» Для многих десятилетие с 1980 по 1990 год прошло под знаком аксеновских передач. Любопытно свидетельство музыканта и шоумена Псоя Короленко: «Мое восприятие поэтики, проблематики, идеологии и стиля Аксенова в чем-то симптоматично для людей моего возраста и образа жизни. Я впервые услышал непосредственно его голос в год Олимпиады-1980, когда учился в шестом классе (! — Д. П.) и из любопытства включил „Голос Америки“.
Голос был живым и неказенным… Оказалось, что это тот самый Аксенов, по повести которого снят фильм „Коллеги“ и который написал детские повести „Мой дедушка — памятник“ и „Сундучок, в котором что-то стучит“. Его же „Бочкотару“ рекомендовали даже умеренно вольнолюбивые учителя литературы… А вслед… пошла и более сложная повесть „В поисках жанра“…
…Существует предание, что именно Аксенов придумал слово „чувак“ и что сначала оно расшифровывалось как Человек, Уважающий Великую Американскую Культуру. Аксенов был автором, наиболее громко сказавшим о себе и своих: „Мы — стиляги, мы — штатники“. Но аксеновская Америка — это не только страна за океаном, а еще и более широкий образ Запада…»
Именно этот образ возникал в сознании слушателей его передач. Хотя и были они довольно часто не про Америку и Запад, а про СССР. Или про русских и советских за границей. Или про тех и других вне пределов человеческого разума — например, в Афганистане. А то — вспоминались дела не так уж давно минувших дней: глумление над Зощенко и Ахматовой, чугунная ждановская пуговица, грузилом повешенная на шею искусства да так и не снятая окончательно. Или дела недавние — арест Евгения Козловского, автора изданных в «Континенте» повести «Красная площадь» и рассказа «Чиновница и диссидент» и участника альманаха «Каталог Клуба беллетристов».
Аксенов со скорбью откликнулся на смерть Трифонова и годовщину гибели Галича. Как и на девяностолетие Маяковского, которого, несмотря на бунинское «самый низкий, самый циничный и вредный слуга советского людоедства», почитал за стихи начала века, написанные «юношей молодой России, прекрасным и жалким», за «Флейту-позвоночник», «Облако в штанах», за «…а вы ноктюрн сыграть могли бы?..». Ведь если «самый вредный слуга», то почему его не жаловал Ленин, а Крупская, громя «Мистерию-буфф», доказывала, что такое искусство не нужно ни трудящимся, ни революции?
Конечно, Аксенов не пытался перекрасить Маяковского в контрреволюционера. Но ему удалось показать, что его наивная революционность была антитоталитарна. А также, что революционность, свободная от красных химер, не страшна. Во что еще было верить, как не в контрдеспотическую революцию духа в СССР, увязшем в застое? А Маяковский-то, как ни крути, а показал на блюде красного студня «косые скулы океана»…
Отмечал он и юбилеи живых. Например — пятидесятилетие Андрея Вознесенского, коему пришла пора превращаться из московского паренька в переделкинского мастера. Однако ж ведь не просто же он «восстановил своим творчеством прерванную коммуникацию между поэтическим авангардом 20-х годов и нашими днями. Ведь не зря же и „Секвоя Ленина“ была подсвечена живым огоньком, а в призыве убрать Ленина с денег сквозила искренняя страсть…». За то, что Аксенов назвал секвою «дурацкой» и был прям в суждениях о друге, тот не надул губы, не расплевался, а встретив, обнял и расцеловал.
Все эти фрагменты, темы и сюжеты — не просто эпизоды «идеологической войны в эфире». Это моменты жизни героя, который не будучи уверен, что его слово доходит до недавних читателей с книгами «Ардиса», нес им его на волнах «Свободы» и «Голоса».
В 1980 году, когда Аксенов впервые пришел в вашингтонское бюро «Свободы», он был поражен простотой обихода и нравов. В каморке, схожей скорее с колхозным радиоузлом, чем с глобальным штабом свободной информации, работали двое. Бывший советский офицер Борис Оршанский, ушедший на Запад потому, что «не мог уже всего этого выносить», и звукотехник Богдан, изъяснявшийся в духе Станюковича, типа «холера ясна!», и укреплявший падающий микрофон пустыми коробками.
«Ну что, Вася, давайте поклевещем?» — с улыбкой спросил Оршанский, начиная запись. Внезапно раздались скрежет дрели и долбеж молота…
— Вот ведь, — расстроился Борис, — вечно они там что-то чинят. Придется записываться между молотом и дрелью.
Аксенову там понравилось. И не в последнюю очередь то, что Оршанский шутил, когда можно было ждать истерики.
Сложно сказать, был ли писатель разочарован тем, с чем столкнулся, приступая к своим радиоопытам. Ведь у слушателей «Свободы» или «Голоса Америки» внутренний глаз сразу высвечивал либо летающую тарелку, набитую спецами ЦРУ, либо кулуары, ведущие в полные злых миазмов закрома дезинформации. А тут — комнатка, коробки и не лишенные чувства юмора люди, несущие их слово тем, кого Солженицын призывал жить не по лжи и кто его призыв не то что не услышал, а не понял, что он значит.
Кстати, среди передач Аксенова была и очень добрая и почтительная, адресованная Александру Исаевичу. В ней он вспомнил встречу двух лагерников — Солженицына и Гинзбург. Аксенова поразил рассказ мамы о том, как автор «Одного дня Ивана Денисовича», уже готовившийся к мытарствам, спросил ее: сколько вам лет, как вы себя чувствуете, много ли пишете в день? И рассчитал, сколько Евгении Соломоновне надлежало написать за, возможно, отведенный ей для активной работы отрезок жизни.
— Можно только представить, — говорил Аксенов, — насколько суровый счет Солженицын предъявляет себе. Насколько неумолима его самокалькуляция.
В этом Аксенов видел причины его затворничества. «Писать, писать, писать, отмывать обосравшуюся во лжи историю». В этой миссии Солженицына совсем другой и по складу, и по мировоззрению Аксенов видел «недостижимый нравственный предел».
— А что было бы, — вопрошал он, — получи Солженицын Ленинскую премию, на которую его выдвигали? Свободный разговор о прошлом вывел бы на чистую воду всех, кто был повязан грязными делами. Что, возможно, привело бы к большим переменам.
Но и так заслуги автора «Архипелага ГУЛАГ» неоценимы. И одна из них в том, что он начал сводить на нет стилистику оттепели с «ее системой намеков, иллюзий и кукишей в кармане». Столкнувшись с прямой речью в полный голос, намек «становится неуместным вздором». И понимая это, многие «дети „Оттепели“» либо постепенно переставали нести этот вздор, либо превращали намек — в метафору, а анекдот — в притчу.
И хотя Аксенов во многом не согласен с Солженицыным — в частности, с его неприятием периода русской революции между февралем и октябрем, который сам считал самым ярким ее моментом, он благодарен Александру Исаевичу за то, что тот явил «самую светлую, самую чистую струю просвещенного русского патриотизма».
Не забывал Аксенов и тех, кто явил пример иного рода. Тех, кто в годы репрессий наглухо спаял слова «рифмач» и «палач». Он вспоминает Виктора Гусева, который в дни процессов над «вредителями» и «заговорщиками» азартно кричал с трибун:
Гнев страны в одном рокочет слове,
Я произношу его — расстрел!
Расстрелять предателей Отчизны,
Порешивших Родину сгубить!
Расстрелять во имя нашей жизни!
И во имя счастья истребить!
И здесь для Аксенова не так важно, что процессы эти шли над такими же по сути коммунистами, как судьи и исполнители приговоров. Для него важно, что человек, претендующий на звание поэта, не должен, не может звать на казнь, побуждать к убийству. Тут он, впрочем, отчасти и противоречит себе, отвергающему мнение Бунина о Маяковском. Ведь последний, хотя и не звал впрямую карать, но писал оды «солдатам Дзержинского»[217]: «бери врага, секретчики[218], и крой — КРО![219]», да и «вредителям» от него доставалось, и тут он был близок грани, которую переступил Виктор Гусев: «Пускай статьи определяет суд, виновного хотя б возьмут мишенью тира…»[220] Это — про тех «вредителей», о процессах над которыми с болью говорил в эфире Василий Павлович…
Но оставим Маяковского. С ним Василия Павловича связывали глубоко личные отношения, в которых заслуги поэта заслоняют очень многое и позволяют быть не вполне последовательным. Аксенову глубоко претило холуйство Союза писателей перед коммунистической партией и советским руководством, превратившее его не только в игрушку власти, но и в пропагандистский инструмент на службе репрессивной системы. И никакие ветры «оттепели» не помешали СП и через три десятилетия после смерти Сталина продолжать, как сказал Аксенов, «постоянно и неуклонно бороться за свою сталинскую сущность, изгоняя из своих рядов писателей с независимыми голосами…
Главная забота союза… похоже, состоит в… непрерывном внедрении по всем возрастным и жанровым категориям советской литературы удушающей казенщины, бессмысленной, пронизанной сталинскими штампами болтовни и скуки. Особенно губительно действует эта атмосфера на молодые писательские поколения».
Здесь Аксенова не уличишь ни в чем. Кому как ни ему — недавнему члену Союза писателей, не раз пережившему травлю со стороны «товарищей» по организации, знать, о чем речь. И потому его приговор суров: «Уверен, что устранение с авансцены общественной жизни одного из самых прискорбных пережитков сталинизма, монолита Союза писателей СССР приведет к большому творческому подъему, к появлению еще одной „новой волны“, к возникновению новой и, возможно, самой интересной в мире литературной арены». Он мог себе позволить называть вещи своими именами.
Выступления Аксенова не оставались без ответа. Нередко знакомые путешественники — журналисты, дипломаты, бизнесмены, а случалось, и туристы, навещавшие СССР, — подобно почтовым голубям, возвращались оттуда с депешами от оставшихся там друзей и близких. А бывало, и отправлялись туда с записочками, испещренными твердым и уверенным почерком Аксенова.
Не прерывалась его переписка с Евгением Поповым, имевшим обширные знакомства среди иностранцев, живших в Москве. Но дело это было небезопасное. Евгений Анатольевич, после «МетрОполя» вычеркнутый из списков «печатных» авторов, публиковался за рубежом и был погружен в литературный андеграунд, который представлял немалый интерес для органов идеологического контроля. Обыски у авторов и распространителей самиздата отнюдь не были редкостью.
«Письма Аксенова я хранил в очень смешном месте — на кухне, в банках с крупой, — рассказывал мне Попов. — Тогда все почему-то хранили письма в крупе. И опытные кагэбэшники, конечно, первым делом шли на кухни — за письмами. У меня там хранилось много его писем, на такой полупапиросной бумаге, на обеих сторонах, перьевым „Паркером“… Писем было 15–20, а осталось три или четыре. И вот почему…
Как-то арестовали одного моего приятеля, а на следующий день в восемь утра постучали ко мне. Спрашиваю: „Кто там?“ Отвечают: „КГБ Москвы и Московской области“. Я: „А. Понятно. Мне одеться надо“. Бегу на кухню, достаю из крупы письма, кидаю в унитаз и открываю дверь. Там эти ребята. Протягивают бумажку: „Вас вызывают свидетелем на допрос“. Я чуть не крикнул: „Что ж вы сразу не сказали, я бы письма тогда не уничтожил“, но промолчал. А они: „Машина ждет“. Я говорю: „Ну, тогда собраться надо мне, позавтракать“. — „Хорошо, — говорят, — давайте“. А сами все стучатся, спрашивают: „Скоро вы?“, а я огрызаюсь, свою веду игру: „Повестки нужно приносить по закону. Вы должны были за три дня повестку принести. А так я всю ночь работал, а вы ворвались ко мне и еще меня подгоняете. Вот позавтракаю и поеду“. А под ложечкой-то сосет — ведь не знаешь, чем дело кончится… Жена наливает стакан водки. Я: „Ты в своем уме?“ — „Да, хрен с ними, — говорит, — так веселее будет“. Я думаю: женщина права. Стакан засадил, и повезли меня. В машине начало развозить. А они едут, всякие штуки мне плетут, дескать „А вы, Евгений Анатольевич, ничего не забыли дома?“ — „А что я мог забыть?“ — „А то, что следователей интересует“. — „Откуда ж я знаю, что ваших следователей интересует? Может, они порнографию собирают, а мы такого не держим“. А они: „Вот всё вы шутите, шутите… а не пришлось бы домой возвращаться“. — „Зачем?“ — спрашиваю. „Да поискать чего-нибудь“. Я думаю: „У-у-у-у-у! Мало того, что меня не по закону вызвали и вытащили из дома на виду у соседей, так еще и грозят мне…“ Осмелел от стаканчика-то и отвечаю: „Вот приедем, и я первым же делом подам заявление о том, что вы мне угрожали“. — „Ну что вы! Это не так“. — „Ну, вот и я не так…“
Приезжаем, и следователь мне предъявляет сначала ксерокопию моей книги „Веселие Руси“, изданной в Штатах в 1981 году[221], а после спрашивает: „Что можете сказать насчет письма Аксенову?“ Я говорю: „Напишите вопрос“. Он поартачился, но написал. Я говорю: „Предъявите письмо“. И он мне показывает черновик моего письма Аксенову, уже отправленного мной с „голубиной почтой“. Они изъяли его во время обыска у приятеля. Черновик был сильно почеркан, но, к сожалению, все равно можно было прочесть, что в Москве, мол, планируется новый андеграундный альманах „Каталог Клуба беллетристов“[222] и ты, Василий, его, наверное, увидишь. И всё хотя и в помарках, а видно, что моей рукой написано. А я говорю: „А письмо-то где?“ Он: „Вот“. А я: „Знаете, что такое письмо? Это когда человек что-то написал и отправил, а кто-то другой получил. Когда есть конверт. Штемпель есть. А это что? Пишите: черновик неотправленного письма Аксенову“.
Вот и поговорили. Меня отпустили. Еду домой, а писем-то нет — я их уничтожил…
Но помню, что о Бродском он отзывался в них без тепла, называя его не иначе как Иосиф Бродвейский… И еще писал про поездку в Вермонт, что там каждый „сидит на своей горе. На одной — я. На другой Саша Соколов. На третьей Саша Солженицын“».
Это злоключение Евгения Анатольевича лишило нас возможности ознакомиться с оригиналами депеш, летавших из СССР в США и обратно с «голубиной почтой»; но Аксенов в «Грустном бэби» приводит пример такой переписки. Его корреспондент — собирательный персонаж — «московский внутренний эмигрант» и интеллектуал — Филларион Фофанофф. Их эпистолярий разворачивается на фоне идущих в державах избирательных кампаний, что прибавляет автору сарказма.
Он пишет: «Дорогой Фил, впервые в жизни я наблюдаю американскую избирательную кампанию с самых ее истоков. Каждый вечер в нашей гостиной шумят отголоски таинственных событий, именуемых „праймериз“[223] и „кокусы“[224]. Волей-неволей я чувствую и себя вовлеченным в местную гонку… Спрашиваю себя — что это такое: подсознательная потребность человеческой природы или азарт болельщика?»
Филларион отвечает: «Дорогой Василий! Как раз когда я читал твое письмо, раздался стук в дверь. Вошла хорошенькая девушка и сказала:
— Привет. Я ваш агитатор. Мне нужно зарегистрировать ваше имя, возраст и пол для приближающихся выборов в Верховный Совет.
— Вы появились вовремя, — сказал я. — Не могли бы вы разъяснить мне разницу между советскими и американскими выборами?
— В американских выборах все кандидаты являются ставленниками военно-промышленного комплекса.
— То есть… и американские избиратели не имеют никакого выбора?
— Что вы задаете такие странные вопросы, товарищ? Лучше скажите, что записывать в графе „пол“. Мужчина?»
Сарказм Аксенова понятен и, пожалуй, на тот момент уместен. Не мог же он, в самом деле, знать, что уже вскоре окажется подвергнуто сомнению и само одиночество «единственно возможной партии» на советской предвыборной арене.
Близились реформы Михаила Горбачева — перестройка, в серьезность и необратимость которой Аксенов, как и многие, долго не верил. О чем прямо говорил в «Грустном бэби» и в эфире. Что же смущало эмигрантов? То, что они, признавая реформы «попыткой повернуть страну от удушающего смрада», глядя на Горбачева, порицали его за излишнюю осторожность, соглашательство и медлительность. Будучи далеки от советских реалий, они могли позволить себе то, чего не мог позволить себе никто в СССР — оценивать первое лицо и его действия. «Горбачеву, — говорил Аксенов, — иногда кажется, что он зашел слишком далеко, и он тогда делает осторожные оговорки, — дескать, мы хоть и против злоупотреблений прошлого, но все-таки гордимся „каждым днем, прожитым нашей страной“. Однако мы можем поверить в искренность его намерений только при условии, что не будем верить в искренность оговорок. Страна должна признать, что в ее истории были дни полного позора. Должна открыто назвать борьбу со сталинизмом как практической, так и философской сутью нынешнего момента».
Однако многое менялось. В Москве назревали перемены, таившие в себе обещание того, что в будущем смена столиц перестанет быть такой уж бесповоротной. Перемены эти напрямую касались и изгнанника Аксенова в его роли радиовещателя.
Пятого сентября 1986 года уже упоминавшиеся товарищи Лигачев и Чебриков направили руководству партии очередное письмо, где, в частности, сообщали, что «передачи неправительственных радиостанций „Радио Свобода“, „Свободная Европа“, а также радиостанций „Немецкая волна“ и „Голос Израиля“ имеют откровенно антисоветский характер и изобилуют злобной клеветой на советскую действительность. Радиостанции же „Голос Америки“ и „Би-би-си“ подают свои материалы, как правило, тенденциозно, с антисоветских позиций, стараясь при этом придерживаться объективистского подхода к освещению событий и фактов международной жизни, политики, экономики и культуры». А далее делали неожиданный и, по правде говоря, удивительный вывод — ссылаясь на «проделанную значительную работу по расширению гласности» после апрельского (1985 года) пленума ЦК КПСС, секретарь ЦК и председатель КГБ предлагали прекратить глушение «Голоса Америки» и Би-би-си.
Это письмо, как и многие другие документы того времени, знаменовало собой начало процесса, который уже не удалось повернуть вспять. Но пройдет еще немало времени, прежде чем политические и артистические изгнанники поверят в это. Тем не менее с каждым годом они со всё большей надеждой ожидали перемен, глядя, как понемногу осыпаются портреты членов политбюро и генеральных секретарей.
Белла Ахмадулина рассказывала, как однажды на даче в Переделкине она дописывала письмо Аксенову в ожидании человека, с которым могла передать его в Америку. Вдруг вбегает соседка. Кричит: «Белла, у нас Брежнев умер!»
Такой и была последняя фраза письма: «Вася, у нас Брежнев умер».
Опять зима. Белла пишет письмо. Ждет «почтового голубя». Вновь — соседка!
— Белла, у нас Андропов умер!
И это письмо она закончила словами «Вася, Андропов умер».
А вскоре получила ответ: «Белка, пиши чаще!»…
А по нашу сторону
Появление на советском Олимпе нового лица всегда было подарком американским советологам и кремленологам — на их услуги возникал повышенный спрос. Понятно, что изменения в Кремле вызывали немалые толки и среди эмигрантов. Несмотря на то, что приход новых советских лидеров обычно не нес никаких существенных перемен, их ждали все. И — было похоже — на сей раз дождались.
Горбачев начинает действовать. Суть и цель его действий не ясны ни стране, ни Западу. Но 8 апреля 1986 года он посещает Волжский автозавод в Тольятти и там, выступая перед сотрудниками, впервые публично произносит слово «перестройка».
Его подхватывают журналисты и агитаторы. Такова партийная установка. Вслед за
Прологом к пополнению словаря этими словами становятся борьба с нетрудовыми доходами и антиалкогольная кампания, не встретившие поддержки из-за множества «перегибов». На свадебных столах — сок и минералка, а под столами — бутыли с бузой. Цены на алкоголь растут на 45 процентов, олухи вырубают виноградники, с прилавков исчезает сахар и идет на самогон. Тема ускорения тоже не ясна. Никто не в курсе, что это такое. Партия обещает резко поднять производительность и благосостояние? А как? Ответы звучат невнятно. Тема затухает. На смену идет диспут о кооперативах.
Это — понятнее. Это — про деньги. Серьезные люди потирают руки, похоже — дошло до дела.
Всё чаще звучит слово
Эмигранты, включая и литераторов, внимательно следят за всем, происходящим в СССР, и это кажется им сумбуром. С одной стороны — снимается всё больше запретов, всё чаще в Штаты приезжают литературные гости из Союза, а с другой — коммунистическая идеология и цели советской системы не подвергаются ни малейшему сомнению. Всё это слишком напоминает хрущевскую «оттепель», с ее «возвращением к ленинским нормам партийной и общественной жизни». Но эмигранты знают, чем чревато такое возвращение и каковы они — «ленинские нормы». Их не устраивают легкие послабления и смягчение режима. Тем более что попутно и в СССР, и на Западе обсуждаются конспирологические сценарии, типа: всё это задумано, чтобы надуть Запад, модернизировать Советы, попутно выманив на свет оставшихся в Союзе смутьянов, а после закрутить гайки так, что не только советским, но и миру небо покажется с овчинку. В Вашингтоне, Париже и Лондоне услышали московский каламбур: сегодня — перестройка, завтра — перестрелка…
Так что же: перестройка — реальность? Но что перестраивается? Если система власти — то почему КПСС у руля? Если хозяйство, то в какую сторону? Если внешняя политика — то как именно? Да и могут ли такие структуры, как КПСС, менять себя.
Для Аксенова же прежде всего важно, что творится в литературе. Вон, 19 июня Горбачев встретился в ЦК с группой писателей… И о чем говорил? О демократии, судари мои. О том, что съезд кинематографистов сменил руководство союза по инициативе снизу. Горбачев доволен. А писатели? Не все. Они волнуются за свой союз… «Ну, — говорит генсек, — будем искать подходы… Советоваться с Лениным никогда не поздно…» Но разве Ленин и демократия — близнецы-братья? — спрашивает Аксенов.
Для вопросов есть основания. Правозащитник и академик, лауреат Нобелевской премии мира Андрей Сахаров, сосланный в 1980 году в Горький, остается под надзором. Осужденные диссиденты — в лагерях. Разговоры о «рынке» ведутся полушепотом. Гремит война в Афганистане. И высится, деля мир на лагеря, Берлинская стена.
И это — не только символы. Это — факты, не позволяющие эмигрантам принять оптимистические репортажи западных корреспондентов и материалы советской периодики за знаки перемен. И Аксенов говорит об этом в радиовыступлениях.
В декабре 1986 года Андрею Сахарову и его жене Елене Боннэр разрешают покинуть Горький. Горбачев звонит им лично, для чего на квартире специально ставят телефон. Возвращение академика — важный сигнал для мира: в СССР больше не преследуют за инакомыслие. Это знак и для эмиграции: похоже, сдвигаются опорные пласты. Но — только похоже. Что ж, проверим…
В начале весны Аксенову позвонил старый диссидент, лидер Интернационала сопротивления и хороший знакомый Владимир Буковский. Рассказал, что написал письмо в СМИ с вопросами эмигрантов проектировщикам перестройки и собирает подписи. Спросил: подпишешь? Аксенов ответил: конечно, как не подписать?
Двадцать второго марта
Этот материал и реакция на него в СССР настолько ярко иллюстрируют положение по обе стороны «большой выпивки», что я приведу его почти полностью:
«Авторы данной статьи — эмигранты из СССР, живущие на Западе: Василий Аксенов, Владимир Буковский, Эдуард Кузнецов, Юрий Любимов, Владимир Максимов, Эрнст Неизвестный, Юрий Орлов, Леонид Плющ, Александр Зиновьев и его жена Ольга.
Что представляет собой новая политика Михаила Горбачева — тот самый исторический поворот, о котором мы мечтали, знаменующий собой конец угнетения и нищеты в Советском Союзе? Или мы стали свидетелями лишь короткой „оттепели“, тактического отхода перед новым наступлением, как выразился Ленин в 1921 г.?
Да, сегодня из лагерей и ссылки возвращен ряд ведущих правозащитников. Этот жест можно только приветствовать, однако нельзя не отметить, что подобное „избирательное милосердие“ на то и рассчитано, чтобы произвести максимум впечатления на общественность при минимуме настоящих уступок.
Если отношение к таким людям в СССР действительно меняется, почему бы просто не объявить амнистию всем узникам совести, вместо того, чтобы принимать решения по некоторым особо нашумевшим делам одно за другим, в течение года? <…>
Еще больше, казалось бы, можно приветствовать заявленное Советским Союзом желание завершить войну в Афганистане. Но если Кремль действительно хочет положить конец этой войне, почему он попросту не выведет из Афганистана войска? Если задержка вызвана стремлением оставить после себя стабильное правительство, почему бы не провести в стране свободные и честные выборы под строгим международным надзором?
Поскольку ни один из этих вариантов, судя по всему, не устраивает Кремль, мы вынуждены сделать вывод: все, к чему он на самом деле стремится — это создать видимость ухода из Афганистана.
Впрочем, больше всего удивляет, пожалуй, новая политика „гласности“ (открытости). Многие, должно быть, просто ошеломлены, читая в „Правде“ заметки с критикой советских реалий — той самой, которую еще несколько лет назвали бы „клеветой на социалистический строй“, со всеми вытекающими последствиями. Отчасти эта новая политика также призвана преподнести нужду как добродетель. На сегодняшний день советскому режиму просто нет смысла содержать гигантскую и дорогостоящую пропагандистскую машину, чьей „продукции“ мало кто верит.
Таким образом, гласность помогает руководству СССР вновь привлечь к себе внимание советской общественности и одновременно улучшить собственный имидж за рубежом. Реальная гласность немыслима без подлинных публичных дискуссий, в которых каждый мог бы принять участие, не опаса-ясь наказания. Другими словами, она стала бы публичной гарантией от злоупотребления властью; а то, что мы наблюдаем, лишь всё та же партийная монополия на истину, только указание теперь состоит в том, чтобы истина пока носила критический характер по отношению к самому режиму. Но подобный приказ можно отменить хоть завтра.
Или возьмем посмертную „реабилитацию“ нескольких выдающихся писателей — например, Бориса Пастернака, Николая Гумилева и Владимира Набокова. Стоит отметить, что подобной чести удостаиваются только те, кого уже нет на свете — они уж точно не скажут и не сделают чего-то неожиданного. Более того, множество покойных писателей, которым повезло меньше, всё еще ждет своей очереди. <…>
Это жутковатое „гробокопательство“ вряд ли можно счесть признаком либерализации… — как и адресованные некоторым видным эмигрантам приглашения вернуться „домой“, словно стае блудных сыновей, с обещаниями „забыть“ прошлое.
В конце концов, никто не мешает Советскому Союзу выпускать книги и пластинки эмигрантов, показывать их фильмы, пьесы и полотна. Если бы советским людям позволили делать выбор самостоятельно, эмигрантам-писателям и художникам не понадобились бы закулисные переговоры с властями. Прошлое можно забыть, но как „забудешь“ о том, что партия по-прежнему вездесуща и контролирует всё — особенно когда вы ощутили на Западе вкус свободы?
Наконец, представим себе, что самое смелое на сегодняшний день предложение г-на Горбачева — о проведении более свободных выборов в партийные органы — будет воплощено в жизнь. В результате этого гигантского шага вперед советские люди получили бы ту возможность, что имеет сегодня черное население ЮАР: наблюдать за свободными выборами для 7 процентов населения.
На деле советские лидеры могли бы, не меняя по-настоящему характера режима, позволить себе еще более радикальное временное „отступление“, чем то, что порождает сегодня столько необоснованных надежд. Они могли бы… допустить куда более масштабную эмиграцию и вывести войска из Афганистана. Они даже могли бы опубликовать „Архипелаг ГУЛАГ“ Александра Солженицына. Они могли бы сделать страну такой же „свободной“ и „капиталистической“, как Польша, Югославия и Китай.
Реальный вопрос заключается не в том, как далеко зайдет нынешняя „оттепель“, а в том, как долго она продлится. Ведь Советский Союз, в отличие от Венгрии и Польши, не живет в тени „старшего брата“, способного прийти на помощь, и, в отличие от Китая, у него есть множество „младших братьев“, требующих постоянной заботы.
На Западе не понимают главного: если бы советские лидеры действительно были бы настроены на радикальные перемены, им пришлось бы начать с отказа от правящей идеологии.
Идеология — то самое ядро советской системы, что не позволяет стране отклоняться от маршрута слишком далеко и слишком надолго; если главные идеологические постулаты останутся в неприкосновенности, долгосрочная советская стратегия останется пленницей ее принципов.
Пока официальная доктрина не предусматривает возможности мира с „классовыми врагами“, о каком подлинно „мирном сосуществовании“ с „буржуазными“ странами можно говорить? Не более вероятным выглядит и „мирное сосуществование“ внутри самого СССР.
Пока „всемирно-историческая борьба двух систем“ продолжается, советских граждан не могут просто оставить в покое, позволив им жить собственной жизнью и собственными стремлениями. Весь народ мобилизован в армию идеологических бойцов, от которых требуют, чтобы они воспринимали себя не как простых членов общечеловеческой семьи, а как носителей „социалистического правосудия“, „социалистической культуры“, „социалистического спорта“, а теперь и „социалистической гласности“.
Если Запад воспримет новую политику за чистую монету, он сосредоточится на внешних симптомах, игнорируя саму болезнь. Серьезные перемены потребуют от советских лидеров отбросить ложные марксистско-ленинские догмы, прекратить „всемирно-историческую борьбу“, которую ведут только они сами, и позволить советским гражданам быть обычными людьми, которым можно будет вкладывать в слова „демократия“, „культура“, „правосудие“ и „гласность“ такой же смысл, как и их „буржуазным“ братьям.
Более того, если Кремль искренне желает перевернуть одну страницу истории и начать новую, он должен прекратить эксплуатацию болезненных воспоминаний о Второй мировой войне в пропагандистских целях, отказаться от злобной „программы военно-патриотического воспитания“, в обязательном порядке действующей во всех школах, и не допускать дальнейшей милитаризации общества. И, главное, он должен сказать всю историческую правду о преступлениях, совершенных советским режимом.
Национального примирения не добьешься, освободив пару сотен заключенных из тюрем, в которых они вообще не должны были находиться.
Советский Союз — тяжело больная страна, чьи лидеры вынуждены были нарушить семидесятилетнюю традицию молчания просто для того, чтобы завоевать хоть какое-то доверие населения СССР и внешнего мира.
Однако это они сами должны научиться доверять другим. Они должны предоставить народу право отправлять правосудие в нормальных судах и приобрести достаточное уважение к общественному мнению, чтобы не прибегать к обычной тактике дезинформации и манипуляций.
Даже глупцу сегодня ясно: если 70 лет воплощения идеологической доктрины привели к запустению одну из самых богатых стран на планете, то эта доктрина ошибочна. Г-н Горбачев признает: за все эти годы никому не удалось исправить ситуацию. Так, может быть, пришло время отказаться от самой системы? Разве не Ленин сказал, что любая теория в конечном итоге проверяется только практикой?
Что же касается Запада, то пристало ли людям так спешить с рукоплесканиями в адрес СССР за обещания создать для своих граждан условия, которые они здесь не согласились бы терпеть и минуту?»
Известный журналист Виктор Лошак — в ту пору сотрудник «Московских новостей» — не раскрыл в нашей беседе цепь событий, приведших к публикации письма в «МН». «Главный редактор Егор Яковлев поставил текст в газету. То, что началось потом, не описать словами. Этот номер стал раритетом. Люди приходили к стендам с фотоаппаратами и снимали письмо. Не знаю, как далась Яковлеву эта публикация, но думаю, ее можно назвать поворотным пунктом в политике гласности».
Хороший знакомый Аксенова и многих эмигрантов профессор Джон Глэд — ученый-славист, критик, публицист и переводчик, директор Института Кеннана и автор книги «Беседы в изгнании: русское литературное зарубежье» — вспоминал: «К удивлению подписавших, письмо было перепечатано в газете „Московские новости“… отсюда начался долгожданный диалог между советскими и эмигрантскими писателями». И не только — добавим мы. Но диалог не стал простым. Во-первых, письмо было снабжено статьей-комментарием Егора Яковлева, где он указывал, что эти «десять, коим ничто не угрожало, были свободны решать. Они выбрали ту сторону баррикад» и «оставили свой народ не в лучшие времена», а во-вторых, вызвало шквал отповедей.
Понятно, комментарий Яковлева был адресован не столько Аксенову и авторам письма, сколько бюрократам от перестройки, которым публикация была что нож острый и которые, не прояви главный редактор «МН» дара дипломата, загрызли бы его насмерть. Понятно, что иные отзывы были продиктованы либо распоряжением начальства, либо искренним стремлением заклеймить «эмигрантское отребье». И опять же понятно, что проклятьем заклейменному Василию Аксенову не оставалось ничего другого, как ответить на эту кампанию. Тем более что он мог обойтись без дипломатии.
К его ответу мы вернемся, а пока ознакомимся с суждениями советских читателей о «письме десяти». Некоторые из них весьма схожи с отзывами на «МетрОполь».
Еще до публикации письма на него обрушилась «Правда». В статье «Паника в стане бывших» правдист с сорокалетним стажем Виталий Корионов объявил, что авторы письма — это «псевдомученики, переметнувшиеся на Запад… торгующие собственной совестью, провокаторы, лжецы и клеветники, которые хотели получить на Западе большой кусок хлеба с маслом… презрение вызывают они у советских людей», ну а «подлинные друзья» этих десяти — «афганские душманы, никарагуанские „контрас“, полпотовские убийцы». Финал выдержан в стиле, принятом за 40 лет до 1987 года: «Кучка отщепенцев в преддверии великого праздника — 70-летия Октября — пытается швырнуть поток грязи в наш светлый дом. Не выйдет!»
Пятого апреля «МН» публикуют подборку писем под заголовком «Время и жизнь навсегда размежевали тех, кто ведет в нашей стране революционную перестройку, и бывших граждан СССР, которые на нее клевещут». В ней есть письма и деятелей искусства. Григорий Бакланов заявляет: «Стыдное письмо… Авторы сказали про себя… что они не только продукт уходящего времени, что не могут представить себе совершающихся у нас перемен, но что и-не хотят, чтобы перемены у нас совершались». К прозаику присоединяется Олег Ефремов: «…Уезжая, люди эти в своей гордыне надеялись, что отъезд их станет акцией едва ли не государственного масштаба: дела в стране сразу же пойдут хуже, и тогда их оценят. А уехав, увидели: дела у нас сегодня разворачиваются серьезные, да без них. Своими силами обходимся. Вот и злобствуют». Когда-то правдист, потом диссидент, а после — журналист «Московских новостей» Лен Карпинский пишет: «70 лет назад народ выбрал путь социализма, убежденный, что именно социализм — это хорошо. А авторам письма с народом оказалось не по пути».
«Потому-то и формируется в общественном мнении отношение к письму как к предательству», — как бы подытоживает серию выступлений актер Михаил Ульянов.
Двенадцатого апреля «МН» также комментируют письмо: «Владимир Буковский используется ЦРУ для активной подрывной деятельности против СССР; Леонид Плющ — сторонник террористических методов борьбы против существующего в СССР строя; Владимир Максимов… возглавил созданный под эгидой ЦРУ антикоммунистический журнал Континент; Юрий Любимов участвует за рубежом в антисоветских акциях».
Вместе с «Правдой», «МН» и культурной элитой эмигрантам отвечают «Советская культура» и «Огонек». Газета — заметкой «Поборники свободы требуют репрессий», а журнал — статьей «Была без радости любовь». В обеих упоминается и наш герой. «Круглые сутки нон-стоп, — пишет „Культура“ об Аксенове, — отрабатывает американскую визу, гарантированную „Метрополем“… с помощью которого он, Аксенов, надеялся приобрести капитал в глазах весьма определенных служб Запада… Печальное… зрелище — видеть, как болото засасывает в безысходную трясину того, кто клевету на Родину сделал профессией…» «Огонек» же замечает, что когда-то неплохой прозаик Аксенов начал карьеру за рубежом со слабых произведений, вскоре скатившись «до черного дна, до радио „Свобода“», вещая по которому, говорит им комплименты, за что в былые времена б их в бараний бы рог согнули б!
Аксенов отвечает им всем, заявляя, что никто из авторов письма не оставил родину по своей воле. Одного вывезли из Союза в наручниках. Трех других обменяли на шпионов. Четырех деятелей культуры, в том числе и его, лишили гражданства, а двум другим создали такие условия жизни и работы, что выбора у них не было. То есть пора бы уже начать говорить правду. Ибо иначе гласность — это не «открытость», как переводят на Западе, а «болтливость». Ведь
И вообще, советовал он заокеанским, то есть живущим по нашу сторону
А в 1987-м у нас издают роман Анатолия Рыбакова «Дети Арбата». И общество вновь задается вопросом: а можно ли ругать Сталина? Через 30 лет после XX съезда и дискуссий о том, смеем ли посягать?..
Меж тем Горбачев твердит странные слова: новое мышление, европейский дом, разоружение, доверие. Эмигрантам трудно верить, что это говорит генсек. Но он говорит и собирается отправиться с нашего берега на их берег обсуждать вопросы мировой политики и подписывать Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности.
И вот накануне его визита в Вашингтон, в декабре 1987 года телекомпания «Си-би-эс» просит писателя Аксенова, известного своим хорошим английским и склонностью к иронии, сыграть в небольшом телесюжете роль как бы гида Михаила Горбачева. Ну, типа, что бы он в первую очередь показал Горби, будь у него возможность поводить его по столице. А Си-би-эс бы снимала эту экскурсию для поучительного развлечения зрителей.
Аксенов согласился. И отнесся к делу серьезно. Наметил
— Видите, Терри, — сказал Аксенов, — это и есть социалистический реализм.
Затем команда, снабженная камерами и микрофонами, двинулась в любимый писателем джаз-клуб Blues Alley в Джорджтауне. Там отдыхал Диззи Гиллеспи — великий трубач-виртуоз. Гид со свитой — к нему: что бы вы сказали, Диззи, если б здесь прям сейчас появился Горбачев?
— Я бы сразу отбросил коньки, — улыбнулся гений импровизации.
Но вообще-то, если подумать, стали рассуждать собеседники, в 1950-х-то Горбачев был молодым парнем, он же мог очень даже уважать джаз, почему нет? Ну да, решили, мог. Ну так пожелаем ему и дальше как по нотам играть «весь этот джаз» перестройки, а если надо — то и импровизировать, а?! Пожелаем!
Следующим spot был торговый центр Джорджтауна, сверкающий витринами, прилавками и улыбками персонала. И тут журналист Симпсон, хорошо осведомленный о дефиците товаров в СССР, возьми да и спроси:
— А что бы подумал Горбачев, если бы попал сюда?
А писатель Аксенов по привычке возьми да и пошути:
— Ну, он мог бы подумать тут, что всё это к его приезду приготовили…
В этой шутке, понятно, была доля шутки… Аксенов знал советский обычай возводить «потемкинские деревни» — к приезду высокого гостя извлекать из загашников всякую всячину, имитируя изобилие. И пошутил. А передачу посмотрели в посольстве.
Это было в конце 1987-го. А в начале 1988-го Майя, не лишенная, в отличие от мужа, гражданства, отправилась в Москву. И подгадала прямо к публикации в «Крокодиле» подборки писем, посвященных первой вещи Аксенова, напечатанной в СССР со времен «МетрОполя». Текст назывался «Мы штатники» и был отрывком из «Грустного бэби», правда, слегка «адаптированным». А письма гласили: «Браво, Аксенов! Вы поистине недосягаемы в расшаркивании перед „желанным Западом“. Вы один на Джомолунгме предательства и лицемерия…»А
«Нет, это ж надо ж! Аксенов „всплыл“! Вот она — гласность!..Ему не стыдно. А мне за него стыдно. Я бы ему его книги через забор бросила, как когда-то люди гамсуновские книги „возвращали“».
«В колледже он работает нештатником, а штатник он совсем в другом месте. В парижском филиале радиостанции „Свобода“ — обычного подразделения ЦРУ… Там американские сержанты и майоры ставят по стойке „смирно!“ всяких там Basil и С° и дают им команды: „Оплевать!“, „Оболгать!“, „Оклеветать!“».
«Очень сильно потрясло меня бегство Аксенова за рубеж… Думающий интеллигентный человек не поставит рядом со светлыми ленинскими идеалами революции имена Сталина, Берии, Ежова, Лысенко… Только наше общество способно трезво оценить ошибки прошлого».
А вот что написал Г. Петров, главный администратор Ташаузского драмтеатра, Ташауз, Туркменской ССР. «Мы вылавливали пресловутых „стиляг“, распарывали им узкие штанины вельветовых брюк, лишали набриолиненных „коков“. Ох как было горько оттого, что носители „нового“ держались стоически, не распускали слюни, а снова и снова собирали людей вокруг себя, выплясывая утрированный рок-н-ролл… Эх, развернуть бы тогда на полную мощь перестройку! Не остался бы Аксенов по ту сторону кордона».
Возможно, и не стоило столь обильно цитировать травлю. А с другой стороны, это помогает, как ни странно, показать пользу привычки к послушанию, которая нет-нет да и бывает благотворной. Я вот о чем: к началу 1988 года ругать Сталина, Берию, Ежова по эту сторону
Впрочем, пока предстояла XIX (и последняя) партийная конференция. Она проходила в Москве с 28 июня по 1 июля 1988 года и знаменовалась важными свершениями. Самыми зримыми из них были три: во-первых, в эти дни на улицах городов Союза привычным стал человек, прижимающий к уху транзистор, слушая дебаты; во-вторых, впервые в истории коммунистической партии и ее писаных и неписаных законов многие делегаты сняли пиджаки прямо в зале! — что стало беспримерным вызовом нормам поведения на партийных форумах; и в-третьих: Горбачев объявил о смене политического курса и начале реформ. Немногие тогда поняли, что это момент исторического драйва — бывший юноша 1950-х, а ныне руководитель усталой сверхдержавы поворачивает ее от ревизии истории советской власти к устранению этой власти с исторической арены.
Однако и в тот раз скорое будущее было скрыто не только от эмигрантов, но и от большинства советских граждан.
Аксенова же подборка в «Крокодиле» удручила. Дело в том, что как раз тогда то от советских визитеров, то от вернувшихся американских журналистов и ученых — ему, как казалось, стали поступать некие вопросительные намеки на возможность возвращения. Понять их можно было и в смысле нейтральном, и в благосклонном. Мол — обсуждаемо…
Прочитав «Крокодил», он подумал: ошибся. Не предостережение ли это от попыток возвращения? Даже и от размышлений о нем?
Да он и не думал о возвращении за занавес, который столько лет гремел железом, а тут вдруг зазвенел стеклом. Но мечтал о времени, когда, прилетев в Россию, мог бы в любой момент отбыть из нее в Лондон, Берлин, Гонолулу или Куала-Лумпур, легко пересечь «большую выпивку» из конца в конец и обратно.
Никто не предполагал, что и этого ждать осталось недолго.
— Уходит, линяет Советский Союз… время его прошло… Не могу! Не верю! — этим кликом аксеновской героини Феньки Огарышевой можно, обобщая, обозначить впечатления Василия Павловича от перестройки в СССР.
С одной стороны — ее устроила КПСС. Но уже доходили вести о движении кооператоров, о молодежных творческих центрах, о рождении альтернативных партий и больших митингах… И хотя после полугодовой ругани по поводу «письма десяти» и брани, адресованной лично ему на рубеже 1987–1988 годов, доверия у Аксенова к закоперщикам советских реформ не сильно прибавилось, подробности перемен позволяли предполагать непредположимое: «красный проект» близок к финалу.
За гласностью идут реформы хозяйства и политики. 15 февраля 1989 года Советы уходят из Афганистана.
А там глядишь, и звезды снимут, и учинят демократию. И откуда они — эти странные комми, медленно, но верно крушащие режим? Незнамо. Но всё чаще приходит мысль: изгнание не вечно.
Гладилин вспоминал, как перед матчем-реваншем некоего видного боксера-тяжеловеса, бывшего чемпионом мира, его тренер, не веривший в победу, заметил: «Они не возвращаются». И был прав. Статистика подтверждает: да, бывшие чемпионы обычно не возвращаются.
Аксенов сделал то, чего не бывает. Вернулся. Причем не только в Россию — с гражданством, квартирой и официальным признанием, — но и в литературу. С триумфом!
Кто-то спросит: а был ли он чемпионом? И хотя для меня это не вопрос, ответить надо. Но трудно. Не потому, что о вкусах не спорят. И подавно не потому, что неясно, как мерить очки и голы: тиражами? Продажами книг? Премиями? Рецензиями? Всё это было. И было этого много. Но для измерения литературного чемпионства недостаточно. Ибо всегда найдутся те, кто оспорит этот титул.
Так что называть Аксенова чемпионом литературы — значит рисковать. А как иначе? И остается просто сказать: для меня он — чемпион. И я один. А если вы не согласны, то по праву. Он-то всю жизнь трудился ради того, чтобы каждый имел право на мнение, а другой — право не соглашаться…
Он вернулся в 1989-м. Но не совсем. Не окончательно. Потому что прибыл не по зову властей и сограждан, а по приглашению американского посла Джека Мэтлока[228], в гости к дипломату. Впрочем, в наше время, когда миллионы людей — в том числе и россиян — катаются по миру, имеют недвижимость и проживают где хотят, с двойным гражданством или без, говорить о каком-то полном возвращении всё ж таки нелепо… До конца своих дней Аксенов жил, что называется, на три дома: Россия — Америка — Франция. Но об этом — успеется.
А в 1989 году было не так. Шла перестройка, но существовал Союз. Советский, с социалистическими республиками. У власти стояла КПСС. Судьба страны, ее отношений с миром и бывшими гражданами еще не решилась. О свободном перемещении советских людей по миру можно было лишь мечтать. Но — мечтать уже было можно!
Накануне визита — 5 ноября 1989 года — Аксенов дал обширное интервью
Отвечая на вопросы, он не забывал о том, как важно нравиться потенциальным покупателям его книг, и старался показать заморским согражданам СССР и его жителей настолько милыми, насколько считал возможным. Итак, фрагменты:
«
Собираясь в дорогу, я, признаться, немного нервничаю… Знаете… Эта страна — моя родина — после десяти лет разлуки превратилась для меня в своего рода абстрактное понятие. Стала, скорее, особым литературным материалом, чем живым обществом. Хотя сегодня каждый день мы получаем о ней массу информации. Но у меня есть чувство, что я потерял смысловую связь с родной землей. Эта страна — США — сегодня значительно ближе мне, чем она. Впрочем, надеюсь, многое проснется в моей душе».
И впрямь, книги Аксенова, написанные после «возвращения», показали довольно смутное понимание им процессов, идущих в России. Особенно когда речь заходила о политике или деталях взаимоотношений государства, бизнеса и культуры. Но мало о ком из нынешних писателей можно сказать, что он хорошо понимал или понимает российскую жизнь. Как и для довоенного Черчилля, она остается «загадкой с непостижимой судьбой» в неменьшей мере, чем для американского тележурналиста.
А Брайан спрашивал о Казани, образовании Аксенова, его писательских трудах в СССР и в США, об изгнании. Затем последовали вопросы об актуальной на тот момент ситуации:
«
— Когда приедете домой, вы встретитесь с ними?
— О да! Да, да!
— Уже договорились?
— Конечно! Знаете, сейчас вся эта история с „МетрОполем“ считается большим приключением, этакой отважной попыткой прорыва… Всё изменилось. Человек из КГБ, который шантажировал меня… сейчас пытается сказать: я был неправ, пожалуйста, простите меня[230].
— Вы с ним увидитесь?
— Может быть… Ха-ха. Знаете, это было бы любопытно. Возможно, этот человек сказал треть, а то и меньше трети того, что знает, но… он признал, что [они] делали с творческими людьми мерзкие вещи… И особо упомянул мое имя. Несколько раз. Признав, что я покинул родину под давлением.
— А сейчас ваши друзья по „МетрОполю“… — они могут печатать всё, что хотят?
— Абсолютно! Это замечательно. Там в литературе всё удивительно меняется. На Союз писателей, к которому я когда-то принадлежал и который был, по сути, чиновничьей конторой, порожденной сталинизмом, уже никто не обращает внимания. И хотя… страх перед сталинизмом никуда не исчез… возникают новые творческие группы. Они публикуют что хотят, создают журналы и издательства…
— Возможно, оказавшись дома, вы захотите остаться?
— Нет. Я еду не навсегда. Я уже привязался к этой стране.
— Вы гражданин США?
— Да. И к тому же я здесь работаю — преподаю в университете Джорджа Мэйсона. Я известный профессор… На кого ж я брошу студентов? Я их люблю… Люблю преподавать. Я хочу быть частью американского литературного процесса. Это трудно — отбросить десять лет жизни… Но, возможно, я буду ездить в Россию и обратно.
— Вы уже знаете, что сделаете в первую очередь, приехав на родину?
— Трудно сказать… Может быть, поищу места, где можно хорошо пошутить…
— А еще?
— Начнем с того, что в Москву меня пригласил американский посол. Я буду гостить у Джека Мэтлока… И как его гость, я хочу провести в посольстве семинар для интеллектуалов и деятелей культуры на тему „Русский писатель в США“. Потом я встречусь с читателями… У меня мало времени — для поездки я выкроил окно в учебном расписании. Но я обязательно навещу родную Казань — увижусь с отцом. Он жив, ему 91 год. Вот мой маршрут.
— Когда вы последний раз виделись с отцом?
— Десять лет назад.
— А когда разговаривали?
— Недавно. По телефону. Он плохо слышал, говорить было нелегко. Я жду встречи.
— Кто придумал пригласить вас в Союз? Вы или посол?
— Я бы сказал… вместе. Сначала USIA[231] предложило поехать читать лекции. Но я ответил: выйдет очень щекотливая ситуация. Я приеду как кто: русский писатель или посланец американского государственного агентства? Ход подсказал Джек Мэтлок. По старому знакомству он пригласил меня в гости. И я с благодарностью согласился».
«— А как насчет Михаила Горбачева? Что отличает его от других лидеров?..
— Знаете, с моей точки зрения, Горбачев — чудо. Мы… почти потеряли надежду на какое-то развитие… Всё выглядело мертвым, особенно компартия. Коммунистическая партия была трупом, и мы не верили, что она способна породить кого-то способного активно действовать.
— Как же это случилось?
— Это чудо. Просто чудо. Он принадлежит к моему поколению, Горбачев.
— Сколько вам лет?
— Пятьдесят семь. А ему пятьдесят восемь. По сути — одногодки. Оба — студенты 1950-х. Я знал еще раньше — со времен, так сказать, первой перестройки[232] хрущевских времен, много людей моего поколения, членов партии, пытавшихся что-то изменить… От них избавлялись без разговоров, и они были крайне разочарованы — все эти молодые политики — и говорили, что не хотят принадлежать к нашему поколению…
— При Хрущеве у писателей было больше свободы, чем сейчас?
— О, нет. Сейчас намного больше. Либерализация зашла куда дальше, чем тогда.
— И пойдет дальше?
— Несомненно.
— Насколько далеко она может-зайти? Что ваши друзья хотят получить сверх того, что уже получили?
— Я верю, что, если дела пойдут как сейчас, они уже скоро смогут радоваться свободе печати, отмене цензуры.
— А сейчас цензура есть?
— Есть. Там всё еще не разрешают печатать некоторые вещи. Следуют некоему моралистическому, пуританскому подходу к литературе. Им трудно принять реалии современного искусства — ряд особенностей литературного стиля и языка. Я говорю о вещах, связанных, например, с сексом».
То есть речь идет не о политической цензуре, а об ограничениях, связанных с таким непростым пространством, как представления о нравственности. О дозволенном и недозволенном. О возможности легализации в СССР того, что принято называть порнокультурой и использовании писателями ненормативной лексики.
«— Если взглянуть на всё, что вы обрели в США… и представить, что вы можете поделиться этим, то чего бы больше всего хотели ваши друзья?
— Для начала они, к примеру, хотели бы обрести доступную мне свободу передвижения, возможность путешествовать… Хотя многие прежние ограничения уже отменены и поехать за рубеж стало проще.
— Советские люди могут это себе позволить?
— Советские деньги не конвертируемы. Так что им надо бы еще получать часть моей зарплаты в твердой валюте. СССР не входит в семью современных наций, и это мешает ездить. Но русские хотят войти в эту семью.
— А чем еще вы бы с ними поделились?
— Ну, трудно сказать… Они сейчас очень бедно живут…
— Еда?
— Еда, одежда: сейчас всё это для них — проблема. Всё. Хотя это не очень важно для творческих людей. Если бы десять лет назад мне сказали: выбирай — материальное благополучие или свободно писать, я бы выбрал свободу».
То есть политическая тематика не осталась вне дискуссии. Сравнивая ситуацию в США и СССР, Аксенов говорит, что считает одной из сложнейших проблем то, что, в отличие от Америки, у народов СССР есть закрепленная за ними территория… «Это, — считает он, — главная головная боль руководства. Если бы этнические группы США имели территории, они бы, в конце концов, передрались. А там у всех есть исторические родины — у грузин и азербайджанцев, армян, литовцев, эстонцев и других. И у всех есть право на независимость от большого брата. И преступно лишать их этого права».
Довольно скоро он изменит точку зрения. И хотя Союза уже не будет, его отношение к кавказским сепаратистам станет резко негативным. Особо непримиримо Аксенов выступит против чеченских мятежников. Нов 1980-х он верил, что СССР можно превратить в «гибкое содружество наций».
Впрочем, он никогда не будет никому отказывать в независимости. Не станет звать к реставрации империи. Но жестокость «борцов за свободу» на фоне страданий русских на Кавказе и предчувствие распада страны устрашат его…
Но это — впереди. А пока, упаковав элегантный багаж, Аксенов летит в Союз — страну, где тяготы и лишения усиливались почти столь же быстро, как расширялось пространство свободы. Писатель знал о ситуации не только из газет, передач и рассказов советских гостей. Майя, посещавшая СССР (в последний раз — в июне 1988-го), всякий раз возвращалась усталой и разбитой.
И вот — они полетели вместе. Этот визит стал важным знаком. И не только перемен в отношениях между СССР, США и миром, но и в отношении страны к себе и к своим за рубежом. Разве лет за пять до того послу США пришло бы в голову пригласить в гости Солженицына? И отпустить его гулять по столице и за ее пределами?
В Шереметьеве ждала триумфальная встреча. Репортеры программы «Взгляд» проникли в зону прилета, формально — за пределы СССР, и, несмотря на протесты охраны, снимали у выхода в зал. «Здравствуйте, Василий Павлович! Приветствуем вас в Москве!»
Василий Павлович почувствовал себя особо важной персоной.
— Почему вы приехали по приглашению американского посла?! — выкрикнул Влад Листьев… Нормальная, грамотная работа, о чем же еще спрашивать знаменитость, прибывшую на родину по приглашению американского посла?..
— Ну, во-первых, — ответил Аксенов, — потому что мы с Джеком соседи по Джорджтауну, а во-вторых, потому что до него меня на родину никто не приглашал. Кроме того, московскую квартиру моей жены в этом году отняла комендатура, нам и остановиться-то негде, кроме как в Спасо-хаусе.
Под прицелом камеры писатель идет к паспортному контролю. За барьером плотная толпа. Различимы знакомые лица. Через череду объятий Василий Павлович едва добирается до сына Алексея и сестры Майи Павловны. Его снимают несколько телегрупп. Тянут через головы диктофоны. А ведь девять с половиной лет прошло.
В Шереметьеве — пурга. Когда журналисты и друзья на минуту упускают их с Майей, он говорит: «Здравствуй. Наконец-то мы одни. Спасибо за метель».
Наутро, проснувшись в Спасо-хаусе и отзавтракав с Мэтлоками, чета идет в редакцию «Юности». От Арбата до Маяковской недалеко. Садовое кольцо мало изменилось. В обе стороны летят пустые грузовики. Воздух тяжел, стекла грязны, двери обшарпаны. В молочной — прилавок. За ним — тетка в халате, пакеты и пачки — всего мало. Не порадовала и кондитерская — в ней россыпь леденцов единственного сорта. Обувной магазин удручил убогостью пластика, однако ж по улице топали люди, обутые вполне прилично — откуда у них эта обувь, если не из магазина? Тайна. О, московские тайны! Аксенов столкнется с ними не раз. И вот, с тайной на ногах, и, как показалось писателю, с радостью в глазах город, полный энергии, несся по своим делам. Особая история — Пушкинская площадь: здесь клуб говорунов и продавцы газет — подумать только — разных политических партий! И это — в Москве, где красный рулевой, казалось, правил безраздельно. А ныне спорят обо всем — от будущего Ельцина до взяток в МВД.
— В общем-то, даже ради этого стоило приехать, — скажет потом Аксенов по радио. И всё ему важно — и девица с газетами «Гражданское достоинство» и «Атмода», и панки, бесцельно, прямо как в Лондоне, торчащие у входа в метро, и выгоревший кабак. Таксист замечает, как показалось, не без гордости: «Москва во власти рэкета».
«Юность», руководимая Андреем Дементьевым, готовилась печатать «Остров Крым». Не верилось — полгода назад он был абсолютно запретным.
В Спасо-хаусе прошел обещанный семинар. Не простой, с буфетом… Мэтлок разослал приглашения дипломатично — западникам и славянофилам, «прорабам перестройки» и консерваторам. «Патриоты-деревенщики» — соратники Станислава Куняева, Юрия Кузнецова, Василия Белова — в зале замечены не были. Сам Белов публично отмежевался от семинара, укорив посла за приглашение отщепенца. Но пришло человек 250 — в основном из числа «западников-прорабов».
Аксенов начал с того, что он и знать не знал, приехав в Америку, как там много писателей. В одной только его гильдии членов было в шесть раз больше, чем в СП СССР. Как-то сосед отрекомендовался писателем, а сочинял рекламу — точно расставлял слова, подбирал метафоры, увлекая покупателя. Всего же писателей в Штатах где-то с миллион. Вписаться в их среду иностранцу довольно сложно. И русский литератор почти автоматически оказывается в сообществе славистов.
В целом же русскоязычная литературная тусовка, покинувшая бар ЦДЛ, распространилась на несколько континентов, а ее члены, несмотря на призывы объединяться, «пересекаются» лишь по мере надобности или симпатии. В основном — на конференциях тех же славистов или Интернационала сопротивления, накал которого вместе с развертыванием реформ в СССР тоже слегка ослабевает. Но жить без сообщения трудно. Хочется услышать голос друга — новость, сплетню, песню…
Говорят, Виктор Некрасов, как-то гостя в Швейцарии, позвонил в Москву Юлию Киму и попросил спеть. Тот запел. Некрасов наслаждался. Хозяин мылил петлю.
Что же касается американской писательской тусовки, то о чувстве сопричастности к ней говорит такая история: в Токио на конгрессе Пен-клуба Аксенов встретился со Стайроном и Воннегутом, несколько дней они шатались по кабачкам, а вернувшись в Штаты, встретились только на новом конгрессе в Нью-Йорке…
Рассказал Аксенов и об отношениях с издателями, о бизнесе и культуре бизнес-ланча. Припомнил и поговорку: «Пойдешь на ланч — денежку поклянчь». Поделился и планами — написать роман о режиссере-эмигранте[233], на спектакли которого в СССР ходила вся иностранная Москва, твердя: «Ты гений, гений, гений…», а в Калифорнии он работает на паркинге, попутно ввязываясь в прибыльные, но опасные делишки. Лишь чудо поднимает его из пучины на гребень волны. Но то режиссер, а писатель в Штатах стать знаменитым в том смысле, в каком знамениты Вознесенский и Ахмадулина, не может. Писатель там в стороне от парада звезд.
Больш
«Понятие „родина“, — сказал Аксенов ближе к концу лекции, — становится для меня всё более дорогим, но всё более интимным. Оно связано не с ощущением мощи… а, пожалуй, наоборот: с ощущением вечного прозябания, с ликами моих бедных людей, дорогих мне родственников, родителей, бабушек, тетушек. Это ощущение мне гораздо дороже, чем так называемые „достижения“ и исторические катаклизмы».
И уже в самом конце, последней фразой, главное: «Я плачу долг той единственной Родине, которой я что-то должен — русской литературе».
Следом — вечер в Доме архитектора. Потом театр Олега Табакова. Там играли «Бочкотару», влекли на сцену: качать. В «Современнике» — «Крутой маршрут», женщины — зэчки, мужики — конвой. На сцене сокамерница Евгении Гинзбург — тетя Павочка. Неелова кричит: «Где мои дети?!», так похожая на Женю. Волчек вывела Аксенова под софиты. Тот поднял над головой пальцы —
СМИ много писали о поездке Аксенова в Казань, где он — через много лет — встретился с отцом. Очень нежно. Хотя до сих пор родные избегают вспоминать, как верный ленинец Павел Аксенов отнесся и к отъезду сына, к лишению его гражданства, и к его творчеству, разрушительному для системы, частью которой себя ощущал.
В Казани Аксенов подивился, как отец оценивает исторических деятелей… Классовая позиция ушла, осталось общечеловеческое: «Ленин был хороший человек. Сталин — очень плохой. Брежнев — дрянь. Горбачев — молодец». Слова о хорошем Ленине сына не убедили. А Горбачеву еще предстояло доказать, какой он молодец.
— Сколько же тебе сейчас лет, сынок? — спросил Павел Васильевич.
— Как всегда, отец.
— А мне уже больше, чем «как всегда», — смеялся тот.
Дивила незримость руководства прессой. Интервью выходили без искажений. Продукты в Казани продавались по талонам, одежда висела «гнуснейшая». Очереди стояли за книгами. Драмтеатр ставил «Крутой маршрут».
На обратном пути в купе зашел человек с тугим портфелем и лицом начальника. «Спокойно, — сказал, — ребята! У меня всё есть!» — «Что — всё?» Три бутылки коньяка и копченая кура. Оказалось — да, начальник. Ездил вручать переходящее знамя. Вспомнил: «Эх, Вася Аксенов, Вася Аксенов! Да мы тебя в МЭИ наизусть знали. Поколение „Звездного билета“. А меня помнишь? Чемпион Москвы по боксу в среднем весе».
— А скажи, Гриша, — интересовались Василий Павлович и Майя, — долго вы еще будете вручать друг другу красные знамена? Есть у коммунизма какие-нибудь шансы?
— Шансов нет никаких, — объявил Гриша. — Выпьем!
Коммунизм по обе стороны дороги таял на глазах. Это была агония красного динозавра. Но Аксенов не испытывал злорадства. Что на самом деле происходит? — думал он. А ответа не находил.
Писатель чувствовал себя в этой бурлящей России посланцем той другой — тоже бурлящей, юной республики 1917 года. Гражданином самой свободной страны мира, какой была Россия с марта по октябрь. И хотя статус той страны так и не был утвержден, для Василия Павловича это была родина — демократическая республика; униженная, но не уничтоженная. По крайней мере, пока жив ее последний гражданин.
В новом году он описал визит в элитном журнале
А в 1989-м — в году десятилетия «МетрОполя» — альманах вышел в Москве. Круг замкнулся. Аксенов победил.
И, возможно, ощутил свой визит историческим событием. Россия, живущая по эту сторону границы, и Россия, оказавшаяся на той стороне, — соединились. А 22 декабря 1989 года исчезла граница между Восточным и Западным Берлином. Берлинскую стену потащили на сувениры, расписали граффити. Через год Германия стала единой.
Стена пала.
Потом Аксенов приехал в Казань в начале 1990-х. Решил снять биографический фильм и познакомиться со следственным делом Евгении Гинзбург. Рассказывал об этом так: «Чего стоят только профильные и анфас фотографии матери, сделанные фотографом „Черного озера“… Чего стоят списки реквизированных предметов: костюм старый хорошего качества, белье постельное, игрушки детские, Эммануил Кант, собрание сочинений…
Иные, выявлявшиеся из грязно-мышиного цвета папочек „материалы“ опрокидывали меня. Прожитые десятилетия, казалось, исчезали, и я по-сиротски останавливался на краю той юдоли, на пороге разгромленного семейного очага, возле Лядского садика моего детства…»
Он еще не раз побывает в Казани, будет много ездить по стране. Но центром жизни для него останется Москва.
Москва его поразила. Он приезжал в город, где среди нищеты царила пьяная гульба, причем не только ошалевшего ворья, бандитья и нуворишества, но и богемы, кормившейся рядом с ними. В кабинетах президентов новоиспеченных компаний средь резных кресел и ваз на коврах могли валяться титановые лопаты, а на столиках ампир — черные пистолеты. А президенты, говоря по трем телефонам, по привычке не забывали приобнять пару барышень, похожих, как почти все девушки тогдашней Москвы, на проституток, но необязательно работавших по этой линии.
Он приезжал в город, где несло п
Дискотека в любой момент могла обернуться непотребством — и не дракой, как в свое время на казанских и питерских танцах, а «конкретным мочиловом». И в то же время вернисажи, премьеры, выпуски новых книг превращались в праздник. Поставить, показать, опубликовать — были б деньги! — можно было всё.
Нормы и пределы исчезли. Было неясно, чего осталось больше в стране, где рождалось непонятное незнамо что, — угроз или обещаний.
Когда в один из первых визитов Аксенов попросил свозить его в «типичное московское злачное место», знакомые медлили. Зачем? Не насмотрелся? Еще больше удивились, когда узнали, что его интересует ночная жизнь молодежи в столице СССР.
За экскурсию взялся Алексей Козлов. Он знал столичную ночь и повез друга в знаменитое диско «Красная зона», что отплясывала на Ленинградке близ «Аэровокзала» и комплекса ЦСКА. Место считалось опасным — можно нарваться на буйных юнцов. Но не поиск приключений и не грохот попсы и рейва влек поклонника Чарли Паркера и Джерри Маллигана. Аксенов хотел знать, чем живет молодежь, под какую музыку перебирает резвыми ногами… куда хочет идти. Вот Козлов и взял его в
В огромном цехоподобном помещении, где в мерцании цветовых пятен оттягивались сотни людей, были клетки из прозрачного плексигласа. Там в свете софитов эротично извивались девушки. Голые. Аксенов прошептал: в Америке такое невозможно…
Торговля всем и везде — книги соседствовали с кроссовками, голландский спирт с китайскими игрушками, духи с фаллоимитаторами; бесчисленная армия снующих челноков, мошенников, карманников, «кидал» и попрошаек, бойцов рэкетирских бригад… Всё это не убеждало в скором пришествии буржуазного благолепия. Не убеждали в нем и частные кафе. Чем закончились нэповские ресторации? Голодовками…
Аксенов знал, что в эпохи крушения укладов и систем и нарождения новых иначе не бывает. Но суета мешала ему. Казалось, он разочарован происходящим, включая, возможно, и горячий прием литературно-театральной публики.
Но под пузырящейся толщей безобразия могло таиться российское новое. И прежде всего — новое искусство, которое в ту пору и впрямь укрылось в не менее глубоком подполье, чем при Советах. Аксенов ждал, что, когда рассеется чад, оно прозвучит ярко и ясно.
Он приезжал. Но не чувствовал, что вернулся… Ощущал себя дачником, иногда свадебным генералом. Прилетал, улетал, прилетал снова. Жил на два дома. Он, похоже, не узнал страну, не нащупал ее. Но можно ли было
Кстати, охлократию он сам предсказал, хотя и невольно. В «Острове Крым», показав нравы элиты застоя. Вырождение идеалов. Отсутствие ценностей. Мафиозность власти. Потная тяга к потреблению и вера в товарный рай, при нуле человеческих чувств — о них Аксенов сказал одним из первых. Всё это не обещало радужных перспектив. Последующие годы унаследовали больные гены. Потому и понятен смысл заголовка статьи «Василий Аксенов как зеркало первой криминальной русской контрреволюции». То был не милый писателю карнавал, а разложение во всей его неприглядности. Но Аксенов — врач и гноя не боялся. Мечтая о крахе большевизма, он вовсе не чурался социальных нарывов и пытался разглядеть за хаосом образ и жест, способные роднить эту страну с Западом. Он был далек от его идеализации. Но верил, что если есть пример, способный стать ориентиром для России, то это, как и при Петре Великом, Запад и только Запад.
Именно вероятность вхождения России в орбиту Запада делала ее интересной для Аксенова. В базарном мельтешении и сопротивлении подколодной посконины он видел последние судороги застоя. Он знал Москву 1970-х. И понимал: сейчас — лучше. Ибо в сейчас есть надежда на
Москва времен «Ожога» — жутка, как кости супового набора. Жалкий неон над магистралями. Уличные лозунги сообщают месту особый колорит: «Слава КПСС!», «Решения XXV съезда КПСС[235] — в жизнь!», «Пятилетке качества[236] — рабочую гарантию!», «Да здравствует помощник партии — Ленинский комсомол!».
Теперь — не так. Тех огней уже нет. Новых реклам еще нет. Лозунгов тоже. Считается, что новой системе не в чем убеждать — всё и так ясно: «Капитализм — светлое будущее человечества!» Авторы старых девизов перестраиваются. КПСС дышит на ладан. Комсомол перестал быть ленинским и с юной энергией, управленческой выучкой и аппаратной смекалкой взялся за буржуйское дело. Известно, что оно нередко перетекает в дела уголовные. Аксенов относит это к числу несчастий. Но видит и переход от «неравномерного распределения убожества» к «неравномерному распределению блаженства». И уверен: это — благо. Тем более что где-то рядом мерцает нечто обнадеживающее. Чей-то абрис. Некий контур. Молодой деловой человек… Именно появление предприимчивых людей рождало гипотезу о новом герое, человеке 1990-х. Ну какая новая Россия без нового героя?
Но раз он не спешит к нам, то надо его найти, создать, описать. Так абрис преобразуется в Славу Горелика — делового сына стареющего красного интеллигента, парня с подпольным прошлым и острым чувством юмора. И в его женское отражение — Светлякову Наташу. Здесь и сейчас — звезду станции метро «Нарвские ворота», а в литературной вечности — красавицу, распутницу, соратницу по борьбе.
Следом за ними является группа вспомогательных характеров обоего пола из местного населения. Но не обошлось и без эмигрантов старших поколений — от седых бонвиванов-монтеров-сантехников графа Джина Воронцофф и князя Ника Олады до бродяги и артиста Саши Корбаха, что некогда чужим анонимом встретился Аксенову с битой сандалией на сбитой ноге и системой Станиславского на пивных устах… И мановением пера был обращен в героя — сперва советского изгоя и штатского голодранца, а после — в посланца идеалистов Запада в новую Россию.
Явились и сами идеалисты в лице миллиардера Стенли Корбаха и его команды, которые подобно тимуровцам взялись перевести через опасную дорогу переходного периода буржуазную барышню Русь, ее юную культуру и их мамашу историю.
Вот кого нашел Аксенов в дебрях 1990-х. Плюс — несметную свиту других образов. Вполне положительных. Но были и гады. Бандюги, шпионы, грязные дельцы, предатели и каратели, террористы и марксисты, южные упыри и прочие дикари… Для всех нашлось место в нескольких романах.
Анатолий Гладилин говорит: «Самая интересная, написанная им в Америке книга — „Негатив положительного героя“». Она не про Штаты, а про Россию. Ее реже всего упоминают «аксеноведы». С нее и начнем.
В «Негативе», составленном из нескольких новелл, автор дает волю единству и борьбе противоположностей. В полном соответствии со своей верой в то, что эти вот плуты и мошенники, а то и убийцы и жертвы убийц, будучи (субъективно) мерзкими и достойными осуждения, объективно играют благую роль. Ибо они, и никто другой, пролагают дорогу к свободе, достатку, закону, уважению к личности, правам человека, справедливости и патриотизму. Вот такое единство. Такая борьба. И одновременно — с тоталитарным мировидением и его наследниками, которые не приемлют новое общество, отвергают свободу, презирают личность, рядят патриотизм в цвета черной сотни, справедливость — в кумач коммунизма, а Запад — в личину врага. Но «заткнись, красная жаба! — велит автор. — Не трожь… Запада — нашей духовной родины».
Однако любая борьба идет в рамках единства — ведь ее участники — россияне, дети одной страны, над которой несутся «сонмы советского воронья, а понизу самумы рыночного мусора из банановых ошметков, целлофановых клочков, мятых алюминиевых банок и одноразовых сморкалок». А между верхом и низом — человек. Путь его далек и долог. Он лежит через август 1991-го, когда компания воротил нагнала в Москву танки давить свободу, но народная духовная революция смела их самих. И через скудость 1992-го. И через оживление 1993-го, в котором тоже не обошлось без танков. Правда, на сей раз у мятежников их не было, а были КрАЗы, врубающиеся в окна мэрии и подъезд телецентра, арматура, пистолеты, автоматы. Толпы люмпенов. Ряды боевиков. Их остановили танки. Но они же, как считал Аксенов, открыли стране путь к свободе.
Он поддержал «Письмо 42» в защиту курса Ельцина: «…фашисты взялись за оружие, пытаясь захватить власть, — писали в „Известиях“ деятели культуры. — Слава Богу, армия и правоохранительные органы… не позволили перерасти кровавой авантюре в гибельную гражданскую войну, ну а если бы вдруг?.. Нам некого было бы винить, кроме самих себя. Нам очень хотелось быть добрыми, великодушными, терпимыми. К кому? К убийцам? Терпимыми… К чему? К фашизму? История еще раз предоставила нам шанс сделать широкий шаг к демократии и цивилизованности. Не упустим же такой шанс…»
Аксенов заявит: «Если бы я был в Москве, то тоже подписал бы это письмо…» Но в Москве его не было. Как не было там и одного из главных действующих лиц «Негатива положительного героя» — актера и «ходока», а ныне министра культурных связей Аркадия Грубиянова. Сидя в американских гостях и глядя CNN, он «болеет» то за Ельцина, то за Руцкого, как символ замороченности того многочисленного россиянина 1990-х, который реагирует лишь на телекартинку и лишен убеждений и идеалов.
Глядя, как люди Руцкого берут мэрию, и выбрасывая «трехцветные тряпки, вздымают победный кумач», он кричит: «Ух, дали! Ух, здорово! Саша, вперед!» Вот толпа поет перед Останкино: «Когда нас в бой пошлет товарищ Сталин и Макашов на битву поведет». С ревом несется выпущенная ракетная граната. Летят стекла, коллапсирует бетон. «Ух ты! Ух ты!» — хохочет в вирджинской ночи министр свергаемого правительства. В нем всё сплелось: Ставрогин и Свидригайлов — с новой гнилью.
Но вот танки Павла Грачева дают залп по штабу «Второй Октябрьской революции». Над Белым домом столбы дыма. И Грубиянов хохочет: «Вот дают! Вот здорово! Паша, вперед!» — а когда вождей выводят, заходится до икоты: «Во кайф!»
Хозяева глядят на гостя с печалью. Как на душевнобольного. И отчасти они правы. Ибо таков россиянин, застрявший между СССР и Россией, красным стягом и трехцветным знаменем, гордыней империи и радостью свободы. Странным кажется он человеку западному. Аксенову тоже. Но… Велика Российская Федерация, а отступать некуда.
А Аксенову было куда. Во-первых — в литературу. Во-вторых — в закатные страны. Из того же «Негатива»: «Билет на „Бритиш Эруэйз“, два паспорта, остатки рублей и валюта, всё было в сборе. В воздухе попахивало… кислотным осадком недавнего мятежа».
Сладкий бывает бон-бон, пастилка, пупсик. А сладостный — уж так сложилось — относится единственно к любви.
Это и есть роман о любви. Большой и сложный. И потому не станем даже штрихами чертить его сюжет. Ибо это неизбежно обеднит впечатление. Тем более что еще вопрос: что в романе важнее — сюжет или герой. Очень похоже, что герой. А прочее, включая сюжет, сам Новый сладостный стиль и отсылы к Данте, служит ему — Александру Корбаху — бродяге и артисту.
Корбах — не просто новая версия аксеновского супермена с бешеной творческой и сексуальной потенцией. Он — материализация мечты писателя и воплощение его утопии. Гласящей, что Художник может обрести заслуженное признание, став новым человеком на новой земле. А вместе с ним — все остальные.
Итак — Саша Корбах (это о нем говорил Аксенов на лекции в Спасо-хаусе). Режиссер театра «Шуты». Изгнанник из андроповской России. Убежденный космополит. Богемный скиталец. Бездомный гений. Интеллектуал высокого полета. Мастер, презирающий славу и взыскующий покоя. («Почему меня не могут оставить в покое? Почему судьба мне подбрасывает то театр, то любовь?»)
Но рога трубят. В России — вилы. Он едет в Штаты. Телепается в ночлежке «Кадиллак». Гоняет машины на паркинге. Пьет «Столичную» в баре «Первое дно», где, надравшись, толкует о Станиславском. Вдруг — новость: да он же в родстве с гением бизнеса Стенли Корбахом — владельцем заводов, газет, пароходов, тонкого вкуса и байронического духа. У него конечно же русские корни. А иначе чем объяснить его внезапные и таинственные исчезновения из круга родственников, слуг, а также капитанов мировой биржи и промышленности? Саша влюбляется в дочь его — Нору, которая замужем за неким Мансуром. Роман Саши и Норы прекрасен. Стенли от него без ума. В восторге он ищет фамильные корни. Саша с Норой кувыркаются в койке и в творческих парениях. Она летит в космос. Он — в Голливуд. Она левая либералка. Он правый либерал. Их любовь горяча, но разлад неизбежен.
Позднее Аксенов говорил: «…герой „Нового сладостного стиля“ лично ко мне имеет небольшое отношение. Может быть, гораздо большее к Высоцкому, и одновременно к Тарковскому, и одновременно к Юрию Петровичу Любимову». Ну как же — небольшое?! Образ Саши многими гранями сливается с автором. Оба ищут в современности новый сладостный стиль, открытый великим Данте, но и ныне новый, как любовь. Любовь ведет Сашу в его творчестве. Любовь ведет Стенли в байронических исканиях. Аксенов предлагает разным группам читателей разные образы. Читателю-предпринимателю — Стенли, читателю-артисту — Сашу, даме, интересующейся разнообразием жизненных положений, — Нору и т. д. Но объединяет их всех любовь! Это ее сила влечет к героям Аксенова таких разных людей — и ученых, и дельцов, и гоп-компанию калифорнийских бездельников. В этом — еще одна утопия: любовь есть. Она доступна. Та — могучая, свободная, романтическая, вечная и прекрасная.
Третья утопия такова: в России возможна добрая жизнь. Свобода. Закон. Комфорт. Это — единственная из утопий, не выдержавшая испытания сюжетом. Избрав молодую страну объектом широчайшей гуманитарной помощи и социальных инвестиций, Саша и Стенли обнаруживают: нужны не они. А бюджеты для распила. Их гранты растаскиваются, вложения присваиваются, кругом царят лицемерие, пошлятина и ложь, а их самих хотят убить боссы мафии и тайной полиции.
Меж тем «Новый сладостный стиль» — единственный роман Аксенова, в котором симпатии автора полностью отданы постсоветской России. На три дня. В августе 1991-го. В баррикадной толпе у Белого дома.
Вот герой лежит в отключке под фанеркой среди хлама баррикады: «Позже, вспоминая эти провалы, он думал, что в них… было что-то метафизическое: энергетический его контур на время покидал жар истории, чтобы отдохнуть в прохладном астрале. Проснулся он только тогда, когда в сумке под боком заверещал сотовый телефон». И поговорил со Стенли, залетевшим в Индию…
И тут услышал аплодисменты. «Вокруг его убежища стояла группа поклонников, мужчин и женщин… Этих „поздних шестидесятников“ он мог бы различить в любой толпе. Сейчас они умиленно ему аплодировали, как будто он только что сыграл сценку „Разговор по-английски с неведомым персонажем“. Одна женщина сказала ему с характерным для этой публики смешком: „Знаем, что глупо, но это все-таки так здорово видеть вас сейчас здесь, Саша Корбах!“».
Тут и Ельцин предложил ему партию в теннис.
Вообще, в романе море гротеска. В него погружены все. И сами Корбахи, и их близкие, и американские либералы с консерваторами, и кинодельцы, и люмпены, и постсоветские бандиты со спецслужбистами (и не всегда разберешь — кто где), и гэкачеписты, и ельцинисты, и коммунисты, и даже евреи. Гротеск торжествует. Вместе с драмой Данте и Корбаха, а также тревогой автора за Россию.
Но в части книги, посвященной обороне Белого дома от министра Пуго и маршала Язова, нет ни тревоги, ни драматизма. Казалось бы, там им самое место! А автор и герой наслаждаются жизнью и свободой. Случилось небывалое — они совпали! Герои и читатели встретились на баррикадах, чтобы защитить от советчины Свободу и Искусство.
«В углу басовитым соловьем разливается виолончель Ростроповича. Увидев товарища по изгнанию, Слава, как был в каске и бронежилете, бросается с поцелуями: „Сашка, ты тоже здесь! Вот здорово! Люблю твой талант, Сашка, ети его суть! Фильм твой смотрел про Данте, обревелся!“
Саша мягко поправляет всемирного любимца. Фильм-то, Славочка, еще не начал сниматься… Слава продолжает дружеский напор. Песню твою люблю! Музыку обожаю! Ты первоклассный мелодист, Сашка! Ну-ка, давай, подыграй мне на флейте! Ребята-демократы, у кого тут найдется флейта? Коржаков уже поспешает с флейтою на подносе. А мне вот Филатов „чело“ привез из Дома пионеров!..
Корбах для смеха дунул в дудку и вдруг засвистел, как Жан Пьер Рампаль. Ну и ну, вот так получился дуэт… Растроганные повстанцы приостановились, и на стене вдруг отпечаталась общая композиция осажденных, но дерзких душ».
Дуэт отыграл. И вот
Умереть не пришлось. Пришлось пережить триумф, апогей, апофеоз! Взойти на пик. Этот момент, писал потом Аксенов, «можно без преувеличения назвать величайшей и славнейшей страницей в истории России. Похоже было на то, что в сердцах миллионов происходит некое чудо. „Хватит! — кричали все. — Никогда больше!“ Старухи и уличные панки, афганцы и работяги, журналисты, музыканты, интеллектуалы, каменщики — все стояли рука об руку на площади, которая легко могла оказаться русским Тяньаньмэнем. И защити нас, Дева Мария! Опьянение солидарностью может сделать человека бесстрашным. <…> Это были самые счастливые дни в жизни нашего поколения. Что бы еще судьба ни держала в запасе, всё-таки мы можем теперь сказать, что всё пережитое… стоило пережить. Если и было чувство горечи в моей душе, то оттого лишь только, что я улетел из Москвы в Париж… утром 18 августа… В то время, пока мой сын стоял на баррикадах, а моя жена была в толпе, окружающей Белый дом… я сидел с кипой газет на Монпарнасе, и Париж со всем своим блеском тускнел перед революционной Москвой».
Вот преимущество героя перед автором. Он может быть там и тогда, где и когда автор мог быть, но не был. Но и автор силен. Он делает с героем, что хочет. Возьмет — и возведет на пик жизни. А после ррраз — и вниз. Таковы пики — на них не стоят бесконечно. Понимая это, видя, что ура — победа! — Саша рыдает. Плачет и думает: «Пусть это всё… утвердится в истории лишь как дата неудавшегося переворота… всё равно три дня в августе 93-го останутся самыми славными днями в российском тысячелетии, как чудо сродни Явлению Богородицы. А может, это и было Ее Явление?»
То, о чем мечтал Аксенов, состоялось. И значит, он имел право чувствовать свою к нему причастность, ощущать личное присутствие на площади Восстания в полшестого…
Но… как же это всегда не к месту! Мечта развоплотилась. Оказалось, России как объекта корбаховской утопии нет. Не существует. Какое разочарование!
С вершин революции духа страна стекает в трясину будней, всасывающую высокие стремления Корбахов. В московских недрах по их поводу заключен «контракт» — принято решение о ликвидации. Скорбный труд в России приходится свернуть. Саша видит, что ей — еще вчера великой и державной, а ныне вновь беспамятно-циничной — он чужд. И он ее покидает. Отныне изгнаннику некуда возвращаться…
Но так ли? В финале романа он воссоединяется с любимой и главное — обретает подлинную родину — вечность, в глубины которой уходят его корни, обнаруженные в Святой земле. Там он встречается со своим предком, патриархом Корбахом, жившим больше тысячи лет назад! Пусть ставшим мумией. Но — своим.
Маршрут Москва — Иерусалим автор выбрал не случайно. В 1993 и 1995 годах он посетил Израиль и воодушевился мажорной нотой, которой звучала страна. Писателя вдохновила радость, которую это юное общество черпало в вековечной истории. И автор подарил ее Саше. Должно же было чем-то успокоиться его бесшабашное сердце…
Иные критики ищут и находят в «Новом сладостном стиле» сходство с мыльными операми. Если они о постоянном отсвете в романе сказки-мечты, то — почему нет? Разве не чуда (в том числе) ищет сегодня человек в хорошей книге? А Аксенов предлагает ему еще и мораль: даже когда всё потеряно — потеряно не всё!
Вынесенные в заглавие слова
Утопии любви и торжества Художника в романе воплощаются. А вместе с ними — покой, воля и деньги. Столь нужные не корысти для, а любви. Сюжет венчает великое шоу последнего вдохновения, сияющее в небесах над Америкой, Россией, Землей. Его поставил Саша. И восторжествовал.
А добрая жизнь в свободной России пока осталась утопией. То есть тем, что влечет чистые души. Аксенов верит в нее, но с горечью отмечает, что вряд ли застанет время ее торжества. И добавляет в сладостный стиль ложку лекарства от иллюзий.
В Штатах роман вышел в
На этот раз литературная среда Америки не захотела плясать вместе с Корбахами, отвергла гротеск. «Новый сладостный стиль» оказался слишком сложен для освоения.
В России книга вышла в том же 1999 году. И имела успех. Группа литераторов даже выдвинула ее на «Государыню». Впрочем, премию Аксенову не дали.
В июле 1994-го Василий Павлович вновь посещает Крым — на этот раз Керчь и остров Тузлу. Он гость Боспорского форума современной культуры. Спектр его впечатлений широк — от восторга перед группой молодых авангардистов, решивших превратить Крым в Мекку мировой творческой элиты, до саркастического ужаса перед городом, что «ни на йоту не сдвинулся с советской кочки», где алеют почетные доски и в номере люкс в Доме моряка острием вверх торчит огромный гвоздь. Меж тем, а вернее, несмотря на это, группа энтузиастов превратила древний порт и малый островок в площадки художественных акций, чтений, инсталляций и перформансов. Один из них именовался «Циклопический жест». На горе Митридат возвели псевдоскифский курган, чтобы в нем схоронить дорогие для гостей талисманы, как когда-то кочевники — злато, мечи и доспехи. Место выбрали верно. Сюда совершал восхождение Александр Сергеич… А раз Пушкин взошел, то что ж участникам форума — внизу, что ль, топтаться? Едва ступив на вершину, они наполнили захоронение уникальными артефактами.
Фазиль Искандер уложил в «гробницу» лист черновика. Тимур Кибиров — новый газовый баллончик, с заклинанием «За всеобщее разоружение!». Вероника Боде баллончик из ямки забрала, и разоружение было отложено… Андрей Поляков бережно опустил в проем красавицу-керчанку. Председатель Союза писателей Крыма Леонид Панасенко — волос любимой девушки. Организатор форума Игорь Сид — каплю алой крови. А писатель Аксенов — перьевую ручку
Потом, рассказывая на радио «Свобода» о событиях форума, Сид упомянул и о ручке. А навестив курган, обнаружил, что он разрыт! Потом до него дошли слухи о людях, нашедших драгоценное стило. Ныне в Керчи не менее трех обладателей раритета.
Забавно сходство Сида и Корбаха — оба высоки ростом, мошны торсом, крутолобы, частью русы, частью лысы… Оба поэты. Хотя… Сид не пишет песен. И шоу не ставит. И не был в Америке. Зато неплохо известен в Крыму. Кстати, он один из тех, кто помнит, как Аксенову — на полном серьезе — предлагали стать президентом Крыма…
Когда-то давно он написал в стол рассказ «Голубой глаз отца», который в 2005 году был опубликован как «Зеница ока», дав название книге. В сборник вошло также немало статей и интервью. В отличие от многих маститых прозаиков, считавших публицистику уделом второстепенных литераторов, критиков и журналистов, Аксенов ее не чурался.
Возможно, это Америка с ее традицией публичной жизни публичных персон не давала мэтру почивать на лаврах. Ведь в Штатах как? Откажешь в интервью — больше не обратятся. Не напишешь статью — снова не предложат. Выпадешь из публичного контекста, твой образ смоет волна лиц, информационных поводов и сообщений… И вот — ты забыт. А надо, чтобы помнили и узнавали — это важно для продажи новых книг…
Аксенов знал, что, как и его выступления по радио, каждая его мысль и фотография, напечатанная в периодике, каждое явление на экране работают на него — писателя.
Он пишет тревожные колонки. В январе 1996 года публикует в «МН» статью «Первомайский январь» об итогах думских выборов 17 декабря 1995 года, когда коммунисты получили большинство голосов и заняли 157 мест, а их союзники аграрии — 20. «Опасность коммунистического реванша поднялась в полный рост, — пишет Аксенов. — Особенно явственно это осознаешь, когда видишь среди новоизбранных думцев вчерашних заговорщиков, Лукьянова и Стародубцева, Варенникова, Ачалова, Макашова. Выходит, все разоблачения коммунистических преступлений, все эти бесчисленные дырки в затылках были до лампочки? Или уж действительно правы те, кто утверждал, что в Советском Союзе каждый пятый стукач?» Потом, в 1998-м, он объяснит в беседе с Игорем Шведовым: «Мы думаем, коммунизм далеко, а он близко, если каждый пятый из народа голосует за коммунистов или за аграриев. В советское время мы говорили: „каждый пятый — стукач“. Теперь каждый пятый — плакальщик по прошлому. И когда власти выдвигают идею национального согласия, это вздор полнейший. Ну как можно быть согласным с теми, кто тащит портреты Сталина?»
Заголовки его колонок говорят за себя: «Если бы выставить в музее раскаявшегося большевика», «Опасно, очень опасно», «Ностальгия или шизофрения», «Старые песни о глупом», «Проба на либерализм»… И хотя в 2000 году состав Думы меняется, поводы для тревоги остаются. Ужас нашей политической элиты перед НАТО. Помощь Милошевичу в битве с Западом. Объятия с красными китайцами. Привычка называть корабли именами красных вождей — «Валериан Куйбышев», «Серго Орджоникидзе», «Юрий Андропов» — и отправлять в плавание под трехцветным флагом. Кто-то называл это гражданским примирением. Аксенов же — шизофренией. Увидев в поселке Свирьстрой статую Ленина, он спросил местного жителя: «На что он вам?» Ответ поразил: «А на всякий случай».
Аксенов обещал, что отречется от родины, если начнут восстанавливать статуи Сталина.
Каждая его статья заслуживает разговора. Лейтмотив же вопросителен: если Россия строит демократию, то почему не может политически, культурно, экономически побрататься с Западом, почему всё время оглядывается назад и кивает то иранским аятоллам, то китайским большевикам, то арабским боевикам? Что мешает, преодолев трагический разлом, избрать союзника раз и навсегда, стать частью Запада?
Прошло время, и он нашел ответы. По крайней мере — некоторые.
Андрей Вознесенский вспоминал:
— Когда-то давно, на заре туманной юности, я подписал книгу Василию Аксенову: «Вася, все они вышли из рукава гоголевской „Шинели“, мы же с тобой родились из гоголевского „Носа“: я из правой ноздри, ты — из левой».
Не одному Андрею Андреевичу виделась за спиной Аксенова тень Гоголя. Не замечал ли и он сам, глянув в зерцало, на голове маячащий цилиндр? А в витринах — на бегу — невзначай мелькнувшую крылатку? Потом, правда, снова — твидовый коут. А усы? Да и собрание сочинений выходит.
В 1995 году издательский дом «Юность» выпускает пятитомник Аксенова — знаменитый, синий… Собрание неполное, много опечаток… Но в нем — важнейшие тексты и ряд удачных предисловий: Евгения Попова — к тому, где роман «Скажи изюм», Виктории Шохиной — к «Острову Крым», Петра Вайля и Александра Гениса — к «Ожогу». Впрочем, Аксенов не спешит быть отлитым в бронзе. Чем дальше, тем больше он смеется над прошлым и нынешним собой, настоящим и прошедшим временем.
Этот смех хорошо слышен в короткой повести «Три шинели и нос»[237]. Там — про джаз, Питер и Казань. Про юную дружбу, которая навсегда. Про беззаботную жизнь, которую мир так старался исполнить забот. Про то, что пальто может быть мечтой. Про то, что беда не приходит одна. А помощь является откуда не ждешь. А то и вовсе — незнамо откуда. О том, что молодость не вернешь. Но это — не повод становиться занудой. Да и стареть торопиться не стоит. Ибо тот праздник всегда с тобой. Хотя, что было — прошло. Хочешь ты или не хочешь. Впрочем… Акакий Акакиевич на поверку-то вышел покруче иных прочих…
Этой повестью Аксенов в очередной — но, как выяснится, не в последний — раз подводит итог под прошедшим временем — советским периодом своей жизни. Он считает, что пора. Ибо время теперь другое. Другая и жизнь. Его — в том числе. И она ему, в целом, нравится. Только смущает, что многие ее отвергают. Раздражает нежелание иных политиков, писателей, публицистов видеть то, что видит он. А именно — что жить в России постоянно становится лучше. Его возмущают попытки свалить на реформаторов неустройства, в которых повинны «идиотская колхозная система» и чугунная социалистическая индустрия. Он знает, что «как на Западе» в одночасье не станет, но уже становится «как в той России, в которой можно приятно жить».
Чтобы увериться в этом, летом 1996 года он плывет из Самары в Астрахань, а оттуда вспять — до столицы. Пароход «Иван Кулибин» стоит в Тольятти, Ульяновске, Ярославле, Чебоксарах, Казани, Нижнем, Саратове, Астрахани и снова в Самаре. И Василий Павлович идет в старинные города — искать приметы перемен. Находит.
При Советах здесь царила скудость. Бывало, молоко отпускали только детям — по указанию врача. И хотя «африканской голодовки» на его памяти там не было, люди нередко проводили всё свое время в поисках еды, часто — очень низкого качества. Случалось, посреди колхозного рынка стояла только торговка луком, одна-одинешенька в окружении множества пытавшихся продать какие-то железяки и кожемитовые подметки.
Нынче же города древнего торгового пути оказались полны товаров и продуктов. Импортных товаров в одном магазине найти можно столько, сколько не набралось бы во всей Москве
А «красные» всё не уймутся — ноют и стонут по прошлому «величию» и нынешнему «ничтожеству». Да, признает писатель, в стране есть «совсем несчастные, которые не могут приспособиться. О них, как и везде, должно заботиться государство или благотворительные фонды». Но не пора ли заменить нытье крепкой шуткой, острым словцом? И — вперед, к процветанию. Ибо уже «возникает немыслимое изобилие товаров, растут новые торговые центры, и денег у людей становится больше, несмотря на невыплаты зарплат», и все шустрят, крутятся, зарабатывают, «огромные массы людей стараются обогатиться», жалуются: «Машина-то у меня всего „шестерка“».
Так и герой нового романа Аксенова «Кесарево свечение» Славка Горелик, включившийся в верчение и обогащение и уже успевший сменить «шестерку» на пожилой «ягуар», не намерен зависать на взятом рубеже. Сын просвещенного номенклатурщика из ЦК КПСС, он не разменивается на мелочи. Подвозя старого товарища автора, а ныне героя сопротивления и умудренного сочинителя Стаса Ваксино (он же Влос Ваксаков) из пункта А в пункт Б постсоветской столицы, на вопрос: «Что ты собираешься делать?» — Слава отвечает: «Деньги!» — и спрашивает: «…Ты не можешь дать мне сотню грэндов на пару недель? Ну да, сто тысяч баксов. — Боюсь, ты меня за кого-то другого принимаешь. Я ведь просто колледжский учитель в Штатах. — Ну, сколько можешь?.. — Не больше чем три. — И это пойдет. Верну тебе три через неделю. А через год выплачу… тысячу процентов интереса. — Ты сумасшедший, мой мальчик. На что тебе этот денежный бизнес?.. — Не кажется ли тебе, что я тоже имею право на свою утопию?..»
Что же это за очередная утопия? Не свободный ли, цветущий и безопасный российский капитализм? Не прекрасный ли пример миру — республика Россия? Похоже — они самые.
И о них, само собой, под водочку и кулебяку толкует и старшее поколение. Не забывая и дела минувших дней. Примерно так: «Что же ты все-таки думаешь обо всем этом анекдоте? — Каком анекдоте? — Об империи, которая собиралась существовать вечно, но не дотянула и до семидесяти пяти лет, перед тем как развалиться на куски? — Эта штука недотягивает до анекдота — это история, а об истории и говорить нечего. — Иными словами, нет никакого смысла в подсчете невинных жертв и невинных злодеев — так, что ли? — Есть только слепая удача, и не менее слепая беда…»
Но новому поколению чужда их слепота. Оно, рассекая по Москве на стареющем «ягуаре», верит: «Через неделю я обменяю его на почти новый „порше“».
Исторический фон этой уверенности — начало нового тысячелетия. Переливаются вывески и рекламы. Сияют витрины магазинов и баров. Фланируют веселые толпы.
«Никогда Москва не была такой шикарной, как сейчас, такой европейской, — делится Аксенов впечатлениями с журналистом Игорем Шевелевым. — Ни до революции, никогда… Невероятное возбуждение в городе. Ночью выходишь из театра — улицы полны, масса людей сидит в кафе. Откуда это всё берется? Повсюду какие-то немыслимые автомобили. Мы тут вышли вечером из ресторана — Евгений Попов, Борис Мессерер и я со своим приятелем, писателем из Израиля, который не был здесь двадцать восемь лет… Он — просто обалдел. Какие-то шутихи взлетают, клоуны проходят, девушки на лошадях — цок-цок-цок, — всадницы. Ночные клубы сверкают. Едем мы в гостиницу, где он живет, и вдруг я вижу огромные светящиеся буквы: „ОСТРОВ КРЫМ. КАЗИНО“. Не то, что такого никогда не было, но, честно говоря, даже не мечталось. Когда стиляги ходили по „Броду“, по улице Горького, они думали, что когда-нибудь что-то, может, и будет. Но чтобы Москва так преобразилась, никто даже представить не мог… Вдруг всё превратилось в высокий класс». Было ради чего постараться молодым и деловым мужчинам.
Что же до девушек нового поколения, достаточно ярких, чтобы войти в роман на правах героинь, то они тоже преобразились в сравнении с прежними героинями Аксенова. Теперь они беседуют вот как-то так: «У тебя, Какашка, нет тормозов! Ты что — рехнулась — сразу с двумя? И зачем ты принуждала провинциалов к оралу? Кто на тебе женится после этого? — К сожалению, я очень испорченная, — отвечала Какаша и рыдала, рыдала… — Что же я такая изначально фатальная получаюсь?..»
Речь здесь идет о петербургской красавице Светляковой Наташе — ну, то есть Какаше, которая пытается чем-то сокровенным поделиться с подругой и райкомовской наставницей Ольгой Кольцатой. Поделиться-то — поделиться… Да всё ли поймут?..
Помните, что сказал Гладилин о «героине Аксенова»? А что говорил сам писатель? Мол, в каждой описанной мною женщине можно найти воспоминание о романтическом увлечении… Причем не обязательно — о состоявшемся, переросшем в роман. Быть может, в каждом из этих образов можно уловить отсвет тайной, юношеской, желанной, но не случившейся любви? Отголосок того невыносимого и прекрасного, что обязано было произойти, ожидалось, желалось… Но — не случилось.
Наташа-Какаша — не всё та же ли это магаданская Любка Гулий или питерская Полина Белякова (Светлякова!) из «Ожога»? Или подавальщица Зина из «Катапульты»? А может, — стюардесса Таня, так и не встреченная на полпути к Луне? Мы не знаем, как звали ту, чье отражение он искал всю жизнь. Ту, что раз за разом ложится, упирается коленями и руками, вытягивается, садится то на подоконник, то на край стола… Ту, которая — о, как она, как она запускает пальцы в седую проволоку на груди очень взрослого автора. Ту, с которой нельзя комкать мгновения. Ту — в зеркале, где соединяются усталая и неотразимая юная краса и жилистый грустный… старик. О, нет! Ту, кого можно спросить: ты что, разлюбила… его? А она ответит: «Неужели вы не понимаете? Я люблю его всё больше. А с вами — в сто раз больше».
Неужели вы не понимаете?
Всё это — не измены! Не гормональные всплески. А блики мечты о прекрасной и вечной любви с той единственной, что недостижима. И непостижима. Которая просит: а вот этого, будьте любезны, не описывайте…
Да как же — если уже описано?..
Наташины приключения описаны подробно. Но она не существует вне Славы Горелика. То есть пытается, но не может. Она и в романе-то появилась, потому что там родился он. Для него создана была автором — вершителем судеб, порой дающим героям потешиться свободной волей.
Аксенов утверждал время от времени, что роман должен развиваться сам по себе, и он, автор, порой не знает, что случилось с героями, пока он спал, и что они начнут вытворять на следующей странице. Но при этом особо разбушеваться он им не давал. Похоже, в этой книге Аксенов попытался максимально четко прописать каждый из входящих в список важнейших для него образов, которые он развивал много лет:
Женщина. Любимая, прекрасная и ужасная.
Женщина. Любящая, но нелюбимая.
Мужчина. Победитель и мечтатель. Талантливый и добрый эгоист. Наследник байронических исканий.
Мужчина. Хам, подлец и негодяй. Премерзкий тип. Неслыханная сволочь.
Друг.
Друг — бандит.
Враг-бандит.
Враг-большевик.
Враг-живодер и дикарь.
Писатель.
Художник.
Либеральный ученый.
Ученый-левак.
Великие тени: Пикассо, Татлин, Хлебников…
Комический старик.
Просто партнерша в сексе.
Автор. Старый сочинитель. По самой своей сути — главный герой. Противовес молодому авантюристу. Создатель миров и людей. Творец и демиург.
Его посланцы и слуги — Хнум и Птах, Холозагоры и Олеожары.
Герои второго плана: дельцы, профессора, бюрократы, хулиганы, спортсмены, журналисты, девушки веселые и умные (свита героини), мужики веселые и крутые, корабли, самолеты, автомобили, американцы / европейцы / советские / эмигранты.
Все они то становятся частью повествования, то — действующими лицами трех пьес, внедренных в роман. Это «Горе, гора, гореть», «Ах, Артур Шопенгауэр» и «Аврора Горелика». Эта пьеса дала название книге, где они были изданы вместе с другими драматургическими произведениями Аксенова[238]. Кстати, из пьес роман и вырос. Написав их, автор увидел, что может использовать каждую в едином большом повествовании как своего рода паузу — глубокий выдох и вдох.
Есть в романе и стихи. Они занимают там примерно то же место, что и в жизни: так просто ходили, сидели, скучали, чай пили, молчали, мычали и тут решили: читаем стихи! А то и сочиняем. Аксенов писал, что состоящая из стихов глава в «Кесаревом свечении» стала нежданным результатом работы законов глубинной и трудно объяснимой логики создания метафор. Возможно, эти ритмизованные и рифмованные кусочки бытия бормочет тот самый герой-байронит, который, как считает Аксенов, непременно нужен в романе, ибо с ним, по замыслу автора, отождествляет себя читатель.
Стихи — один из моментов того праздника, из которых у Аксенова состоит жизнь-карнавал его романов, утверждающих торжество Хорошего человека, вечно ждущего нас на зеленом острове обновленной земли. Что там — на этой земле? Другая реальность. Однако не надо думать, что пока здесь у нас всё идет, как идет, в тексте только веселится и ликует весь народ. Нет, там кто-то травится снотворным. Там лгут, преследуют, бьют, убивают. У убитых дикарей спецназовцы уши отрезают. Там всё страшное — страшно. А гадкое — гадко. И всё — не так как здесь. Разница между миром реальным и миром романным — это несходство мещанской гостиной и мастерской художника.
Даже столкновение мафий, даже война выглядят у него карнавалом. Хотя и жутким. В «Свечении» есть фрагмент сражения российских мафиозных бизнесменов, ведомых Славой Гореликом, с армией мятежных аборигенов принадлежащих России вымышленных Кукушкиных островов под началом полевого командира Уссала Ассхолова. Битва эта ужасна. Боевики отвратительны. Имена их вождей выдают сходство с боевиками Дудаева, Басаева и Радуева. Мятежники разгромлены. Их разгром — зеркало отношения Аксенова к чеченской войне.
Будучи настроен критично к политике президента Путина, писатель, тем не менее, считал, что умиротворение Чечни и всего Кавказа — верный шаг, а разгром сепаратистов — «факт ликвидации бандитской армии невиданной жестокости и садизма». Он называл их «армией настоящих демонов». «Думаю, — утверждал писатель, — у всех этих басаевых были мегаломанические планы по превращению всей России в хаос. Они возомнили себя суперменами», чьи «клыки торчали… со времен генерала Ермолова, а может, и раньше — со времен Гога и Магога. Кстати, именно в этих местах и бродили гоги и магоги».
В 1999 году шумно — с шампанским и танцами — в мастерской Бориса Мессерера отпраздновали двадцатилетие «МетрОполя». Для Аксенова это торжество стало достойным завершением важного этапа в жизни. Он знал: всё, сделанное им в литературе, сделано не зря. А глядишь — по-доброму отзовется и в общественной жизни. Не говоря уже о жизни академической. Полный профессор университета Джорджа Мэйсона, писатель Аксенов — ныне отнюдь не изгнанник, а байронит и космополит, отнесся к концу тысячелетия серьезно — отметил его большим романом.
Осенью 2000 года он закончил «Кесарево свечение». Свой «роман тысячелетия». «Для меня это новаторская и в то же время программная вещь, — говорил Аксенов. — Она отсекает закончившийся век и определенный период моей творческой жизни, за которым я перехожу в иную степень самовыражения». Он считал «Свечение» одной из важнейших своих книг.
«Свечение» стало и его последним американским романом, так и не опубликованным в США. Ирония судьбы: в СССР в конце 1970-х писатель не мог опубликовать свои главные книги, потому что их не принимала социалистическая система; в США в начале первых годов нового века снова не мог — на сей раз их отвергала система капиталистическая. Роман с американской литературой завершился.
Он работал над книгой долго. Но главная доля напряжения выпала на зимний семестр года миллениума и последующие каникулы. Взяв отпуск, хрустальной вирджинской осенью Аксенов завершил свой огромный «словесный проект» и, поставив точку, спустился к ужину с вопросом: «Какое, милые, у нас тысячелетье на дворе?»
Тысячелетие выдалось непростое. То есть — такое же, как и предыдущие. Издательство
Причину решения объяснил автору приятель — редактор Дэн Менакер: у нас считают, что американские читатели не поймут этого романа. Он очень похож на «Новый сладостный стиль», а «Стиль», как известно, продался слабо.
Объяснение изумило Аксенова больше, чем сообщение об отказе. Он уже хорошо знал свою англоязычную аудиторию — хоть и не слишком обширную, но имеющую внятные очертания, и ожидал, что она роман и купит, и поймет.
Однако незадолго до того
Впервые услышав о продаже компании, Аксенов, знавший законы книжной индустрии, спросил: «Это конец?» Но его успокоили: речь идет лишь о финансовой перестройке. Не тревожьтесь: «…в смысле наших художественных ценностей и традиций мы останемся полностью независимыми». Но это была иллюзия.
Новые хозяева и управленцы быстро изменили компанию. После тщательного мониторинга политики
Несогласных с новой политикой изгнали. В том числе и вице-президента Энн Гедофф — женщину с безупречной профессиональной репутацией. Многим другим сотрудникам, как и авторам, книги которых приносили невысокий доход, также указали на дверь. Творческая концепция прозаика Аксенова, гласящая, что главная тема романа есть сам роман, показалась новому руководству не обещающей прибылей.
Дружбе Василия Павловича с
— Я был очень зол, — вспоминал Аксенов. — Я тогда сказал: «Да пошли вы все! Я из России уехал, чтобы спасти свои романы!»
Он впервые всерьез задумался об отъезде из Америки. Чтобы спасти романы.
Однако в Штатах его держала не только включенность в литературный процесс. Аксенов продолжал преподавать. И если публиковаться в России ему теперь ничто не мешало, то здешняя высшая школа, конечно, не могла предложить столь же комфортных условий, как американская. По тамошним меркам Аксенова нельзя было назвать богатым, однако он прочно занял место в том социальном слое, который принято называть «средним классом».
Андрей Вознесенский вспоминал, как однажды «приехал в гости к Василию в Вашингтон из России, которая была тогда плохо одетой. Я же в Париже купил себе нейлоновый костюм… Мы вышли на улицу, и Василий Павлович сказал: давай постоим немножечко. Он показал мне свой новый „ягуар“, спортивную машину с открывающимся верхом. Я разинул рот. Утром было пустынно, и только вдали маячил молодой человек, не решавшийся к нам подойти. Он, вероятно, любовался автомобилем.
Польщенный Вася широким жестом пригласил его подойти к нам. „Вы хотите что-то спросить?“ Молодой человек застенчиво потупился и сказал, обращаясь ко мне: „Скажите, где вы купили ваш костюм?“».
Вкус Аксенова в одежде был другим. Он не любил переливчатый нейлон, предпочитая ему старую добрую тонкую шерсть или надежный твид, вельвет, лен и хлопок, джут, парусину и холст… Были у него и любимые марки. Иногда любимую одежду он давал поносить приятным ему героям: «Элегантный господин… в толпе обычных, то есть неэлегантных, пассажиров. Мягкого твида кепи-восьмиклинка легким скосом предлагает взгляду некую ненавязчивую дерзновенность. Плащ при ходьбе обнаруживает барбериевскую[240] подкладку. Шарф демонстрирует свое родство с подкладкой плаща, а… пиджак и колышущиеся при ходьбе брюки явно напрашиваются в родственники восьмиклинному кепи, что же касается уверенно перемещающихся в пространстве толстых туфель цвета старого бургундского с пунктирным узором, то они говорят сами за себя, то есть завершают этот почти совершенный облик в его динамической гамме». Вот такая картина. Но чтобы мир не принял ее за главную в романе, автор не забывает об иронии, добавляя после точки с запятой «фу, ну и фраза!». Тем более что «всё это имущество было приобретено… в лавке „Once is not enough“[241] за одну четверть действительной стоимости».
Что же касается автомобилей, до сих пор оказывающих почти гипнотическое воздействие на иных россиян, то в Штатах после недолгого использования они становятся дешевле примерно на такую же долю своей цены. Так что не удивительно, что юноша обратил внимание на непривычный для Штатов наряд иностранца Вознесенского, а не на вполне обычную для американца машину Аксенова.
Только не надо крайностей. Не надо думать, что на «ягуарах» разъезжают безработные. Нет. И подержанный «ягуар» дорог, а может, Вознесенский перепутал марку. У нас нет сведений о «ягуарах» в автозверинце дрессировщика Аксенова. Про «мерседес-бенц» знаем, а вот пятнастый-ушастый-хвостастый как-то ускользнул от взора. Однако и Анатолий Гладилин уверяет: был. Был «ягуар».
Так или иначе, но сомнительно, что место в российском университете начала третьего тысячелетия позволило бы Василию Павловичу рулить такими авто. И еще — этот университет мало напоминал Парфенон. Кроме того, преподавание в России требовало почти постоянного присутствия здесь, а, несмотря на постоянное улучшение ситуации, оставались здесь и многие неудобства, скажем так, идеологического и бытового порядка.
Вот, к примеру, неудобством какого порядка считать ситуацию, когда водитель троллейбуса номер 116, следующего по набережной реки Москвы, злобно глядя на пассажира, не открывает двери на его остановке? Да еще и хамит, грозит, тычет в билетное окошко монтировкой, брызжет слюной: «Ну, говна кусок, теперь ты знаешь, что может случиться с таким, как ты, гребаным шпионом?» А день над рекой выдался славный, «ветер и солнечное сияние превратили мутные воды в сверкающую поверхность танцующих волнишек». Это благолепие делает стократ гаже рев водилы: «Сядь на место, жопа!» Резкий тормоз. Водитель летит через ветровое стекло[242]. Пассажир думает: рановато, пожалуй, плотно селиться в стране, где шоферы горазды на такие выходки. Что ж ты, синий троллейбус? Где твои пассажиры, матросы твои и их помощь?
Ладно, будем ездить в гости. Любя. Но — в гости. Пусть даже и в свою квартиру.
За десять лет до выхода «Свечения» в России[243], жилищный вопрос Василия и Майи был решен. Взамен изъятой квартиры московская мэрия дала им апартамент в той же котельнической высотке: подъезд «В», квартира 56. Как бы помогая в поисках нового сюжета и новой сцены, где он мог бы развернуться. И — развернулся. Циклопический сталинский небоскреб стал местом удивительных событий романа «Москва-ква-ква»…
Вскоре в эту квартиру долетел привет из тех времен — в углу одного из окон обнаружилась надпись: «строили заключенные», нацарапанная по стеклу. За стеклом же была Яуза, а дальше, над крышами — державное напоминание о вечности — сияющий то на солнце, то в лучах ночной подсветки — великан Иван Великий.
За год до наступления нового тысячелетия семью постигла страшная утрата: погиб внук Майи Иван, человек Аксенову очень близкий. Об этом страшном событии лучше всего сказать словами самого Василия Павловича, который называл его сыном, посвятил ему рассказ «Иван» и главу в книге «Американская кириллица».
Мы же, пожалуй, приведем отрывок из беседы писателя с Ольгой Кучкиной[244], почти десять лет спустя после несчастья: «Ты слышала, что случилось с нашим Ванечкой?.. Ему было двадцать шесть лет… У Алены, его матери, была очень тяжелая жизнь в Америке, и он как-то старался от нее отдалиться. Уехал в штат Колорадо, их было три друга: американец, венесуэлец и он, три красавца, и они не могли найти работы. Подрабатывали на почте, на спасательных станциях, в горах. У него была любовь с девушкой-немкой. Но потом она куда-то уехала, в общем, не сладилось, и они трое отправились в Сан-Франциско. Все огромные такие, и Ваня наш огромный…
Он жил на седьмом этаже, вышел на балкон… Они все увлекались книгой, написанной якобы трехтысячелетним китайским мудрецом… Я видел эту книгу, по ней можно было узнавать судьбу. И Ваня писал ему письма… И вроде бы он Ване сказал: прыгни с седьмого этажа… Он как будто и не собирался прыгать. Но у него была такая привычка — заглядывать вниз… И он полетел вниз. Две студентки тогда были у него. Они побежали к нему, он уже лежал на земле, очнулся и сказал: я перебрал спиртного и перегнулся через перила. После этого отключился и больше не приходил в себя…
Мы с ним дружили просто замечательно. Он оказался близок мне. Я еще хотел взять его на Готланд. Я, когда жил в Америке, каждое лето уезжал на Готланд, в Швецию, там есть дом творчества наподобие наших, и там я писал. Этот дом творчества на вершине горы, а внизу огромная церковь Святой Марии. Когда поднимаешься до третьего этажа, то видишь химеры на церкви, они заглядывают в окна. Я часто смотрел и боялся, что химера заглянет в мою жизнь. И она заглянула. Майя была в Москве, я — в Америке. Мне позвонил мой друг Женя Попов и сказал…»
В Штатах Иван изучал историю, плавал на сейнере, великолепно катался на сноуборде, был прекрасным серфером и, как считал Василий Павлович, талантливым поэтом. В 2000 году в московском издательстве «ИзографЪ» скромным тиражом вышла книга его стихов. О ней рассказал мне Виктор Есипов — друг и литературный агент Василия Павловича. Переводили сам Есипов, Михаил Генделев, Анатолий Найман, Татьяна Бек и студенты ее семинара в Литинституте. Сборника я не видел и стихов Ивана читал мало. В них, казалось Аксенову, царило одиночество.
Волк, мой друг,
Стоит на перекрестке.
Россыпь звезд
Мерцает в шерсти серой, жесткой.
Мечта раздирает глотку[245].
Впрочем, не во всех его строках сквозит безнадежность. В иных грустит любовь:
Она мой последний варяжский корабль.
<…>
Мое сокровище, которое промотаю.
Сердце от любви распарывается по швам,
и не приметаешь.
Но я осмелюсь, да, я осмелюсь
этот корабль за собой вести…
Вероятно, пишет Аксенов в главе «Иван» в «Американской кириллице», он продолжал любить ту, кого потерял. «И она призналась, когда мы в августе 99-го собрались оплакивать Ваню, что никогда не переставала его любить. Быть может, беда бы не стряслась, если бы они не расстались»[246].
Время, отпущенное Аксенову на пребывание в Штатах, было исчерпано.
В 1999 году, будучи почетным гостем на арт-фестивале в Тулузе, он заехал в Биарриц, и до того ему там понравилось, что через год захотелось вернуться. Изучая витрину агентства недвижимости, Аксенов обнаружил дом, готовый к продаже. Белый, в одно окно, в стиле сочинских здравниц 1930-х годов. Заехал, увидел красивый сад, верхушки пальм, цветы магнолии, камелии… 2 января! Слышен гром Бискайского залива.
С вершины холма открывалась обширная равнина с черепичными крышами, полосой пляжей и замыкающими картину отрогами Пиренеев.
За две недели еще многое удалось увидеть и узнать: в центре города — собор Пресвятой Богородицы и собор Святого Александра Невского — один из известнейших в Европе православных храмов. Есть и русский ресторан. Метрдотель зовет: «Заходите на старый Новый год, будут одни русские». Василий Павлович заходит выпить шампанского. Народу — битком, много русских, но ни одного знакомого слова. Третья волна эмиграции. Русские французы. Наши давно облюбовали эти берега. Здесь когда-то жил Чехов, провел детство Набоков, заезжал Игорь Стравинский.
Сам по себе приглянувшийся дом был невелик. Отчего бы не поселиться в этом краю, столь похожем на милый сердцу восточный берег Крыма? Отчего не сократить перелеты в Москву на ширину Атлантического океана? Расчеты выплат по кредиту не заняли много времени. Полный профессор мог их себе позволить. В 2004-м он продает дом в Вирджинии, уходит в отставку из университета (с правом вернуться) и едет во Францию — на прибрежный склон, где круглый год что-то цветет — то мальва, то петунии, то гортензии…
Ему хорошо здесь писать: не мешают. Это не Москва, где обрывают телефон. С утра — работа. Потом пробежка, то в сторону Испании, то в сторону России. Иногда, в отлив — босиком по пляжу. Прогулка с Пушкиным — тибетским спаниелем. Как звал его Аксенов, с главой семьи — Пушкиным Васильевичем. Партия-другая в баскетбол с самим с собой. И снова — за компьютер. Здесь сложились сборники «Десятилетие клеветы», «Американская кириллица» и «Зеница ока», писались романы «Вольтерьянцы и вольтерьянки», «Москва-ква-ква» и «Редкие земли». В «Москве» и «Землях» Биарриц играет и свою роль в сюжете.
А когда приезжают гости, Аксенов ведет их в город, и вот так прогуливаясь, как бы невзначай, вдруг хвать за руку:
— Ты видел, как на тебя сейчас посмотрела та мулатка? Беги за ней!
— Куда ж я побегу, не зная языка? — отнекивался гость.
— Ну, смотри…
Незадолго до отъезда Аксенова в Европу агентство
Претендентами стали жители США в первом поколении, чей родной язык — русский. Причины их приезда и сроки пребывания в стране, гражданство и известность в СССР не учитывались. Не проводился и «разброс» по постсоветским странам: разве легко определить, с какой из них следует связать человека, рожденного в Москве, выросшего в Тбилиси, получившего образование в Киеве, а работавшего в Алма-Ате. Не учитывалось и место жительства. Так, Василий Аксенов долго жил в США, а теперь переезжал в Европу.
Аксенов занял третье место в пятерке самых влиятельных постсоветских иммигрантов из мира искусства, уступив два первых танцору Михаилу Барышникову и скрипачу Исааку Штерну и оставив позади Андрона Кончаловского и Эрнста Неизвестного. Ну что ж, достойный венец долголетнего пребывания в Америке.
В точности, как в 1980 году Аксенов двинулся в Штаты, спасая свои романы, в 2004-м он по той же причине переехал в Европу. Здесь его издавали и покупали. Здесь был его дом. Теперь даже два. И оба — с прекрасными видами. Один — на твердыню неизменности, другой — на символ непрерывной перемены.
Журналистка — старая знакомая — спросила Аксенова: а что ты любишь в России?
— Язык, — ответил писатель.
В июне 2007 года в интервью «Известиям» он объявил: «Можно категорически сказать, что мое возвращение в Россию состоялось. Я русский писатель, который какую-то часть года работает во Франции». А не наоборот.
К тому времени, с момента публикации «Свечения», в России выйдут сборники его рассказов, очерков, интервью и радиовыступлений, будет снят сериал «Московская сага». Писатель получит премию «Букер» за «Вольтерьянцев и вольтерьянок», встретит непонимание критикой «Редких земель» и нарекания за роман «Москва-ква-ква».
С чего бы, господа? Не с того ли, с чего американские издательства когда-то возвращали ему роман «Желток яйца»? Из-за тотальной иронии по поводу серьезных тем? А здесь и «великое прошлое», и советское искусство, и мечта о царстве мыслителей — республике Платона в отдельно взятой стране, и вера в бессмертие вождя, и имперская символика — от пышнобедрых дам на фасадах и звезд на шпилях до самой знаковой роли сталинских высоток. И сам Сталин, в конце концов. Разве Сталин — это не серьезно? Более чем.
Но Аксенов не хотел писать о нем так. Сурово — да. Страшно — да. Как о злодее и ничтожестве. Недаром в «Острове Крым» так называется статья о нем Андрея Лучникова: «Ничтожество». Вот и в «Москве» Сталин — зверь, минотавр, сгусток тьмы. Но при этом — жалкий, старый, седой убийца-параноик, ценитель власти, кино и цыплят-табака, тиран-мизантроп, дрожащий перед «гайдуками кровавой собаки Тито».
Но у Аксенова есть романы, где о Сталине — всерьез. «Ожог», по которому тот проходит жуткой тенью, и «Московская сага», где он появляется лично. Всерьез о нем и в сериале. Трилогия и фильм оказались неразлучны. Хотя большинство смотревших кино книгу не читали, а многим читавшим фильм не понравился.
Примерно в середине 1980-х для американского кабельного ТВ Василий Павлович подготовил заявку на сценарий фильма о судьбе нескольких поколений советской семьи, корни которой уходят глубоко в почву, на которой выросла российская интеллигенция. Заявку приняли, пошла работа над сценарием. Аксенов показал наброски своему тогдашнему издателю, а тот сказал: «А почему бы тебе не написать роман? Мы его выпустим к телепремьере и заработаем большие деньги». «В итоге, — вспоминал писатель, — я увлекся романом гораздо больше, чем сценарием».
Начальство на канале сменилось, телепроект не состоялся, но роман уже сложился. Аксенов завершил эпопею «Московская сага» 19 апреля 1992 года.
Она развернулась в три текста. Два из них вышли в
Третью книгу, повествующую о 1950-х годах,
В Штатах книгу покупали. Покупали и во Франции, где издательство
В России в 1993 году ее издали в «Тексте». Там же в 1999-м году переиздали. В 2004-м ее напечатал «ИзографЪ», а в 2008-м — «Эксмо».
У нас про «Сагу» писали, что это исторический роман, сюжетные линии которого разворачиваются на фоне реальных событий. А судьбы вымышленных персонажей — добавим мы — переплетаются с жизнями исторических личностей. Маршала Градова и маршала Конева, несчастной Ёлки и Берии… Нередко в статьях помечали: роман толстый. Это правда. И потому, вместо излишнего пересказа его богатого персонами и событиями сюжета, остановимся на хронологии, столь важной для саг.
Первый том «Поколение зимы» повествует о жизни фамилии Градовых с 25 октября 1925 года (старый дом в Серебряном Бору, полный семейный сбор) по декабрь года 1937-го (видный лекарь, спаситель Сталина, Борис Градов избран в Верховный Совет).
Том второй «Война и тюрьма» — о войне и тюрьме. О периоде с лета 1941-го (юный приемыш Градовых, солдат Митя, идет в казармы на санобработку) по 1 ноября 1945 года (в День Всех Святых на тайную молитву сходятся калымские зэки).
С Колымы, а точнее — с Нагаевской бухты, куда в 1949-м к бывшему узнику Кириллу Градову едет жена его Циля, стартует третья книга — «Тюрьма и мир»; а завершается выходом на волю главы семьи — Градова Бориса Никитича в декабре 1953-го, когда он, опустив в урну возвращенные ему награды, видит траурный портрет Сталина…
Есть и эпилог. В жарком июне какого-то года, отвлекшись от сцены охоты в «Войне и мире», патриарх Борис видит снующее в саду новое — совсем юное — поколение Градовых… Ползущего в траве жука-рогача… И с миром отходит к Господу.
А жук-то, рогач-то, ведь — Сталин.
Аксенов хотел видеть «Сагу» на экране. В Штатах не вышло. Сложилось в России. Снимать взялся Дмитрий Барщевский. Продюсером стал Барщевский Антон. Сценарий писала Наталья Виолина. Работал над фильмом и сын автора Алексей — художник кино.
Беседуя с прессой о замысле сериала, Дмитрий Барщевский сказал, что решил экранизировать Аксенова потому, что для него и для всего его поколения он — абсолютный кумир.«…Я еще школьником стоял в очереди за журналом „Юность“, — вспоминает режиссер, — чтобы прочитать „Звездный билет“… Его книги в то мрачное время были глотком свободы… Когда как-то раз летним днем на даче в Переделкине моя жена Наташа Виолина рассказала о своей идее экранизации „Саги“, телефон Аксенова в Вашингтоне удалось разыскать через несколько минут. Еще через мгновение услышали в трубке голос Майи (не виделись с ней двадцать лет). Я сказал, что хочу экранизировать „Московскую сагу“. Майя ответила: „В чем проблема?“ — и позвала к телефону Василия Павловича. Через пару месяцев Аксенов уже был в Москве и подписал с нами договор. Он, опытный человек в кино, сказал: „Я вам доверяю — работайте“. И правда, в создании сценария Василий Павлович не участвовал.
Перед съемками он делился с журналистами: „Московская сага“ — огромный кинопроект. Одних персонажей 283 человека. Не представляю, как удержать их всех в руках. Кто-то может заболеть, запить, забеременеть — с актерами такое случается…»
Актеры подобрались любимые народом: Юрий Соломин — Борис Никитич Градов, Инна Чурикова — жена его Мэри, Александр Балуев — их сын Никита — красный генерал. Сталин — Владимир Миронов. Аксенов предупреждал: «Кто будет играть моего любимого героя, Лаврентия Павловича Берию, пока не знаю». Его сыграл Ираклий Мачарашвили.
«Сага» — это 300 съемочных дней, 254 персонажа, 734 костюма, 1200 предметов реквизита, 2300 участников массовок. В итоге 10 октября 2004 года 24-серийный фильм (планировали снять 12) вышел на экраны Первого канала. В нем гремел XX век. Впрочем, почти все аксеновские тексты именно об этом веке и говорят.
Однако каждый век важен для России по-своему. И вот он обращается к XVIII веку. Пишет «Вольтерьянцев и вольтерьянок».
Он объяснял свой интерес так: «XVIII век, три четверти которого правили женщины, внедрил у нас основы либерального общества. Я хочу коснуться женской власти. Это то, что нам сейчас нужно: возрождение женской власти в России».
И потом, разве не это столетие породило гений Пушкина? А тот ответил ему вниманием. С одной стороны, «оседлал» тренд к преобразованию языка, с другой — ярко осветил в писаниях. И мир нашел в них и Петра державное творенье — то есть строительство Российской империи, и блестящий век Екатерины, когда, как казалось Аксенову, буйное мужланское мушкетерство стало разбавляться дамской красой, новыми модами — например, на литературные поиски…
О них, кстати, немало есть в романе. Придворные Екатерины Великой взяли манеру: сочинять многоумные аллегории о стране Светонии, где, блюдя заветы пращуров и указы начальства, живут наследники старины — славные славы. И одна им докука — зловредное соседство Скотиний да Игноранц, где пали до того, что отменили рабство.
Зная, что и государыня Екатерина не прочь позабавиться с пером и бумагой, вельможи слали сочинения во дворец, надеясь, что она прочтет и поймет: не дело, матушка, слушать всяких Дидеротов. Не говоря уж о Вольтерах. Своим надобно внимать, Шуваловым да Сумароковым, чтобы не случилось, не приведи господи, какой
Таков язык романа. В нем много странных слов. Речи героев и авторские ремарки стилизованы под стиль галантной эпохи. Это добавляет роману шарма, делая его поистине… Критик Валерий Бондаренко нашел удачное определение «кунст-штюк» — дословно — «штука искусства», а вообще — особо тонкое произведение. И впрямь в «Вольтерьянцах» игра с языковыми, декоративными и смысловыми лекалами того и нашего веков выглядит как своего рода самоцель, подобно вышивке на изящном камзоле: сам он одежда, но искусное сплетение нитей делает его творением мастера. И очень дорогим… Больше того, превращает в особый сюжет, скажем, средь шумного бала, случайно… В интригу, которая, как пишет Аксенов, и мила читателю, коего «влечет „таинственность“… связанная с необъяснимостью авторского тщания начать с правды, а кончить вымыслом, или наоборот», и который желает видеть «в авторе такого же искателя, как и он сам, вместе с ним провозгласить „рцы языком правдивым ты!“, а на деле оказаться выдумщиком, в чем… и состоит верность художественной истине».
Здесь в романе порядок: он — выдумка на тему XVIII века, императрицы Екатерины,
Однако это не мешает читателю следить за приключениями и размышлениями героев (одним из которых, похоже, стал язык сочинения), как и за их жизненными путями.
В романе они пересекаются в приморском замке Доттеринк-Моттеринк, где проживает семейство курфюрста Магнуса V Цвейг-Анштальт-и-Бреговинского и куда с одной стороны плывет могучий русский корабль «Не тронь меня!» с посланцем русской императрицы бароном Фон Фигиным, с другой — спешит карета с энциклопедистом Вольтером, с третьей — пара верных шевалье ее величества, а с четвертой — шайка злодеев. И замок становится ареной утонченных интеллектуальных бесед, изысканных застолий, рискованных услад и яростных баталий. Всё ясно: вот — добро, вот — зло. Над русским духом и галльским смыслом опасно нависает сумрачный германский гений. Но он посрамлен. Да и вообще всё кончается не слишком плохо (хоть и не без насилия над девами и убийства блудливого барина ревнивым холопом). На поверку выходит, что гость из Петербурга, это сама императрица и есть, а главарь бандюганов, вроде как Пугачев — казак Эмиль — рыжий Емелька…
В финале герои романа встречаются в небесных садах, где неспешно беседуют. Вольтер в облике Древа Познания толкует с Мишелем — одним из шевалье.
— Где ты сложил голову, в каком побоище? — вопрошает
— Точно не помню, — ответствует Миша, — но, кажется, в битве духа и плоти. Плоть победила, но тут же погибла…
Много еще о чем поговорят поэт с солдатом близ красивого холма, увенчанного «скирдой Екатерины», рассыпающейся под конец в колосящееся поле. Но главные в романе не они. Поэты, злодеи, солдаты, царицы растворяются в искусстве, в коем для Аксенова сквозит надмирная метафизика, соединяющая здешний мир с миром горним, рождающая вечное Древо Воображения…
Кто-то посетует: мол, Аксенов слишком вольно обращается с образами.
Вот, скажем, Екатерина… В штанах, в рискованных любовных экзерсисах, потом — скирда… И что? Ведь не исторический же труд сочинял Аксенов понемногу. И, значит, мог добавить к царице кое-что от себя. Она мила ему такой — женственной, влюбленной, способной босиком бежать к любимому на другой конец дворца. Но и мудрой, либеральной, доброй государыней, просвещенной самодержицей, царствующей на благо и славу нам. Есть, конечно, и иные мнения, но автора они не больно волнуют. Ну, да, Александр Сергеевич сказал о ней: «Тартюф в юбке», а Василий Павлович ответил: «Жантиль в ботфортах». Зря, что ли, Пушкин, зная о ярости Пугачева и описав ее в «Истории бунта», в «Капитанской дочке» нарисовал его иным? Он автор! Имел право. Отчего ж не иметь такого права Аксенову — мало того что писателю, а еще и вольнодумцу!..
Кстати… в беседе с Ириной Барметовой автор напомнил, что если во времена Вольтера слово «вольнодумец» было синонимом скептика и рационалиста, то при советской власти (да и — добавим — нынче, при власти телесуеверий) вольнодумец — это человек, верующий в Бога. Такого человека век сей видит вызовом себе. В этом смысле Аксенов был именно вольнодумцем — христианином. Не станем подробно рассматривать эту очень тонкую и личную сторону его жизни. Лишь пометим, что сложно с точностью причислить Василия Павловича к какой-либо конфессии. Тем более что на склоне лет писатель говорил, что сейчас он и многие интеллектуалы испытывают «серьезные разочарования в ортодоксальной религии. Она, к сожалению, становится слишком официальной»[250].
Судя по многим высказываниям последних лет, себя он числил среди верующих во Христа, но не убежденных в святости принятых догматов и ритуалов, а всё еще ищущих. Однако не случайно же, говоря о личном разочаровании, он упоминал и о сожалении… Так или иначе, обнадеживает строка из его стихов: «Трудно не верить, ей-ей, она горяча и сейчас». Это — о следе прикосновения Христа к стене в Иерусалиме.
Аксенов начал писать «Вольтерьянцев» в 2001-м. Писал в альбомах. Вдоль и поперек заполнял их заметками о гвардейских полках, боевых судах, вольных городах, сведениями о Вольтере, взятыми из книги Уилла и Ариэль Дюран[251]. Читал дневники Екатерины. Грезил закатами над Балтикой и стуком копыт жеребцов юных гвардейцев-гонцов — «отцов декабристов» — Николя и Мишеля, то есть Коли и Миши, Лескова и Земскова, которые мчались на конях Пуркуа-Па[252] и Антр-Ну[253] из конца в конец небольшого континента, влекомые то ветром странствий, то «воздухом всеобщей влюбленности».
Аксенов дописал «Вольтерьянцев» в 2004-м. В том же году роман напечатали журнал «Октябрь» и издательство «ИзографЪ», и тогда же, 2 декабря, на радость «персонам читающего сословия», он был удостоен «Букера». За звание лауреата премии, присуждаемой за лучший роман, написанный на русском языке, соперничали еще пять романистов, внесенных в шорт-лист: Олег Зайончковский («Сергеев и городок»), Анатолий Курчаткин («Солнце сияло»), Марта Петрова («Валторна Шилклопера»), Людмила Петрушевская («Номер один, или В садах других возможностей») и Алексей Слаповский («Качество жизни»), В жюри входили прозаик Андрей Дмитриев, критики Никита Елисеев и Леонид Быков, а также режиссер-мультипликатор Гарри Бардин. Возглавлял его Владимир Войнович.
«Букер» присуждается в России с 1992 года, а с 2002-го именуется «Букер — открытая Россия». Это одна из главных литературных наград страны — 15 тысяч долларов, букет белых лилий и большой почет. Впрочем, денег и признания коллег и читателей Аскенову хватало, а вот с премиями было довольно скудно.
До того на «Букер» в 1998 году номинировался роман «Новый сладостный стиль», но премию не взял, как не взял и «Государыню». Виктор Есипов рассказывал, что университет Джорджа Мэйсона шесть раз номинировал Аксенова на Нобелевскую премию по литературе, но безответно. И хотя в 1990-м он получил сразу три премии — имени А. Крученых, «Великое Кольцо» и журнала «Юность», затем наступил длительный беспремиальный перерыв, который и завершился «Букером».
Сам он участвует в жюри ряда художественных премий, включая «Триумф». А после получения «Букера» получает предложение возглавить жюри этого авторитетного конкурса. И принимает его. Потом он скажет, что это была ошибка.
Мнения Аксенова и остальных членов жюри относительно лауреата 2005 года разошлись. Решение было принято большинством голосов вопреки его позиции. Соотношение голосов 1:4. Аксенов, убежденный в своей правоте, отказывается назвать победителя на публичной церемонии. Это делает критик Евгений Ермолин. Из его рук букет белых лилий получает прозаик из Ростова-на-Дону Денис Гуцко за роман «Без пути-следа»…
«Выбирать лауреата в этом году было очень трудно, — рассказывал позже Василий Павлович. — Я выступил против этого романа и оказался в одиночестве. Конечно, это ничего не значит, поскольку „Букера“ уже вручили новому лауреату. Пусть новые романы этого автора будут лучше!» Другой член жюри, поэт и прозаик Николай Кононов, выдвигавшийся на «Букера» за несколько лет до того, попытался смягчить слова мэтра: «Этот роман гораздо лучше тех, что остались за бортом».
Аксенов продолжал: «Длинный список и шорт-лист… оказались совсем не похожими друг на друга. Члены жюри совершенно по-разному смотрят на современную литературу. Будучи автором двадцати пяти романов, я высказал свою точку зрения. Другие члены жюри не разделили мой выбор. Роман Анатолия Наймана „Каблуков“ на голову выше всех представленных в шорт-листе произведений. На одном уровне с „Каблуковым“ находится роман Михаила Шишкина „Венерин волос“, не вошедший в список по особым соображениям. Шишкину помешал тот факт, что он стал обладателем Гран-при премии „Национальный бестселлер“. Выдвигать роман еще на одну премию было бы не очень корректно… К сожалению, мне не удалось найти общий язык с другими членами жюри».
В 2005-м в него входили Алла Марченко, Владимир Спиваков, Николай Кононов и Евгений Ермолин.
Ситуация, превращенная прессой в скандал, удручила писателя. Аксенов пожалел, что согласился на председательство. Себе и публике он объяснял ситуацию так: «Сейчас я ругаю себя, что согласился стать председателем жюри. Это было под влиянием эйфории от получения в 2004 году премии за „Вольтерьянцев и вольтерьянок“. Не думая, я согласился… Скандал разгорелся на первой же встрече… Чуть не дошло до рукоприкладства. Один из членов жюри сказал мне: „Ну, я вам еще врежу“. На что я сказал: „Можете не сомневаться, что я вам отвечу“. И в конце я завелся. Если бы счет был „три-два“ в их пользу, я бы ничего не сказал, вручил бы эту премию и всё. Но оказалось „четыре-один“, и это меня возмутило. Я понял, что надо отвечать ударом на удар. И когда я сказал, что не стану вручать Букеровскую премию, они совершенно обалдели»[254].
Возможно, в этот момент он, размышляя о природе писательства, молчаливо про себя вопрошал вслед за Вольтером: «Разум ли повелевает руке подняться?»
А в «Москве-ква-ква» рука его поднялась над прошлым страны. В котором ей планировали вечное и страшное будущее. Отчасти воплощенное в архитектуре и убранстве столичных небоскребов, в одном из которых и разворачиваются главные события книги. Всё, что вне его — Московский университет и цирк, Центральный рынок, Кузнецкий Мост, Финляндия, Франция, остров Бриони, «Ближняя дача» и сам Кремль, — всё гарнир; то есть важно, но можно обойтись. А высотка на Котельнической — главное блюдо. Символ СССР, твердыня, населенная героями. Вот — засекреченный профессор Ксаверий Новотканый, а вот его жена — шпионка и защитница мира Ариадна (Рюрих). Нюра и Фаддей — жутковатая их прислуга из спецслужбы, именуемой «Спецбуфет». И дочка Гликерия, Глика — краснозвездная дева, лик советской женственности, юности, спортивности, идейности и высокой, жертвенной любви. К дорогому и недоступному небожителю товарищу Сталину.
Между тем ее самой и ее любви жаждут вполне земные мужчины. Герои, фронтовики, умники, молодцы, пилоты и поэты — Кирилл Смельчаков и Жорж Моккинакки. Первый — сталинский орел, второй — как бы сталинский сокол. Первый — вождю благодарный друг, второй — ненавистный враг. Первый — прозрачный и открытый боец, второй — тайный летун, миф мировой войны, «штурман Эстерхази».
Оба — красавцы молодые, великаны удалые, ввинчиваясь в головокружительный сюжет, вытворяют с Гликой удивительные вещи. Моккинакки, например, взлетев прямо с Москвы-реки, увозит ее на трофейном гидроплане «Хейнкель-59» как бы в Абхазию, а на самом деле — в роскошный Биарриц, попутно ублажая прямо в кокпите. Смельчаков же предпочитает кожаный диван в своих холостяцких хоромах на 18-м этаже высотки.
Но как бы ни старались самоуверенные самцы, а сердце ее и душа принадлежат Сталину, тайный штаб которого строится в верхней башне неприступного колосса — под шпилем со звездой в лавровых листьях.
В той же высотке, только чуть пониже, обретаются и московские стиляги, отвергающие тоталитарный титанизм своего терема, но — живущие в его нутре. И сколько бы они ни выдумывали прозвищ типа Боб Ров и как бы ни копировали образ жизни других небоскребов, лишь побег избавит их от вечного житья в тени серпа и молота.
И вот — побег! Взятый МГБ за стиляжные выкрутасы сын академика Дондерона юный Юрий, обреченный вместе с другими зэками-строителями сталинского штаба на верную смерть, в крутую пургу 1953 года ныряет с 35-го этажа в глухую ночь на утлом дельтаплане, навеки покидая небоскреб.
Там еще много всего происходит, включая захват Кремля бойцами Тито и гибель главных героев. Для нас же важно, что посреди романа, совсем по-аксеновски, откуда ни возьмись, является вьюноша бледный со взором горящим — Вася Волжский (он же Так Такович Таковский), прибывший в столицу хлопотать о восстановлении в казанском вузе, откуда был изгнан за то, что, как и его автор, не указал в анкете, что родители в лагерях.
Он-то, чудом оставшись цел, и рассказал нам историю «Москвы-квы-квы». Историю, на самом деле печальную. Ибо невзирая на смерть Сталина и дальнейший крах красной власти, звезда над высоткой продолжает осенять наши просторы, делая надежды на либеральное будущее их жителей весьма зыбкими.
Роман «Москва-ква-ква», начатый в январе и завершенный в августе 2005 года, писавшийся в Москве и Биаррице, выходит в 2006-м в журнале «Октябрь» и почти одновременно в «Эксмо» тиражом 30 100 экземпляров. И надолго становится темой обсуждения.
В чем только не укоряли Аксенова. Например, в следовании канонам соцарта. Первый из которых: ничего святого; второй: враг номер один — СССР; третий: читатель — дебил (схавает даже историю об отважной разведчице Рюрих, совратившей и выкравшей Гитлера, но, по настоянию союзников, вернувшей его в Берлин); четвертый: порнушка для оживляжа (особенно критиков смущали размеры описываемых автором органов: «…ну покажи! Фу, но этого не может быть! Как он может… такой, продраться меж моих лепесточков?» — да что ж она там узрела-то? — волновались они).
Иных коробил язык: мол, «ернический, — сердилось некое дамское издание, — сплошной стеб; да, захватывает поначалу новизной и дерзостью, а через час понимаешь: все хорошо, да в меру…». А в целом, конечно, «книга, выстраданная пером автора „Московской саги“ (если кто не знает)».
Самый смешной упрек — в вольном обращении с историей. Мол и Сталин умер не так, и Тито Кремля не брал, и подводные лодки в Москве-реке не плавали. Ну, не плавали. Но разве мало мы видели в последние десятилетия экспериментов с так называемой альтернативной историей? О, кто-то полагает, что их место в особом гетто — например, для книг жанра «фэнтези», а тут как бы литература мейнстрима? И что? Кто и когда отказал серьезному писателю в праве на эксперимент, шутку, каскад феерических выдумок? Как можно вменять в вину Аксенову то, что много лет делало его Аксеновым? Разве не с фантасмагориями имели мы дело в «Рандеву», «Бочкотаре», «Ожоге», «Изюме»? Разве соблюдена историческая точность в «Вольтерьянцах»? А между тем они премированы «Букером»! Ах, вот оно что: о Екатерине — пожалуйста, а об Иосифе — ни-ни, в этом дело? Когда об императрицах — пусть будет карнавал, но в случае с генералиссимусами уместен только парад… Не странно ли, дамы и господа?
Сам Василий Павлович воздерживался от участия в дискуссиях по поводу романа. В ответ на вопрос корреспондента «Российской газеты» Игоря Шевелева: «Приятно возвращаться в эту литературную бучу из состояния классика, который давно над схваткой?» — ответил: «…На то, что написал некий критик, мне даже отвечать неохота… Поразительная глухота, плохое зрение и отсутствующий нос. Человек не понял ни одной из главных тем книги… Вообще ничего не усек. Я ему и не отвечаю».
Говоря так, Аксенов настаивал, что в романе важен сам роман, а не исторические детали, не говоря уже о политических соответствиях. И, уповая на то, что читатель его слышит, продолжал жить в той самой высотке в Котельниках, что стала пристанищем для Андрея Вознесенского, Никиты Богословского, Евгения Евтушенко, Людмилы Зыкиной, Юрия Любимова, Галины Улановой, Фаины Раневской и других деятелей культуры, а теперь и героиней его романа, наделавшего столько шуму.
Шум не смолкал, но Аксенов уже работал над новой книгой — «Редкие земли».
Как-то Зоя Богуславская спросила: «Почему тебе пишется лучше в Вашингтоне и Европе, чем здесь?»
«В Вашингтоне за письменным столом у меня остается только один собеседник — В. П. Аксенов. — ответил собеседнице В. П. Аксенов. — В России слишком много собеседников, и я, так или иначе, стараясь им соответствовать, забалтываюсь. Сочинительство и эмиграция — довольно близкие понятия».
Под эмиграцией он здесь, похоже, понимал отстраненность от шума, гомона; от крикливой «актуалки», болтливого «контекста», которым живет «вся Москва». От «шершавой самодовольной великодержавной риторики», вдогон которой, как ему казалось, всё чаще посверкивают железные взоры генералиссимуса, всё пышнее топорщатся усы. Его коробит потеря памяти иными деятелями культуры.
— Как это можно? — недоумевает он, услышав, как Никита Михалков говорит на съезде кинематографистов, что… советская киноиндустрия никогда не роняла достоинства. «Сколько они лизали большевистские сапоги! Сколько дряни изготовили! И при этом говорить о великом достоинстве…» Писатель возмущен. Ему трудно определить источник тревожных сигналов, но он видит в них предупреждение об угрозе достижениям августа 1991-го и октября 1993 года, демократическому развитию России и считает, что их надо защищать. Сделать это, по его мнению, может та часть общества, которая видит будущее страны в либеральной перспективе.
Этот подход, оставшийся неизменным, объясняет, почему, познакомившись с Борисом Березовским, писатель с таким вниманием отнесся к его социальным проектам.
Чем же приглянулся ему Борис Абрамович? Аксенов считал, что Березовский — не просто богач, сидящий на деньгах, как большинство тех, «кто обогатился в условиях вдруг возникшего… Клондайка и беззакония», а бизнесмен, создавший эффективное дело.
Более всего писателя привлекало, что магнат «жаждет… расстаться со своими деньгами», тратить их на добрые дела и этим близок герою «Нового сладостного стиля» Стенли Корбаху. Аксенов считает, что ему присуща «байроническая тяга к самовыражению. Он стремится играть роль в духовном, культурном и политическом развитии страны. В 1992 году, когда для многих людей искусства речь шла во всех смыслах слова о жизни и смерти, он учредил премию „Триумф“, объединившую изрядную часть творческой элиты…».
Другим его важным начинанием Аксенов видел создание широкого движения либералов — проект «Цивилизация». Летом 2000 года идея стала обретать ясные очертания. 9 августа «Известия» опубликовали «Обращение к обществу». Его подписали Василий Аксенов, Борис Березовский, Сергей Бодров, Станислав Говорухин, Отто Лацис, Юрий Любимов, Олег Меньшиков, Игорь Шабдурасулов, Александр Яковлев. Страна была потрясена страшными событиями — повлекшим жертвы взрывом в переходе на Пушкинской, гибелью подлодки «Курск»… Письмо призывало к созданию конструктивной оппозиции. Аксенов, Березовский и Говорухин даже встречались с прессой, объясняя задачи будущего движения. В сентябре СМИ называли Аксенова среди тех, кому Березовский собирался передать в управление пакет акций ОРТ. В список также вошли Отто Лацис, Владимир Познер, Генри Резник, Виталий Третьяков, Егор Яковлев, другие деятели культуры и журналисты. Писатель хотел включить в новый проект и друзей — Александра Кабакова и Евгения Попова, но не убедил. А они его не переубедили. Впрочем, скоро спор Березовский — власть обрел крайне жесткую форму. Затея сошла на нет, а магнат отбыл в Лондон.
Возможно, эти события побудили Василия Павловича пересмотреть отношение к участию в публичных инициативах, имеющих привкус политики. И больше того — к тому, какое место социальные проблемы должны занимать в писательском творчестве. «Надо вырвать литературу из водоворота злободневных событий… Надо просто успокоиться и наблюдать со стороны, — скажет он в 2000 году американскому слависту, писателю и историку Джону Глэду, рассуждая об отношениях писателя и политики. — Раньше русский литератор всегда был вовлечен в политику. На него смотрели как на властителя дум. Он должен был заниматься устройством государства и прочим. Сейчас этого, слава богу, не нужно делать. Пусть политики занимаются политикой. Освободите литературу от этого бремени».
Ну, что ж, эта роль была ему намного яснее — беллетрист либеральных взглядов.
О причинах крайне медленного становления либерального сознания в России Аксенов говорил так: «Либеральное движение здесь, по сути, еще и не начиналось. Все кинулись обогащаться или ходить в ночные клубы, воображая, что это и есть демократия… Либерализм — это стройная концепция, ее надо изучать, в нее надо вживаться. Еще не было, по сути, серьезных попыток установить либеральное общество в России. Дай Бог, что это еще впереди. Если еще не поздно. Надеюсь, не поздно»…
Он верил в это до конца. И в 2006-м писал книгу о том, как это непросто.
Роман «Редкие земли» вышел в 2007-м, в февральском и мартовском номерах журнала «Октябрь», а в апреле — отдельной книгой, снова в «Эксмо». 50 тысяч экземпляров тиража раскупались бойко.
Автор не забывал анонсировать книгу, когда его спрашивали о планах. Намекал: в ней будет действовать один из старых и популярных героев. Так и вышло. В «Землях» к нам вернулся Гена Стратофонтов. Пионер из повестей «Мой дедушка — памятник» и «Сундучок, в котором что-то стучит», мальчик, не привыкший теряться в сложных ситуациях. В свой черед он стал комсомольцем. В положенное время — бизнесменом Геном Стратовым, партнером тайных сил в переделке общества. В нужный срок — олигархом, взявшим куш на редкоземельных металлах. А в черный день — арестантом.
По указанию мощной сверхсекретной сети скрытых тоталитариев из Академии общего порядка (АОП), желавших привести всех и вся к общему знаменателю повиновения, он отправлен в краснознаменную тюрьму «Фортеция». Но из нее ускользает. Стража подкуплена, и Ген, купно с другими героями сочинений писателя, спешит на волю. Как видим, и здесь звучит вечный аксеновский гимн побегу…
Впрочем, в романе злодействует и другая — еще более жуткая структура, скрытая буквами МИО — «Мать и отец», — с которой Ген тоже имеет непростое и опасное дело.
Читатели увидели в нем Ходорковского.
Журналисты, зная, что после ареста главы ЮКОСа писатель поддержал опального олигарха, просили пояснений: стал ли он прообразом Гена? Автор пояснял: «Не совсем. Ходорковский — человек жесткий, прагматичный, а Ген Стратов — авантюрист-байронит, герой нашего времени. Все мы помним конец прошлого века, начало русского капитализма, невероятную лихорадку обогащения: нахапать как можно больше и жить вовсю. Мой герой мечтал употребить богатство для преображения рода человеческого».
— Вашему герою Стратову, когда он уже на свободе в своем замке в Биаррице, вдруг нестерпимо хочется вернуться назад — в Россию, в тюрьму, — замечает интервьюер.
— Это жена его во всем виновата, — отвечает писатель.
Да, у Гена есть жена. Очень деловая, прагматичная дама.
Она и делами рулит, пока он сидит. И из тюрьмы его достает. И супернаследника ему рожает. Удивительного ребенка Никодима, что растет и умнеет не по дням, а по часам, превращается в любимого «Огромного Большуху», становится чемпионом серфинга, а потом, разочаровавшись в мире взрослых, отбывает на своей победной доске в Океан, где остается навсегда.
Есть ли на могучем торсе Никодима отсвет утраченного Аксеновым друга Ивана? Об этом можно только гадать. Но они похожи. Очень.
Каждый из главных героев книги строго уникален. Они из тех, о ком Аксенов говорил: «…среди людей есть совсем редчайшие экземпляры, миллиардные доли — божественный эксклюзив. Соль земли. Настоящие созидатели. Вот обо всем этом мне и захотелось рассказать».
Захотелось и удалось. Если принять во внимание утверждение автора, что в романе «речь… идет о редкости как таковой», а термин «редкие земли», использованный в его названии, «уместен для общей метафоры романа».
Книга стала своего рода завещанием мастера: есть люди, создающие себя и дарящие миру: хотите — берите, хотите — нет. Саша Корбах, Слава Горелик, Ген Стратов. И они достойны восторга. А есть плесень, губящая творцов. И она достойна презрения.
Не подтверждая и не опровергая предположения, что к образу Гена Стратова имеет отношение Михаил Ходорковский и подобные ему бизнесмены-комсомольцы, члены ВКСМ — Всероссийского коммерческого союза молодежи, — Аксенов утверждает, что существует нечто, к чему точно имеют отношение «Редкие земли». Это таблица Менделеева. Когда он ее создал — свою систему, — то оставил в таблице 17 пустых клеток. Великий химик предвидел, что мало-помалу они заполнятся. Так и случилось. Заполнившие их элементы называют редкоземельными. Или — «редкие земли». Когда Аксенов думал, чем занять главного героя-олигарха, то отринул нефть и газ, решив, что Ген будет добывать и сбывать эти элементы, без которых невозможна современная металлургия. Так возникла главная в книге метафора редкости. «Редкости не только этих элементов, но и планеты Земля, и людей как таковых, созданий Божьих». Под номером 111 он ввел в таблицу элемент «Аксений». Что зашифровал писатель в этом числе? Говорят — многое.
В романе 17 стихотворений. Каждому редкоземельному элементу автор посвятил несколько рифмованных строк. Внедрение Аксеновым в прозу поэтических фрагментов знакомо нам давно. Встречаются они и в «Новом сладостном стиле», «Кесаревом свечении», «Редких землях» и много где еще. Склонность к этим внедрениям писатель объяснял легко: «Даже не понимаю, почему мне вдруг хочется писать стихи, которые в обычной жизни я никогда не сочиняю. Я по утрам часто бегаю. И вот, если я в это время пишу роман, я на бегу начинаю бормотать что-то ритмическое, ищу сложные ассоциативные рифмы. И очень часто возвращаюсь со своего маршрута с готовой строфой, а то и с двумя. Записываю их. Года к суровой рифме клонят».
Впрочем, клонили и в 1980-х, и десятилетием раньше… И еще раньше, когда что-то шептал Кире про черного лебедя, пруд и вино…
Многие из этих стихов с пояснениями автора вошли в сборник «Край недоступных Фудзиям». Василий Павлович так прокомментировал выход книги в интервью газете «Известия»: «Я не поэт, просто тесновато внутри прозаического слога, хочется его расширить, а ритмизация и рифмовка как раз это делают. У поэта есть потребность писать стихи как таковые, а у меня эта потребность возникает только в процессе работы над романами, то есть проза ведет к стихам. Это обратное движение…» В беседе на радио «Эхо Москвы» он пояснял, что название книги совпадает с последней строкой стихотворения из романа «Кесарево свечение» «про дикую индейку», которая прилетает, потрясает всех своей красотой. «Но если кто-то возалкает ее на блюде с боку ямс, она тотчас же улетает в край неприступных Фудзиям-с».
Издательство «Вагриус» выпустило сборник летом 2007 года — к 75-летию мэтра. Презентация состоялась в декабре 2007-го. Аксенов почти полтора часа читал стихи под аккомпанемент перкуссии, гитары и саксофона — Валерия Грошева, Алексея Кравченко и Олега Сакмарова. Рамки и инструментарий обычных чтений казались ему тесны так же, как и созвучия обычных рифм. Он весело и упорно искал новые формы литературного шоу, дивертисмента, поэзии в музыке и музыки в стихах.
Впотьмах законченный роман
Лежал тюленем на столе…
Иссяк нарзан,
В пустой стакан
Прозаик звезды, как шаман,
Ловил. А в темной тишине
Метеоспутник тарахтел…
Эти стихи Аксенова прочитал мне Андрей Макаревич в ноябре 2010-го, не ручаясь за точность. И я не поручусь. Он помнил их с юности, когда прочел в «Литературной газете» в рассказе Аксенова, уже тогда — его кумира. Но познакомились они ближе к отъезду писателя, на Малой Грузинской, на домашнем джем-сейшне, где пел и Андрей, замирая от ужаса, потому что там был и Аксенов, перед которым он преклонялся.
Потом, в 1988-м, когда Макаревича выпустили в Америку, Леша Аксенов дал ему телефон отца: вдруг поможет разыскать в Штатах Юрия Саульского, с которым Макаревич хотел повидаться? Аксенов помог и даже пригласил на какие-то чтения, но тогда они разминулись, а встретились уже в Москве, в 1990-х, в клубе «Кризис жанра», где Александр Кабаков официально представил Макаревича мэтру.
«Было душно, людно, неуютно, — вспоминает Макаревич, — но Василий Павлович всё это стоически терпел. Мне казалось, что ему любопытно». Потом они встретились в Самаре на литературном фестивале, где жили в одном особнячке и прогуливались по набережной Волги. А уж потом сложилась компания — Михаил Генделев, с которым Макаревич дружил, Михаил Веллер… Они иногда встречались и выпивали, однажды — у Макаревича дома, где он, снова трепеща, подарил Аксенову свою книгу. Тот ее месяца два-три не открывал. А потом открыл. И вдруг позвонил Веллеру и Генделеву, нахваливая Макаревича. «Это было невероятно приятно! — говорит Андрей. — Об этом я и мечтать не мог».
Как-то под Москвой на даче общего знакомого встретились Макаревич, Аксенов и мэр Казани Ильсур Метшин. Близился юбилей писателя, ломали голову, чем отметить, и придумали: фестивалем. Если человек родился и рос в Казани, то где же еще устраивать праздник в его честь? Мэр Метшин сразу принял решение. И исполнил.
В октябре 2007-го мэрия Казани, некоммерческое партнерство «М-продакшн» во главе с Макаревичем и Сергеем Мировым и журнал «Октябрь» провели фестиваль «Аксенов-Фест». Главный редактор «Октября» Ирина Барметова была в проекте с первых дней. Собрали «фантастически представительную делегацию писателей. Я с трудом могу представить себе, — дивится Макаревич, — что это удалось бы сделать по какому-то другому поводу… Кто-то живет во Франции, кто-то в Израиле… Получилось».
Из Парижа прибыл Гладилин. Из Иерусалима — Генделев, автор посвященного Аксенову эссе «Базилевс»[255]. Прикатили москвичи — Ахмадулина, Барметова, Веллер, Васильева, Кабаков, Мессерер, Попов. Музыканты — Козлов, Макаревич и «Оркестр креольского танго», Ирина Родилес-Пасевич, трио Борца.
В театре оперы и балета им. Мусы Джалиля — том, что в месяцы перед арестом строил отец писателя, — прошли вечера Аксенова и Ахмадулиной.
«…Здесь, — говорила Белла, — становится особенно заметно, что я — Ахмадулина, что я — Ахатовна». Она вспоминала рожденного здесь отца, читала посвященные своей родине и роду фрагменты поэмы «Моя родословная»; стихи, обращенные к Мессереру и Искандеру, посвященный Аксенову «Сад». Теперь Белла Ахатовна вышла в сад навеки. А в том октябре на творческом вечере друга пела ему оду: «Он принес в словесность ту музыку, которую полюбил в детстве, здесь, в Казани. Он всегда свободен. У нас есть все основания сложить все посвященные ему пульсы, полные любви, нежности и благодарности, и этот загадочный букет любви сложить к его ногам».
Вечер Аксенова был устроен в виде джазово-литературного шоу. Друзья-коллеги устроили своего рода джем-сейшен в его честь — каждый сыграл (спел, сказал, станцевал) свою партию. Гладилин — пьесу под условным названием «Донос на товарища Аксенова», Светлана Васильева — элегантный медиакаприз, Кабаков выдал соло на антикварном электронном ундервуде, Попов — очередную вариацию на тему «Звездного билета». По общему мнению, вечер удался.
Удался и весь фестиваль. Мастер-классы, круглые столы, новые дискуссии о судьбе романа, в которые Аксенов впервые включился еще в 1963 году… Визиты. Аксенов и Метшин посетили и старый, аварийный деревянный дом на улице Карла Маркса. Мэрия решила открыть там культурный центр с джазовым кафе, залом для дискуссий, кабинетом мэтра, ну и спальней, чтобы невзначай приклонить чело усталое от дум.
Была и официальная часть. Президент Татарстана Минтимер Шаймиев поздравил прозаика и поэтессу с юбилеями (в 2007-м Василию Павловичу свистнуло 75, а Белле Ахатовне спело 70 лет), вручив медали «В память 1000-летия Казани». Университет почтил их титулом почетных докторов. Все мероприятия фестиваля (и всех последующих) ярко освещались журналом «Казань». А городская дума решением от 18 февраля 2008 года сделала Аксенова почетным гражданином Казани.
На праздничном гала-концерте мэтр изящно прокружил по сцене прекрасную незнакомку… Перед отбытием все сфотографировались у вагона: Генделев — в полосатом жилете, Попов — в бороде, Аксенов — в белом плаще, дамы — в улыбках: чи-и-и-из!
А 7 ноября 2007 года Аксенова чествовали в ЦДЛ. Василий Павлович читал стихи под музыку, для него играл и пел Олег Сакмаров, тоже казанец, известный музыкант составов «Аквариума» и «БГ-бенд», выступали именитые писатели, блистал великолепный Михаил Козаков. Потом Аксенов пригласил самых близких в легендарный ресторан ЦДЛ — то самое культовое место, где некогда трепетал нерв советской литературы.
Сам же по себе юбилей Аксенова праздновали 20 августа. Но не в Москве. Василий Павлович не хотел торжественных чествований и улетел в Биарриц. И праздновал там, в небольшой компании. Из французских Ланд приехал Виктор Есипов. Пришли соседи Аксеновых по Биаррицу Сергей и Марина Тимаковы, подарили картину в красивой раме, под стеклом. Ее повесили на стену. Звонки не смолкали — из Москвы, Вашингтона, Петербурга, Казани, Парижа…
Подали ужин. Майя угощала жареными перепелками, которых почему-то звала куропатками. Было хорошее вино. Поднимали тосты. И тут… картина с грохотом сорвалась со стены. Но не разбилась. Позднее Виктор Есипов напишет, что увидел в этом падении недобрый знак. Но вечера оно не омрачило. Травили байки. Василий Павлович рассказал, как в советское время Мстиславу Ростроповичу вручали премию в Италии. И чтобы ему не пришлось сдавать премиальные деньги властям, что делал каждый советский лауреат, премированный за рубежом, итальянцы вместо денег вручили ценную этрусскую вазу. Однако товарищи пришли и за ней; объяснили: надо сдать. «Ах, сдать, ну хорошо…» И Мстислав Леопольдович кротко передал вазу сотруднику. Но… разжал пальцы чуть раньше, чем нужно. Ваза с грохотом разбилась.
На следующий день зажужжал факс. Аксенову стали поступать поздравительные депеши. От премьер-министра Михаила Фрадкова, из президентской администрации. Сам Владимир Путин поздравил писателя накануне, специальным письмом на своем бланке.
Отношения писателя и президента были, что называется, ровными. Президент поздравлял писателя с юбилеем. Писатель отзывался о президенте так: «Владимир Владимирович — человек подвижный, умеющий приспосабливаться к среде. Среди западных дипломатов он один, среди российских генералов… — другой. Но… он первым позвонил Бушу (после 11 сентября) и сказал: „Мы вас поддерживаем“. Наверное, думал в тот момент и о Чечне: мы вас поддерживаем здесь, а вы нас поддержите там… И все же его кругозор за последнее время расширился, он поездил по миру, почувствовал задачи, которые стоят перед Россией. Другое дело, что в домашней практике администрация Кремля создает ощущение двуликости. Нельзя же быть одновременно либералом для Запада и консерватором для домашних нужд…»
Они встречались мельком. В 2005 году Парижская книжная ярмарка, на которую приехало немало российских писателей, совпала со встречей Жака Ширака и Владимира Путина. 18 марта лидеры Франции и России пригласили писателей в Елисейский дворец. Выступая перед литераторами, президент Франции сказал: «…Российские писатели и поэты своим творчеством поощряют великий проект, который мы с Владимиром Путиным разработали вместе в 2004 году в Санкт-Петербурге — проект создания общего пространства образования и культуры». Владимир Владимирович согласился с коллегой, сделал несколько комплиментов французской литературе. Президент поблагодарил писателей за то, что они «отражают сегодняшний день нашей страны, настроения и чувства нашего народа в новой демократической России». Потом пошел здороваться с писателями. Обнял Даниила Гранина, кому-то что-то говорил, а Аксенову молча пожал руку. Не поздравив с недавним вручением ему французского ордена Искусства и Литературы[256] — единственной государственной награды, когда-либо полученной Василием Павловичем. Впрочем, мог и не знать.
Встречался Василий Павлович и с президентом Дмитрием Медведевым. На чаепитии в ЦДЛ. Когда президент пригласил писателей на чашку чаю, Аксенов не ожидал, что речь идет о великолепном обеде в зале ЦДЛ, где в прежние времена заседал партком. Василий Павлович вспоминал, что, когда Феликс Кузнецов и компания топтали «МетрОполь», обсуждения проходили в том же зале, а сам он сидел почти на том же самом месте. Медведев понравился Аксенову: «Интеллигент. У него четкий ум. Он немедленно схватывает, о чем идет речь, и мгновенно дает интересный ответ».
Шестого июля 2009 года в 20.30[257] Дмитрий Медведев направит семье писателя телеграмму: «Ушел из жизни выдающийся писатель, человек незаурядной судьбы и огромного таланта. Яркий представитель литературного поколения „шестидесятников“ — он, как никто другой, умел не только передать дух времени, но и философски осмыслить жизнь. Его стремление к свободе, готовность честно и открыто отстаивать свои взгляды вызывали особое уважение».
Ну а пока — Аксенов-Фест!
Событие. Большое. Всероссийское. И ясно почему.
— Нам хотелось, — говорила журналистам Ирина Барметова, — чтобы фестиваль сшил лоскуты, из которых состоит сейчас культура России, соединил московскую столичную культуру со столичной культурой Татарстана. Он сшивает их и теперь.
Аксенов-Фест стал ежегодным. В ноябре 2008-го там вручали премию «Звездный билет», придуманную Аксеновым и Ильсуром Метшиным. Она тогда оказалась самой большой в России из предназначенных молодым литераторам и музыкантам — 100 тысяч рублей. И первой общенациональной премией такого рода, учрежденной не в Москве.
«За вхождение в большую поэзию» — это номинация для стихотворцев — «Билет» дали Анне Русс, а «За вхождение в большую прозу» — Денису Осокину, автору повести «Овсянки» (под псевдонимом Аист Сергеев) и сценария фильма, которому через два года на Венецианском фестивале будет аплодировать стоя Квентин Тарантино.
Вручали премии на заключительном гала-концерте фестиваля, построенном так, чтобы зрители, по возможности, не заметили отсутствия на нем самого Василия Павловича. Хотя они заметили. А точнее, знали: он — в госпитале им. Бурденко.
В 2009-м был открыт музей Аксенова в Казани — в восстановленном (а точнее, в новом — построенном на месте прежнего) доме на улице Карла Маркса, где прошла большая часть его детства. Мэр предъявил публике папку документов и маузер в деревянной кабуре и в приличном состоянии. Их нашли при ремонте подвала. Документы касались отца писателя. Большой черный пистолет тоже, возможно, был его. Тяжелый механизм внимательно осмотрел Михаил Веллер — должно быть, сравнивал с хорошо ему известным маузером Папанина…
На гала-концерте Андрей Макаревич спел печальную песню. Игорь Иртенев скорбно читал свое, коему зал, хохоча, аплодировал, Дмитрий Быков — «Вторую балладу», Михаил Веллер — «Церемониал» скончавшегося в марте Генделева. Анна Русс — себя. «Звездный билет» не присуждали. Памятный знак премии вручили Алексею — сыну ушедшего из жизни летом Василия Павловича.
Да, его уже не было с нами. И Фест-2009 был исполнен грусти. Звучал мемориалом, трибьютом, данью… Гвоздем прощального вечера явилась поставленная руководителем театра «Эрмитаж» Михаилом Левитиным пьеса по замечательному рассказу Аксенова «Победа» (который, говорят, когда-то очень понравился гроссмейстеру Марку Тайманову), об игре гроссмейстера с неким попутчиком, о встрече гармонии с хаосом.
Тот, кто «живет, как бы танцуя свинг» — а именно так жил Аксенов, — недосягаем.
Центром Феста-2010 стал дом на улице Карла Маркса. В цокольном этаже, как и хотел Аксенов, концертом открыли джазовое кафе, где с тех пор не смолкает музыка. Энтузиасты музея сказали, что хотят создать экспозицию, посвященную «МетрОполю», и я спросил Евгения Попова, а какова судьба того номера альманаха, который был передан на экспертизу в Союз писателей. Его вернули? Попов воскликнул: конечно! Суд вынес решение, и альманах вернули. Суд? По какому же делу? Оказывается, уникальный экземпляр «МетрОполя» с той поры запропал. И вдруг, 19 лет спустя, в телепередаче «Как это было» Евгений Попов увидел Кузнецова в роли специалиста по «МетрОполю» с его — Попова — экземпляром альманаха.
Сомнений не было. Изготовили всего 12 копий, и про каждую было известно, как и куда она делась. Понятно, Евгений Анатольевич решил вернуть дорогой ему том. Но не тут-то было. Тогда делом заинтересовалась пресса. Дошло и до суда[258]. Выяснилось, что альманах всё это время находился то на антресолях у Кузнецова, то в архиве ИМЛИ, которым он руководил, что экземпляр представляет немалую культурную ценность и что его надлежит вернуть Попову.
Стараниями мэрии города, Ирины Барметовой и директора музея писателя Ирины Аксеновой (однофамилицы) праздник остался праздником. И хотя не приехали Веллер и Быков, в Казань наведались питерские друзья Аксенова — прозаик Валерий Попов, устроивший с Поповым Евгением энергичное шоу — рассуждение о друге, и поэт Анатолий Найман, сделавший свой сдержанный мемуар образцом элегантности.
Поэт Юлий Гуголев читал стихи. Режиссер Вадим Абдрашитов говорил о «Ленд-лизовских» — последнем, неоконченном романе Аксенова, опубликованном уже после его кончины. Он назвал эту книгу «удивительным литературным пространством, где автор освободился окончательно, оторвался от любых и последних уз, которыми был привязан к стандарту. Это — абсолютно свободное погружение, или, если угодно — воспарение в космос детских грез и мечтаний, в страну воображения, туда, куда улетал Вася-ребенок — маленький Акси-Вакси, — оставаясь один на один с фантазией… Мне было бы невероятно интересно снимать это — делать фильм, — сказал режиссер. — В финальной части — обязательно черно-белый».
Пожалуй, таким оно и было — то цветным, то черно-белым — детство в городе на Волге, описанное Аксеновым в «Ленд-лизовских».
Это необычная книга. Очень похожая на рассказы Галины и Александра Котельниковых и других родственников писателя о его детских годах. О беде и нищете военных лет. О тяжеленных бидонах с черным пайковым супом, железные ручки которых резали ладони. О счастье победы. О послевоенном прозябании. Многих этот текст смутил. Кого-то — обилием мата и пацанского жаргона. Кого-то — грубостью и суровостью описания быта, в котором и слова нет о героизме и стойкости советских людей в борьбе с врагом, но так много сказано о другом героизме и другой стойкости — в преодолении невыносимой тяжести тылового быта, в котором неведомо как, а спасались, выживали, сохраняли близких, детей, семьи.
Иных поразила смелость рассказа писателя об отношениях одной из героинь романа — красавицы-журналистки тети Коти и знаменитого пилота-драматурга Ивана Мясопьянова. Созвучие имен персонажей и живых людей, которых мы уже упоминали в первых главах этой книги, многих сбивало с толку. И совершенно напрасно. Близкие писателя утверждают, что если в его фантазии нередко происходит такое, чего простые люди и вообразить-то не могут, то в реальной жизни романа между Матильдой Котельниковой и Михаилом Водопьяновым не было и быть не могло.
Да и вообще, строить догадки о прототипах его героев дело пустоватое. Это хорошо объяснил сам Аксенов в середине прошлого десятилетия в одном из интервью: «Еще ни разу не было, чтобы я кого-то „описывал“ или чтобы я кому-то из „детищ“ впрямую приписывал что-то свое. Вот почему, кстати, я не пишу мемуаров. Уверен, что в процессе воспоминаний на бумаге все переверну, перекрою и заврусь окончательно…»
Понятно, это «заврусь» — не самоуничижение и не раскаяние в неизбежном авторском переиначивании, а самосарказм: такова уж наша доля, ничего не попишешь…
Кого-то смутили нарочитая хаотичность и сюрреализм текста, ощутимые сразу после эпизода спасения тонущего Акси-Вакси из воды и крепчающие по мере приближения к финалу. Типа: «Большое советское солнце сияло посреди солнцесияний и звучало как нестерпимое торжество до конца: „каждый всяческий советский человек поблизости от границы персияны готов будет выполнять бесконечную жуть постоянной советской борьбы! Сталинз“». Их много таких периодов — страницы за страницами. Они кого хочешь удивят. Не удивят разве что тех, для кого «смехачи» Велимира Хлебникова и «дыр бул щыл» Алексея Крученых обычное дело — поэзия, буйство авторской воли, свободный полет слога. Кто-то скажет: эти несколько страниц — просто лепет мальчика, только что спасенного из воды, почти утонувшего, потерявшего сознание, бредящего в забытьи. Но кто-то на это ответит стихами:
Слова мои — в охапку — многи —
там перевязано пять друзей и купец!
так не творил еще ни государь, ни Гоголь
среди акаций пушАтых на железной дороге,
Не одинок я и не лжец, —
Крючек крученых молодец!..[259]
А кто-то заметит: это — авторские заготовки, которые он еще не успел привести в порядок, обустроить, расположить… Быть может, мы заглянули на творческую кухню автора, так и не приготовившего до конца свое коронное блюдо?
Когда не без удивления дочитываешь «Ленд-лизовских» до конца, откуда ни возьмись приходит вопрос: а в самом ли деле эта книга — последнее сочинение Аксенова? Или компьютерная память вселенной хранит и другие? Мы не знаем.
До «Ленд-лизовских» вышло и другое посмертное издание Аксенова — «Таинственная страсть. Роман о шестидесятниках». В заглавии
Аксенов закончил его 21 мая 2007 года. А в предисловии указал, что, приступая к работе вспомнил опыт Валентина Катаева, который в книге воспоминаний «Алмазный мой венец» сумел отгородиться от мемуарного жанра, придумав героям прозвища: Щелкунчик, Командор и др. При этом он цитировал их тексты, делая скрытых под кличками людей узнаваемыми. Однако при этом всё же возникали не копии, а романтические образы, художественные воплощения, в разной мере близкие к оригиналам. Так же поступил и Аксенов с Ахмадулиной, Вознесенским, Высоцким, Евтушенко, Красаускасом, своей женой Кирой, Окуджавой, Майей, Романом Карменом и другими друзьями и знакомыми. Нэлла Аххо, Антон Андреотис, Бандьера Бригадска, Влад Вертикалов, Дельф и некий НиДельфа, Ян Тушинский, Роберт Эр, Кукуш Октава, Яша Процкий и прочие — это и есть шестидесятники Аксенова. И почти каждый — с биографией, с характером, со страстью…
Забавна история с Дельфом и НиДельфой. Читая «Страсть» и догадавшись, что сына главного героя — писателя Аксена Савельевича Ваксона — зовут в нем Дэльф, припомним давний и милый рассказ «Маленький Кит — лакировщик действительности», где сына главного героя зовут Кит. Прибавим к Киту в начало «Ни», а в конец «а», и, получив Никиту, поймем, почему советского лидера зовут так экзотически. То есть перед нами не только, что называется, «роман с ключом», но «роман с ключиками». И каждый из них — это не столько разгадка псевдонимов, сколько понимание разных замыслов писателя.
Один из них, думается, скрыт в названии. Какая же таинственная страсть сжигала, терзала, влекла его замечательных героев? К литературе? К плотским удовольствиям? Деньгам? Путешествиям? Славе? Наградам? Признанию современников? О да! Всё это было. Заголовок романа многозначен. Однако и к нему есть ключ. И спрятан он не слишком глубоко — в самом его тексте. Вы найдете его в первой трети книги, обратив внимание, как автор как бы невзначай цитирует стихотворение знаменитой поэтессы Нэллы Аххо: «К предательству таинственная страсть, друзья мои, туманит ваши очи…»
Впрочем, были среди них и такие, кому кроме страстей была доступна и любовь.
Время в книге выписывает замечательные пируэты. Для удобства читателя название каждой главы сопровождается указанием года, в котором происходит ее действие. Но вдруг год 2006-й оказывается между несколькими 1962-ми и 1963-ми, а 1974-й — между 1978-м и 1979-м. То же самое и с местами действия. Здесь и Коктебель и Москва, и Новый Йорк и Лондон, Дубна и Аргентина, поселок Красная Вохра (так похожий на Красную Пахру) и пароход «Ян Собесский».
Но как бы ни называли героев романа и где бы они ни оказывались, в большинстве из них всегда живет глубоко придавленный, но не изжитый страх, порожденный жуткой травмой детства и юности — эпохой репрессий.
Во многом вся их жизнь — сопротивление этому ужасу. А сопротивляться ему удобнее всего веселясь. Карнаваля. Танцуя твист, буги-вуги и свинг. Распевая и слушая песни Вертикалова и Октава. Давая и получая в морду за красивых и порочных актрис. Ну да, подробности драк и лобзаний, споров о социализме и эмиграции, возможно, выдуманы. А вот вопрос: можно ли было жить в той системе, быть ее частью и оставаться порядочным человеком — нет. И поиск ответа на него — тоже один из замыслов автора. И ведется он на примере судьбы одного из заметнейших героев книги — Роберта Эра, в котором читатель, хоть раз слышавший песню «За того парня», легко узнает Роберта Рождественского — прекрасного поэта, литературного чиновника, коммуниста, хорошего человека… Он, пожалуй, мучился не меньше Ваксона. Или это тоже выдумка? Ну кто посмеет сказать, что было не так?
И кто скажет, что боялись они только прошлого? В книге ясно звучит мысль об ответственности, точнее — ответе. Тревога за будущее. Свое, личное. Что настанет, когда будет выпит последний стакан, внесена последняя правка, поставлена последняя точка и самый главный редактор начнет разговор по душам?
Так что, друг мой, не думай о секундах свысока. Ибо не так уж их много осталось, пока шепнешь с удивлением: а быстроте как, быстро-то как…
Журналисты, решив, что разгадали шарады с именами, обратились к реальным людям — попутчикам на дороге времени — с просьбой поделиться мнением о романе. Попросили и первую жену Аксенова Киру. Она ответила: «Мне сложно оценивать книгу — вся моя жизнь там… А вообще, роман очень достойный. Совершенно узнаваема та жизнь, те люди… Очень точно все описано. И очень по-своему, по-аксеновски… Если бы сейчас Аксенов был жив, он, наверное бы… с кем-то рассорился — они вообще любят ссориться. Но его нет, и теперь, конечно, никто плохого не скажет…»
Спросили и Виктора Ерофеева. И он ответил: «С одной стороны, мне кажется, что эта книга, написанная с иронией и даже сатирой, дает более или менее адекватное представление о „шестидесятничестве“ …В книге всё время ощущение такое, что в жизни очень много подлости… А та жизнь, несмотря даже на идеологическую подлость, другая была… Да и девчонки были не такие истуканки, как описано. То есть идеологически получилось убедительно, а по жизни — нет».
Сказал свое слово и Евгений Попов: «У меня сложилось ощущение, что это рукопись, которую он бы еще правил, черновик. При прочтении кажется, что писатель еще не нашел окончательно все слова… У меня в свое время были рукописи его перевода Апдайка, которые он делал для альманаха „МетрОполь“… Сначала Аксенов сделал подстрочник. Потом поменял слова на более точные и по-настоящему русские. И последний вариант — это уже было вбито, как патрон. Вот здесь, мне показалось, текст не до конца проработан. А оценивать книгу на предмет адекватности и точности описания мне крайне сложно. Я младше Аксенова и, как говорила Ахматова, „меня при этом не стояло“. Но если Аксенов уже в зрелом возрасте, пережив всё, что он пережил, пишет так — у меня нет оснований ему не верить».
Две посмертно опубликованные книги Аксенова[260] оставляют ощущение, что, работая над ними, писатель подводит итог. И подвести не успевает. Больше того, когда сейчас читаешь Аксенова, кажется, что многие его рассказы и почти каждый роман — это своеобразное подведение черты.
У него было редкое чувство времени. И своего места в нем. Он физически ощущал, как оно пролетает, мгновенно тает, и оно-то и есть то, над чем не властен писатель, способный сделать почти всё что угодно со своими книгами и героями.
Впрочем, и у времени были свои отношения с Аксеновым. Чем ближе подходило к концу первое десятилетие XXI века, тем чаще имя Аксенова звучало среди возможных претендентов на Нобелевскую премию.
В 2008 году видный польский ученый-русист Тадеуш Климович в своих «Заметках о современной российской литературе», не без иронии рассуждая о наших писателях, писал: «Таковы уж эти мужчины. А вдобавок кто-то из них получит Нобеля. Многое указывает на то, что им будет Василий Аксенов, прозаик и драматург, который дебютировал полвека назад… В 1979 г. был одним из пяти редакторов… альманаха „Метрополь“… Как и полагается приличному человеку с принципами, покинул ряды Союза советских писателей и в 1980 г. очутился в США, где оставался 24 года. Получил русский „Букер“, в рамках благодарности французам за Вольтера поселился у них в Биаррице… И… для многих поколений читателей остается культовым писателем. Он по-прежнему самый серьезный русский кандидат на Нобелевскую премию».
— Ты боишься смерти? — спросила его когда-то в интервью Ольга Кучкина.
— Я не знаю, что будет. Мне кажется, что-то должно произойти. Не может это так просто заканчиваться. Мы все дети Адама, куда он, туда и мы, ему грозит возвращение в рай, вот и мы вслед за ним…
Любопытное сочетание слов — возвращение в рай, и вдруг — грозит.
На мой вопрос, не чувствовал ли Александр Кабаков, очень тесно общаясь с Аксеновым в последние годы, что Василий Павлович боялся смерти и потому думал и много писал о ней, он ответил: «Смерти боятся все. А его беспокоила старость…»
Баскетбол, стояние на голове, пробежки, рассуждение об особом значении советского обращения «молодой человек», появление в романах героя-автора с непременным пояснением: престарелый, старик… Но и с нередким описанием его сексуальных эскапад. Ну, то есть, какой же старик, когда вот так-то?.. Старики так себя не ведут. Но это — литература. А как жизнь? И жизнь его была весьма насыщенной. Кроме работы над книгами — участие во множестве событий, книжных ярмарках, вернисажах, конференциях, интервью, радио и телевыступления. И постоянные авиаперелеты…
Самолеты стали утомлять Майю. Порой она оставалась в Москве или во Франции, когда муж летел по делам. Это ему не нравилось, но что ж было делать? В июне 2007-го он был в России один. И тут случился приступ мерцательной аритмии. Вызвали неотложку. СМИ сообщили об экстренной госпитализации.
Пару недель под присмотром медиков в санатории в Барвихе, советы «кремлевских» врачей. В эти дни он нередко звонил Майе, Алексею и Кире. Врачи предлагали ему поставить кардиостимулятор. Родные не были уверены в их правоте. Так или иначе, но летом 2007 года в ЦКБ стимулятор поставили. Пробежки пришлось отменить.
Видевший его в те дни Виктор Есипов пишет, что писатель старался не сдаваться болезни, но было видно, что он нездоров. Говорил, что во время приступа на миг потерял сознание. Впоследствии врачи установили, что этот краткосрочный обморок был вызван микроинсультом, который не установили кардиологи ни в Барвихе, ни в ЦКБ.
Незадолго до нового года Аксенов поделился с Есиповым новостью: он закончил первую часть нового романа — о детях военного времени, голодовке 1942 года, нравах казанской шпаны. Это была первая часть будущих «Ленд-лизовских».
Новый, 2008 год Аксеновы встретили в Котельниках. Пост-праздничная Москва на пару недель притихла. Василий Павлович писал, делал домашние упражнения — стоял на голове, бегал на месте, отжимался от пола. Утром 15 января ему позвонил Есипов, Аксенов сказал, что собирается в город.
Через два часа Есипову позвонил Евгений Попов. Его сын, крестник Аксенова Василий, прочел в Интернете: у крестного инсульт.
Удар настиг Аксенова за рулем его фиолетового «ситроена». Он не успел покинуть двор высотки — потерял сознание.
Информагентства, сайты, радио и телевидение мгновенно оповестили мир: Аксенов болен. На следующий день об этом сообщили газеты.
Содержание материалов было стандартным: известный писатель Василий Аксенов госпитализирован в Москве с подозрением на инсульт. «Скорая помощь» доставила его в 23-ю больницу. 75-летнего мужчину поместили в реанимацию отделения неврологии, а затем — в реанимацию отделения кардиологии из-за перенесенной ранее операции по коронарному шунтированию. И — биографические данные.
Затем СМИ сообщили, что 16 января Аксенов перенес операцию в связи с тромбом в артерии, близкой к мозгу. Доктора оценили его состояние как «стабильно тяжелое» и перевели в Институт Склифосовского.
Тринадцатого февраля «Известия» публикуют материал Натальи Кочетковой под заголовком «Сын Василия Аксенова: „У отца небольшая положительная динамика“». К этому времени писатель уже почти месяц был в Склифе. К нему пускали только Майю, Алексея и дочь Майи Алену. О состоянии Василия Павловича Алексей и Алена рассказали «Известиям». Цитируем газету:
«
Василий Павлович — в реанимации больницы Склифосовского. Это неврологическая реанимация на 12 мест… Я не могу судить о российской медицине — я уже 25 лет живу в Америке, в Россию приезжаю редко. Но то, с чем я столкнулась сейчас… — там просто идеальные условия, постоянное внимание сестер и медбратьев… Лечащий врач Василия Павловича — Кузнецова Ирина Владимировна — обаятельная женщина, безумно внимательный человек, она подмечает мельчайшие детали, постоянно держит с нами связь. Я говорила с американскими врачами… неврологи-профессионалы в один голос говорят: то, что делается сейчас для Василия Павловича… — ни в одной стране ничего лучшего предложить не могли бы.
Майя Афанасьевна чувствует себя, к сожалению, довольно средне… У нее сильная депрессия… У нас очень крепкая семья. Леша, сын Василия Павловича, — просто замечательный человек. Я его не знала близко, но сейчас… поняла, что он верный друг и очень любит отца.
Конечно, отец вел очень активный образ жизни… Может быть, ему надо было жить спокойнее. С другой стороны, это его жизнь, и он так хотел. Он, к примеру, каждый день стоял на голове… Врачи говорят, что это плохо, конечно, нельзя ему было. Ну что поделаешь, человек так себя ощущал — моложе своего реального возраста.
Я приводил к нему светил нашей медицины — главного невролога Российской Федерации Яхно Николая Николаевича, который подтвердил все назначения врачей. А дать конкретных прогнозов пока никто не может. Надо терпеливо ждать и надеяться».
Родные называют имена тех, кому очень благодарны. Заведующий отделением неотложной нейрохирургии член-корреспондент АМН РФ профессор Владимир Крылов; заведующий отделением нейрореанимации кандидат медицинских наук Сергей Ефременко. Профессор Владимир Лежнев, делавший операцию. Директор НИИ им. Склифосовского — профессор Могели Хубутия. Эти люди сделали всё, что могли.
Аксенова переводят в Институт нейрохирургии им. Бурденко. Врачи говорят: идет на поправку… Но 5 марта 2009 года агентства сообщают о новой операции.
Завотделением реабилитации Института им. Бурденко профессор Владимир Найдин сообщил РИА «Новости», что Василий Павлович был переведен в отделение общей хирургии для операции на кишечнике. И пояснил, что такое осложнение — нечастое явление у аналогичных больных. «И сам он не частое явление, — продолжил профессор. — Он ведь шел на поправку… что большая редкость при таком диагнозе. И на благополучном фоне — такая беда».
Он подчеркнул, что медикам сложно было определить причину затромбирования сосуда в кишечнике: «Он принял ишемический инсульт, у него пошел тромб из сердца в сосуд головы, а теперь тромб попал в кишечник». В целом, комментарий доктора Найдина журналисты оценили как обнадеживающий.
Шестого июля нам объявили: умер Аксенов.
Прощались 9-го. В ЦДЛ. Начали в полдень. Я спешил из Подмосковья. Были пробки, но я успел.
Сцена, черный креп. На заднике портрет. Все очень достойно. Со вкусом. Гроб в цветах. Полный зал. Алексей.
В первом ряду Майя под руку с Беллой, черная шляпка, черный перстень, взгляд не здесь. Заплаканный Хуциев. Мессерер. Дмитрий Быков и Макаревич, белые цветы. В глубине зала — Кира. На Евтушенко нет лица. «Был горький период, — говорит он, — когда нас с Васей хитроумно ссорили… В том числе писатели-завистники. Слава досталась нам с юности. Но мы за нее расплатились большой ценой».
«Мы всегда были вместе, — говорит Белла, — и даже когда на семь лет нас разлучила судьба… он был рядом с нами своими книгами».
На сцене Зоя Богуславская, Вознесенский, стихи, последнее: «Держись, Васяня!»
Козлов. Расскажи, о чем тоскует саксофон… Аркадий Арканов, Мария Арбатова, Галина Волчек, Владимир Войнович, Виктор Ерофеев, Татьяна Иванова, Александр Кабаков, Игорь Кваша, Евгений Попов, Евгений Рейн, Марк Розовский, Виктор Славкин, Олег Табаков… С такими перечислениями всегда трудно, простите, если кого-то пропустил…
— Аксенов даже в этот момент умудрился собрать вокруг себя наилучшую компанию, — заметил Михаил Швыдкой, зачитав телеграммы от президента и премьера.
Траурная музыка. К сцене — скорбная очередь любящих людей. Очень длинная. Много молодых — моложе меня… Но, как показалось, большинство тех, кого Саша Корбах как-то назвал по-американски
Гроб выносят из ЦДЛ. Аплодисменты. Какая-то дама с живым голубем на голове дает мне свечку. Дорога на Ваганьковское. Храм Воскресения Господня. Отпевание. Протоиерей говорит: «Он дошел до вершины своей славы». Аллея писателей. Деревянный крест. Здесь лежат Сергей Есенин, приятель Аксенова Владимир Высоцкий и друг Булат Окуджава, Андрей Миронов, игравший в «Младшем брате»…
Теперь на его могиле — памятник. Его спроектировал сын писателя Алексей. Василий Павлович глядит на нас с экрана телевизора 1960-х годов.
В последних своих романах Аксенов обсуждает с читателем свое мировоззрение, отношение к жизни, если угодно — свою философию. Возможно, он считал, что идеями, нормами и ценностями, которыми он руководствовался, как и занимавшими его неуверенностями, сомнениями и проблемами пришла пора поделиться с миром, предложив их ему в форме более весомой, чем интервью.
Вообще, он нередко действовал как искусный бренд-мейкер — самовыражаясь, строил свой образ и продвигал его на рынке имиджей, знаков, символов, тайн… При этом, подобно мастеру управления выбором, предпочитал прямой рекламе косвенные, но сильные инструменты. То есть предъявление публике набора характерных моделей поведения и подходов к бытию, через своих героев. И часто очень легко было увидеть: какие из них автору близки, какие он отвергает, а какие может принять в крайнем случае.
У Аксенова очень личные и серьезные отношения с героями, в которые он вовлекает читателя, умело предлагая ему выбор между рядом образов, характеров и способов жить, выраженных в словах, облике и поступках, определяющих судьбу персонажей. Причем предлагая так, чтобы читатель соотнес их с личным выбором в личной действительности, лежащей вне романа — здесь и сейчас — в реальности.
В чьей команде лично
Можно и уклониться от ответа на такие вопросы. Человеку свойственно уклоняться от самоопределения. Но от необходимости строить отношения с людьми и социальными системами и связанных с нею вызовов, выборов, выходов, иллюзий, поражений, побед, работ над ошибками и т. п. — уклониться сложнее. Рано или поздно они требуют отношения к себе, а где его взять без самоопределения?
Сам Аксенов по ряду вопросов определился давно и навсегда, а по многим — нет. Отсюда в его книгах немало героев, с которыми у автора нет полной ясности. Таков в «Любви к электричеству» красный делец Красин — достойный вроде человек, а — большевик, и как к нему относиться?[261] Таковы в «Острове Крым» режиссер Виталий Гангут и умный официант режима Марлен Кузенков; первый — мастер в поисках свободы, но при этом беспредельный циник; второй — не лишенный отваги и порядочности мужик — но весь (прямо как Красин) во власти тоталитарной основополагающей идеи, цапка режима. Таковы в «Бумажном пейзаже» Игорь Велосипедов и почти все женщины, созданные Аксеновым.
Впрочем, «Кесарево свечение» — это другое время и другой текст. Если «Остров» — роман культурно-политического протеста, противопоставление воображаемой свободной России ракетно-балетному убожеству СССР, то «Свечение» — роман-рассуждение о сложности бытия в мире, где нет КПСС и КГБ и их отсутствие — вызов. Ибо заставляет задуматься: где она — чаемая свобода, ради которой слова и слезы? Где пространство вольного полета для сочинителей и книгочеев? И только ли эти буквы им мешали?
Итак, другое время попросило других текстов. Других, но построенных на тех же основаниях. К середине 1980-х Аксенов уже почти 30 лет говорил читателям: вот подлецы, а вот достойные подражания герой и героиня, как я их вижу. Но, учтите, подлинными они станут тогда, когда вы, уважаемые читатели и читательницы, начнете с них делать жизнь. То есть с тех, кого я — сочинитель — предъявляю вам как примеры.
Так писатель обращался к аудитории с отчасти скрытым в сюжетных и диалоговых перипетиях призывом: разделить его мировоззрение, высказанное через истории персонажей. Это есть почти в каждом аксеновском тексте с самого начала… В «Коллегах» к этому зовут друзья-врачи и все хорошие люди. В «Звездном билете» — опять же друзья, девушка, рабочие в элегантных костюмах, рыбаки и старший брат героя. В «Апельсинах из Марокко» — все геологи, буфетчицы, матросы и капитаны, девушки, журналисты, строители, бичи… То есть, если хочешь так, как он, — у нас для всех один закон: вали на Колыму, Курилы, Сахалин, в Америку. Давай. Пробуй.
В «Апельсинах» автор говорит советскому читателю:
А он не унимался. В как бы детской повести «Мой дедушка — памятник» предлагал читателю (кроме примеров для подражания) еще и образ жизни, очень не схожий с тем, каков он у «простого советского» человека. Побуждал желать приключений, плаваний и полетов в края, бывшие для пионеров (да и большинства граждан СССР) все равно что другими планетами. Тогда тропические острова да и столица Великобритании, где сейчас, говорят, проживает до трехсот тысяч дам и господ из России, были за пределами всех вообразимых возможностей большинства читателей. Меж тем путешествие — одно из самых трепетных детских мечтаний. Но как же с ним быть, если перед тобой знак: нельзя!
А автор говорил им:
Может ли мировидение быть полифоничным? Судя по текстам Аксенова — да. Он делает его таким. Порой в одном герое сосуществуют жажда свободы и желание скрестить деспотического монстра с либеральной газелью, а под одной обложкой — целый сонм очень разных характеров. А то важное, что он не может вложить в них, делают и кричат случайные люди. Вспомните диалоги с шоферами в «Пора, мой друг, пора», в «Ожоге», в «Острове», в «Изюме»… Прислушайтесь к шоферам. Они дело говорят…
А что говорит Аксенов? Среди прочего — две вещи. Первая: почему возможности воображения и действия должны принадлежать только мне и моему герою, а не любому из вас? Вторая: «…да неужели же
Однако это — не философия. А та же идеология, что и в «Ожоге», «Изюме», «Московской саге», «Пейзаже», «Желтке», «Москве-ква-ква». В последних же четырех романах Аксенов вступает в преддверие обобщений куда более емких, чем осуждение совка и побуждение к творческому бунту. Он вырывается за границы борьбы «западничества», как верности ценностям и обычаям свободного мира, и «советчины», как привычки к послушанию. За пределы зоны, где трутся в потной борьбе «Варшавский пакт» и «агрессивный блок НАТО», «тоталитарное варварство» и «атлантическая цивилизация», «большевистское рабство» и «общество равных возможностей».
Эта важная, но очень нудная битва, похоже, утомила писателя. Опостылела.
А с другой стороны, победа обернулась чем-то негаданным, чему Аксенов не нашел названия. Его изумляли его читатели: «…с 88–89-го годов им открывают тайны этого страшного государства. Всех этих дыр в затылках, этих страшных захоронений, пыток… И ни черта не действует!» Ему в ответ — о пропаганде, а он: «…у меня была запись на телевидении, и тут все телевизионщики стали говорить, что на них давление колоссальное… Я интересуюсь… Вам кто звонит? А они: „Наши сами туда звонят…“»[262].
Утомительное дело — победителю режима размышлять на склоне лет о таких коллизиях. Не случайно он заводит разговор о жизни земной и жизни вечной. О правде и грехе. О Боге и его враге. О вере и неверии. О Церкви, о любви. О времени. О человеке… Обреченном на муки и творчество, без которых, как думает автор, нет мочи сыскать свободу. Такую прекрасную, желанную, возможную, но ускользающую, незавершенную и мятежную, как частица дабль-фью в «Золотой железке». Ведь это за ней так вдохновенно устремлялся Байрон. За коим поспешали Хемингуэй и прочие байрониты. И спешат по сию пору. А до отмеренного ему дня мчался и чудесный мечтатель Аксенов.
«— Кто мог представить всерьез утешение в мире матерьялизма? В том мире, где всё подчиняется законам гравитации? Ты помнишь, мой шевалье, как ошеломляли нас межзвездные расстояния? Сознание человека не могло их вместить. <…> Ты сейчас проходишь мимо них в зазвездность и вновь встретишь их, только если придется возвращаться.
— Боже упаси! — воскликнул Миша, как зрелый ребенок.
— …Кто знает, а может быть, паки явишься туда, чтоб смузицировать трио с двумя соловьями».
В этом диалоге
Его вдохновляет альтруизм — «никогда раньше такие эскадры с продовольствием не отправлялись за моря», — но крайне беспокоит насилие.
Логика рассуждений писателя такова: когда-то человек часто и необходимо убивал подобных себе. Не обязательно мучительски, но кроваво и лично: зубами, камнем, колом… Чуть позже — на расстоянии руки или рогатины, с хрустом костей, брызгами, судорогами.
И дикарь палеолита, и греческий гоплит, и римский легионер, и латник Средневековья сближались с противником вплотную и врубались в человеческую плоть.
С изобретением стрелкового оружия ситуация начала немного меняться… Один из юных героев романа «Кесарево свечение», некий Филипп Ноуз — кадет военно-морской академии, бравший попутно классы конфликтологии, — обсуждая ситуацию римского воина, с печалью говорил: «От такой работы звереешь». А вот взять пулеметчика — и дело другое. Он сеет свинец на расстоянии. Он дистанцирован от целей. Он убивает. Но тактильное ощущение разрываемых кожи и мяса ускользает от него. Пораженные фигурки падают и замирают, но они — далеко, как бы на экране, как бы не всамделишные… Он способен уничтожить в течение часа больше людей, чем, скажем, ландскнехт XIV века за неделю, но в обыденной жизни может оставаться обычным человеком. А в ландскнехте постоянный кровопуск выжигал всё, что мы зовем человеческим. Почитайте Иосифа Флавия и увидите… пир рассечения и садизма.
На такие рассуждения автор реагировал противоречиво — то есть размышлял над ними. А вместе с ним — его герои. Приблизительно так…
Одни настаивали: пулеметчик — более жестокий гад. Он может больше людей убить! Другие возражали: во время войны с Карфагеном римляне для забавы распинали львов. А возможно ли вообразить пилота американских ВВС, распинающим льва? Он хороший человек — ни кошки, ни мышки ради удовольствия не обидит. А бомбу и ракету посылает в прицел. Для него это всё выглядит хорошего качества интерактивной игрой, как и для прислуги ракетного комплекса, которая его сбивает.
Еще Лев Толстой подметил в «Войне и мире»: канониры на Шевардинском редуте воспринимают летящие на них ядра и гранаты отвлеченно: «оно летит» — говорят о ядре, «она пришла» — о гранате. Спокойно они и шлют в отдаленных французов ядра и бомбы: «лети, соколик…», «пошла, матушка…». Но вот на батарею врывается пехота и сразу побоище: колют, рубят, режут — ликуют сабля востра да штык-молодец…
Рукопашные схватки и садистские смертоубийства бывают и теперь: вспомним мировые войны, Кампучию, Афганистан, Ливан, Руанду. Но надо признать: всё реже. Между тем примеры сострадания и помощи становятся всё чаще и масштабнее. А ведь именно способность к состраданию многие богословы и философы считали главным признаком перехода человека от себя мясного к себе духовному.
Преподобный Исаак Сирин писал о «сердце, сострадающем всему тварному естеству»: «А что такое сострадающее сердце? Сказано: это сердце, пылающее любовью ко всему творению: к людям, птицам, животным, демонам… Это сострадание так сильно… что сердце разрывается при виде зла и несчастья самой ничтожной твари».
Аксенов же вспоминает Артура Шопенгауэра, считавшего, что из всех чувств, присущих человеку, лишь сострадание относится к Небесному. Всё прочее вырастает из биокруга, из воли к жизни, а значит, в основе относится к хищничеству. В сострадании же через человека является небесная милость — касание над-человечности.
И хотя полной гарантии невозврата нет, радует уже сама надежда на возможность преобладания сострадания над агрессией, любви над ненавистью, радости над страхом.
Этот пассаж, где переплетены размышления Аксенова и мои, нужен затем, чтобы показать логику его рассуждений: мир хотя и очень постепенно, но неуклонно уходит от зверства. Близится к состоянию, когда плотское будет уравновешено метафизическим.
Не об этом ли беседуют его герои в нездешних обителях?
Не об этом ли думал он сам, толкуя о пути Адама, грядущего домой — в Эдем?
Не это ли слышалось в песне трубы на рассвете тому, кто над крышами разных столиц и над пеной прибоя писал и писал, и снова писал это время, в историю вписывал свой бесконечный роман, повторяя:
— Считаю, что надо
1932, 20 августа — родился в Казани.
1937 — арест родителей.
Отправка в приемник для детей «врагов народа» в Кострому и возвращение в Казань — в семью Матильды и Евгения Котельниковых.
1948 — отъезд в Магадан к матери — Евгении Соломоновне Гинзбург.
1949 — возвращение в Казань, поступление в медицинский институт.
1952 — первая публикация — стихотворение «Навстречу труду» в газете «Комсомолец Татарии».
1957 — женитьба на Кире Менделеевой.
Переезд из Ленинграда в Москву.
1960 — рождение сына Алексея.
Выход в свет романа «Коллеги».
1963 — жесткая критика со стороны Н. С. Хрущева во время встречи руководства КПСС с деятелями культуры в Георгиевском зале Кремля.
1968 — ввод советских войск в Чехословакию, глубокий личный кризис.
1975 — завершение романа «Ожог», главной книги Аксенова.
1979 — создание альманаха «МетрОполь».
1980 — развод с Кирой Менделеевой и женитьба на Майе Змеул.
Отъезд за рубеж — во Францию, а затем — в США.
Лишение советского гражданства.
1989 — первое возвращение на родину после изгнания.
1990 — возвращение советского гражданства.
2004 — переезд из США во Францию, в город Биарриц.
Присуждение премии «Букер — открытая Россия» за роман «Вольтерьянцы и вольтерьянки».
2007 — первый фестиваль «Аксенов-Фест».
2009, 6 июля — кончина.
Ранние произведения
Навстречу труду. Стихи // Комсомолец Татарии. 1952.
Асфальтовые дороги. Рассказ // Юность. 1959.
Наша Вера Ивановна. Рассказ // Юность. 1959.
Проза. 1960–2009
Коллеги. 1960.
Звездный билет. 1961.
Апельсины из Марокко. 1963.
Победа. 1965.
Пора, мой друг, пора. 1965.
На полпути к Луне. 1966.
Стальная Птица (Дом в Фонарном переулке). 1966.
Простак в мире джаза. 1967.
Затоваренная бочкотара. 1968.
Мой дедушка — памятник. 1970.
Любовь к электричеству. 1971.
Джин Грин — неприкасаемый (в соавторстве с Овидием Горчаковым и Григорием Поженяном под псевдонимом Гривадий Горпожакс). 1972.
Сундучок, в котором что-то стучит. 1976.
Круглые сутки нон-стоп. 1976.
В поисках жанра (Поиски жанра). 1978.
Ожог. 1980, 1984.
Золотая наша железка. 1980.
Остров Крым. 1981.
Бумажный пейзаж. 1982.
Право на остров. 1983.
Скажи изюм. 1985.
В поисках грустного бэби. 1987.
Желток яйца. 1989.
Свияжск. 1990.
Московская сага. Поколение зимы. Война и тюрьма (амер. версия Поколения зимы). 1993/1994.
Московская сага. Тюрьма и мир (амер. версия Герой зимы). 1994–1996. Собрание сочинений. 1995.
Новый сладостный стиль. 1997.
Кесарево свечение. 2001.
Вольтерьянцы и вольтерьянки, (Премия «Букер — открытая Россия»), 2004.
Негатив положительного героя. 2006.
Москва-ква-ква. 2006.
Редкие земли. 2007.
Таинственная страсть. 2009.
Ленд-лизовские. 2010.
Сборники
Катапульта. 1964.
На полпути к Луне. 1966.
Жаль, что вас не было с нами. 1969.
Рандеву. 1991.
Десятилетие клеветы. Радиовыступления. 2004.
Американская кириллица. 2004.
Зеница ока. 2005.
Край недоступных Фудзиям. Стихи. 2007.
Квакаем, квакаем…: предисловия, послесловия, интервью. 2007.
Аврора Горелика. Пьесы. 2008.
Логово льва. 2009.
ОТ ВСЕЙ ДУШИ…
…благодарю всех, кто помог писать эту книгу
Алексея Аксенова, Майю Афанасьевну Аксенову, Киру Менделееву, Майю Павловну Аксенову, Галину Котельникову, Александра Котельникова, Аллу Косицину.
Ирину Барметову, Дмитрия Быкова, Анатолия Гладилина, Виктора Есипова, Виктора Ерофеева, Александра Кабакова, Алексея Козлова, Виктора Лошака, Андрея Макаревича, Анатолия Макарова, Анатолия Наймана, Евгения Попова, Марка Розовского, Юрия Ряшенцева.
Ирину Аксенову, Юрия Арпышкина, Юрия Балашова, Ильгиза Ибатуллина, Наталию Карлину, Лилию Кильдееву, Сергея Мирова, Сергея Мостовщикова, Ахата Мушинского, Ефима Островского, Льва Пастернака, Юрия Свиридова, Игоря Сида, Георгия Урушадзе, Дмитрия Шушарина.
Глеба Кузнецова, Карину Саркисян.
Валентину Петрову, Павла Петрова, Дмитрия Петрова (младшего), Ирину Петрову.
Сотрудников библиотек журнала «Огонек», газеты «Известия», «Литературной газеты», а также «Библиотеки иностранной литературы», помогавших в поиске необходимых материалов.
Использованные в книге фотографии без указания имен авторов любезно предоставлены сыном В. П. Аксенова Алексеем. Издательство «Молодая гвардия» благодарит А. В. Аксенова за оказанную помощь.