Алишер Навои
Семь планет
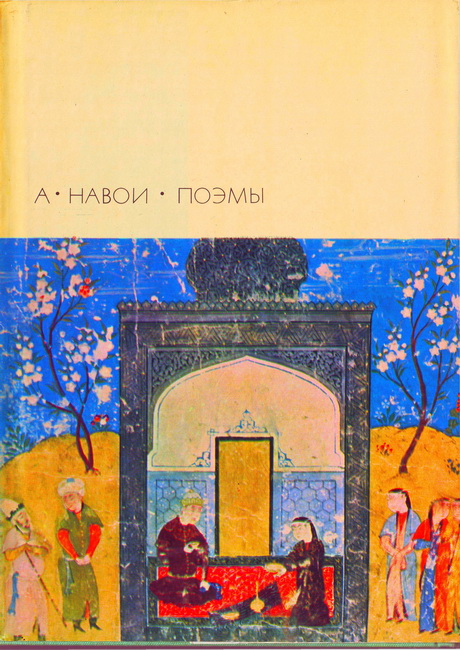
Перевод со староузбекского С. Липкина
Тот мудрый, кто составил временник
Иранских полководцев и владык,
Дал место и Бахрамовым делам, —
Стал украшением письмен Бахрам.
Когда Бахрама, — так писал мудрец, —
С небесной славою связал творец,
Признали власть его державных дум
Хакан и кесарь, весь Китай и Рум, —
Все страны обитаемой земли
Ему свою покорность принесли.
Его предел — от Рыбы до Луны.
Он всем владел от Рыбы до Луны.[1]
Царем царей Бахрама нарекли,
Царем царей семи частей земли.
Всем дерзновенным робость он внушил,
Всех венценосцев данью обложил.
Такой завел порядок искони:
Будь это раджа иль хакан, — они,
Собрав налоги у себя в стране,
Их не держали у себя в казне, —
Несли всю дань к Бахрамовым стопам,
За ней гонцов не посылал Бахрам.
Так все цари, сполна и каждый год,
Бахраму отправляли свой доход,
А также и добычу рук людских
Из недр земных или пучин морских.
Все редкости, все ценности земли
Со всех сторон в его казну текли.
Велик ли, мал, но целиком налог
Исправно в шахский поступал чертог.
А шах, к игре и пению влеком,
Веселью отдавался целиком.
Любил он страстно музыку, игру,
Звенели песни на его пиру.
Не ведал он тоске своей границ,
Не видя музыкантов и певиц.
Повсюду он возил их за собой,
Без них терял он волю и покой.
Всевластный, музыки признал он власть.
Охота — вот его вторая страсть.
Но даже на охоте удалой,
Пронзая жертву меткою стрелой,
Вдруг останавливался, не дыша:
Алкала светлой музыки душа…
Он промаха не знал, стреляя дичь,
Кровь проливая, издавал он клич.
Среди лихих охотничьих забав
Он пил всегда вино, чей цвет кровав.
Нередко он, охотясь, открывал
Красивую поляну, и привал
Он объявлял; слетались сотни слуг;
Хмельная чаша обходила круг;
Звенел ребаб, то плача, то смеясь;
Шипел кебаб, на вертеле дымясь…
Однажды он, охотясь так, набрел
На холм; вокруг пестрел цветами дол
Не охватить его, не оглянуть…
Вливался воздух животворный в грудь.
Расположился на холме Бахрам,
Стал пировать. И песня к небесам
Свободно, ясно, радостно взвилась,
Она согласно, сладостно лилась.
Певцу внимая, пил Бахрам вино,
А сердце было ввысь устремлено.
Хмель в голове, а музыка в ушах
Так весело звенели; видел шах,
Что он могуч, и славен, и велик,
Для слабых — упования родник.
В душе рождалась мысль: «Я сотворен
Для блага всех земель и всех племен,
И в благодарность за любовь творца
Я должен бедных утешать сердца.
Я буду милосерден, справедлив,
Добро и правосудье утвердив».
Казалось, озирает он простор,
Нет, в самого себя он бросил взор!
Тут путника в степи заметил шах:
Он приближался, ускоряя шаг.
Бахрам подумал: «Кто это идет?
Внушает жалость бедный пешеход!»
Душа склонилась к незнакомцу вдруг,
И приказал он одному из слуг:
«Сядь на коня, а на другом коне
Ты чужестранца привези ко мне».
Гонец к Бахраму странника привез,
И незнакомцу задал шах вопрос.
А тот сошел с коня, чтоб наземь лечь,
И, прах поцеловав, повел он речь.
Он в жемчуга свои слова облек,
Всех изумил его отменный слог,
Бахрама так восславил чародей,
Что в восхищение привел людей,
Не только в восхищение — в восторг,
Из их груди он похвалу исторг:
«Не подобает страннику стоять,
Он должен подле шаха восседать!»
И вот вино пришельцу подают
И предлагают сто различных блюд;
Когда поел он вдоволь и попил,
В беседу с чужестранцем шах вступил.
Поправился Бахраму разговор.
Был собеседник тонок и остер,
На все вопросы находил ответ…
Подумал шах: «Он обошел весь свет,
Он сведущ в жизни, он знаток наук!»
Сказал Бахрам: «О мой чудесный друг,
Отрадно мне беседовать с тобой!
Но всей вселенной ты прошел стопой;
Твои движенья быстры; твой язык
Вкус ясности и плавности постиг;
Ты земли дальних пересек держав,
Пустынь и городов; скажи, я прав?
Из слов твоих сужденье извлеку:
Ты много видел на своем веку.
Диковинки встречал ты на пути, —
Нас в тайну приключений посвяти.
Встречался с чудесами ты порой, —
Хотя б одно из них ты нам открой!»
Воскликнул путник: «Добрый господин!
В степи я путешествую один.
Язык мой беден, дар мой слишком слаб,
Не произнес бы слова я, когда б
Тебя в степи не встретил я сейчас.
Я знаю удивительный рассказ.
Живу я, тайну от людей храня:
Так это чудо потрясло меня!
Свой путь я начал далеко отсель,
И шах Бахрам — моих скитаний цель.
Он царь царей, он шахов гордый шах,
А небо — у его порога прах.
Когда к его чертогу я приду,
Когда к его порогу припаду,
Лицо и очи к праху приложу
И цель прихода шаху изложу,
Ему открою чудо в тот же миг.
Бахрама я покуда не достиг,
А ты уже вопрос мне задаешь,
Невольно на моем пути встаешь.
Как быть! Сказать? Нарушу я обет.
Но и молчать не смею я в ответ!
Радушием тебе обязан я.
Смотри же, господин, как связан я!
В тебе я вижу гордые черты;
Твой сан высок; являешь облик ты,
Который свойственен одним царям.
Мне кажется: пусть ты — не шах Бахрам,
Царем ты предо мною предстаешь,
Мне кажется: ты на него похож,
Хотя невероятно сходство с ним:
Бахрам ни с кем на свете не сравним!
Сюда пришел я из чужих сторон.
Твоим великодушьем я пленен.
Но все же у меня другая цель:
С Бахрамом говорить — благая цель.
Ты лаской сердце мне развеселил,
Но две заботы в сердце поселил:
Смолчу — беда и расскажу — беда…
Как на тебя смотреть мне без стыда?»
Тогда расцвел властитель, как цветник.
Светильником он сделал свой язык:
«О ты, кто странником в пустыне стал!
Знай: ищущий — нашедшим ныне стал.
Ты сам не ведаешь, что в этот миг,
Искатель, ты искомого достиг.
Не жаждай, друг мой, около реки,
Не страждай, друг мой, счастью вопреки!
К Бахраму ты спешил степной тропой?
Начни рассказ: Бахрам перед тобой!»
Тут странник, небеса благодаря,
Целуя землю, пал к ногам царя:
Узрел он цель, хоть много перенес!
Он благопожеланье произнес,
Учтиво сел и начал: «Мудрый шах!
О разных ты спросил меня вещах.
Вот первая: кто я? Мой шах, внемли.
Зовусь я среди жителей земли —
Мани; художник — звание мое,
Известно рисование мое».
Восторг Бахрама взвился до небес,
Как будто был он мертвым и воскрес:
Бахрам давно художника искал!
Он крепко обнял гостя, приласкал,
Остались все придворные в тени:
Увидел шах великого Мани!
Однако вскоре благосклонный шах
Ему напомнил о других словах.
Рассказчик молвил: «Слушай мой ответ.
Скитаясь, обошел я семь планет,
Под сводами блуждал я всех небес,
И очевидцем был я всех чудес.
Затмило все в моих глазах одно:
В Китае обретается оно.
Там с неким повстречался я купцом.
Не ошибемся, коль его сочтем
Богаче многих шахов и царей.
Сокровищами копей и морей
Владеет он: у этого купца
Товарам нет ни края, ни конца.
Число их даже передать нельзя,
А денег столько, что сказать нельзя,
Ему туманов никогда не счесть:
Одних наличных сотня тысяч есть!
Хотя богаче прочих он купцов,
Хотя забыл число своих ларцов,
Хотя не знает счета сундукам,
Рубинам, серебру и жемчугам, —
Владеет он жемчужиной одной.
Жемчужиной? Зови ее луной,
Любовникам сияющей с небес,
Игрушкой, дивом, чудом из чудес!
Волшебница в Китае рождена,
Любовью к ней страдает вся страна.
Красы подобной не было вовек:
С тех пор, как существует человек!
Кто взглянет на нее, тот будет рад
Отдать ей душу за единый взгляд.
Когда же в руки чанг она возьмет,
От счастья только мертвый не умрет.
Когда же струны чанга зазвенят
И стройным, животворным звукам в лад
Протяжно запоет она сама, —
Вселенную сведет она с ума!
Когда б я прожил тысячу веков,
Когда б я знал сто тысяч языков,
Я не сумел бы рассказать о той,
Чей голос нежный спорит с красотой!
Хозяин украшает красоту,
Богато наряжает красоту.
Он ей носилки для прогулок дал,
На них пошли алоэ и сандал,
Пленителен красавицы покров —
Крученый шелк изысканных цветов,
Он жемчугом искусно окаймлен.
Доносится до нас певучий звон:
То чанг звенит, и легче ветерка
Бежит по струнам тонкая рука.
Красавица играет, как Зухра,
Сияя, как рассветная пора.
Она игрой приводит всех в восторг.
Купец хотел продать ее, но торг
Не состоялся до сих пор. Смотри:
Зухра — одна, а сколько Муштари!
Все богачи, юнцы и старики,
Опустошив мешки и сундуки,
Отвесили купцу свое добро,
Но золото, рубины, серебро
Отверг хозяин и сказал: «Казна
Всего Китая — вот ее цена!»
Неутолимой страстью обуян,
Уже хотел ее купить хакан,
Весь годовой доход купцу отдать.
Узнав об этом, возроптала знать,
Советники сказали: «Светоч наш!
Когда казну ты за нее отдашь,
Не сможешь больше денег ты собрать,
Тебя покинув, разбежится рать.
Ты должен дань обычную внести
Или восстать: иного нет пути.
Но, потеряв и войско и казну,
Как против шаха ты начнешь войну?
Страсть утолишь ты, царство погубя.
О, пожалей державу и себя!»
Хакана мудрый охладил совет,
А у других влюбленных — денег нет.
Хотя страдают тысячи сердец,
С продажей не торопится купец.
Но я, желая стать твоим слугой,
Подарок приготовил дорогой,
Когда решил отправиться к тебе,
Быть может, он понравится тебе.
В живой воде я краску растворил
И образ дивной пери сотворил,
Хотя рисунок — не она сама,
Подобие найдешь в чертах письма:
Посильную красе принес я дань…»
Сказав, он вынул шелковую ткань.
Шуршала ткань, упруга и нежна, —
На ней певица изображена!
Художник жизнь в китайский шелк вдохнул,
Ресницами с картины пыль смахнул,
Расправив складки, разложил он шелк…
Бахрам взглянул, и вскрикнул, и замолк.
Казалось, разум у него погас!
До вечера не отрывал он глаз
От шелка, в думы погружен свои.
Казалось, он исчез в небытии.
До вечера ни с кем не говорил,
Он образ пери в сердце затаил,
Запали в душу дивные глаза,
Сжигали душу пламя и гроза.
Мани, почуяв боль его души,
Сказал: «Опомнись, шах, и поспеши,
Не упускай красавицу из рук,
Не то смертельным будет твой недуг!»
«Увы! — Бахрам воскликнул, — я в огне!
В целебном счастье жизни — горе мне.
Я обезумел: ты меня сразил,
Когда ее глаза изобразил.
Художник, сделал ты меня больным,
Как врач, недугом ты займись моим.
Скажи скорей, подай благой совет:
Что делать мне?» — Мани сказал в ответ:
«Ее цена — китайская казна.
Когда тебе краса ее нужна,
Когда из-за любви ты изнемог,
Да будет жертвой годовой налог!
Дирхемы — наилучшие врачи.
Всю дань Китая за нее вручи,
От денег в полной мере откажись
Иль от китайской пери откажись!»
«За близость с ней, — сказал ему Бахрам, —
Не только дань хакана я отдам,
А подати со всех моих держав
Отдам я, ничего не удержав,
И цену эту низкою сочту,
Когда осуществлю свою мечту!»
Воскликнув так, письмо составил он,
Немедленно в Китай отправил он
Сто мудрецов, ревнителей святынь,
А с ними — верных евнухов, рабынь,
Чтоб оказать красавице почет,
Чтоб на пути не ведала забот.
Хакану приказал он в точный срок
Купцу вручить весь годовой налог,
А людям он сказал: «Наказ таков:
Луну освободите от оков».
Стремясь исполнить шахский сей наказ,
Послы в Китай отправились тотчас,
С измученной душой остался шах,
Художник — рядом, а портрет — в руках.
Когда, за китаянкою спеша,
Китай избрать стоянкою спеша,
Ученые отправились мужи
И, наконец, представились мужи
Хакану, передав ему сперва
Письмо Бахрама, а потом — слова,
Хакан, гордясь посланием царя,
За эту честь послов благодаря,
Почтительно рукой коснулся глаз
И за купцом послать велел тотчас.
Сто радостей он выразил в речах,
Довольный тем, что счастлив будет шах.
Хакан и продавец в цене сошлись,
Был куплен для Бахрама кипарис:
Купцом за деньги продана душа,
Такая низость — свойство торгаша.
Цена ее — китайская казна.
Купцу вручив казну свою сполна,
Хакан отправил розу в шахский сад.
Простились люди, поспешив назад
По знойным долам, по степным тропам,
И каждый день за год считал Бахрам.
Его душою сделалась тоска,
И телом стал он тоньше волоска.
Он муку ожидания познал,
Разлуку и страдания познал.
Нетерпелива издавна любовь:
Вновь на рисунок он глядел и вновь.
На время черпал силы и покой
В изображенье пери дорогой,
На время о разлуке забывал
И для объятья руки раскрывал.
В отчаянье он покидал чертог,
Но места он себе найти не мог.
В садах не будет лучше ли ему?
Но и сады наскучили ему!
На крыше иногда Бахрам сидел
И на дорогу пристально глядел.
Увидев точку черную вдали,
Полоску пыли на краю земли,
Он обмирал; тряслось, как старый дом,
Его сухое тело, и потом,
Придя в себя, он плакал без конца,
Он посылал в ту сторону гонца:
Таил надежду мнимую Бахрам,
Но тщетно ждал любимую Бахрам.
Преследовал одну заботу он.
Предлогом избирал охоту он
И на коне, вздыхая, выезжал:
Он в сторону Китая выезжал,
Всем встречным задавал один вопрос:
«Ты весть о китаянке мне принес?»
Молчали все; шах вопрошал опять,
Надеясь о возлюбленной узнать.
Томленьем шаха был смущен Мани.
Пытался он Бахрама в эти дни
От горести картинами отвлечь,
Сказаниями длинными развлечь.
Он сердце шаха сказкой занимал,
Не понимая, шах ему внимал.
Влюбленного к спасенью не зови:
Он гибнет за пределами любви.
В разлуке тот не может не страдать,
Кого любви отметила печать.
«Тяжка разлука», — исстари твердят,
Но ожиданье тягостней стократ.
Короче: шахом овладел недуг.
Но вот к нему вбежал один из слуг,
Доставив радостную весть о том,
Что под звездой счастливой — шахский дом,
Что солнце приближается сюда,
Развеяв ночь разлуки навсегда.
Отныне светлой стала эта ночь!
Бахраму сердце удержать невмочь:
Разлука и свидание равно
Опасны, если сердце влюблено!
Предстал очам Бахрама караван,
И доложили люди, что хакан
Исполнил слово шаха, что казна
На этот раз торговцу вручена,
Что радости лучи для них зажглись,
Что с ними — белогрудый кипарис,
Что пери прибыла в его жилье,
Что сотни солнц хотят купить ее,
Что розу не обжег пустынный зной,
Не утомил тяжелый путь степной…
Бахрам явил такую милость им,
Какая никогда не снилась им!
Он приказал: рожденную для нег,
Чей взор — гроза, разбойничий набег,
С почетом привести в его гарем.
Когда вступила гурия в Ирем,
В саду расположилась госпожа, —
В ее покой, от слабости дрожа,
Но с пламенем в груди, вошел Бахрам.
Он не поверил собственным глазам:
Знакомый сад неузнаваем был,
Теперь он первозданным раем был,
А в том раю — другой прекрасный рай, —
Не раем, а кумиром называй,
Да нет же: светоносною зарей,
Видением, парящим над землей!
Красива, обольстительна она,
Игрива и пленительна она.
Чернеют косы мускусом волос:
Китайский мускус караван привез.
Нет, мускусом груженный караван
В иремский сад пришел из дольних стран.
Ее густые локоны легки:
То ночь свои расставила силки.
А на щеках — шиповник и тюльпан.
Увидев их, любовник будет пьян.
Ее глаза, коль приглядимся к ним,
С китайскими джейранами сравним.
Даст мускус нам джейрана железа:
Две капли мускуса — ее глаза.
А родинка? То капля возле рта
Нечаянно джейраном пролита!
Ее лицо — прелестнее цветка,
А губы — два пунцовых лепестка.
Нектара полон каждый лепесток,
Живой водою стал медвяный сок:
Мертвец, его отведав, оживет!
И так укрыт между губами рот,
Что ты невольно вскрикнешь, изумлен:
«Рубин желанных губ не просверлен!»
Он для речей раскроется едва —
Жемчужины рассыплет, не слова.
Рубин, — а жемчуга рассыплет он?
Сок жизни, — кем же будет выпит он?
Жемчужная зубов белеет нить.
Как нам в рубин жемчужины вместить?
Но зубы все ж подобны жемчугам,
В живой воде подобны пузырькам!
Сошлись две брови: взорам предстает
Языческого храма низкий свод.
А где глаза? В кумирню мы войдем,
Двух пьяных, двух неверных мы найдем,
А побежим, раскаявшись, в мечеть, —
На своды будем набожно глядеть!
Смотри: продеты в мочки жемчуга.
Звездой сверкает каждая серьга:
Они расстались, чтобы мир познать,
Но сочетались, чтобы соблазнять.
Ты райским древом стан ее зови.
А что его основа? Дух любви!
Когда она, как некий дух земной,
Пройдет, покачиваясь, пред тобой,
То, стан ее не зная с чем сравнить,
Скажи: «Воображаемая нить…»
Такой на свете тонкой нити нет!
Незримый стан в багряный шелк одет,
Зеленый изумруд — ее наряд.
Не правда ль — в зелени раскрыт гранат?
Одежда — в блеске дорогих камней,
Чтоб не сойти с ума — смирись пред ней!
О нет, не дева райская она,
Не гурия китайская она,
Не пери, не мечта, не волшебство,
А гибель человечества всего!
При виде уст ее — смутится дух.
Заговорит — отнимет душу вдруг!
Из уст польется жизни сок тотчас,
Но стрелы смерти полетят из глаз.
Ее движенья, смех, и вздох, и взгляд —
Зовут, прельщают, мучают, пьянят!
К Бахраму привела ее судьба,
Он — раб ее, она — его раба.
Смиренно перед ним упала ниц,
Земли коснулась копьями ресниц.
Был взор ее лукавством наделен,
Игрив, но и почтителен поклон.
Когда увидел китаянку шах,
Из-за которой он страдал и чах,
Ее изображенье полюбя, —
Не мог от счастья он прийти в себя.
Та, что была бездушным полотном,
Та, что была картиной, сказкой, сном,
Вдруг ожила, предстала во плоти, —
О, мог ли он теперь в себя прийти?
Спокойно мог ли на нее взирать,
Взирая, не вздыхать, не замирать?
Короче: говорить нам не дано
О том, что было и прошло давно,
О том, как шах остался в тишине
С возлюбленной своей наедине,
О том, как, наконец, обрел Бахрам
Успокоенье сердца, Диларам,[2]
Покорную желаниям его:
О них не расскажу я ничего.
Подруга нежная, влюбленный шах —
Их тайна не нуждается в словах.
Кто в тайну их проникнуть бы не мог?
Одним лишь глупым это невдомек.
Когда сверкнуть стихом, как не сейчас?
Но будет неумелым мой рассказ…
Шах, обретя счастливую любовь,
К вину и музыке вернулся вновь.
В звенящих кубках пенилось вино,
И пение звенело заодно.
В саду, нередко до ночной поры,
Он царственные задавал пиры.
Дворцовый сад мы раем назовем:
Царица рая пребывала в нем,
Нет, роза, украшавшая цветник!
Бахрам терял сознанье каждый миг…
Когда, вином веселым насладясь,
Из белой розы красной становясь,
Настраивала звонкий чанг она, —
Согласно пели струны, лишь одна
Струна, оцепенев, рвалась в тиши:
Рвалась струна Бахрамовой души.
Не чанг — отшельник у нее в руках:
Он стан сгибает, как святой монах,
Он опускает скорбную главу…
Нет, пьяницей его я назову:
Звенит он — и заслушался кабак,
Сам пьяный, опьяняет он гуляк.
Но входит гурия в его игру.
Заводит песню магов на пиру —
И мир преображается земной,
Задет ее волшебною струной.
Мы вспомним феникса, на чанг взглянув:
Всю чашу выдолбил чудесный клюв,
В ней дырочки сквозные — то проход
Для тонких струн… Какой мудрец сочтет
Число всех звуков, что звенят вокруг?
Из каждой дырочки исходит звук,
Летя по струнам! Лишь рукою тронь —
Как феникс, чанг низринет в мир огонь.
Заслушавшийся мир объят огнем,
Но чанг, сгорая, вновь родится в нем.
Хотя павлином феникс наряжен,
Он соловьиным горлом наделен.
Нет, феникс музыку завел свою, —
Сгорая, мир внимает соловью.
Не диво, что весь мир к нему приник:
Китайский соловей розоволик…
Розоволикой был Бахрам пленен,
Покоя без нее не ведал он,
Не отрывал от милой пери глаз,
От песен — слуха, пламенел и гас,
Он без нее метался без души,
Но рядом с ней лишался он души.
Он пил вино, от страсти к ней сгорев,
Жизнь возвращал ему ее напев.
Волшебным пеньем сердце зажжено:
Чтобы залить огонь, он пил вино.
Она лицо откроет — гибнет он.
Уста раскроет — издает он стон.
Чтоб успокоить сердце, бедный шах,
Прервав пиры, охотился в степях,
Но удалялся от пиров ли он,
Иль предавался шумной ловле он,
С возлюбленной не разлучался шах,
Быть без нее не соглашался шах…
В степях Китая жившая досель,
Любила черноокая газель
Степной простор, степную пестроту,
Тюльпаны в обжигающем цвету.
Вот почему ей были по душе
Поездки в степь и отдых в шалаше.
Охотники неслись и гнали дичь,
Веселый, грозный издавая клич,
Скакал Бахрам по травам и камням,
Качалась в паланкине Диларам.
Охоту превратил в обычай он,
Но сам для пери стал добычей он:
Лукавый идол пеньем колдовским
Его смущал и властвовал над ним.
Желая загасить любовь,
Бахрам Все чаще припадал к ее устам,
Но пламя страсти не погасло в них:
Как видно, заключалось масло в них!
Любовь неутолимою была:
Ведь гурия — любимою была!
Чем больше утолял желанье он,
Тем дольше чувствовал пыланье он.
Шах даже рядом с ней терял покой,
А без нее стонал он, как больной.
Свиданья были гибельней огня,
А без нее не мог прожить он дня.
Она ему подругою была,
Возлюбленной, супругою была,
В беседах с ней он счастье находил,
В свиданьях с ней он страстью исходил.
Своей любовью так увлекся он,
Так близостью к луне зажегся он,
Так был он околдован, так привык
Перед собою видеть лунный лик,
Что, властный, он при ней не смел вздохнуть,
А без нее в тоске терзалась грудь.
И до того дошло, что мудрый шах
Забыл о государственных делах,
И правосудьем он пренебрегал,
Несчастным людям он не помогал,
Заботами не радовал народ.
Уже роптал, досадовал народ, —
Не слушал жалобы народа он.
Так прожил три-четыре года он…
Кто яд любви вкусил — в конце концов
Лишится всех престолов и венцов.
Бедняк последний, гордый шах страны —
Пред воинством любви они равны.
Любви подуют смелые ветра —
Взлетят равно и щепка и гора.
Поток любви обрушится с высот —
Равно дворец и хижину снесет.
Дракон пред ней дрожит, как муравей,
Как жалкий нищий, робок царь царей!
И вот, заботы царские поправ,
Завоеватель множества держав —
Владыкой всех племен его зови —
По доброй воле стал рабом любви.
Теперь одну преследовал он цель:
Охотясь, развлекать свою газель,
Отыскивать все новые места,
Чтоб скуки не знавала красота,
Покуда час веселья не пробьет
И луноликая не запоет.
Стремится он и к песне и к вину,
Лишенный воли, видит он одну
Свою черноволосую мечту,
Любовь звонкоголосую в цвету!
Погибелью душе грозит вино.
Когда ж оно с любовью — заодно,
Бессилен человек: судьбу губя,
Он пустит по ветру всего себя.
Был шах пленен любовью и вином,
О том, что стало с ним, рассказ начнем.
Бахрам, во имя песен и забав
Другим бразды правленья передав,
Оставил без надзора все дела.
Страна в расстройство тяжкое пришла.
С тех пор, как не каралось больше зло,
Неправый меч насилье занесло.
Шах отошел от справедливых дел,
Кто власть имел, тот делал, что хотел.
Мздоимная правителей толпа
Налоги отдала на откупа,
Разбойники закрыли все пути,
Да так, что ни проехать, ни пройти;
Был под угрозою домашний кров,
Удел народа — черен и суров.
Запели громко бражник, блудодей,
Затихли речи праведных людей.
Покрылся пылью мудрости сосуд,
С вином блестели кубки там и тут.
Как черви, волки развелись кругом,
Не овцами питались — пастухом!
И несколько советников царя,
Сановных собеседников царя,
С трудом к нему попали на прием,
Бахраму доложили обо всем:
О том, что нет порядка, что народ
Страдает, ропщет, правосудия ждет.
Их выслушав, Бахрам не спал всю ночь.
Он думал: «Как беде своей помочь?»
Увы, напрасно к помощи прибег:
Беспомощен влюбленный человек…
Хотя любовью был измучен шах
И прежней силы не было в руках, —
Душой и телом преданный луне,
Он думал о народе, о стране:
«Как исцелить себя? Лекарства нет!
Бежать, отдать другому царство? Нет!
Пока я царь, всегда в своем саду
Ей равную красавицу найду.
Не обладай державной властью я,
Ключа не отыскал бы к счастью я,
Не знал бы, где моей луны жилье,
Не стал бы я возлюбленным ее.
Но раз она существовать должна,
Не существует все, что — не она!
Сказав: «Живи для власти и для нег», —
Ты скажешь: «Преврати мне пламя в снег».
Избавиться от страсти он желал
Затем, что жить без власти не желал.
Но отказаться от любви не мог,
Хотя найти пытался он предлог.
Несовместим с любовью царский сан.
Цари болтают о любви? — Обман!
Любовь предназначается тому,
Кто, в ней сгорев, исчез в ее дыму,
Кто, равнодушен к суете сует,
Душой отверг и тот и этот свет,
Кто ради прихоти любви готов
Пожертвовать блаженством двух миров,
Кто за возлюбленную жизнь отдаст,
Свою загубленную жизнь отдаст!
Но шаху, покорителю держав,
Который, битву ремеслом избрав,
Во имя власти проливает кровь, —
Чужда необоримая любовь.
Влюбленным он подобен иногда —
На жертву не способен никогда!..
И часто — на охоте, на пирах —
В такие думы погружался шах,
Он пил из рук возлюбленной вино,
А сердце было смутою полно.
Однажды ловлей завершился пир.
С Бахрамом рядом был его кумир,
А в голове шумел тяжелый хмель.
Вдруг Диларам увидела газель…
Бахрам так ловок был в метанье стрел,
Охотничьим искусством так владел,
Что промаха не знал, стреляя в цель.
Сказал он луноликой: «Вот газель
Несется, быстроногая, вдали.
В какое место, — пери, повели, —
Мне следует метнуть стрелу свою?
Как ты прикажешь, так ее убью».
О, нет китайским тонкостям числа!
Насмешница в ответ произнесла
Загадочные, тонкие слова:
«Мой шах! Оковы наложи сперва
На две ее передние ноги,
Потом стреле, охотник, помоги:
Остановив газель на всем бегу,
Зарежь добычу, стоя на лугу».
Шах, выслушав красавицы приказ,
Ее загадку разгадал тотчас:
Охотник ловкий был, умелый он!
И вынул из колчана стрелы он,
И, медленно натягивая лук,
Газельи две ноги связал он вдруг
Стрелою тополевой, и стрела
Под кожей к тонкой кости приросла.
Тогда в газель нацелился он вновь,
И горло ей рассек, и пролил кровь.
Исполнил шах желанье госпожи!
О ловкости Бахрама так скажи:
«Не только люди — неба древний свод
Соперника ему не подберет»!
Когда Бахрам искусство показал,
Застыл он в ожидании похвал,
Но гурия красавицей была,
А красота гордыню родила.
Руки Бахраму не поцеловав,
Не похвалив властителя держав,
Сказала: «Каждый день стреляя дичь,
Кто б совершенства не сумел достичь!»
Невольно шаха подняла на смех,
Старанью приписав его успех.
Поняв слова красавицы своей,
Морщины шах навел на лук бровей,
Сердясь: да разве это похвала!
Увидев, что Бахрама привела
В расстройство, поспешила Диларам
Дать объясненье дерзостным речам,
Но все испортила, сказав ему:
«Я твоего упрека не приму,
Правдивы и чисты мои слова.
Мой шах! Себя возьму в пример. Едва
Коснусь я чанга слабою рукой, —
Сердца перенесу я в мир другой.
Быть может, красота повинна тут?
Нет, упражненья, постоянный труд!
Я прилежанье видела твое.
Чем сердце я обидела твое,
Сказав об упражнениях? Ужель
Без них попал бы ты стрелой в газель?»
От этих слов пришел Бахрам во гнев,
Вскипела ярость, сердцем овладев.
Когда властители разъярены,
Бегите, жители, из их страны!
Гнев самовластья страшен, гнев обид:
Он очи милосердия слепит.
Уже Бахрам хотел ее убить,
Уже мечом своим хотел срубить
Цветущий, вольный, стройный кипарис, —
Но в свите люди мудрые нашлись
И молвили: «Поступок нехорош.
Ужели женщину мечом убьешь?»
А несколько глупцов произнесло:
«Их убивать — не просто ремесло,
А высшее искусство!» И луну,
Из паланкина высадив, одну
Отправили на самый край земли,
В бесплодную пустыню привели,
Где ядовитая трава росла:
Был каждый лист колючим, как стрела.
На землю опрокинув тонкий стан,
Скрутили косы длинные в аркан,
Вкруг шеи обвязав их… Вот, в петле,
Она лежит на высохшей земле:
Ей, косами пленявшей, довелось
Стать пленницею собственных волос…
Злодейство это было свершено
В тот миг, когда и ярость и вино
Бахрама ослепили. Дотемна
От ярости хмелел он и вина.
Наутро, встав с тяжелой головой,
Наполнить приказал он кубок свой.
Спросил, опохмелившись, царь царей:
«Где та луна, что мне всего милей?»
Он сам забыл о том, что совершил!
Один из приближенных доложил
О том, какое зло произошло.
И ужаснуло шаха это зло,
И светлый день померк в его очах.
И помраченным сердцем понял шах,
Что резкий ветер ярости слепой
Забушевал, что собственной рукой
Он обезглавлен. И сказал Бахрам:
«Сейчас в пустыню я помчусь и сам
Из края в край на поиски пойду,
Найду свою красавицу, найду,
Паду к ногам, когда она жива,
Умру я сам, когда она мертва!»
Однако честь венца, престол и власть
К ее ногам не позволяли пасть,
На это дело разум восставал,
Бахраму стыд покоя не давал,
Но с разумом любовь боролась в нем,
Любви звенел призывный голос в нем.
Так мучилась душа меж двух огней, —
Скажи: меж двух драконов — муравей!
Шах, голову на землю положив,
Метался, полумертв и полужив.
Миниатюра из рукописи XV в.
«Семь планет»
Достойный смеха более, чем слез,
Бахрам себе такой удар нанес,
Что без сознанья двое суток был.
Когда в себя пришел он, — жуток был
И темен третий день. Войска любви
На приступ силы двинули свои,
Вступила в крепость мстительная рать,
Державу сердца стала разорять.
С избытком сердце утолило страсть,
Чтоб эту страсть жестокую проклясть.
Поплыл купец. Что ж, прибыль он обрел?
В пучине моря гибель он обрел!
Трудясь в саду, садовник ждал наград,
Но обломал его деревья град.
Была желанья молния светла —
Сожгла Бахрама бытие дотла.
Он драгоценный камень отыскал,
Но раздавил его камней обвал.
Он, защищая царство, поднял меч,
Чтобы мечом свою же грудь рассечь.
Хотел ресницы начернить сурьмой, —
Мир оказался черною тюрьмой.
Навылет в грудь он ранен был тоской, —
Избави бог от участи такой!
Бахрам, великой скорбью удручен,
Напоминал согбенный небосклон.
Его душа блуждала, как в лесу,
Скрипела плоть, подобно колесу,
Ужиться тело не могло с душой,
Душа для тела сделалась чужой.
Когда же к горлу подошла душа,
Бахрам поднялся и пошел, спеша
В пустыню, над которой зной повис.
Он думал: «Если жив мой кипарис, —
Благословлю удачу я тогда,
А если мертв, — заплачу я тогда,
На мертвую взгляну я красоту,
От стонов избавленье обрету,
Убью себя, с возлюбленной сольюсь,
Разлуку вечный победит союз!»
Прошел он по степным тропам стопой,
Любимую ища в степи скупой.
Но вольный кипарис нигде не рос:
Его обитель — средь пахучих роз.
Кто розу обретет в степном песке,
Когда ее цветенье — в цветнике?
Она меж яблонь скрылась от людей,
Ее найдешь по яблокам грудей.
В потере убедившись роковой,
Стал шах о землю биться головой,
Вопил и плакал мира властелин, —
Фархад не разыскал свою Ширин!
Как птица с переломанным крылом,
Припав к земле, рыдал он о былом.
Сказал он, обливаясь кровью слез:
«Я над самим собою меч занес!
Кому теперь судьбу свою вручу?
Задул я жизни собственной свечу!
Какое дело, боже, сделал я,
С душой и телом что же сделал я?
Кто равен скорбью мне в пыли земной?
Что сотворило, небо, ты со мной!
Добра у синей тверди я прошу,
Пылинки милосердия прошу, —
Жестоко ты, не хочешь мне помочь!
Мою судьбу ты превратило в ночь,
Но вместо звезд мне слезы принесло,
А солнце счастья моего зашло.
Пылает страсть великая моя.
Но где же солнцеликая моя?
О небо, жизни погаси свечу,
Жить в этом низком мире не хочу!
Ты отняло любимую, — молю:
С ней заодно возьми ты жизнь мою!
Возьми: я жизнью сыт, клянусь творцом,
О смерти дух скорбит, клянусь творцом.
Возьми, свое злодейство доверши:
Несчастна плоть, в которой нет души!»
Он плакал, стоном оглашая дол,
Забыл он свой венец и свой престол,
Забыл он о столице, о стране,
С печалью стал он жить наедине,
Лишь о любимой думал он теперь,
В пустыне стал он жить, как дикий зверь.
Стонал он, разрывая воротник,
Но вскоре город в той глуши возник:
Узнав, какая с ним беда стряслась,
Его любви мучительной дивясь,
Стремились люди в степь со всех сторон,
Пустынный край был в город превращен…
Как Диларам, небесный свод погас.
Лежал Бахрам, не закрывая глаз:
Мир превратился в мрак. Бахрам, скорбя,
В нем чужеземцем чувствовал себя.
Весь мир объял тысячерукий мрак:
То был печали мрак, разлуки мрак,
Он плоть, и мысль, и душу иссушал,
Живую воду в сушу превращал!
О нет, не мрак окутал мир, а дым:
Огонь разлуки буйствовал под ним.
Бахрам вопил, — что вопль его теперь?
В огне тоски он топливо теперь:
Разлука лучшим топливом сочла
Влюбленных бесприютные тела…
Хотя Бахрам от суеты мирской
Был отделен завесою ночной,
Разбила свита для него шатер,
Чтоб скрыть его страдания костер,
Людей отогнала подальше прочь…
Так вот что принесла разлуки ночь!
Таились люди по глухим углам,
Дивились вслух таинственным делам, —
Любой об этом диве говорил:
Один о страшном диве говорил,
Другой о нежной пери говорил,
А третий о потере говорил, —
Для всех недуг непостижимым был,
А шах стонал: он одержимым был!
Заснули слуги под ярмом забот,
Не ведая, что их наутро ждет.
Остался шах в невидимом огне,
С измученной душой наедине.
Когда невыносимым стал ожог,
Бахрам перешагнул шатра порог,
В уединенный он вошел покой:
Он на людей теперь взирал с тоской.
Покрепче изнутри он запер дверь,
Упал на землю, заревел, как зверь,
И одиночества издал он крик.
Он разорвал сначала воротник,
Потом зубами искусал себя,
Он бил себя, он истязал себя,
По голове удары наносил,
И, весь в крови, он выбился из сил,
Припал, в бессилье, к двери шах Бахрам,
Увидел образ пери шах Бахрам.
Припомнил косы черные до пят, —
И вот печалью черной он объят.
Изогнутая бровь предстала вновь, —
Согнул он тело слабое, как бровь.
Нет, стал он полумесяца кривей
При виде полумесяца бровей!
Ее глазам газельим отдал дань, —
В пустыне сердца заметалась лань.
Ее ресницы мысленно узрел, —
Вонзились в тело сотни тонких стрел;
То были не ресницы-волоски,
А грозные индусские стрелки.
Вообразил он светлое чело, —
Увы, затменье на него нашло.
Тоскуя по живительным губам,
И умирал и оживал Бахрам.
Кровавыми слезами он рыдал —
Степные камни превратил в коралл.
Пошли душа и тело на ущерб,
Сноп бытия скосил жестокий серп,
В глухой степи он точкой мнимой стал,
Воспоминаньем о любимой стал!
Ты не гонись за призраком степным, —
Найдешь его по признакам таким:
Он в памяти о гурии живет.
Когда он вспомнит животворный рот,
Ее зубов жемчужную красу,
Прольет он слез жемчужную росу.
Но вот он вспомнил нежный голос вдруг, —
Душа на части раскололась вдруг.
Почудился ему ее напев, —
Исчез Бахрам, в небытии сгорев,
И ожил вновь, предав себя тоске
По ямочке на розовой щеке.
Чуть видный тонкий стан пред ним возник, —
Бахрам заволновался, как тростник.
На серебро грудей посмел взглянуть, —
И слезы стали тяжкими, как ртуть.
Он вспомнил, как держала чанг она, —
Оборвалась нить жизни, как струна.
Он заболел, а лекарь не помог.
«О, неужели это я, мой бог, —
Он плакал, — неужели это я,
Кто превращал дракона в муравья?
Теперь иной господствует закон:
Я — муравей, а страсть моя — дракон.
Я ль это? Прежде, грозен и суров,
Я побеждал неукротимых львов,
Теперь, как маленький мышонок, слаб,
Я не избег страданья львиных лап.
Я ль это? Прежде, возглавляя рать,
Я заставлял китайцев трепетать,
Теперь в моих войсках не счесть потерь,
Разбит я китаянкою теперь.
Я ль это? Был я наделен в былом
Терпеньем, верой, силой и умом,
Сносил беду с достоинством не раз.
Перед каким же воинством сейчас
Я должен голову склонить и пасть?
Ужасной силой обладает страсть!
Ее войска я вижу наяву.
Как мне назвать их? Ночью назову!
Но так ли ночь грозна, черна, долга?
Несметно войско моего врага:
То войско ночи. Эта ночь длинней
Душистых кос возлюбленной моей!
Нет, для меня — могила эта ночь,
И труп мой поглотила эта ночь.
Ты, небо, чтоб заснул я мертвым сном,
Меня в могилу бросило живьем,
Свое копье направило в меня, —
Зачем не обезглавило меня?
О полчища несметные мои,
О слуги безответные мои,
Я видел ваши головы в пыли,
У ног своих: так службу вы несли.
Я стал для вас источником щедрот.
Мои права никто не отберет.
Хвалились вы не раз: как благодать
Вы за меня готовы смерть принять.
Так где же вы? Где ваш двуострый меч,
Зачем вы не бежите в пламя сеч?
Так где же вы? На поле вышли вы?
Из подчиненья, что ли, вышли вы?
Пусть быстрый меч в мою вонзится грудь,
Чтоб, жизнь отняв, покой душе вернуть!
Не допущу, чтобы одна любовь
Без наказанья проливала кровь:
Вам право я такое же даю, —
О слуги, уничтожьте смерть мою.
Друзья по брани, — постоянство где?
О мусульмане, — мусульманство где?[3]
Убив меня, найдете путь к добру:
От мук избавлюсь я, когда умру!»
Так плакал шах Бахрам в степном шатре.
Когда запела птица на заре,
Бахрам без чувств лежал в крови, в пыли…
Бесплотной тенью мы б его сочли!
Тоска и ужас обуяли слуг,
Когда открылся им его недуг,
А между ними, что ни говори,
Имелись полновластные цари!
И каждый шах страны, и каждый бек,
Простой слуга и знатный человек
Стояли с непокрытой головой
И выщипанной в горе бородой;[4]
Но, видя: если плакать день и ночь,
Нельзя недуг опасный превозмочь, —
Собрание созвали, наконец,
И долго толковали… Наконец
Сошлись на том, что здесь, в глуши степной,
Не должен оставаться их больной.
Врачи нашли: здесь воздух нехорош,
Больного этим воздухом убьешь,
К тому ж за ним необходим уход,
А здесь больной удобства не найдет.
И люди шаха в город понесли,
Свой разрывая ворот, понесли
И поместили в розовом саду.
До вечера метался шах в бреду…
Едва царя лишается престол,
Народ находит время для крамол.
Беспомощное, в пламени горя,
Трясется тело бедного царя.
Хотя воссел Бахрам на свой престол,
Он до́ ночи в сознанье не пришел.
Он был убит, он был сожжен тоской:
Престол казался гробовой доской.
С престолом ты связал свою судьбу?
В конце концов окажешься в гробу!
Вот опустился занавес ночной.
Почуял запах мускуса больной.
Очнулась шаха скорбная душа,
Ночными благовоньями дыша.
Открыв глаза, мгновенье помолчал,
И вдруг он громким криком закричал.
Возлюбленной он вспомнил лунный лик!
И стон его, и вздох, и плач, и крик
Пронзили небо в чуткой тишине,
Затрепетали звезды в вышине.
Как острый меч — его тоски глагол:
Он звезды, очи неба, проколол.
Подула буря вздохов тяжело,
В движенье мира колесо пришло,
И встала на пороге смерть сама,
Увидела, что шах сошел с ума!
Ослаблен был его ущербный мозг —
В руках недуга мягким стал, как воск.
Уже Бахрам свой пламень погасил.
Уже для стонов не хватало сил.
Уже смятенье кончилось. Уже
Несчастный был на смертном рубеже.
Не слышно было голоса его.
Лишь иногда с престола своего
Он голос подавал. В тоске, в слезах
По временам просил о чем-то шах,
И просьба стоила ему труда,
Но разума в ней не было следа.
Утратили друзья надежды все,
Порвали на себе одежды все!
Чтобы вернуть ему сознанья свет,
Столпы страны собрали на совет
Врачей царя, четыреста числом,
Прославленных высоким ремеслом,
И вот какие речи повели:
«Наш господин, владыка всей земли,
Свое здоровье вверил вам, покой,
Вас награждая щедрою рукой.
Окружены заботами его,
Награждены щедротами его,
Вы жили здесь, не ведая нужды,
С единой целью: чуть рука вражды
Коснется шаха, волей неба вдруг
Придет жизнегубительный недуг, —
Его недуг должны вы устранить,
Чтоб шахской жизни вновь окрепла нить.
Так знайте же: настал несчастный час,
Без промедленья мы призвали вас.
Обласканы вы милостью царя.
Борьбу начните с хилостью царя,
Он много сделал подданным добра.
Теперь, у смертного его одра,
Обязан каждый шаху послужить —
И вы должны старанье приложить!
Когда ему грозил мятежный враг
Иль ополчался зарубежный враг, —
За шаха смело мы бросались в бой,
Гордясь, что можем жертвовать собой,
Царю царей служа всегда, везде.
Теперь, когда Бахрам в такой беде
И тьма в уме расстроенном его, —
Уподобляйтесь воинам его:
Рассейте царского безумья мрак!»
Врачи, подумав, отвечали, так:
«Услышали мы истину от вас.
Сердцá призыв о помощи потряс.
Однако тот, кто без ума влюблен,
Не будет врачеваньем исцелен.
К тому, кто сломлен муками любви,
Ты лекаря с лекарством не зови,
Его огонь, без помощи врачей,
Залить сумеет близости ручей.
Кто полюбил, тот пламенем палим, —
Мы снадобья со щепками сравним.
Но все ж борьбу со смертью поведем,
Когда пойдем усердия путем.
Должны мы отыскать в короткий срок
Лечения основу и уток.
Недуг любви должны мы побороть,
Чтобы опять здоровой стала плоть.
Однако знайте: только божество
Сумеет разум прояснить его».
Так порешив, немедленно, в ночи,
Леченьем шаха занялись врачи,
Попеременно находясь при нем,
По-разному борясь с его огнем.
Одни, молитву слезную творя,
Просили бога вылечить царя,
Входили с приношеньем в божий храм,
Дирхемы раздавали беднякам.
Другие волхвованьем занялись,
Волшебным заклинаньем занялись,
Старались джинна криками прогнать,
Чтоб властелин покой обрел опять.
Для третьих сочетание светил
Казалось важным. Каждый обратил
К пластинкам астролябии свой взор,[5]
Судьбы прочесть желая приговор.
Четвертые алоэ жгли, стремясь
Спасительную приготовить мазь,
Изобретали яства и питье —
Усердно дело делали свое.
Блаженны духом, с думой на челе,
Себе не зная равных на земле,
Четыре сотни сведущих врачей
Трудились, не сомкнув своих очей,
Трудились не напрасно лекаря:
Рассеялось безумие царя,
Под благостным воздействием наук
Стал менее мучительным недуг,
Частичного здоровья шах достиг,
Луч разума в безумный мозг проник.
Сказали врачеванья знатоки:
«Теперь избавим шаха от тоски.
Лечили мы и холили его —
Спасем от меланхолии его.
Как быть нам с одиночеством его?
Займем искусным зодчеством его!
Он телом слаб, и взгляд его угрюм, —
Займем постройкой зданий скорбный ум,
И созерцанье зодческих работ
Успокоенье шаху принесет.
Когда строитель, мыслью вдохновлен,
Покажет свой дворец со всех сторон,
Когда покажет смелый он чертеж,
Где старое и новое найдешь, —
Забудет шах любви опасный зов,
Весь поглощен строительством дворцов!»
Решив, что мысль такая хороша,
Больного шаха исцелить спеша,
Сановники одобрили врачей…
И вот узнали семь земных царей,
Что заболел тоской великий царь.
И так как был для них владыкой царь,
То все отправились в его чертог —
Ресницами мести его порог
И днем и ночью состоять при нем!
И каждый шаху верным был рабом,
И каждый клялся дружбою своей,
Гордился каждый службою своей,
Бахраму угождал, как только мог,
В надежде, что, когда поможет бог,
Пойдет о них в народе добрый слух,
Шах наградит вернейшего из слуг.
Когда постановили мудрецы
Построить небывалые дворцы, —
Тогда цари семи частей земли
К согласному решению пришли:
Усердье проявив, молясь творцу,
Они построят каждый по дворцу —
Изящества он будет образцом,
Творения сияющим венцом,
А шах больное сердце развлечет,
Следя за ходом зодческих работ.
Бахрам слова их принял в добрый час:
Его согласье — милость и приказ…
Тянулись от столицы семь дорог.
По ним народов двигался поток,
Дороги эти длинные вели
К столицам всех семи частей земли.
В начале каждой из семи дорог
Воздвигнуть было решено чертог.
Строителей не молкли голоса
И шумом оглушали небеса,
А те дарили им свои лучи,
Из солнца создавая кирпичи.
И говорили, их труды хваля:
«Семь райских кущ вместит в себя земля!»
Дворцы росли, меняясь на глазах,
И, созерцая их, увлекся шах.
Вот, проявив усердье, наконец
Закончил каждый зодчий свой дворец.
Покуда шло строительство, Бахрам
Дивился башням, лестницам, стенам,
Многоискусных зодчих мастерство
Целебным средством стало для него.
Могучие дворцы достигли туч,
Но каждый зодчий тоже был могуч,
Свою работу каждый кончил в срок,
Украсились дворцами семь дорог…
Вот улеглось смятение любви,
Утихло наваждение любви, —
Но тут работы кончились, и впредь,
Казалось, шаху, не на что смотреть.
Но молвили четыреста врачей,
Премудрости четыреста свечей:
«Еще одно лекарство нам дано:
Искусством называется оно.
Художники, прекрасного творцы,
Пусть разукрасят царские дворцы,
Их живопись, волшебна и нежна,
Для шаха стать целебною должна.
Пусть вдохновенье, озарив сердца,
Распишет стены каждого дворца,
Окрасив их в один и тот же цвет
Снаружи и внутри, — вот наш совет».
Вот привели сановники Мани,
И молвили художнику они:
«Ты создал кистью множество картин,
Явил ты всем художество картин,
Искусства красок ты вершиной стал,
Услады царской ты причиной стал, —
Здоровья царского причиной будь,
А мы тебе укажем верный путь.
Перед тобою — семь дворцов, Мани.
Немедленно их украшать начни,
Их распиши снаружи и внутри,
Но семь цветов различных избери.
Тебе не скажем: «Так, мол, распиши», —
Ты следуй лишь велениям души;
«Не делай так!» — ненужные слова.
Не станем нарушать твои права, —
Так распиши, как пожелаешь сам».
Художник, руку приложив к глазам,
Ответил: «Хорошо. Вот мой приказ:
Все нужное доставьте мне тотчас».
И каждый по приказу поступил,
И мастер к делу сразу приступил.
Из всех земель Бахрама и держав,
Художников искуснейших созвав
И тех, кто позолоту наводил, —
Для каждого работу находил.
На семь отрядов их разбил Мани;
В семи дворцах работали они,
А сам учитель поспевал везде:
Он — вдохновитель их в святом труде.
Искусством увлечен, по всем дворцам
Ходил с утра до вечера Бахрам,
Картины целый день обозревал,
И в каждой новый мир он открывал.
Он о своей кручине забывал,
Он бытие в картине познавал!
Пленила сердце роспись мощных стен,
Забыло сердце свой любовный плен.
Прошло немного времени, и вот
Величественны, как небесный свод,
Окрашены в различные цвета, —
Дворцы готовы: прелесть, красота
Сюда из райских перешли садов,
И стали семь дворцов — семи цветов!
Хотя в душе Бахрама не погас
Огонь любви, он ослабел сейчас.
Тогда сказал врачей высокий круг:
«Нашли мы средство устранить недуг.
Семью дворцами обладает шах, —
Семь гурий поселим в его дворцах.
Подчинены Бахраму семь царей,
Отцы семи красавиц дочерей.
Царевны эти — гуриям сродни,
Бахраму будут женами они.
Их музыкой, их пеньем опьянен,
Он будет их любовью исцелен».
Державы многодумные столпы
К семи царям направили стопы,
Нашли семь гурий, чудо из чудес,
Семь ярких солнц за пологом небес,
Семь бедствий мира, семь его даров,
Сознанья разрывающих покров,
Семь ясных звезд, — а блеск их нужен всем,
В ларце невинности — жемчужин семь!
Да, звезды, но сокрыт их нежный свет,
Жемчужины, но в них отверстий нет!
Не только слово — самый тонкий стих
Изобразить не в силах прелесть их!
Когда узнали семь земных царей,
Каков совет премудрых лекарей,
То поразились: в голову царям
Ни разу не пришло, что шах Бахрам
К себе в гарем возьмет их дочерей!
Но, выслушав посланцев, семь царей
Ответили с покорностью в очах:
«Поступим так, как соизволит шах,
Мы — капли малые в его морях,
Мы — под ногами шаха бренный прах,
Пылинки мы: вознес он к солнцу нас.
К чему согласье наше иль отказ?
Он — царь царей, он украшает мир!..»
И каждый свадебный устроил пир.
Когда же наступил конец пирам,
Семи красавиц мужем стал Бахрам.
И каждая вступила в тот дворец,
Который строил для нее отец.
И вот, согнав с лица Бахрама тень,
Врачи установили час и день,
Когда, в какой дворец ему входить,
Кого из обитательниц почтить.
Сказали: «Вот зашел заботы день,
А завтра предстоит субботы день.
Для шаха счастлив этот день всегда:
В зените в этот день его звезда.
Пусть мускусом поит его газель,
В гареме черном постелив постель».
В воскресный день, когда зажглись лучи,
Оделось небо в платье из парчи.
Прекрасен пери золотой наряд,
Ее ланиты розами горят.
А шах — он солнцем бы назваться мог:
Он в золоте от головы до ног.
Он щедро сыплет золото свое,
И купол золотой — его жилье.
Красавица румийка входит в дом.
Она — как солнце в небе золотом,
Вот в желтом кубке — желтое вино,
То пламя в пламени заключено.
Кровавым блеском исходил дворец,
Под сводами как бы пылал багрец.
Бахрам — как саламандра в том огне,
Не саламандра — солнце в вышине!
Он вызов бросил желтому вину,
И вел он с ним до той поры войну,
Покуда солнца лик не пожелтел
И день одежду черную надел:
Закрыл он чернью солнца желтизну…
Красавица, затмившая луну,
По крови — золотого Рума дочь,
За полог свой зашла. Настала ночь.
На ложе золотое шах прилег,
Но светлый сон от шаха был далек.
Опять Бахрам велит слуге идти:
Да будет первый встречный на пути
Сюда, пред очи шаха, приведен,
Поведает о том, что знает он.
На розыски отправился гонец,
И путника привел он во дворец.
И путник шаха услыхал приказ,
И так повел он дивный свой рассказ,
Начав его красивой похвалой,
Приятной и учтивой похвалой.
«В те дни, когда Джемшида славил мир,[6]
Жил в Руме знаменитый ювелир.
И говорили мудро про него:
Мехами было утро для него,
Небесный круг был горном для него,
Металлы — солнцем горным для него!
Работал он в дворцовой мастерской,
У шаха был доверенным слугой.
Проверкой пробы ведал он в стране,
Был стражем государевой казне.
Из рудников к нему текло добро,
Все золото страны, все серебро,
Ремесленные люди всей земли
Умельца Зейд-Заххабом нарекли.
Он зодчим был, а также мудрецом,
Гранильщиком и златокузнецом.
Сегодня — лекарь, завтра — медник он,
Для шаха — лучший собеседник он.
Философом из любопытства был,
Но только дерзок до бесстыдства был!
Он был искусством с головы до ног,
Но в том искусстве был один порок…
Весна сменяла светлую весну, —
Своей он сделал шахскую казну,
К себе таскал он шахское добро,
Но так как воровал всегда хитро,
То милость в шахских он читал очах,
Хвалил его искусство старый шах,
А люди, слыша эти похвалы,
Боялись говорить слова хулы,
А говорили — шах не слушал слов,
А если даже слушать был готов, —
Обманщик, заглушая голоса,
Показывал такие чудеса,
Умел таким искусством ослеплять,
Что шах безвольным делался опять,
В руках таил такое волшебство,
Что шах почти молился на него!
Однажды шаху молвил ювелир:
«О царь царей! Ты покорил весь мир.
Ты всех владык величьем превзошел, —
Достойным должен быть и твой престол,
О шах! Твой лик — счастливый лик зари.
Пусть прочие владыки и цари
Довольствуются деревом простым,
Но твой престол да будет золотым!
Богата золотом твоя казна,
И не скудеет, множится она.
Зачем в подвалах золото держать?
Зачем ему без пользы там лежать,
Когда ему другое суждено:
Особый блеск тебе придаст оно,
Великолепье — шахству твоему,
Едва на свет его я подниму!»
Всем сердцем принял шах такой совет.
«О светоч знаний! — молвил он в ответ, —
Ты хорошо придумал, чудодей,
Начни же труд желанный поскорей!»
А тот: «О шах! Чтоб я престол воздвиг,
Чтоб золота я существо постиг,
Две тысячи батманов нужно мне».
И шах сказал: «Возьми в моей казне».
Вот, нагружен добычей золотой,
Искусный мастер скрылся в мастерской.
Усердно он трудился день и ночь,
Чтоб вещество искусством превозмочь,
В усильях и бореньях год прошел, —
Был золотой сооружен престол.
Глаза людей манил он, изумлял,
Он миру восемь ярусов являл.
Сияли восемь башен, как стекло,
Высоких, низких — равное число;
Четыре башни — дивной высоты,
На них павлиньи светятся хвосты,
Четыре — низких, в прорезях витых,
Четыре попугая было в них.
В рубинах, рдевших ярко и светло,
К престолу восемь ступеней вело.
Но все с уменьем сделаны таким,
Что, если поднимался шах по ним,
Они склонялись под его ногой,
К ногам одна спускалась за другой.
Но вот он восемь ступеней прошел,
Но вот воссел владыка на престол, —
Тогда ступени поднимались вновь.
Шах поднимал от удивленья бровь,
А попугаи, будто подан знак,
В четыре горла заливались так:
«Да сбудутся твои желанья, шах!
Да будет крепок твой престол в веках!»
А все павлины, полные ума,
Над головою шаха, как Хума,
Вдруг расправляли пестрые крыла,
Чтоб над счастливцем тень от них легла.
Сидение, чтоб возвышался шах,
Уставил мастер на восьми столбах.
Под ними восемь двигалось колес,
И самого себя владыка вез —
Куда хотел, без помощи людей,
По мановению руки своей.
Диковинки вселенной превзошел
Тот самодвигающийся престол!
Такого чуда, выше всех похвал,
Никто из венценосцев не знавал!
Когда людей кудесник удивил
И во дворце престол установил,
Довольный шах, повеселев душой,
Возвысил ювелира пред собой,
Искусника в высокий сан возвел
И расплатился щедро за престол.
Однажды во дворце, в одном углу,
Собратья мастера по ремеслу,
Чей быстрый ум, чей труд ценил народ,
Сказали так: «Престол — как небосвод:
Хоть солнечный он излучает свет,
В нем скрытно серебрится лунный цвет.
Не перечислим всех чудес его,
Две тысячи батманов — вес его,
Но к золоту, заметить не хитро,
Подмешано, бесспорно, серебро.
Украл соперник не один батман!
Но чтобы обнаружен был обман,
Но чтобы шах сумел его понять,
Немыслимо такой престол сломать,
Все превзошедший по своей красе…»
И так как Зейда опасались все,
То ювелиры начали совет:
Как дело вывести на божий свет?
И выход найден был в конце концов.
Добыв двух попугаев, двух птенцов,
Их обучали, приручив сперва,
Чтоб каждый затвердил свои слова:
Один: «Лишь позолочен сей престол»,
Другой: «А позолоту вор навел».
Зеленые, как всех лугов наряд,
Два попугая Зейда посрамят!
Один из заговорщиков нашел
Тропу к тому, кто охранял престол,
Вручив ему немало серебра.
И тот, подумав, обещал: с утра
Двух прежних попугаев заменить,
Доносчиков пернатых посадить,
Чтоб шах услышал не себе хвалу,
А низкому обманщику хулу.
Вот утром на престол садится шах,
Предчувствует хвалебный звон в ушах.
Что ж слышит он, владыка всех владык?
Два попугая поднимают крик,
Два попугая режут напрямик, —
У шаха отнимается язык!
Но так решил, когда пришел в себя:
Замыслил некто, мастера губя,
С ним нынче счеты давние свести,
Но, зная, что у шаха Зейд в чести,
Открыл проступок птичьим языком…
А если так, то правду мы найдем!
И вот напильник золото совлек,
И сразу обнаружен был подлог!
Сумел напильник Зейда обвинить
И оборвать приязни шахской нить.
Шах приказал, узнав его вину,
Отнять его имущество в казну,
А мастера, который так лукав,
В колодец бросить, в цепи заковав, —
В колодец с узким ртом, с широким дном:
Вход — как отдушина, а дно — как дом.
Как ночь разлуки, мрачен и глубок,
Жесток, как одиночества силок,
Насилием воздвигнут, страшен он:
В нем заживо преступник погребен.
В нем Зейд немного получал еды:
Два сухаря, один кувшин воды.
Но тот, кто шаха обмануть хотел,
Предвидел для себя такой удел.
Вот почему запрятал он кинжал,
Всегда напильник под полой держал.
Сказав: «Пускай паденье велико, —
Отречься от спасенья нелегко,
Пусть я в пучину бедствия сойду,
Но для спасенья средство я найду,
Пройду все испытания судеб!» —
Он сделал так: припрятал в угол хлеб,
А воду применил весьма умно:
Изрыв кинжалом глинистое дно,
Замешивал он глину на воде.
Так, дни и ночи проводя в труде
И выбиваясь из последних сил,
К отверстию ступени возводил.
«Воды!» — молил и клял судьбину он,
Стеная, припадал к кувшину он,
И глину, воду получив, месил,
И вновь, рыдая, он воды просил.
Хотя душа едва держалась в нем,
Ступени поднимались с каждым днем,
И много лун прошло, и пробил миг:
Он глиняную лестницу воздвиг.
Перепилив оковы на ногах
И дрожь и слабость чувствуя в руках,
По лестнице взобрался он, идет…
Увы, заложен тяжким камнем вход!
Ужель ему не выбраться отсель?
Кинжалом сбоку просверлил он щель,
Подкоп подвел под камень мастерски,
И каменные разорвал тиски,
И вышел из колодца наконец!
И в дальний край направил путь беглец,
Он в землю франков свой направил шаг…
Когда узнал об этом бегстве шах,
Узнал о том, как в пропасти земли
И труд и разум Зейду помогли,
Кусал от удивленья пальцы он,
И часто вспоминал скитальца он.
А Зейд все шел, не отдыхал в пути.
Он торопился, чтобы жизнь спасти.
И, множество преодолев преград,
Вступить на землю франков был он рад:
У франков не дрожал от страха он,
У франков не боялся шаха он!
В дороге сделав не один привал,
В Кустантынию странник наш попал.
В дороге он приветствовал зарю,
Дорога привела к монастырю.
Измучен странствиями, запылен,
В монастыре остановился он.
Как небосвода голубая ширь,
Был бесконечен древний монастырь,
И храм стоял светло и мирно в нем —
Не храм, а капище, кумирня в нем!
Сверкала позолота потолка,
Пол мраморный — из одного куска,
А стены — в украшениях лепных,
Горят лазурь и золото на них.
Из цельных слитков — каждая стена,
И яшмой облицована она.
Сомкнулись своды, сводам нет числа,
Как будто смотрят своды в зеркала.
Над каждым сводом — яхонт и сапфир,
Под каждым сводом — золотой кумир, —
Каменьев драгоценной красотой
Увенчан каждый идол золотой.
Туда ворота преграждали вход,
Они напоминали небосвод.
Монахи на ночь запирали храм
И снова открывали по утрам…
Придя в восторг от роскоши такой,
Как циркуль, сделав круг одной ногой,
Сказал философ, очарован весь:
«Так много вижу золота я здесь.
Так много здесь добычи даровой,
Что шаху долг я возвращу с лихвой!»
Вот идолопоклонником он стал,
Язычества сторонником он стал,
С неверными он жил, как друг и брат,
У монастырских поселился врат,
Ничем лица не выдал своего,
Стал богом каждый идол для него.
То каменным он застывал столбом,
То бил он перед идолами лбом,
Как пред единым богом мусульман.
И так искусен был его обман,
Что вскоре полюбил его народ,
В нем видя веры истинной оплот,
Избрав его, в душевной простоте,
Наставником в молитвах и посте.
Усердной службой, тяжестью вериг
Он в храме сана важного достиг.
Святыни ложной пламенем горя,
Добился он ключей от алтаря.
Теперь начнет он с капищем войну!
Едва склонялись жители ко сну, —
Привесив к кушаку от храма ключ,
Он мчался в город, словно горный ключ…
Давно, во время странствий, на пути
Двух правоверных он сумел найти,
В дни радостей — служителей своих,
В дни горестей — хранителей своих.
Но гнев и ужас их безмерным стал,
Когда товарищ их неверным стал.
С отступником у них вся дружба врозь,
Когда грехопаденье началось.
Но Зейд пошел и, разыскав друзей,
Поведал им о выдумке своей.
Те счастливы, что стоек в вере Зейд!
Обоих поселил в пещере Зейд:
В скале пещера вырыта была,
Вдавалась в море дикая скала.
Сказал: «Друзья, помочь вы мне должны.
Приборы ювелира мне нужны.
Достаньте их, я не боюсь затрат.
В пещере мы устроим тайный склад».
Друзья сумели мастеру помочь.
В пещере Зейда заставала ночь,
А утром властелин его — Сомнат,
На людях — он поклонник верный Лат.
Миниатюра из рукописи XV в.
«Семь планет»
Но лишь входил в глаза людские сон,
От глаз людских спешил укрыться он
И до утра в пещере мастерил:
Он из железа идолов творил,
Их легкой позолотой покрывал,
Друзей своей работой поражал:
От монастырского неотличим,
Был каждый идол с виду золотым!
И, довершая сходство, ювелир
Венчал камнями каждый свой кумир:
Но то не камни рдели так светло,
То было разноцветное стекло!
Сообщники, дивясь его делам,
С кумиром ночью проникали в храм,
Таясь прохожих добрых и дурных, —
С поклажею два призрака ночных!
Ощупывала идолы рука,
Искала золотого двойника
И ставила поддельного взамен.
Назад две тени двигались вдоль стен.
За ними — храм, огромный и пустой,
А с ними — идол тяжкий, золотой!
И двигались кумиры по ночам:
В пещеру — золотой, поддельный — в храм.
Никто, никто в их тайну не проник,
Так был на образец похож двойник.
За божеством таскали божество,
И в храме не осталось ничего.
Все золото светильников и чаш
Железом заменил искусник наш!
Закончив дело, заболел он вдруг:
По родине тоска — его недуг.
Когда открыл тоски причину он,
Язычников поверг в кручину он:
«Для нас отцом, подвижником ты был,
И мудрецом и книжником ты был,
Зачем стремишься к нашим ты врагам?
Или душой ты охладел к богам?»
А тот: «Я верен божествам вовек,
Но без отчизны скорбен человек.
К тому же боги приказали мне
Направить путь к моей родной стране.
Я нашу Лат умею понимать
И понял: у меня скончалась мать.
Богам усердный собеседник я.
А матери своей — наследник я.
Все золото, что накопила мать,
На нужды храма я хочу отдать.
Свершить я святотатство не хочу,
Я для себя богатства не хочу,
Но, материнским золотом богат,
К Менат и Лат я возвращусь назад.
Хотя в разлуке буду я страдать,
Но мне поможет веры благодать».
И люди, слыша похвалу богам,
Склонились до земли к его ногам:
«Печалит нас известие твое,
Но видим благочестие твое.
Не покидай своих послушных чад,
Благополучно возвратись назад.
В язычестве прослыл ты мудрецом,
И, так как нашим сделался жрецом,
Теперь, когда спешишь к местам родным,
Тебя достойно в путь мы снарядим».
Воскликнул он: «Не вижу в том нужды,
Лишь божествам я посвятил труды!»
А те в ответ: «Помочь тебе — наш долг!»
И он пред уговорами замолк.
Когда прощанья подошла пора,
Ему собрали множество добра,
Шли в храм со всех сторон и чернь, и знать,
Чтоб слово расставания сказать.
Спеша от этих удалиться мест,
Он все же на день отложил отъезд.
Он ящики большие сколотил,
Два идола он в каждом поместил
И — ловкости образчики свои —
Заделал крепко ящики свои.
Всех ящиков набрал он пятьдесят:
Сто истуканов в ящиках лежат!
В скале, в пещере вся работа шла.
Вдавалась в море дикая скала.
На берегу безлюдно было там,
И наготове судно было там:
Отсрочки миг любой — бедой грозил!
Он ящики на судно погрузил
И доброхотных не забыл даров, —
К отплытью мореплаватель готов!
Неверных паства собралась опять,
Чтобы в последний раз его обнять,
Язычники рыдали без конца,
В огонь разлуки бросили сердца,
Но мастер, с виду грустен, втайне рад,
Их так утешил: «У подножья Лат
Найдете вы послание мое,
Прочтете назидание мое».
И вот повел он судно по волнам,
А стадо глупое вернулось в храм.
Послание нашла толпа мирян.
К глазам прижав его, как талисман,
Глазам не веря, все письмо прочла:
В нем описал хитрец свои дела!
Ошеломил язычников обман,
Как при похмелье — бенджа злой дурман,
Все бросились к богам, не чуя ног, —
Железо обнаружило подлог.
Тут крики раздались, стенанья их…
Глядите же на ум и знанья их!
Тем временем хитрец из мусульман
Пересекал, как ветер, океан.
Попутный ветер тоже был силен.
Мелькнули в небе Рыбы, Скорпион,
И на заре наш опытный пловец
Увидел берег Рума наконец.
В те дни румийский шах страдал от мук.
В постель свалил владыку злой недуг.
Лишь ювелир умел недуг прогнать,
Но врач исчез — вернулась боль опять.
Никто не мог владыке угодить,
Никто не мог владыку исцелить,
Недуг его давил, как тяжкий груз,
К усладе жизни потерял он вкус.
Раскаивался в совершенном шах,
Раскаивался, но сильнее чах
И вспоминал, тоскуя и крича,
Лукавого, но милого врача.
Зейд, на берег ступив, решил в тетрадь
Свое повествованье записать:
Он много дел свершал, как волшебство,
Но это — удивительней всего.
Свои пожитки спрятав под замком,
Он в город вечером вошел тайком.
Те самые оковы раздобыл,
Которые когда-то распилил,
Себе жильем колодец он избрал,
Тот самый, из которого бежал.
Властителю, волнуясь и дрожа,
О чуде сообщили сторожа.
Едва ли не из мертвых шах воскрес,
Узнав об этом чуде из чудес!
И прошептал он, слабого слабей:
«Ко мне ведите мудреца скорей!»
Философа приветствуя возврат,
Почетный преподнес ему халат,
Склонил он сердце к милостям таким,
Что своего коня послал за ним.
Тот на коне примчался во дворец.
Порог дворца поцеловал мудрец.
Вступил в покой, поцеловав порог,
Как прах, на землю перед шахом лег.
Шах поднял этот прах и обнял прах,
Сел на престол с желанным гостем шах,
Чтоб, насладясь рассказами его,
Найти отраду в разуме его.
Любимца своего лаская так,
Он подал Зейду руку, дружбы знак.
Поцеловав ее, наш мастер вдруг
Нащупал пульс и понял, в чем недуг,
Стал врачевать и суток через пять
Сумел недуг от шаха отогнать.
Тогда искусник шаху преподнес
Сокровища, которые привез.
От изумленья шах лишился чувств!
Потом сказал: «О гордость всех искусств,
Свои поведай приключенья мне
И побеседуй в поученье мне!»
И тот поведал о своих делах.
Дивясь, внимал его рассказу шах,
Внимал всю ночь, не отходя ко сну!
Зейд отдал все сокровища в казну.
Шах оказал ему такую честь,
Что нам о ней и в книге не прочесть,
Да и не так-то прост о ней рассказ!
И тут же властелин издал приказ:
«Все идолы разбить на сто кусков
И наделить богатством бедняков».
Народ на площадь стали созывать,
Добро Каруна стали раздавать,
Чтоб черноту и белизну одежд
Народ украсил золотом надежд,
Чтоб те обновки радость принесли,
Чтоб все циновки золотом легли!
Шафран, мы знаем, вызывает смех.
Так золото развеселило всех.
На волю вышли узники темниц,
Не золото ли желтизна их лиц?
И вид их так развеселил народ,
Что, чудилось, без чувств он упадет…
Хотя не веселит янтарный цвет,
Им дорожит неблагодарный свет.
Хотя лицо любовью сожжено,
И желтое к себе манит оно.
Пока не станет желтою заря,
Не выйдет солнце, золотом горя».
Все это выслушав, сказал Бахрам:
«Красноречивый гость! Поведай нам
И о себе, и о делах своих,
Ты, рассказавший о делах чужих,
Начни о жизни собственной рассказ.
Умом своим очаровал ты нас!»
И тот сказал: «Моя отчизна — Рум,
Я медицине посвятил свой ум;
Философ я, хочу постигнуть мир,
А предок мой — тот самый ювелир,
О чьих делах поведал я тебе.
Участие прими в моей судьбе:
Я шел сюда, чтоб стать твоим слугой,
Тебя избрал я целью дорогой!»
И путника недимом сделал шах,
Советником любимым сделал шах,
И щедро наградил его Бахрам…
Нашел дорогу сон к его глазам,
И крепким сном заснул Бахрам тотчас,
И до рассвета не открыл он глаз.
Вот солнце понедельника взошло,
Небес желто-зеленое стекло
От ржавчины отмыло: засверкал
Небесный свод сверканием зеркал
И пожелал, исполненный причуд,
Чтоб вспыхнула заря, как изумруд,
В таинственном сиянии своем…
В зеленом одеянии своем,
Зеленый тополь взяв за образец,
Бахрам в Зеленый поспешил дворец.
К нему в покои гурия вошла:
Небесная лазурь ее вошла,
Зеленой веткой гибкою вошла,
Со сладостной улыбкою вошла:
Улыбка — сахар нежного стручка,
А зелень хороша, когда сладка!
Игрива, и нежна, и весела,
Царевна кубок шаху поднесла.
И принял шах лазоревый сосуд,
Из рук луны он принял изумруд,
Он пил вино из этих тонких рук,
Покуда неба изумрудный круг
Черней ночного сонмища не стал.
Шах благодатным сном еще не спал,
Печальным думам он предался вновь:
На шаха порчу навела любовь.
Пошли рабы за путником ночным,
Они в степи рассеялись, как дым,
И пешехода из чужой земли
Пред очи шаха вскоре привели.
Шах молвил из-за полога: «Тотчас
Пусть сядет он и поведет рассказ».
И чужестранец, похвалу воздав
Могучему властителю держав,
Прося благословенья божества,
Повел неторопливые слова.
«Давным-давно в Египте жил купец.
Богатством наделил его творец.
Был целью бедняков его порог,
Был стол его обилен и широк.
Был у него один счастливый сын:
Во всех искусствах он достиг вершин,
Юсуфа красотою наделен,
Был юноша богат, как фараон.
Его достоинств нам не счесть число.
Светилось ясным разумом чело.
Владел он всем, что было у купца,
Владел он всем имуществом отца!
Науки светской мудрость возлюбя,
Он окружил учеными себя.
Саадом звался. Видел в нем отец
Всей жизни счастье, дней своих венец.
Покои для гостей воздвиг Саад.
Прохожему любому был он рад.
К нему дорогу знали свой, чужой:
Он всех встречал с открытою душой,
Всем путникам предоставлял приют…
Спросив: откуда и куда идут,
Какая цель у них и в чем нужда, —
Он милость им оказывал всегда,
Оказывал гостям в жилье своем
Внимательный и ласковый прием.
Когда же, чуткий сердцем, видел он,
Что гость благодеяньями смущен,
Хозяин с лаской задавал вопрос:
Что видел он? Что знал? Что перенес?
Что, странствуя, стремился он познать?
В какой науке видит благодать?
Саад внимал гостям, как ученик,
Он в тайны сокровенные проник,
Он стал наук заморских знатоком,
Алхимией и волшебством влеком.
Но вот привел непостижимый рок
Двух чужестранцев на его порог,
Одетых в одинаковый наряд:
В зеленое от головы до пят.
Поставил блюда для гостей Саад,
Раскрыл объятья, их приходу рад.
Он ласковым не для приличий был, —
Таков души его обычай был!
Великодушьем он гостей потряс.
Такую милость встретив в первый раз,
Переглянулись оба, замолчав:
Их поразил его приятный нрав.
Желая их развлечь, в один из дней
Хозяин пир устроил для гостей,
Который полон был всего того,
Чего желает наше естество.
Когда вино дыханием паров
Отбросило смущения покров,
Своим гостеприимством сын купца
Пленил навеки странников сердца.
Когда он лаской поразил гостей,
«Откуда вы? — он вопросил гостей, —
Ответьте мне: где жили прежде вы?
В зеленой почему одежде вы?»
А те: «Далек родной страны рубеж,
Она зовется Шахрисабз и Кеш.
На зеркале ее широких вод
Трава, подобно ржавчине, цветет.
Одета вся страна в зеленый цвет,
Кто в ней живет, в зеленое одет.
Как видишь, в зелень мы облачены:
Мы Шахрисабза верные сыны».
«Теперь скажите мне, — спросил Саад, —
Какой диковинкою мир богат?»
Один промолвил гость: «Моя страна
В зеленые одежды убрана,
Благоуханна, как цветущий рай.
В раю цветущем есть нагорный край,
То место называется Кетвер,
А в нем, поднявшись до небесных сфер,
Кумирня гордо своды вознесла:
Она из камня сделана была,
А на ее стенах, со всех сторон,
Был ярко мир зверей изображен.
Опомниться не сможет человек,
Когда найдет в монастыре ночлег:
Узнает он годов грядущих даль,
И радость будущую, и печаль.
Когда он вступит в тот стеклянный храм
И сон к его приблизится глазам,
К нему во сне два странных существа
Придут и скажут вещие слова,
В лицо вперив зрачки недвижных глаз,
По очереди поведут рассказ.
И первое поведает о том,
Что встретит он, идя благим путем;
Поведает второе существо,
Какое горе поразит его.
И станет пробужденному от сна
Вся будущая жизнь его ясна.
Он радостно проснется поутру:
От зла уйдет он и придет к добру».
Так молвил первый странник и затих.
Второй повел начало слов таких:
«В той области живет святой старик.
Он сердцем чист, он разумом велик.
Когда, увидев сон в монастыре,
Узнав о зле грядущем и добре,
Иной постичь не сможет благодать,
Понять не сможет, как от зла бежать,
И станет пред загадкою в тупик, —
Страдальца просветит святой старик.
Так нужно поступить: увидев сон,
Но не поняв, что означает он,
Не зная, как благим путем пойти
И как дурного избежать пути,
Отправься к старцу, расскажи свой сон.
Советом старца будешь умудрен,
И, выполнив его благой совет,
Увидишь ты добра желанный свет».
Саад сознанье потерял: рассказ
До глубины души его потряс.
Он до ночи не отпускал гостей,
Измучил их беседою своей.
Тоскою беспредельною объят,
Бессонницей томясь, решил Саад
Отправиться в зеленую страну,
В кумирню, к удивительному сну.
Настало утро, чей лазурный свет
Наполнил ярким блеском дольний цвет.
Лишенный воли, потеряв покой,
Саад томился темною тоской.
Свое решенье он открыл отцу.
Чтоб сына удержать, пришлось купцу
Принять немало хитроумных мер,
Но юношу влекла страна Кетвер.
Ты болен страстью? С нею не борись,
Одно поможет средство: покорись…
Поняв, что сына удержать нельзя,
Ни уговаривая, ни грозя,
Купец, хотя стонал и плакал сам,
Сыновним все же уступил слезам,
Дитя свое он богу поручил,
Казну свою пред сыном положил
И молвил: «Все возьми, чем я богат!»
Обрадованный, приказал Саад
Собрать в теченье суток десяти
Все нужное для дальнего пути.
Собрал отец по-царски сына в путь, —
Саад царю не уступал ничуть!
Он видел, нетерпеньем обуян,
Верблюдов среброносный караван;
Свисали тяжкие тюки с горбов;
Четыре сотни молодых рабов,
Чьи золотом блестели кушаки,
Привязывали накрепко тюки;
Все, что придумать может человек,
И то, чего не выдумать вовек,
И то, что будет в будущих веках, —
Все было в преизбытке в тех тюках!
Попутчиками сделав двух гостей
И две реки пролив из двух очей,
Вздохнув, простился юноша с отцом.
Отец стоял с заплаканным лицом:
Ему хотелось мертвым сном заснуть!
Саад отправился в далекий путь.
Он торопился: делал он зараз
Два перехода, не смыкая глаз,
Два гостя к рубежам своей земли
Его, подобно ангелам, вели.
Осталась позади степная ширь,
Языческий пред ними монастырь:
До неба своды храма достают!
Брахманы, предоставив им приют,
Преподнесли им яства и питье,
Добросердечье выказав свое.
Саад велел двум спутникам-друзьям
Сейчас же обозреть стеклянный храм.
Они вошли вовнутрь монастыря,
На стены с изумлением смотря.
Сказал один из спутников тогда:
«В храм не входи, чтоб не было вреда!»
Но, болен страстью, пребывал он глух,
Замкнул пред уговорами он слух.
Когда зажглись лучи ночных светил,
Он в крепость монастырскую вступил,
А спутники стояли у стены,
Предчувствием дурным омрачены.
Саад вступил, друзьям не веря, в храм.
Брахман снаружи запер двери в храм.
Всем существом затрепетал Саад.
Ему хотелось убежать назад.
Дрожа, он впал в отчаянье тогда,
Почувствовал раскаянье тогда,
Но было поздно: мраком устрашен,
Увидеть жаждал он чудесный сон.
Но разве сон к тебе отыщет путь,
Когда глаза не в силах ты сомкнуть?
Так было с ним. В испуге и мольбе
Он тщетно сновиденье звал к себе.
Заснул он лишь на утренней заре.
Увидел он себя в монастыре,
В том самом, где нашел себе ночлег,
Где ночь провел он, не смыкая век.
Внезапно два пернатых существа,
Чьи перья — как зеленая трава,
Запели дивным пением и ввысь,
Подобно легким птицам, поднялись,
Над годовой Саада сделав круг,
Ему на плечи опустились вдруг.
Одна, чьи перья — ангела крыла,
Сновидцу весть благую подала:
«Тебе в подруги пери суждена,
Прекрасная, как солнце и луна».
За ней другая птица, вестник зла,
Пророческий свой голос подала:
«Твоей судьбою станет грозный див,
Тебя он свяжет, в рабство обратив».
Проснулся, пораженный сном, Саад.
Смущением и трепетом объят,
Он завопил. Восточная заря
Вдруг осветила мрак монастыря.
Он ринулся в смятении к дверям, —
Брахман открыл снаружи двери в храм…
Саад утратил разум и покой.
Томим тоской, он слезы лил рекой.
Свет разума в глазах его померк.
В отчаянье он слуг своих поверг,
И те, исполненные скорбных дум
И обратив лицо к пришельцам двум,
Сказали так: «Сбылось, увы, сейчас
Предупрежденье одного из вас,
Но от другого помощи мы ждем».
Тогда другой, с возвышенным умом,
С приязнью откровенною в глазах
И тайной сокровенной на устах,
Сказал страдальцу: «Помощь такова, —
Мои ты вспомни прежние слова, —
Ты поднимись на горную тропу,
К святому старцу ты направь стопу,
Поможет он тебе, как верный друг,
Прогонит он, быть может, твой недуг».
И все пошли к жилищу старика.
В зеленых платьях два проводника,
К вершинам гор, поднявшимся вдали,
Несчастного к пещере привели.
Паломники вошли, сгибая стан,
В пещере той увидели айван,
А выдолбил его, подняв топор,
Не кто иной, как низвергатель гор.
С трудом пройдя сквозь каменную мглу,
Заметили отшельника в углу:
Как драгоценный камень в руднике,
От мира скрывшись в горном тайнике,
Он возлюбил пещеры темный мир, —
То в мире малом был огромный мир!
Как мир скрывают ночи небеса,
Распущенные скрыли волоса
Его худое тело; как рудник
Таит богатства, в сердце скрыл старик
Науки драгоценную руду;
Причастная духовному труду,
Сияла мудрость на его челе;
Он семь столетий прожил на земле;
Он удалился от пути невежд,
От разочарований и надежд;
К богатству, к власти потерял он вкус:
Без страха жил премудрый Файлакус…
Поражены обличием его
И внутренним величием его,
Молчали гости, трепетно дрожа,
Смиренно руки на груди сложа.
Но понял их смятение старик:
Откинув волосы, открыл он лик.
Он своды озарил, и мрак исчез:
Так солнце озаряет свод небес.
Их встретил с милостью старик святой,
Глаза его светились добротой.
Все гости к праху приложили лбы.
«Саад, — сказал старик, — ты свет судьбы,
Ты — соименник счастья. Узнаю,
Благовеститель, красоту твою!
Сейчас ты мне расскажешь обо всем.
А хочешь — волосок за волоском —
Я сам твою же повесть изложу?
Сам о тебе всю правду расскажу?»
Упав пред старцем ниц, сказал Саад:
«Когда Лукман вещает, все молчат».
Сверкнул улыбкой старца чудный взор.
Главу склоняя, тихий разговор
Повел сердца пленяющий мудрец
О том, где гость родился; кто отец
И мать его; где вырос он; о том,
Как для гостей открыл Саад свой дом;
О том, как он ловил из уст гостей
Диковинки чудесных повестей;
Как путникам он деньги раздавал;
Как, путникам внимая, познавал
Науки совершенство; как постиг
Творения таинственный язык;
Как, выслушав слова пришельцев двух,
Он стал мечтать, и беспокойный дух
От близких и родных его увлек
В дорогу дальних странствий; как он лег
На ложе в монастырской тишине;
Как дивных птиц увидел он во сне;
Как, порицаньем вещим потрясен,
Не в силах был истолковать свой сон…
Саад внимал, надеясь и скорбя,
А старец продолжал: «Я ждал тебя.
Я сновиденью объясненье дам,
Я сновиденью воплощенье дам, —
Пойми: я цель преследую свою!
Тебе я жизнь поведаю свою.
Я некогда верховным был жрецом,
Меня считала паства мудрецом.
Во сне и наяву хотелось мне
Услышать прорицанья в дивном сне,
Мечтал избрать своим ночлегом храм,
Но мудрость преграждала путь мечтам.
И, наконец, мечтанья взяли верх.
Я голос робкой мудрости отверг.
Не сам, а силой странною влеком,
Вошел я в храм в молчании ночном.
«Вот здесь, — решил я, — будет мой ночлег!»
Сон сразу на меня свершил набег.
Открылось в этом сне моим глазам:
Сто тысяч обликов явилось в храм.
И двух существ увидел я полет, —
Ты тоже видел их, мой гость! — И вот,
Слетев ко мне с высот монастыря,
Запели обе птицы, говоря,
И первая сказала: «Будет миг —
Согнешься ты под тяжестью вериг,
Твой день погаснет, с темной ночью схож,
Обитель ты в пещере обретешь».
Другая возразила: «Кто крылат,
Пусть не скорбит. Тебя спасет Саад.
Хотя стезя к спасенью тяжела,
Перелетишь, почуяв два крыла».
Но тут, испуган речью вещих птиц,
Сон удалился от моих ресниц.
А я смущен великой смутой был,
Раздавлен я тоскою лютой был,
Я вопрошал: «Где толкователь снов?
Где благовест его правдивых слов?»
В огне я бредил и во тьме бродил,
Но толкователя не находил.
Какая мне готовится беда?
Мне вспомнилась пословица тогда,
Я повторял ее на все лады:
«Предчувствие беды страшней беды».
Меня пугало будущее зло,
И вскоре дело до того дошло,
Что я, терзаться не желая впредь,
Одно придумал средство: умереть…
Вдруг старца вижу я. То призрак был?
Но старец так похож на Хызра был,
Что я подумал: это Хызр святой!
Он в рубище облек свой стан худой,
Зеленый посох он держал в руке.
Сказал: «Не плачь, испуганный, в тоске.
Я сон твой истолкую, но сперва
Мне обещай, что все мои слова
Без отговорок примешь ты сейчас,
Исполнишь без докуки мой приказ».
Запечатлев на прахе поцелуй,
Сказал я Хызру: «Сон мой истолкуй.
Я всей душой слова твои приму,
Покорен я приказу твоему».
А тот: «Запечатлей в своем уме
Страницы мудрые Джамасп-наме.
Когда прозренья книгу ты прочтешь,
Ты повесть о самом себе найдешь.
Джамаспа слово для тебя — закон.
Прочти — поймешь, как толковать свой сон.
Но вот условье, — слух свой напряги, —
Ты знанием иным пренебреги.
Науками свой разум не дробя,
Снотолкованью посвяти себя.
Познав науки этой глубину,
Дашь толкованье ты любому сну.
Усердие твое — награда нам.
Ты должен тем, кто ночью вступят в храм
И выйдут утром, скорбью сражены,
Растолковать мучительные сны,
Утешить слабых должен ты, как врач,
Развеять их печаль, унять их плач».
Сказав, исчез. Я волю дал слезам,
Я приложил глаза к его следам.
Был след его стопы, как свет во тьме!
Я встал, пошел, раскрыл Джамасп-наме,
На той странице книгу я раскрыл,
Где обо мне провидец говорил.
И вот его слова: «В такой-то век,
В такой-то год, такой-то человек,
Чей разум высшим знаньем просвещен,
В монастыре заснув, увидит сон.
Познает пламенное горе он,
Но пусть поднимется в нагорье он.
В пещере пусть отшельником живет.
Сто лет промчит времен круговорот,
Пройдет столетье, как единый миг, —
Постигнет он значение вериг.
Благая весть придет к нему тогда.
Над ним взойдет счастливая звезда,
То есть: придет счастливый человек,
Чей путь его дорогу пересек,
Чье прозвище — Саад, чей счастлив лик,
Чей скорбный сон тяжеле всех вериг.
К пещернику придя, попросит он
Растолковать его ужасный сон.
Едва найдет желанное Саад,
Поняв свой сон и не страшась преград,
Свой сон поймет и толкователь сна,
Загадка станет для него ясна.
Он таинства небесные поймет,
Все небо мыслью быстрой обоймет,
Украсит он собой сады небес,
Проникнет ум его в труды небес;
Ничтожеством считая небосвод,
Отшельник тот над небом власть возьмет,
В пещере темной умерщвляя плоть,
Сумеет он страданье побороть.
Настолько станет дух его велик,
Сильнее плоти, всех ее вериг,
Что внидет он, не ведая оков,
В сокровищницу мудрости веков.
Вот объясненье первой части сна.
А часть вторая так объяснена:
Кто светлой мыслью к небу воспарил,
Почуял силу двух духовных крыл».
Когда проник я в смысл чудесных строк,
Пещеры я переступил порог,
Я целое столетье в ней провел,
Я людям подавал благой глагол,
Я размышлял о зле и о добре.
И тем, кто видел сон в монастыре,
Я, сновиденья объясняя суть,
Указывал к добру тернистый путь.
Я часто думал: счастье обрету,
Когда твою увижу доброту.
Сто лет промчалось на моих глазах,
И ты пришел. Благословен аллах!
Сейчас услышишь толкованье сна.
«Тебе в подруги пери суждена», —
Вот первой птицы вещие слова.
Разгадка прорицанья такова:
О дочери царя слова гласят.
На ней блестит лазоревый наряд,
Сурьма для солнца — след ее ноги.
Отец ее, пред кем дрожат враги,
Чья гуще трав бесчисленная рать,
Решил столицей Шахрисабз избрать.
Подобно пери шахское дитя.
Красавицу соперницей сочтя,
Питают пери зависть ныне к ней,
А гурии годны в рабыни ей.
Старуха неба, зеркало держа,
Ее причесывает. Госпожа
Считает солнце зеркалом своим.
Нет, лучше с ясным солнцем мы сравним
Ее красу: она весь мир сожгла,
И рядом с ней тускнеют зеркала!
Пред ней, восторг в смущенье заглуша,
Глаголющая замолчит душа.
Язык пред ней немеет, слишком груб,
Живой водой блестят рубины губ.
Подобно Хызру вещему, она
В зеленое всегда облачена.
Ее лицо — как райский цвет живой,
Что всходит над зеленою травой.
Она для шаха — радости ручей,
Она — зеница, свет его очей.
Шах на вершине горного хребта
Построил крепость. Башня поднята
До самых туч. Она, превыше гор,
Бросает небосводу свой укор.
Посередине крепости дворец
Воздвиг для гордой дочери отец.
Вокруг дворца — три крепостных стены,
И башни на стенах возведены.
В стенах обширных — крепкие врата,
До неба их доходит высота,
Тропа ведет к подножью этих врат,
Она полна немыслимых преград.
У первых врат на страже — великан,
Свирепый негр по имени Катран.
Пред ним, как муравей, бессилен слон,
А каждый волос на плечах — дракон,
Но волосы и шеи и спины —
Слоновыми назваться бы должны!
Как страж небес, как полуночный мрак,
Стоит он, и пред ним трепещет враг.
Мудрец, который знанием богат,
На страже встал у следующих врат.
Перелистал он сотни древних книг,
Он крепость эту шахскую воздвиг.
У третьих врат старуху мы найдем.
Ей любо заниматься колдовством.
В коварстве, в хитрости, в науке зла
Она старуху неба превзошла.
Нельзя ее свирепость обмануть,
Не смеет ветер в крепость заглянуть.
Заглянет птица — выпадут крыла,
Заглянет муха — и сгорит дотла.
Волшебный пламень жжет все горячей,
Он может камень превратить в ручей…
Царевна, с сердцем каменным луна,
К супружеству презрения полна.
Она, недосягаема для глаз,
В той крепости от мира заперлась.
Но мир, наслышан о ее красе,
Стремится к ней: о ней мечтают все,
Хотя повергнут в страх влюбленный мир:
Его сердцегубительный кумир
Условье ставит, гордо говоря:
«Будь это грозный царь, иль сын царя,
Иль мудрый муж, прославленный вовек,
Иль просто благородный человек,
Но каждый, кто в сердечной глубине
Взлелеял мысль о близости к луне,
Кто речь, когда негаданно придет,
О брачном договоре заведет,
Пусть как ему угодно: колдовством,
Коварством, силой, хитростью, умом —
Ворота шахской крепости возьмет!
Дойдя до первых крепостных ворот,
Пусть победит сперва Катрана он.
Его связав, пусть невозбранно он
Приблизится потом к вторым вратам.
Мудрец ему задаст вопросы там.
Когда ответов он найдет язык,
Поставит вопрошавшего в тупик,
Пусть до последних он дойдет ворот:
Там победителя колдунья ждет.
Когда он, силой знанья своего,
Старухи уничтожит колдовство,
Когда, с противником расправясь так,
Он водрузит над крепостью свой стяг,
Над крепостью явив права свои,
Он завладеет крепостью любви.
А нет, — он будет схвачен, как злодей,
С позором выгонят его людей,
Пусть на себя тогда пеняет сам:
Его убьют, останки бросив псам,
А голову, всем прочим в образец,
Поднимут вверх, на крепостной зубец».
Условье гордой пери тяжело,
И дня еще такого не прошло,
Чтоб не был умерщвлен один из тех,
Кого манил и обманул успех.
Для псов добычей стали храбрецы,
Чьи головы воздеты на зубцы…
Но ты не трепещи, судьбу кляня.
В пустыню страха не гони коня:
Красавицу соединю с тобой, —
Она тебе назначена судьбой.
Тебе с подругой сблизиться пора,
Тебя наставлю я на путь добра».
Когда премудрый так проговорил,
Он раковину гостю подарил,
И несколько волшебных слов подряд
Он начертал, чтоб заучил Саад.
Еще одну записку написал
И, юноше вручив ее, сказал:
«Вставай и отправляйся в путь скорей.
Вожатыми ты сделай двух друзей
В зеленых платьях: не теряя дня,
До Шахрисабза ты гони коня.
Зеленый город — всех стараний цель.
Когда же ты достигнешь тех земель,
Ты спутников к царю отправь тотчас:
Пусть обо всем доложат без прикрас.
Шах скажет: «Негра победи сперва».
Вступи в борьбу, но затверди слова,
Которые тебе я начертал, —
Их чарами владея, начертал:
В них мощь твоя, они — твой талисман,
Пред мощью их беспомощен Катран!
Как только в раковину дунешь ты,
Когда сквозь раковину плюнешь ты,
В какое б место ни попал плевок,
Твой враг заснет, и будет сон глубок.
Ты возликуй, Катрана победив:
Когда в борьбе погибнет черный див
И будет крепость первая взята, —
Раскроет радость пред тобой врата,
И ступишь ты уверенной ногой,
И так дойдешь до крепости другой.
Ты будешь остановлен мудрецом.
Ты будешь поражен его лицом,
В глазах увидишь мудрости лучи.
Мою записку ты ему вручи.
Смирится пред тобой, ее прочтя,
Поможет он тебе, мое дитя.
Он с высшею премудростью знаком,
Он стал мне сыном и учеником.
Развеет он старухи колдовство,
И счастья ты достигнешь своего».
Так молвив, улыбнулся он светло,
Поцеловал он юношу в чело,
Напутственное слово произнес:
«Удачлив будь! Ты счастье мне принес,
Теперь за счастьем ты своим иди.
Спеши: преграды будут впереди».
С порога старец крикнул: «Счастлив будь!»
Саад, повеселев, пустился в путь,
Луга пересекая и поля…
И показалась, наконец, земля,
Покрытая зеленою травой,
Слиянная с небесной синевой.
Терялся в небесах ее рубеж:
Предстал пред путниками город Кеш.
Саад сказал своим проводникам:
«Ступайте к шаху во дворец!», а сам
Верблюдов он развьючить приказал,
Устроил посреди степи привал.
Явились к шаху два проводника
И повесть начали издалека
О том, как непостижная звезда
Саада издали вела сюда.
Они хвалили ум его и нрав,
Его радушью должное воздав.
К ним шах склонил свой милостивый слух:
Друзей и слуг он видел в этих двух,
Он твердо знал, что их рассказ правдив.
Уже к Сааду сердце обратив,
Приязнь к нему почувствовав, приказ
Двум правдолюбцам отдал он: «Тотчас
Помчите вы коней к его шатру,
Я к завтрашнему жду его утру».
Наутро уроженцы той земли
К властителю Саада привели.
Шах, увидав его счастливый лик,
Утешился душой и в тот же миг,
Едва на юношу он бросил взгляд,
Решил: ему, как сердце, мил Саад!
Шах возвеличил гостя и вознес
И благопожеланье произнес.
Упал пред ним Саад, целуя прах,
Но поднял гостя милостивый шах
И оказал невиданную честь:
Велел ему перед престолом сесть.
Когда чужой и свой, собравшись тут,
Вкусили вдоволь от богатых блюд
И шах узнал от сведущих двоих,
От добрых верноподданных своих,
Желанье юноши, — сказал он так,
И это был расположенья знак:
«Был труден, утомителен твой путь,
Саад, сейчас ты должен отдохнуть.
А завтра час борьбы назначу я.
Предчувствую твою удачу я».
Тогда Саад направился к шатру.
Друзей и слуг собрал он на пиру.
Он пил вино, и сладостный кумир
Незримо украшал веселый пир.
Мрак над землей свой полог растянул,
Не раз ночной менялся караул, —
Опьянены и сражены вином,
Пирующие спали крепким сном.
Для пьяного — все беды позади:
Хмель — в голове, любимая — в груди.
Саад покинул свой шатер, ведом
Отвагою, любовью и вином.
Не видели друзья, пьяным-пьяны,
Как он дошел до крепостной стены,
Как падал он, как поднимался вновь,
Как опьяняла пьяного любовь,
Как вопли он, шатаясь, издавал:
Он о любви к возлюбленной взывал…
А в это время кровожадный негр,
Что, словно дым, восстал из горных недр,
Чья грудь бесстрашна, чьи глаза остры, —
Расхаживал на выступе горы.
Он стражу нес у крепостных ворот,
Вдруг слышит: голос плачет и зовет.
На голос он с крутой горы сбежал,
Держа в руке безжалостный кинжал.
Он увидал сраженного вином:
Сознания свеча погасла в нем!
Сперва хотел убить его Катран,
Но передумал черный великан.
Сказал: «В пещере пьяного запру.
Когда же мир проснется поутру,
Убью при всех. И завтрашний мой враг,
Взглянув на мощь мою, почует страх,
И я затрепетавшего убью,
Народу силу покажу свою,
Чтоб восхвалял меня и стар и млад».
Катран, жестокому решенью рад,
К пещере приволок его, свиреп.
Пещера та напоминала склеп.
В тот склеп Саада бросил черный див,
Связав и руки на спине скрутив.
Он завалил тяжелым камнем вход,
На страже встал у крепостных ворот…
Заснул влюбленный, хмелем побежден.
Когда заря взошла, развеяв сон,
Он вспомнил, что произошло вчера,
Как пьяный, убежал он из шатра,
Как, пьяный, крепости вчера достиг,
Тогда слова, что написал старик,
Он стал читать, их повторяя вслух, —
И в тело мощь вошла такая вдруг,
Что выпрямился в мрачном склепе он,
И разорвал стальные цепи он,
Миниатюра из рукописи XV в.
«Семь планет»
От входа камень отвалил рукой
И быстро побежал с горы крутой.
Не озирался он, к друзьям спеша:
Взволнована была его душа.
Когда стоянки он достиг своей,
Застал он огорченными друзей:
Исчезнув ночью, он расстроил их.
Но ласково он успокоил их,
Вскочил в седло и поскакал на бой…
Жестокой удручен его судьбой,
Неисчислимый заполнял народ
Ристалище у крепостных ворот.
Посередине возвышался шах,
А злобный негр, внушая людям страх,
На исполинском гарцевал коне.
Подобная и солнцу и луне,
Глядела пери на Сатурна цвет,
Струя из башни свой лазурный свет.
Блуждал Катрана кровожадный взгляд.
Так думал негр. «Появится Саад, —
Убью хмельного пленника при всех,
Саада испугает мой успех».
Едва на поле прискакал Саад, —
Воитель черный поскакал назад,
Людей немало этим удивив.
Войдя в пещеру, поразился див:
Исчез вчерашний пленник без следа!
В Катране ярость вспыхнула тогда,
Он ринулся на бой, угрюм и зол.
Воинственный Саад с коня сошел.
Они вступили в рукопашный бой, —
Не побеждал ни тот и ни другой.
Не страшен был Сааду великан:
Ему помог священный талисман.
Он раковину приложил ко рту
И плюнул через раковину ту,
И брызнула снотворная слюна,
И сделался Катран добычей сна.
Саад взметнул его над головой
И бросил наземь с силою такой,
Что появилась трещина в скале,
Остался отпечаток на земле!
В народе грянул изумленья крик,
Он купола небесного достиг!
Когда Саад Катрана превозмог,
Он положил его у шахских ног,
Спросив: «Что делать дале? Повели!»
Саада по дороге повели
К вторым вратам, где пребывал мудрец,
Вход преградив к царевне во дворец.
Саад его лицом был поражен,
Он сотворил с достоинством поклон,
Вручил ему записку старика.
Тот задрожал, раскрыв ее: рука
Наставника писала те слова!
Ко лбу записку приложив сперва,
Он стал читать: отшельника перо
Приказывало сотворить добро.
Готовый пред Саадом наземь лечь,
Премудрый страж повел такую речь:
«Наставнику я предан своему.
Где смелости, где силы я возьму,
Чтоб повторить высокие слова?
Душа святого старца в них жива!
Исполнить я готов приказ его:
Старухи уничтожу колдовство».
Смотрел народ, столпившийся вдали,
Как эти двое разговор вели,
А страж сказал: «Колдунья — звук пустой,
Изображенье, созданное мной.
Хотя людей измучила она,
Не человек, а чучело она.
Ее прославленное колдовство —
Обман и ловкость, только и всего.
Приблизясь к ней, ударь старуху в грудь, —
И в храм любви свободен будет путь».
Поставив стража якобы в тупик,
Вновь к шаху обратил Саад свой лик,
Спросив: «Что делать дале? Повели!»
И вот его к старухе повели.
Все разбежались у ее ворот.
Один Саад бесстрашно шел вперед.
За ним стоял немолчный шум людской:
Был подвиг удивителен такой!
Вокруг старухи — тысяча смертей,
Над головой — огнеобразный змей.
Саад, не испугавшись ложных чар,
По высохшей груди нанес удар.
Тогда старуха зашаталась вдруг,
На множество кусков распалась вдруг:
То были тряпки. Связывал их клей,
Из ниток сделан был ужасный змей.
Откуда ж эти грозные огни?
Из пестрых тряпок сделаны они!
Разрушив чародейства мнимый ад,
Вернулся к шаху радостный Саад.
Шах, как отец, его поцеловал,
Любимым сыном он его назвал!..
«Зеленый рай», — так прозван был цветник,
В котором старый шах дворец воздвиг.
Зеленому дворцу дивился мир,
Был во дворце устроен брачный пир:
Обвенчан ангел с пери молодой,
Слилась денница с утренней звездой!
Владыка вскоре в лучший мир ушел.
Счастливец унаследовал престол.
Саад в Зеленом восседал дворце,
В зеленом одеянье и венце.
В вазиры взял он правдолюбцев двух,
К словам народа он склонял свой слух.
Его кумир, красив, розоволик,
Зеленый шелк носил, как базилик.
Весельем ясным душу просветлив,
Был новый шах к народу справедлив,
Была его лицом озарена
Веселая, зеленая страна.
Зеленый цвет нам всех цветов милей:
Он — цвет весны, садов, лугов, полей.
Когда несчастья змеи к нам вползут,
Их ослепит зеленый изумруд.
Красавца молодого берегись:
Он строен, как зеленый кипарис.
Недаром Хызр в зеленое одет:
Бессмертье нам дарит зеленый цвет!»
Когда рассказчик смолк, сказал Бахрам:
«О чужеземец! Ты поведай нам:
Где корень твой, начало бытия?»
Ответил странник: «Родина моя —
Град Шахрисабз, а предок мой — Саад.
На мне зеленый видишь ты наряд».
Бахрам, узнав, кто этот человек,
Его градоправителем нарек;
И сразу, позаботившись о нем,
В ту ночь заснул он беззаботным сном.
Чуть алебастром выбелил восток
День пятницы, высокий сей чертог, —
Фигляр небес во весь явился рост,
В широкий рот бросая зерна звезд.
Поднялся жар горячечный небес,
А в это время в прачечной небес
Отмыла прачка утреннюю ткань,
Наполнив пеной солнечной лохань.
Одетый в белый шелк, явился шах,
И потонул весь мир в его лучах.
Шах солнцем светозарным засиял,
Под куполом камфарным засиял.
Царевна, облачившись в белый шелк,
Была готова свой исполнить долг.
В одеждах белых были гости там.
Белел престол слоновой кости там.
Уселся на престоле шах Бахрам,
Вновь обратив свое лицо к пирам.
Красавица, в Китае рождена,
В китайский кубок налила вина.
Хоть кубок сей — китайским кубком был,
Но, сделан из фарфора, хрупким был.
До вечера Бахрам с царевной пил,
Он более, чем каждодневно, пил!
Когда погасло солнце ввечеру,
Когда рассыпал месяц камфару,
Бахрам, заснуть возжаждав до утра,
Лег под навесом белого шатра.
Среди гостей присутствовал мудрец,
Скиталец, мыслей-жемчугов ларец.
Он, сидя пред веревками шатра,
Молиться стал, исполненный добра:
«О шах! Пусть превратится в твой навес
Необозримый древний свод небес,
Пусть раем станет белый твой дворец!»
Молитву сотворив, сказал мудрец:
«Я много видел на своем веку,
Из виденного сказку извлеку.
В трудах дорога пройдена моя,
Страна Хорезма — родина моя.
Дорога музыки — русло мое,
Игра на сазе — ремесло мое.
Постиг я, музыку держа в руках,
Науку о ритмических кругах.[7]
Со мной в моем высоком ремесле
Никто не в силах спорить на земле.
Я обучаю музыке людей,
Верней, учитель я учителей.
Вот слух промчался из конца в конец:
Китай покинув, к нам идет купец:
Сокровищам его потерян счет,
Невольница его — сердца влечет.
Хотя ходжа неслыханно богат,
Она красой богаче во сто крат.
При красоте, с ума сводящей мир,
Еще пленяет голосом кумир
И якобы игрою колдовской.
Хорезм, волнуясь, потерял покой,
Встречать купца весь город вышел вдруг,
Чтоб убедиться: справедлив ли слух?
Все оказалось правдою: купец,
Богобоязненности образец,
Владельцем был бессчетного добра.
Молился он от ночи до утра:
Он был подобен утренней заре
На маленьком молитвенном ковре.
Не менее, чем он, была знатна
Невольница его: свой род она
Вела от неба, гурии сродни, —
Ее владельца с ангелом сравни!
Рука его, как море, широка:
Жемчужиной владела та рука!
Ее лицо — как солнце, но оно
За облаком всегда затаено,
Нет, облаком одето камфары, —
То покрывало цвета камфары!
Все, что на ней, сияло белизной,
Красавица отвергла цвет иной.
Был слышен голос юный каждый день,
Она ласкала струны дважды в день,
За пологом налаживала чанг,
Рукою завораживала чанг,
Созвучен струнам был ее напев,
Пленялся весь Хорезм, оцепенев, —
Полдневною, полночною порой —
Волшебною восточною игрой!
Ее дворец весь день со всех сторон
Был толпами влюбленных осажден,
Но в дом никто еще не заглянул,
Никто поднять завесу не дерзнул,
Лишь каждый день, сраженный наповал,
В толпе влюбленных кто-то умирал.
Сердцами полновластно завладев,
Погибель приносил ее напев,
Но музыка так сладостна была,
Что и погибель радостна была.
Настраивала гурия струну —
Расстраивала гурия страну.
Смятенье очарованных сердец
Известным стало шаху наконец.
Хотя мечтал призвать он госпожу, —
Не мог унизить знатного ходжу.
Сменив наряд богатый на простой
(Любовь сближает шахов с нищетой),
Безумное желанье возымев
(Сильнее шахов девичий напев),
В толпу влюбленных скрытно он проник,
Посредниц к пери он послал в цветник,
В ее подруг посредниц превратил,
В служанок, в собеседниц превратил.
Вот их рассказ: душа чиста ее,
Красивей пенья красота ее…
Но шах прервал слова ее подруг:
Огнем любви он загорелся вдруг,
Желая луноликую познать,
Красу ее великую познать.
Он обезумел: он решил уже,
Что станет сыном знатному ходже,
Но цели не достиг он дорогой —
От богача пришел ответ такой:
«Ты ласковое слово произнес,
Раба ты возвеличил, превознес,
Пылинку ты возвысил до светил,
Нет, к небесам ты землю приобщил!
По сану я — скромнейшего скромней.
Достичь ли мне высоких степеней?
Но если бы ты этим пренебрег, —
Что пользы в том? Со мной враждует рок!
Узнай всю правду, обладатель благ:
Прекрасной пери ненавистен брак.
Она весь мир затмила красотой,
Никто не может стать ее четой.
Она тверда в решении своем:
Да будет воля шаха в остальном…»
Такой ответ покоя не принес,
Шах не жалел посулов и угроз,
Кричал, просил, бледнея и дрожа,
Но слов своих не изменял ходжа.
Тогда увидел шах: любовь сильна,
Владыкам не под силу с ней война,
Увидел шах: он должен будет пасть,
Когда не призовет на помощь власть!
Он приказал доставить во дворец
Игрушку, искушение сердец.
Исполнили придворные приказ,
Доставили красавицу тотчас.
В своем решенье ложном укреплен,
Мечтой о невозможном побежден,
Направился он радостно к луне.
Поняв его намеренья вполне,
Луна Чигиля в руки чанг взяла
И музыки расправила крыла,
И песня зазвенела струнам в лад, —
Как музыка, напев ее крылат!
Был шах в небытие перенесен,
Напев на всех навеял сладкий сон,
Все во дворце заснули, онемев,
Всех памяти лишил ее напев.
Игрой заворожив дворец немой,
Волшебница направилась домой.
Проснулся шах, проснулся шахский двор,
Шах вздрогнул, бросил изумленный взор.
Он приказал колдунью привезти,
Красавицу, шалунью привезти!
Вновь зазвенел чарующий напев.
Вновь шах его заслушался, замлев.
На всех внезапно сон свершил набег, —
Ушла домой рожденная для нег.
Влюбленный шах пытался вновь и вновь
Завоевать красавицы любовь,
Но гурия боролась всякий раз,
И помогал ей голос всякий раз!
Шах понял, что могуч ее напев,
Смирился, пораженье потерпев.
И вот пришел к ходже смиренный шах
С открытою приятностью в речах.
Устроив пир, он рядом сел с купцом,
Ласкал его и называл отцом.
Пред покрывалом белым он стоял
И языком несмелым умолял
Простить его: хотя он шахом был,
Но для красавицы он прахом был!
Он клялся, что, пленен ее игрой,
Ее считает дочерью, сестрой.
Она, не видя в нем отныне зла,
Его отцом в смущенье назвала
И зажила среди цветущих роз,
Отныне шахских не страшась угроз.
В укромной келье, сделанной купцом,
Беседовала гурия с творцом.
Хотя светлей зари ее атлас,
Струились звезды слез из ясных глаз.
Бела ее одежда — для кого?
Светла ее надежда — на кого?
О ком она мечтает по ночам?
Зачем она рыдает по ночам?
О чем скорбит невинная душа?
Не знает ни единая душа!
Настанет утро — песня вновь звенит,
Рыдает песня сладкая навзрыд.
Настанет утро — вновь звенит струна,
Тоска разлуки в музыке слышна.
И плачут все, когда она поет,
И за живое музыка берет.
До вечера молитвой занята
Ее благочестивая мечта.
Настанет вечер — снова плач людей,
И снова шах среди ее гостей.
Внимал незримой музыкантше он,
Сознание терял всех раньше он.
Таким высоким гостем дорожа,
Его отменно потчевал ходжа,
На все лады заботу выражал,
Властителя с почетом провожал.
Из-за пиров под кровлею ходжи
Расстроилась торговля у ходжи!..
В Хорезме я давно пленил сердца
Искусством музыканта и певца.
В напевах руда проходил мой день,
Как песнь, как чудо, проходил мой день.
Дастаны распевал я на пирах,
Но музыкантшей был растоптан в прах.
Дошел волшебный голос до меня,
И сердце раскололось у меня.
Народ превозносил ее напев,
К моим чудесным звукам охладев.
Вся жизнь мне опостылела тогда,
А сердце обессилело тогда.
Но я придумал, как беде помочь,
Как отогнать печаль и смуту прочь.
Я камфары так много проглотил,
Что сердца жар навеки остудил.
От силы я избавился мужской,
В девический направился покой.
Сидел в гареме радостный богач,
Когда внезапно испустил я плач.
В ответ услышал я слова ходжи
И гурии невидимой: «Скажи,
О чем твой стон? В каком горишь огне?»
А я: «От вас была обида мне».
Они: «Клевещешь, странник, ты сейчас,
Обида не в обычае у нас.
Быть может, нас ты принял за других?
Но впредь ошибок избегай таких!»
Сказал: «Я все же на своем стою:
Должны вы повесть выслушать мою,
Вознаградить меня за правоту
Или прогнать меня за клевету».
«Начни», — сказали. Помолясь сперва,
Неспешно я повел свои слова.
Смеясь, мою признали правоту
Купец в чалме и кипарис в цвету,
Пока не стал я говорить ясней,
Как я мечтаю до скончанья дней
Жить возле пери, во дворце ее,
Найти наставницу в лице ее,
Все дни свои дастанам посвятить,
Занятьям неустанным посвятить;
Пусть долговечен буду я, как Нух, —
Ее напевы мой насытят дух,
А если пищу мне подаст ходжа,
Я буду счастлив, двум друзьям служа.
Хотя сейчас безволен я и слаб,
Я царь в своем искусстве, а не раб!
Учитель я средь хижин и дворцов,
Хорезмских музыкантов и певцов.
Я в музыке сильней, чем Афлатун,[8]
Но все же мастер я, а не колдун.
Постиг я суть искусства своего,
Но пери нам явила волшебство:
Где слыхано, чтоб, сладко зазвенев,
И сеял смерть, и жизнь творил напев?
Так сетовал и жаловался я,
Так плакал и печаловался я.
И, тронув эти мягкие сердца,
Услышал слово ласки от купца:
«Когда ты нам свой разум посвятишь,
Когда наш слух ты сазом усладишь,
Я позабочусь о твоей судьбе.
Но как мечту осуществить тебе —
Стать гурии наперсником, слугой?
Как может муж войти в ее покой?»
А я: «Себя избавьте от забот:
Во мне мужская сила не живет.
Я был игрою пери посрамлен,
Как жалкий подмастерье побежден.
Готовя для содружества себя,
Навек лишил я мужества себя.
Из-за ее пленительной игры
Так много проглотил я камфары,
Что охладил навек я плоть свою;
Пред пологом камфарным я стою:
Пусть ваш слуга, Кафуром наречен,
От полога не будет отлучен!»
Их поразил мой искренний рассказ.
Они осмотр устроили тотчас
И, убедившись в том, что был я прав,
Мне выказали дружбу, приласкав.
Вступил в девичий заповедник я.
Служил ходже как собеседник я.
Пред пологом — советник я ходжи,
За пологом — наперсник госпожи,
И так как нас сближало ремесло,
То смысл существованье обрело.
Когда я, жизни смысл уразумев,
Стал вслушиваться в сладостный напев,
Его тоски я глубину постиг;
Был голосом влюбленной — каждый стих,
Унылы были звуки в тех стихах,
Звенела боль разлуки в тех стихах.
Людей вдали, со мной наедине,
Красавица рыдала в тишине…
Она явила мне свой добрый нрав,
Меня своим наперсником избрав,
До полночи беседуя со мной,
Томления не ведая со мной,
А если сон чуждался госпожи.
Она просила: «Сказку расскажи».
Я сказкою спешил ее развлечь,
И если шла о расставанье речь,
Блестели слезы на ее глазах,
Открылась правда мне в ее слезах:
Красавица в кого-то влюблена,
Разлукой отуманена луна,
В нее вонзила тернии любовь,
Да так, что в голос просочилась кровь.
Она бы в муках изошла, сгорев,
Когда б не превратила боль в напев.
Я слушал звуки: в них любовь жива, —
Услышать я хотел ее слова.
И вот, когда я не внимал игре,
Я говорил о зле и о добре,
Я речи заводил издалека,
Желая откровенности, пока
Не стал послушен мне ее огонь,
Ее гордыни норовистый конь.
Тут я сказал: «О светлая звезда,
Пусть горя ты не узришь никогда!
Осмелюсь ли тебе задать вопрос?»
Сказала: «Задавай». Я произнес:
«Давно, твой прах, у ног твоих лежу.
Давно, твой раб, я за тобой слежу.
Веселье, скука и печаль — равно
В твоих очах открыты мне давно.
Ты сердцем сердцу моему близка.
Я понял, что гнетет тебя тоска.
Ее причина названа давно:
Нам скрыть разлуки язву не дано.
Недаром ты, мучений не стерпев,
Переложила боль свою в напев!
Ты превратила в песню горький плач, —
Но от меня своей тоски не прячь.
Ты сердце сердцу близкому излей,
Быть может, сердцу станет веселей,
Быть может, исцелю я твой недуг,
Я тайну сохраню, как верный друг».
Подумав, так ответствовала мне
Красавица, подобная луне:
«Лишь правда украшает наш язык.
Ты к правде близок. В тайну ты проник.
Остановись и друга пожалей,
Не требуй откровенности моей,
Не то страданья увеличишь ты,
Тьму бедствий на меня накличешь ты!
Поведать, как терзаюсь я, любя?
Не вижу в этом пользы для тебя!
Одно из двух: иль с нами ты живи,
Иль прекрати расспросы о любви.
Узнаешь тайну, — голову склоня,
Покинуть должен будешь ты меня.
От друга ничего не утаю,
Но друг покинет родину свою».
Был приговор красавицы суров.
В расстройство я пришел от этих слов.
По целым дням задумчив и уныл,
По городу без цели я бродил.
Я мучился, хотелось мне проклясть
Изгнанья страх и любопытства страсть,
Но жаждал я в ее проникнуть песнь,
Но жаждал я понять ее болезнь.
Терзаясь так меж двух ужасных зол,
Войдя в гарем, я разговор повел:
«Я изнемог, печален и угрюм,
Одна лишь дума заняла мой ум,
Узнать хочу я про твою беду,
Потом, куда прикажешь ты, пойду».
Воскликнула прекрасная луна:
«Твоим решеньем я удивлена,
Решенья твоего я не пойму:
Удар себе наносишь самому.
Клянись мне, что исполнишь мой приказ,
Покинешь город, выслушав рассказ».
Прогнал я облако с ее чела,
Поклявшись ей, и пери начала:
«Участье принял ты в моей судьбе.
Моей печали не понять тебе,
Когда я повесть про свою беду
С начала самого не поведу.
Наперсник сострадательный, узнай:
Моя страна и колыбель — Китай.
Забот не зная, в счастье я росла,
Когда война мой город потрясла.
Два хана меж собой вступили в бой,
Я стала одному из них рабой.
Вошла ребенком я в его гарем,
Познала я невольничий ярем.
У хана приобрел меня ходжа,
Мной, как восточным солнцем, дорожа.
Пусть дорога отныне я была,
Я все-таки рабынею была,
Его рабыней купленной, хотя
Меня ценил он, как свое дитя,
Затем, что не дал бог ему детей.
И вскоре оказалось, что людей
Моя пленяет сладостная речь,
Что может голос мой сердца привлечь,
Что ясно я стихи произношу,
Что музыкой я радость приношу.
Великодушный, щедрый, как отец,
Певцов ко мне стал приглашать купец,
Прославленных, великих знатоков,
Слагателей напевов и стихов.
Прошли недели, месяцы, года
Учения, усердного труда, —
Дало плоды терпение мое,
Чудесным стало пение мое.
Достигла я такого мастерства,
Звенели сладко так мои слова,
Что я дарила песней благодать,
Смеяться заставляла и рыдать,
Стихом искусным оживляла всех,
Напевом грустным усыпляла всех.
Мой чанг казался чудом волшебства,
О голосе моем пошла молва,
Молва росла все громче и сильней
О несравненной красоте моей.
Когда известно стало старикам
И юношам — искусства знатокам —
О том, что есть певица у купца,
Пленяющая голосом сердца,
Стремясь к рабыне, полные тоски,
Все богачи открыли сундуки,
Отвешивали богачи добро,
Каменья, золото и серебро,
Чтоб у ходжи меня приобрести.
А тот, поняв, что я в такой чести,
Что покупателей моих число
Чем далее, тем более росло,
Что превратился весь Китай в базар, —
Стал цену набивать на свой товар…
Художнику творения сродни,
В Китае жил художник в эти дни
По имени Мани; со мной знаком,
Он облик мой изобразил тайком,
Отправился в дорогу поскорей,
Рисунок показал царю царей.
То был властитель мира, шаханшах,
Правители пред ним склонялись в прах.
Увидев образ мой на полотне,
Такой он страстью воспылал ко мне,
Что приказал, не тратя лишних слов,
В Китай отправить сведущих послов,
Невольницу добыть любой ценой,
Пожертвовать китайскою казной.
Хотя хакан хотел меня купить,
Он вынужден был шаху уступить,
Вручив ходже всего Китая дань,
Красе великой отдавая дань,
Невольницу, премудры и светлы,
Царю царей доставили послы.
Жемчужина попала в океан,
И наградил своих послов султан,
Вознес превыше всех людей земли:
Они возлюбленную привезли!
Моим жилищем шахский стал цветник.
Когда хотя бы на единый миг
Шах разлучиться должен был со мной,
Ему пустым казался мир земной.
Была прибытком жизни для него
Моя краса. Нет, более того:
Когда меня, влюбленный, он познал,
Бессмертия законы он познал!
Он время проводил в степях, в горах,
В охоте, в шумных игрищах, в пирах.
Гнал скакуна к степным тюльпанам он,
Онагров уловлял арканом он.
Он гнал онагра перед скакуном,
Онагра мясо запивал вином,
Онагра кровью землю орошал, —
Тюльпанами он землю украшал.
Но увлечен ли ловлею он был,
Или под мирной кровлею он был,
Не знал он наслажденья без меня,
Не мог прожить мгновенья без меня.
В нем таяла отвага без меня,
Не делал он и шага без меня,
При мне сгорал и тлел, как пепел, он,
И если я не пела — нé пил он.
Когда затягивала я напев,
Стонал он, от восторга ослабев.
Уединяясь и гуляя с ним,
В степи ли, в городе — всегда я с ним,
Во время ли прогулок, во дворце ль, —
Он постигал во мне всей жизни цель.
О подданных забыл он, о стране,
Все дни и ночи посвящал он мне.
Ко мне пришла нечаянно любовь.
Любовью отвечая на любовь,
Его желала с силою такой,
Что волю я теряла и покой!
Горел огонь томленья с двух сторон,
Был тем огнем небесный свод зажжен.
Послала мне счастливая судьба
Не шаха, а покорного раба.
А я, хотя рабынею была,
Обольщена гордынею была.
Я видела, что шах — мой верный раб,
И становился мой рассудок слаб.
Я — скверная, ковер мой черным был,[9]
А гордый разговор мой вздорным был.
Случилось так, что шах, надев колчан,
Охотился. Он весел был и пьян.
Я — рядом с ним, с поклонником вина,
От самопоклонения пьяна.
Сказал он: «Вот проворная газель, —
Как ты укажешь, попаду я в цель».
А я в ответ: «Мой ловчий удалой,
Передних две ноги ты сшей стрелой,
А горло перережь издалека».
Хотя была задача нелегка,
Он, как велела я, убил газель:
Таких удач не видел мир досель!
Мне поклониться бы стреле его,
Превознести бы в похвале его,
А я, прищурив горделивый взор,
Такой тогда сболтнула глупый вздор,
Что если б слугам отдал он приказ
На сто кусков рассечь меня тотчас,
То мягким был бы этот приговор!
Хотя и оскорбил его мой вздор,
Хотя была мне воздаяньем — смерть,
Вернее, слабым наказаньем — смерть,
Моим ответом гордым раздражен,
Не обнажил он гнева из ножон,
Но приказал, чтобы его рабы,
Меня связав, на произвол судьбы
Меня в пустынной бросили глуши,
Где человечьей не было души.
Когда прошли две ночи и два дня,
Ходжа, что звал дитятею меня,
Но продал, потеряв со мною связь,
Затосковал, продажи устыдясь.
Он против горя устоять не мог,
С разлукой споря, устоять не мог,
Китай покинув, он пустился в путь,
Чтоб снова на дитя свое взглянуть.
Его дорога вдоль пустыни шла,
Над нею ночь сгущалась, как смола,
Когда, в двух переходах от меня,
Приемный мой отец погнал коня,
Шарахнувшись, сошел с дороги конь,
С дороги сбился быстроногий конь.
В сопровождении немногих слуг
Ходжа в пустыне заблудился вдруг,
Но, видно, счастья ночь вела его
В ту сторону, где дочь была его.
Вдруг сон свалил усталого ходжу:
Когда б он знал, что близко я лежу!
Он спешился и на траве заснул.
Когда в глаза ему рассвет блеснул,
Широкий путь увидел рядом он.
Случайно степь окинул взглядом он.
В степи чернело что-то в ста шагах,
Лежало тело чье-то в ста шагах.
То человек? Зачем же он в ярме?
Откуда он? В своем ли он уме?
Тут любопытство увлекло ходжу.
Сказал: «Давай-ка сам я погляжу».
Увидел: женщину песок занес,
Она — в аркане собственных волос,
Она бессильна, а кругом — песок,
Вонзился в тело каждый волосок.
Она жива? Или уже мертва?
Ее от пут освободив едва,
Он понял: брови и глаза — мои,
И стан и длинная коса — мои,
На подбородке впадина — моя,
Но кем душа украдена моя?
Зачем кровинки нету на лице?
Такую боль я вызвала в отце,
Так был он этой встречей потрясен,
Что вопрошал себя: то явь иль сон?
Не понимал он — трезв он или пьян,
Но вот пришел в пустыню караван.
Направился к нему один из слуг,
Привел моих служанок и подруг.
Узнав меня, — в петле, в песке, в пыли, —
Протяжный плач подруги завели,
Рыдая, лица раздирали в кровь,
Одежды рвали и рыдали вновь.
Ходжа премудрый, пьяный без вина,
В смятении стонал, как дивона.
Увидев солнца моего закат,
Не мог понять он, жалостью объят:
Кто в прах меня втоптал? Какое зло?
Как солнце ясных дней моих зашло?
Омыв меня чистейшей влагой глаз,
Как в саван, завернув меня в атлас,
Он амброй пропитал его густой,
И камфарой, и розовой водой.
Припали женщины к моим ногам
И растирали их, прижав к щекам.
Дошла ко мне как бы спросонья весть,
Почуяла я благовонья весть,
Услышала я нежные слова,
Глаза открыла я, полужива,
Кого же я увидела вокруг?
Друзей печальных, плачущих подруг!
Сказала я: «Стоять не надо здесь,
Долина гибельного ада здесь,
Уйдем скорее, говорю я вам».
Ходжа тотчас же внял моим словам.
Нестройные заплакали звонки,
Пустыни мы оставили пески,
Покой в носилках вновь я обрела,
Все признаки здоровья обрела.
Вдыхала амбру я, пила щербет,—
Избавилась от пережитых бед.
Родник на третьи сутки засверкал.
У родника мы сделали привал.
Велел ходжа разбить у чистых вод
Шатер нарядный, шелковый намет.
Я на высоком ложе улеглась,
Пришел ходжа послушать мой рассказ.
И явным стал рассказ мой для отца, —
От самого начала до конца.
Когда меня он выслушал, на миг
Он старой головой своей поник.
Поняв мою жестокую судьбу,
Вознес он вседержителю мольбу,
Который дочь его от смерти спас.
«В чем благо, — он спросил, — теперь для нас?»
А я: «Меня прогнал в пустыню шах,
Свой гнев обрушил на рабыню шах,
И путами я связана была,
Но мало я наказана была.
Я спасена по милости творца.
Скажи: кто убивает мертвеца?
Вернуться в шахский я должна чертог,
Своим лицом коснуться шахских ног!
Увы, прощенья нет моей вине,
Была достойна смерти я вполне,
Но если бог мне дал вторую жизнь,
Я шаху вновь свою дарую жизнь.
Меня ведет к нему жестокий стыд.
Пусть вновь меня накажет иль простит.
Я — грешница, но шах — защита мне,
К прощению тропа открыта мне.
Моя гордыня — враг заклятый мой,
Его величие — ходатай мой.
Раскаянье прочтя в моих очах,
Помилует меня высокий шах».
Так я сказала. Но вскричал ходжа,
От страшного волнения дрожа:
«Опомнись! Что рекут твои уста?
Иль трапезою жизни ты сыта?
Как можно к шаху возвратиться вновь,
Когда он щедро проливает кровь
За слово, сказанное невпопад?
В своем ли ты уме? Тебя казнят!
Огню подобен шах. Его не тронь:
Коснешься — обожжет тебя огонь.
Он пламя гнева широко простер.
Кто добровольно всходит на костер?
Поглубже скроем от него следы:
От шаха дальше — дальше от беды.
А если шах в отчаянье придет,
Свою вину в раскаянье поймет, —
Молва о том, что гнев его погас,
Докатится, бесспорно, и до нас,
Тогда легко дорогу мы найдем,
К раскаявшемуся вернемся в дом.
Пока же он упорствует во зле,
Спасение найдем в чужой земле».
Ходжа замолк. Совет его благой
Одобрили хороший и плохой.
Найти приют решил наш караван
В какой-нибудь из чужедальних стран.
Поскольку был от нас далек Хорезм,
То взоры всех людей привлек Хорезм.
С любимым я рассталась навсегда,
От жизни отказалась навсегда.
К чему мне утешения слова?
Разлука — это смерть, и я мертва.
Мертвец в сырой могиле равен мне,
Вот почему подходит саван мне.
Я саваном теперь облачена:
С возлюбленным своим разлучена.
Друзья считали, что предупредят
Больного тела моего распад,
И сыпали на саван камфару:
Мой саван стал подобен серебру.
Достигли мы Хорезма наконец,
В Хорезме водворился мой отец…
Далек ты мне иль близок, но поверь,
Что знаешь ты всю жизнь мою теперь.
Был здешний шах из-за меня в тоске,
Но шаху отказала я в руке.
Не прихоть сердца — ты теперь поймешь —
Была моя спасительная ложь:
Причина у меня одна была, —
Возлюбленному я верна была!»
Когда я грустный выслушал рассказ,
Простился я с красавицей тотчас.
С тех пор брожу из царства в царство я,
С тех пор терплю судьбы коварство я.
Царя не одного я посетил,
Но в тайну никого не посвятил,
Пока не встретил с лаской ты меня,
Сказав: «Порадуй сказкой ты меня».
Придумать лучшей сказки я не мог.
К тому ж камфарноцветный твой чертог
Напомнил ту, кто плачет и скорбит,
Кто — жертва незаслуженных обид,
Кто гаснет в белом саване своем,
Разлучена с возлюбленным царем,
Кто саван осыпает камфарой,
Кто мир пленяет дивною игрой,
Являя людям волшебство свое,
Кому подходит лишь одно жилье,
О шах, — камфарноцветный твой дворец!»
На этом сказки наступил конец.
То оживал, то умирал Бахрам,
Пока внимал сказителя словам,
В глазах то мрачно было, то светло:
Известье об исчезнувшей пришло!
Терзаясь, и пылая, и скорбя,
От крика он удерживал себя,
Боясь: поймет рассказчик этот крик,
И свой рассказ прервет он в тот же миг:
Тогда от боли задохнется шах,
К сознанью боле не вернется шах…
Но вот закончил странник свой рассказ,
И вопль Бахрама весь дворец потряс.
Призвал к себе сказителя Бахрам,
И волю дал он радостным слезам,
И вестника прижал к груди своей!
Покинул шаха жизни соловей,
Сознание покинуло его,
Казалось, жизнь отринула его…
Как воду жизни, странник весть принес,
Но превратилась весть в источник слез.
Что сделает, придя в сознанье вновь,
Тот, чье сознанье унесла любовь?
Миниатюра из рукописи XV в.
«Семь планет»
Когда в ту ночь услышал шах слова
О том, что луноликая жива,
Он до утра не мог прийти в себя,
Сознание внезапно погубя.
В незримом он пылании страдал,
Как жертва при заклании страдал,
То падал, то вставал, чтоб вновь упасть,
Влюбленного обугливала страсть;
Когда ж нетерпеливая любовь
Ему рассудок возвращала вновь,
Приказывал он путнику тотчас
Чудоподобный повторить рассказ.
Он был печален, как ночная тень,
Пока не рассмеялся ясный день.
Дыханье утра обожгло простор,
Оно раздуло солнечный костер,
И, благодарный солнечным лучам,
Возжаждал шах сближенья с Диларам:
Украсила красавица Хорезм, —
Теперь он сам отправится в Хорезм,
Направит он в ту сторону стопы!
Но государства мудрые столпы
Сказали: «Шах! Ты потерял покой,
Недуг разлуки овладел тобой,
Хотя болезнь губительна весьма, —
Дорога утомительна весьма.
Страшна любовь — владычица твоя,
И слабость увеличится твоя.
Подумай о своей державе, шах:
Столицу покидать не вправе шах!»
За ними вслед, усердием горя,
Врачи старались убедить царя:
«Внемли нам, царь, и милость нам яви.
В тебе видны все признаки любви,
Но вспомни признаки горы: покой,
Степенное величье, связь с землей.
Гора всегда недвижна и тверда,
Лишь двинется в день Страшного суда.
Пребудь горой степенной, шах Бахрам,
Не разрушай вселенной, шах Бахрам!
Расстанешься ты с давнею тоской,
Но в ожиданье сердце успокой».
Их выслушав, Бахрам в конце концов
Назначил добродетельных гонцов,
Подобных ангелам по чистоте,
Соперников небес по быстроте.
Велел он два послания вручить,
Страницы покаяния вручить:
Письмо к ходже — моления полно,
Письмо к луне — смущения полно.
Ходже такие написал слова:
«Дошла до слуха нашего молва,
Что вы в Хорезме обрели приют:
Мы разрешенье обрели от пут,
Услышав эту весть. Мы просим вас:
В обратный путь пуститесь к нам тотчас,
В движенье пребывайте день и ночь,
Сон от очей, как мы, гоните прочь».
Красавице писал он кровью слез,
Всего себя он в жертву ей принес:
«С тобою разлучен, я ранен в грудь,
Так отправляйся поскорее в путь!
Я раб, я пленник твой. Приди ко мне,
Не то умру я по твоей вине.
Любимая, как жизнь ко мне приди,
Чтоб сердце билось у меня в груди.
Приди: с тобою встретиться спеша,
Уже летит к тебе моя душа.
Приди: уже струится кровь моя
Тебе навстречу, о любовь моя!
Приди: от мук освободи меня,
Верни мне душу, пощади меня!
Приди, как светоносная заря,
Лети, как пери, в облаках паря,
Разлуки не мечи в меня стрелу:
Хотя убийца я по ремеслу, —
Гляди, покорен я: на шее меч,
Я в саван поспешил себя облечь.[10]
Не думай, что к тебе я не пришел —
Любя, благоговея, не пришел —
Из-за излишней гордости своей
Или упрямой твердости своей.
О нет, недугу тела и души
Отсутствие мое ты припиши!
Я без тебя ничтожным стал, как раб.
Увы, я так беспомощен и слаб,
Что воду я не в силах пить: я пью
Не воду, мнится мне, а кровь свою.
Я пленник, — будь мне госпожой: приди!
Я болен телом и душой: приди!
Я мертв, — ты смерть сумеешь побороть,
Ты жизнь вдохнешь в безжизненную плоть.
Приди ко мне, как солнце поутру.
Приди: промедлишь ты — и я умру».
Царю Хорезма он послал приказ:
«Купцу вручи ты деньги и припас,
Потребный для дороги по степи,
В обратный путь купца поторопи».
Как ветер, вестники пустились вскачь,
И, превращая каждый шаг в ягач,
К хорезмскому примчались рубежу,
И, отыскав почтенного ходжу,
Письмо ему, как ветер, принесли.
Он взял его, склонившись до земли.
Но поднялась до солнца голова,
Когда прочел он шахские слова.
Сияя, Диларам письмо прочла, —
Стал ярче солнца свет ее чела.
Хорезма шах призвал к себе ходжу,
Сказал: «Царю я с радостью служу».
Купцу вручил он деньги из казны,
И были сборы все завершены,
И в сторону Бахрамова дворца
Пошел счастливый караван купца.
Без отдыха он двигался вперед,
И вот один остался переход.
Великим нетерпеньем обуян,
Решил Бахрам пуститься на обман.
Едва настала ночь, дворец заснул, —
Он бдительность придворных обманул
И поскакал навстречу Диларам, —
Скажи: навстречу солнечным лучам.
А караван проделал трудный путь,
И странники решили отдохнуть:
Им сон смежил усталые глаза,
Замолкли каравана голоса.
Ко сну склонилась равная заре
В разбитом около ручья шатре:
Желала отдохнуть царица роз.
На берегу чинар высокий рос,
Пещерою казалось в нем дупло,
Его огнями молний обожгло,
Был ствол его глубоко рассечен:
Так душу рассекает страстный стон…
Шах крепко привязал коня к скале,
Сам спрятался в чинаровом дупле.
Внезапно он обрел себя в раю,
В шатре увидев гурию свою.
От глаз ее умчался легкий сон.
Творцу смиренный сотворив поклон,
Дыханием любви опалена,
Волшебный чанг настроила она
И стала петь, к чинару прислонясь,
К возлюбленному сердцем устремясь.
Ее певучий и протяжный стон
Был горестью разлуки напоен.
Вздыхая, пери подошла к ручью,
И там переложила в песнь свою
Она слова Бахрамова письма,
А музыку подобрала сама.
Как льются слезы, песнь ее лилась,
О нет, не слезы — кровь текла из глаз.
Внимая ей, все замерло вокруг,
Вонзался в сердце шаха каждый звук.
Луна, в любовном пламени сгорев,
Заговорила звонко, нараспев:
«О трудный путь, как долог ты, увы!
О зной! Навис, как полог ты, увы!
Я так слаба, а жар степной горяч,
Увы, мне больше не под силу плач!
Меня смертельно ранила тоска,
Мне кажется, что смерть моя близка.
О небо, нет, не склонно ты к добру!
О низкое, ужели я умру,
Желанного я не увижу дня,
Когда любимый мой призвал меня?
К его ушам слова мои направь,
К его ногам глаза мои доставь,
С любимым близость — вот отрада мне,
А радости другой не надо мне!»
Бахраму в грудь напев ее проник.
Шах разорвал, рыдая, воротник,
Его дыханья огненного жар
Траву обжег и опалил чинар.
В беспамятстве Бахрам упал к ногам
Своей огненноокой Диларам:
Так падает, прижав к груди ладонь,
Огнепоклонник, увидав огонь,
На пери так взирает дивона!
И пери, встречей той поражена,
Упала, онемев, к его ногам.
Смотрите же: лежит без чувств Бахрам,
Он распростерт, она у ног царя,
Он — тень всевышнего, она — заря.
Когда аллаха тень легла на луг,
Заря спустилась к этой тени вдруг.
Она и он повержены во прах:
Она без чувств, и без сознанья шах.
Смотрите же: тоске пришел конец…
Диковинны дела твои, творец!
Но вот заря расправила крыла,
Двух любящих в беспамятстве нашла,
Открыло утро свой камфарный клад,
Над шахом белый разостлав халат.
Проснувшихся людей объял испуг:
С подругой рядом оказался друг!
Их встречей был обрадован купец:
Слетела птица счастья наконец!
Он от влюбленных отогнал людей,
Велел завесу принести скорей.
Камфарноцветным было полотно:
Как облако камфарное, оно
Чету сокрыло от людей вдали.
Когда в себя влюбленные пришли,
Сказал своей красавице Бахрам…
Но что сказал — того не знаю сам,
Не только человек, — и ветерок
Не смел шатра переступить порог!
Итак, достиг желанного Бахрам.
Примчалась свита по его следам.
Вернулись к шаху сила, счастье, смех,
Веселье шаха оживило всех.
Бахрам вручил купцу вазира власть,
И потерял купец к наживе страсть.
И вот растаял утренний туман,
Отправился в столицу караван.
Когда вернулся в город шах Бахрам,
Он вновь предался играм и пирам.
Болезни прежней не страшась угроз,
Он пил вино, вдыхая запах роз,
Все дни недели беспечальный шах
Стал проводить в своих семи дворцах,
Внимать луноподобным, как в раю,
Лаская луноликую свою:
Пусть много есть красавиц для утех,
Одна — любимей и желанней всех.
Дворцы менялись — и менялся цвет…
Так несколько прошло веселых лет.
«Во здравье!» — так он клики возносил.
К небесному владыке возносил.
Но всякому дыханью есть предел.
«Во здравье!» — раз он крикнуть не успел,
И небо, потонувшее во мгле,
Царю могилу вырыло в земле…
Увы, не диво сей короткий век:
Сто поколений царствуй человек,
Владыкою слыви семи чудес,
Под куполом живи семи небес,
Бахрам небес будь часовым его, — [11]
Нельзя назвать вечно живым его:
И он, увы, уйдет в конце концов,
В могилу не возьмет своих дворцов…
Бахрама завершилось бытие:
Он завершил желание свое.
Когда, веселья окружен людьми,
Он пил вино во всех дворцах, в семи,
Все дни и ночи посвятив пирам, —
Сопутствовала шаху Диларам,
Слова ее звенели для него, —
Все песни, все газели — для него!
Когда в стенах скучал он четырех,
Он для охоты покидал чертог,
А рядом с ним подобная луне
Протяжно пела на лихом коне.
Она дарила жизнь своим лицом,
Она была и кравчим и певцом;
Для пира — украшением была,
Для сердца — утешением была;
Труд и молитву с ней делил Бахрам,
Пир и ловитву с ней делил Бахрам…
Случилось, что устроил царь царей
Широкую облаву на зверей.
Он, мнилось, обложил небесный свод,
Где, как звездам, зверям терялся счет.
Напрасно зверь, чтоб убежать отсель,
Выискивал хоть маленькую щель!
Вот, выгнав дичь на неоглядный луг,
Загонщики образовали круг, —
Со всех сторон на зверя всех родов
Они в пятнадцать двинулись рядов.
Вот круг до трех был сужен ягачей.
Охота сразу стала горячей.
Смешались рев зверей и ловчих клич,
Убитая и раненая дичь.
В цветник тюльпанов превратился луг,
Кровь разлилась потоками вокруг.
Куда ни глянь — полно кровавых луж,
Полно звериных душ — бесплотных душ.
Несутся звери, высунув язык.
Везде — преграда, западня, тупик.
Несутся — тщетный труд: спасенья нет,
Куда ни побегут — спасенья нет:
Их обступают ловчие кругом,
Прямые стрелы падают дождем!
Так без вины погибли существа, —
Душа в любом из них была жива.
Убийцей должен зваться человек:
Он бытие живых существ пресек.
Он, ловчий, жаждой крови обуян:
Недаром и одет он, как тюльпан,
Недаром кровь, куда ни глянет глаз,
Арыками повсюду растеклась,
Широкий луг весь потонул в крови:
Кровопроводом ты его зови!
Кровь потекла, по желобам струясь,
А под землей была вода и грязь.
Земля была болотистой землей.
Ее покрыла пыль, за слоем слой.
Пригрело солнце, дал ей силу дождь,
И вот она травы познала мощь:
Росла в болотной сырости трава, —
Сумела мощно вырасти трава.
Земля ее вспоила изнутри:
Недаром стебли толщиной в кари.
Она с землей корнями скреплена.
От корня — и травинок прямизна!
Арыки крови ныне потекли,
Со всех сторон к средине потекли.
Взгляни-ка: вот блестит она, земля,
Но кровью вся пропитана земля,
С болотною водою кровь слилась,
Людей по пояс засосала грязь,
Взгляни-ка: тонут вихри-скакуны,
По щиколотку в грязь погружены.
Спустилось покрывало в этот миг, —
Нет, облако закрыло солнца лик,
И хлынул дождь на человечий скоп,
И вновь всемирный начался потоп!
Все видят: нет пощады их греху,
Вода — внизу, кругом и наверху!
Кругом, внизу и наверху — вода!
Будь даже, как кирпич, земля тверда,
Но если войско, загоняя дичь,
С усердием начнет тереть кирпич, —
Он сотрясется, как бы ни был тверд,
Охотниками в порошок истерт.
А тут еще по облику земли
Арыки жаркой крови потекли!
Становятся они мутней, грязней,
Копытами испуганных коней
Растоптан каждый, в слякоть превращен,
Тут начинает плакать небосклон,
Шумит, как море, гневная вода,
На землю низвергается беда.
Напрасно все бегут и стонут все:
Куда б ни побежали — тонут все!
Творили люди на охоте смерть,
Но сами обрели в болоте смерть.
Когда, облавы суживая круг,
Вся рать Бахрама съехалась на луг,
На землю бремя трудное легло.
Ей стало это бремя тяжело,
Она погнулась — медленно пошли
Сто тысяч седоков ко дну земли.
Тогда вокруг образовался ров,
А влага вырвалась из берегов.
Увидев: поле влагой залито,
Над влагою земля — как решето,
Все поняли: то — мертвая вода,
И все от жизни отреклись тогда.
Погибли и охотники и дичь,
Добыча и захватчики добыч.
Бахраму смерть принес его поход:
Так жертвой стал он собственных охот.
За дичью он велел скакать коню, —
Охота превратилась в западню.
Попали в западню джейран и лев, —
Погибли оба, разом смерть узрев.
Зверь кровожадный и пугливый зверь, —
Нет между ними разницы теперь.
Вот двое ловчих крепко обнялись,
Чтобы спастись, они в одно слились,
Но в миг, когда они слились в одно,
Трясина затянула их на дно.
Напал на всех, как муравейник, страх.
Как муравей, ушел под землю шах.
Его жилье отныне — яма, гур,
Недаром прозвище Бахрама — Гур!..
Сей низкий мир — прожорливый дракон,
И пожирать людей — его закон.
Десятка недостаточно: злодей
Глотает разом тысячи людей.
Принес он гибель многим существам,
Но вот что удивительно: Бахрам,
Великий и могущественный шах,
Повергший всех врагов своих во прах,
Над миром грозно утвердивший власть, —
И этот шах попал дракону в пасть,
Исчез он вместе с войском навсегда,
Ни вести не оставил, ни следа.
Сей мир дракон? Нет, хуже во сто крат, —
Там, где дракон, бывает часто клад:
Мы знаем, что чудовище — дракон,
Но бережет сокровище дракон.
А что мы видим в мире? Прах и твердь.
Сокровища здесь нет, здесь только смерть.
Отраду жизни человек постиг,
Но может умереть он каждый миг,
Довольно мига, чтоб дракону в пасть
Не только телу — и душе попасть.
Но нам не хватит многих, долгих лет,
Чтоб избавление найти от бед.
Священную познал я благодать:
Я завершил чудесную тетрадь.
Но сколько раз, пока старался я,
Смущался я и колебался я!
Едва страница начата была, —
Внезапно закусило удила
Мое проворноногое перо:
Седок рассказа гнал его хитро.
К благословенной цели я пошел.
Сказал бы: семь ущелий я прошел,
Сказал бы: семь стоянок в тех горах,
Где даже вихрь испытывает страх!
Немало перенес я на пути,
Но все же к цели я сумел дойти.
Тут мной сомненье овладело вновь.
Твердила мне душа: «Не прекословь.
Тот, кто рождает слабый, тусклый стих,
Не видит в нем изъянов никаких.
Стихи для вдохновенного творца —
Что собственные дети для отца,
А для отца — все дети хороши,
Частицы сердца, печени, души!
Уродливым ребенка назовешь, —
На взгляд отца он все-таки пригож!
Отвергнут всеми, дорог он отцу:
Так дорог стих отвергнутый певцу.
Как на свои созданья ни смотри, —
В сих девственницах утренней зари
Ошибки никогда ты не найдешь.
Найдя ее, ошибкой не сочтешь!
Как мне понять достоинства стиха?
Работа — хороша или плоха?
Известность обретут мои труды
Иль даром пропадут мои труды?
Ничто не тяжелее тех трудов,
Которые нам не дают плодов.
Когда нельзя стихом зажечь сердца, —
Бессмысленны все тяготы певца.
Увы, мы скажем о певце таком:
Стремился в храм, попал в питейный дом!
«Но как мне быть? — так я к себе взывал, —
Не надобно мне выспренних похвал, —
Я полагаться не хочу на лесть,
А сам себя судьей не вправе счесть».
Сомненье душу ранило насквозь,
Царапалось в ней что-то и скреблось.
И плакал и вздыхал я тяжело,
Но счастье в келью вдруг ко мне вошло,
Смеясь, сказало: «Что же ты грустишь?
Ты яхонты и жемчуга даришь,
Зачем же литься ты даешь слезам,
Подобным яхонтам и жемчугам?
Ты мне откроешь ли причину слез?»
Когда я счастья услыхал вопрос,
Светлее показалась келья мне,
Жить захотелось для веселья мне,
Во всем открыться разом я решил,
И сердце я рассказом облегчил.
Сказало счастье: «Мой сердечный друг,
Народа жемчуг и знаток наук!
Тревогой ты напрасно обуян.
Боишься, что в стихах найдут изъян?
Оставь кручину, сердце успокой,
Знай, что изъян — несовместим с тобой!
Кто медным блюдом назовет луну?
Поверят ли такому болтуну?
Пернатые летают существа,
Но разве все незрячи, как сова?
Когда увидят змеи изумруд,
Они ослепнут, — может быть, умрут,
Но тот же изумруд неоценим:
Он возвращает зрение слепым.
Вот запах розового цветника:
Он — язва для навозного жука,
Но посмотри-ка: тот же запах роз
Больному облегчение принес.
Творенья твоего звезда взошла, —
Что для нее ничтожества хула?
Пусть онемеет у того язык,
Кто постоянно порицать привык!..
Так о невежде говорит народ:
«Собака лает — караван идет!»
Пусть брань тебя не трогает ничуть.
О горестях своих теперь забудь.
Себя, как видно, ты не знаешь сам,
Не знаешь ты цены своим стихам.
Мысль твоего творенья глубока.
Зачем шумишь, бурлишь ты, как река?
Как море, будь безмолвен, величав!»
Такую речь нежданно услыхав,
Забыть былое горе я сумел,
Спокойным стать, как море, я сумел.
Когда-то бурно пенилось оно,
Жемчужин изумительных полно.
О, как они светились изнутри,
Играя блеском влаги и зари!
Жемчужинами нагружал
Вылавливал я их из пенных волн,
Нанизывал я их на нить стихов,
Но тайной скорби голос был таков:
Постигнут ли читатели мой стих
Так, как я сам его красу постиг?
Теперь ко мне пришло веселье вновь,
И осмотрел я ожерелье вновь,
И каждая жемчужина зажглась,
И увидал взыскательный мой глаз:
Хотя стихи нанизаны на нить,
Кой-где порядок надо изменить.
Пусть хороши жемчужины мои, —
Изъяны обнаружены мои.
Тогда стиха в порядок я привел,
Где нужно, перемены произвел,
Там — стих убавил, здесь — прибавил я,
Там — заменил, а здесь — поправил я,
Так стройности желанной я достиг,
И вот пришел к концу мой черновик.
Когда читатель, развернув тетрадь,
Начнет мои сказания читать,
И если, прелесть в них найдя сперва,
Захочет вдуматься в мои слова,
И если их с охотою прочтет
И только долю сотую поймет, —
То, если он умом и сердцем чист,
Одобрит он, похвалит каждый лист…
А тот, чье сердце грязно, темен ум,
Кто так далек от справедливых дум,
Что назовет стекляшкою сапфир, —
О правый боже, пусть вкусит он мир,
Ты ум его и сердце просвети,
Направь его по доброму пути…
Писец! В тебе я друга обрету,
Когда перу придашь ты остроту.
Я написал, а ты перепиши,
Пускай все буквы будут хороши,
Смотри не ошибись и невзначай
Расположенья точек не меняй.
За песней песню поведи пером,
Людьми помянут будешь ты добром.
Пусть будет труд отрадою твоей,
Достойною наградою твоей.
А если по небрежности, писец,
Ты спутаешь начало и конец,
А если из-за денег вступишь в спор,
Пусть ляжет вечный на тебя позор,
В твой черный глаз, колюче и остро,
Пусть, как в чернильницу, войдет перо,
Пусть будет черным, как письмо, твой лик
И, как перо, расщеплен твой язык!..
Я выбрал эту книгу среди книг,
В ней, как в стране, я семь дворцов воздвиг,
Семь гурий поселил в семи дворцах,
Любуясь ими, веселился шах,
Семь сказок он узнал семи земель —
Моих стихов единственную цель.
Я дал названье книге: «Семь планет», —
Пускай она теперь увидит свет.
Своих стихов я произвел подсчет:
Пять тысяч бейтов я повел в поход.
На них четыре месяца ушло, —
Вот дней труда примерное число.
Когда б своим я временем владел,
Когда б свободен был от прочих дел,
Своих стихов я завершил бы цель
На протяженье четырех недель.
Докучных дел обилие мое,
Из-за тебя бессилие мое!
Не потому ли я страдал и чах,
Что проходили дни в пустых речах,
В той смене лживых и правдивых слов,
От коих я давно бежать готов?
Я днем и ночью потерял покой,
И кажется мне ночь сплошной тоской,
Волнением дневным я утомлен,
Обилием людей ошеломлен.
Питание моей души — тоска,
И пища сердца моего горька.
Хотя меня обидел злобный рок,
Я книгу написал в короткий срок.
Быть может, стих мой вышел нехорош,
Но и плохим его не назовешь.
Сравнюсь ли я с великими людьми?
Индус Хосров, гянджинец Низами
(Ошибки их да зачеркнет аллах!)
Не помышляли о других делах,
Помимо говорения стихов,
Высокого творения стихов.
А я писал среди трудов и мук,
Досугу их не равен мой досуг.
Когда б моя звезда была светла,
Не молкла бы моим стихам хвала,
Пером я столько создал бы чудес,
Что даже своды светлые небес
Листами б нареклись моих стихов!
В такой короткий срок среди трудов,
Среди трудов в такой короткий срок
Я все же создал много тонких строк,
В короткий срок я нанизал стихи, —
Простительны моих стихов грехи…
Ну, Навои, пора кончать. Пойдем, —
Ты вправду оказался болтуном!
Мой труд! Начни в родной стране свой путь,
Народу моему желанным будь,
Чтобы могла сердца людей зажечь
Моя правдовзыскующая речь.
Да будут явны месяц, день и год
Сей книги завершенья: восемьсот
И восемьдесят девять, джумада
Вторая, пятница… Конец труда![12]
Иди, мое творение, в народ,
Пусть он в тебе святыню обретет,
Да будут всем стихи мои нужны,
Да будут с ними семь небес дружны,
Да будет их друзьями полон свет,
А покупателями — семь планет.