Алишер Навои
Лейли и Меджнун
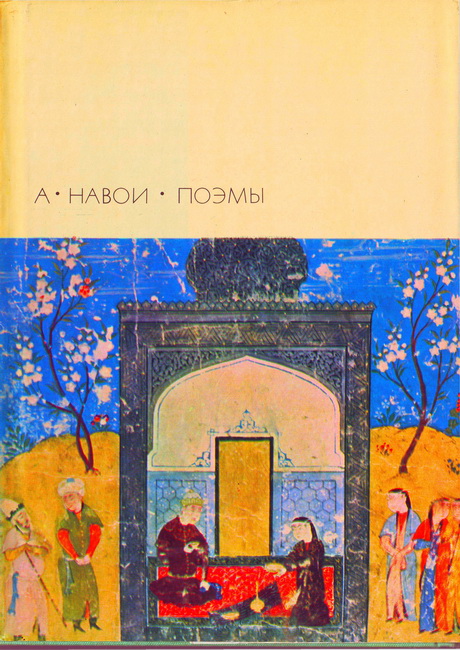
Перевод со староузбекского С. Липкина
Измученный в цепях любви! Таков
Железный звон и стон твоих оков:
Жил человек в стране аравитян,
Возвел его народ в высокий сан.
Он был главою нескольких племен,
И справедливым был его закон.
Он бедным людям, чей удел суров,
Предоставлял гостеприимный кров,
Их ожидал всегда накрытый стол,
Всегда подвешен был его котел,
Весь день, всю ночь пылал его очаг,
Огонь сиял у путника в очах, —
Сиял он путеводною звездой
Застигнутым пустынной темнотой.
Искусство щедрости его влекло,
И превратил он мудрость в ремесло.
Его стадам подобных в мире нет:
Баранов сосчитать — цыфири нет,
Всех знаков чисел не хватило б нам,
Чтоб счет вести верблюдам и коням.
Но только сына старцу не дал рок,
На горькую печаль его обрек.
Он всем владел, а жаждал одного:
Чтоб милый сын родился у него,
Чтоб не слабела с бренной жизнью связь, —
И жаждал крепче, старше становясь.
Он мыслил: обветшала утварь дней,
Прогнило древо жизни до корней, —
О, если б тополь молодой расцвел!
Пусть клонится к паденью старый ствол,
Но тополь над склоненною главой
Раскинет тень, шумя своей листвой.
Он мыслил: раковина пропадет,
Но будет жемчуг радовать народ.
Пусть я, богатства накопив, умру, —
Не даст наследник пропадать добру.
Пусть ввечеру зайдет моя заря, —
Взойдет другая, веселей горя.
Она взойдет над племенем родным,
Охватит небо пламенем своим…
Нет, соловей над высохшим кустом
Не станет петь… Иль ты забыл о том?
Когда свечи истлеет фитилек,
Не станет светом резвый мотылек.
Ты цели не достиг в конце пути?
Так цель свою в терпенье преврати!
И старец не роптал и не просил
И жребий свой носил пред богом сил,
И заслужил смирения венец,
И сына даровал ему творец!
А сын какой! Сердца испепелив,
Влюбленных Мекку в нем явил халиф.
Ты мысли раковиной назови,
А плод любви — жемчужиной любви,
Зефиром в сокровенном цветнике,
Сапфиром в драгоценном тайнике!..
Высокий лоб, любовью озарен,
Являл добра и верности закон.
Любовь — страна. Воскликнул шах страны:
«Пусть от звезды незримой до луны
Светила все ночной украсят пир:
Звезда любви в земной скатилась мир!»
И сразу потемнел небесный свод:
Ушел на пир созвездий хоровод…
Заволновалось воинство любви,
Печаль построила войска свои.
Беда младенческих коснулась век:
«Здесь будут русла горьких, скорбных рек».
Разлука кудри гладила, скорбя:
«Я дождь камней обрушу на тебя».
Страдание омыло рот ему:
«Я пламя вздохов к небу подниму».
Любовь заговорила, тронув грудь:
«Ты, чистая, моим жилищем будь!»
Отец, гордясь жемчужиной своей,
Жемчужинами одарял людей.
Он Кайсом порешил дитя наречь
И нянькам поручил дитя беречь.
И вот, закутан в соболь, в горностай, —
Бутоном розовым его считай! —
Ребенок в колыбели, как в саду,
Или, верней, как лепесток в меду.
И, чистотою внутренней блестя,
Покой и радость нянчили дитя,
Его от злого рока стерегли
И как зеницу ока берегли.
Дитя напоминает нам слезу:
Ребенок в доме, как слеза в глазу.
Он в бархате едва ли не лежал,
Он косточкой в миндалине лежал!
Стоял народ вокруг его шатра.
Чтоб не прошли холодные ветра!
Но пред судьбой бессильны сотни слуг:
К младенцу в колыбель проник недуг.
Вздохнет он — видишь: горе глубоко,
Глотнет он — станет кровью молоко.
Украдкой тянется к огню дитя,
Любовным пламенем его сочтя,
И так как ноги по земле не шли,
Он ползать начал с первых дней в пыли.
Страданье было неразлучно с ним
И вырастило мальчика больным.
Когда грудным младенцем плакал он,
Всем чудился тоски великой стон.
Когда слова произносить привык,
Резцу он уподобил свой язык.
Когда беседовать он стал с людьми,
Казались мудрецы пред ним детьми.
Манило всех горение в очах
И радость вдохновения в речах.
Он душу покорял, он увлекал,
В живую плоть он слово облекал,
Из уст прекрасных вылетев едва,
В сердца людские падали слова!
Услышали об этом чуде все,
Узреть его мечтали люди все,
И толпами со всех сторон текли,
И, глядя, наглядеться не могли.
Того привел в смятенье лик его,
Другому в сердце ум проник его.
Он был мечтой, любимцем бедняков,
И сто красноречивых стариков
Немыми станут, уст не разомкнут,
Когда рассказывать о нем начнут!
Родителям он дорог был равно, —
Два сердца, полюбившие одно.
И, поражаясь чаду своему,
Его словам чудесным и уму,
Сказали так: «Да минет горе нас,
Пусть мальчика дурной не сглазит глаз!
В шелка заботы кутая дитя,
Окурим дикой рутою дитя!»[1]
Когда вступил он в пятую весну,
Решил отец: «Учить его начну».
И, не теряя времени, велел —
Среди родного племени велел —
Учителя для мальчика найти,
Наставника, вожатого в пути,
Чтоб милый Кайс достойным сыном был,
Великих знаний властелином был,
Чтоб в чуждых землях край прославил свой,
Чтоб с поднятой ходил он головой…
И я, наставник, знанием влеком!
Сам разум у тебя — учеником.
Скорей листок ребенку в руки дай,
А мне урок любви науки дай!
Тот, кто уроки мне давал не раз
В науке слова, так повел рассказ:
Для Кайса начали искать вокруг
Наставника и знатока наук.
В той местности наставник славен был,
По нраву ангелам он равен был.
Учил детей он племени всего:
Не знал отрадней бремени сего.
Звезда наук, он был земле не чужд,
Открыл он сердце для народных нужд.
Высокий саном, был он к лести глух,
Превыше сана был высокий дух!
Был гнев его горячим, жестким был, —
В его руках и камень воском был!
Был гнев самумом, — не губил он роз,
Из племени былинки не унес.
Вкусивший светлый хлеб его щедрот,
Лепешкой жалкой солнце назовет!
Конюшней старой пред его страной
Казался беспредельный мрак ночной.
Родимый кров от недругов храня,
Он был сильнее ветра и огня.
От всех печалей мира и невзгод,
Как крепость, ограждал он свой народ.
Жемчужинами был мудрец богат,
Но лишь одною восхищался взгляд.
Взрастил он много роз в своем саду,
Но лишь одной ценил он красоту,
Светильником гордился лишь одним, —
Как искра, тлело солнце рядом с ним!
В его дому была свеча одна,
Как в небесах всегда одна луна,
Но та свеча была такой луной,
Перед которой слепнет глаз дурной.
Нет, не свеча, а кипарис блестит,
Которому завидует самшит!
Нет, не луна, а счастья звездный дар,
Не звездный дар, а солнца грозный жар!
Кто губы разгадает, кто поймет?
По цвету — финики, по вкусу — мед.
Ланитам кто сравненье дать готов?
То — луны под завесой облаков.
Как солнце — лик ее в ночи волос,
Ночное небо солнцем обожглось!
О ночь! Лейли! Мы смотрим на тебя, [2]
Рассвета блеск забыв и разлюбя.
Две брови черные на белом лбу,
Соперничая, начали борьбу,
Но родинка вмешалась в бранный спор,
И брови не воюют с этих пор.
Даруют брови, сведены басмой,
Свет полнолунья, спорящий со тьмой,
Их кипарисами назвать могу:
Не правда ль? Ветер их согнул в дугу!
Два глаза — два могучих колдуна.
Им сила чародейная дана.
О, дремой осененные глаза!
Истомой опьяненные глаза!
Над вами кипарисы в жаркий день
Простерли страстного желанья тень.
Чему я уподоблю ряд ресниц?
То — войско негров у своих границ.
Мигание? То негры пред тобой
Затеяли междоусобный бой.
Нет, неграми ресницы не считай!
Давно богат газелями Китай,
Потребны копья нам для ловли их,
Ресницы — копья. Взять готов ли их?
Но черный мускус пролила газель,[3]
И копья стали черными отсель…
Ее лицо в приманку нам дано,
А родинка — приманное зерно.
Попался на приманку человек,
И стал он пленником любви навек.
Так сладостен ее прекрасный рот,
Что стали и слова ее как мед.
В губах собрала сердца чистоту.
Родник живой воды — слюна во рту.
О все животворящие уста,
Рубинами горящие уста!
Гранильщик им ущерба не нанес,
В них — сок янтарный виноградных лоз…
Стройна, как молодое деревцо.
Мертвец воскреснет, увидав лицо.
Живой узрит — бессмертье обретет,
Другая жизнь к нему тогда придет.
Она, как мысль правдивая, чиста,
Как жалобы народной правота.
Две темные, тяжелые косы —
Две ночи в блеске неземной красы.
Вот почему ты Ночью названа!
Ты — Ночь могущества, ее луна![4]
Тебя хвалить захочет сын земли, —
Не сыщет слова, равного «Лейли»!
И всех ночей чудесней эта ночь,
И свет очей отца такая дочь.
Покой богатый ей отец отвел,
Покой — луны прекрасной ореол:
Он школой был. Подобные звездам,
Сияли дети, собранные там.
Учитель, о котором речь была,
Их наставлял на добрые дела.
Он райской гурией Лейли назвал:
Уроки ангел гурии давал.
Об этой школе всюду шла молва,
Хвалебные текли о ней слова.
О ней родитель Кайса услыхал
И счел ее достойною похвал.
И Кайса в эту школу отдал он,
Как повелел обычай и закон.
Был Кайс наставнику в ученье дан:
Жемчужина упала в океан.
И, радуясь жемчужине своей,
Стал океан светлей и веселей,
И в добрый час, и справедлив, и строг,
Учитель вывел на доске урок.
Но сколько ни писал он, — все равно
Казалось, Кайс об этом знал давно!
Когда сокровище вселенной — Кайс
Учиться начал, — несравненный Кайс, —
Была месяцеликая больна.
Была тоска подруг по ней сильна.
Ее природа — солнца горячей…
Есть горечь некая в жару лучей!..
Горит светильник. Масла ты подлей —
И будет он гореть еще светлей.
Песок полдневным солнцем накален.
Огнем ожги — и жарче станет он.
О пери! Огненная у тебя душа, —
И вдруг подул самум, огнем дыша!
Она любила финики и мед,
Вино, воспламеняющее лед.
Четыре — мед, самум, душа, вино —
Соединились: тело зажжено!
И пери лихорадкою больна:
Вошла в нее украдкою она.
Лейли дрожит, как тополь поутру,
Как белый тополь на степном ветру,
И тело рвется на куски… не ложь:
Землетрясение — такая дрожь.
И желтым стал огонь ее лица,
Как нежной розы желтая пыльца,
Родные собрались вокруг Лейли,
Врачей искусных к ложу привели.
Что пользы нам от сотни лекарей?
Природа может вылечить скорей!
Что пользы нам, что воскрешал Иса? [5]
Творит одна природа чудеса.
Хотя врачи руками развели,
Но сжалилась природа над Лейли:
Вернула силы ей, недуг исчез,
Вновь стала пери чудом из чудес,
Улыбка на губах — стократ светлей,
Румянец на щеках — стократ милей.
Соскучилась ученая краса,
Услышать хочет школы голоса.
И волосы, подобные мечте,
Искусно убрала ей мешшате
И, красоту украсив красотой,
Застыла, восхищенная звездой.
Два завитка — веди сравненье в даль! —
Как в слове «хадд» удвоенное «даль»![6]
А родинка над ртом — открою вам —
Как точка черная над словом «фам»;[7]
Подобная индусу-колдуну,
В рубинах губ таит она слюну!..
Ее уста — живой воды родник,
И пламень губ в живой воде возник!
Огонь румянец на щеках разжег,
Их золотой осыпал порошок.
Два глаза, подведенные сурьмой,
Соперничают с полуночной тьмой.
Не молния грозы — ее лицо,
А молния красы — ее лицо.
Да, молния: то — ливня бедствий жди,
То — милостей посыплются дожди!
Вкруг шеи ожерелье зажжено,
Как звезды вкруг луны, горит оно.
Повязка — лунный луч на волосах…
Рок видит смерть свою в ее глазах!
Вся хороша, от головы до ног,
Любви душа — от головы до ног!
Она выходит. Властная краса
Смущает мир земной и небеса.
За ней — служанки, юны и стройны,
Как приближенные самой весны.
И в школе стало празднично, светло:
Игривое веселие пришло!
Учитель счастлив: миновал недуг.
Он отпустил гулять ее подруг.
Как солнце для небес и для земли,
Была для школы светочем Лейли:
Лейли, как ночь весны, сердца влечет!
Ей оказали девочки почет, —
Созвездья так приветствуют луну,
Так сад встречает юную весну.
Все расцвело. Лишь дерево одно
Дыханьем осени обожжено,
Пылает увядания огнем,
И пожелтела вся листва на нем:
Увидел Кайс весеннюю зарю,
И стал он весь подобен янтарю.
Вокруг царила юная весна, —
Его лицо покрыла желтизна,
Дыханье осени в его крови:
Восточный вихрь ворвался, вихрь любви.
По телу слабому пошел озноб,
Росой холодной увлажнился лоб.
Он чувствовал: сейчас конец придет,
В беспамятстве сейчас он упадет.
Его лицо менялось каждый миг.
Он обезумел: он любовь постиг.
Любви пригубил чашу в первый раз,
Хлебнул глоток — и опьянел тотчас.
Но, мучаясь, он пересилил страсть,
Чтобы на землю тенью не упасть.
На Кайса поднял взор его кумир…
Ей показался темным светлый мир!
В огонь упала слабая душа,
Сгореть в любовном пламени спеша.
Волненье Кайса ей передалось.
Он для нее прозрачным стал насквозь.
Лейли глядит — и видит только страсть.
Да, и она любви узнала власть!
И с тонкостью понять ему дала,
В каком она огне, и поняла
Потом сама: «Когда ему сейчас
Не помогу, для посторонних глаз
Он явной сделает свою любовь,
Мы встретиться тогда не сможем вновь,
Ему не разрешат учиться тут,
Преграду между нами создадут».
И молвила, подняв глаза с трудом:
«Друзья мои! Давайте в сад пойдем;
Всей школой хорошо гулять в саду!..»
Ученики ликуют: раз в году
Такая радость красит долю их:
Учитель отпустил на волю их!
И Кайс, усилье сделав над собой,
Смешался тоже с резвою гурьбой…
Искусный садовод в саду любви!
Мне розовую чашечку сорви:
Скажу, на завязь бросив быстрый взгляд,
Какие розы разукрасят сад!
Кто воспевал страдальца бытиё,
Так заставлял писать перо свое:
Беспамятством, бессильем одержим,
Не ведал Кайс о том, что стало с ним,
И вот узнал, едва лишь ожил он,
Как близких сердцу растревожил он.
Родители стонали день и ночь,
Не ведая, что делать, как помочь?
Тот — юный лоб, вздыхая, целовал,
Та — горестью убита наповал.
И, все поняв, смутился Кайс тогда,
Не знал, куда деваться от стыда,
Глядеть в отцовские глаза не мог,
В тоске лежал у материнских ног,
И под ярмом позора своего
Не поднимал он взора своего.
Когда увидели отец и мать:
В могилу Кайса может стыд вогнать, —
Решили не расспрашивать его,
Как будто не случилось ничего,
Решили слова не сказать в укор,
Чтоб мальчик позабыл про свой позор.
И мыслили, вздыхая тяжело:
«Быть может, наваждение прошло?
Он станет сдержанней, горячий нрав
Природой целомудренной поправ?
Быть может, горести промчатся все?..»
И так гадали домочадцы все:
«Приснился юноше волшебный сон»,
«Виденьем неким был он потрясен»,
«Его с дороги сбил коварный див…»
Никто не знал, что, пери всех затмив,
Заворожила юношу Лейли, —
И восвояси родичи пошли.
И Кайс остался наконец один.
Искал он горю своему причин.
Искал он исцеленья своего,
Алкал он избавленья своего.
Тоске внезапной изумлялся вслух, —
Метался беспокойный, слабый дух:
Любви отдаться? От людей бежать?
Но жалко покидать отца и мать.
Найти покой среди домашних вновь?
Но топчет сердце властная любовь!
Так он страдал, пока рука небес
Не сбросила на мир ночных завес.
И войском горя был он побежден:
Настала ночь — Лейли увидел он.
Каков удел влюбленных — он забыл!
И снегом убеленных он забыл
Отца и мать, забыл недавний стыд,
И вот уже к возлюбленной спешит.
Не взял он волю в спутники себе,
И разум не был другом при ходьбе.
Он шел и падал, и вставал, и шел,
И каждый шаг безумцу был тяжел.
Валялся, как поклонники вина
Валяются, напившись допьяна.
И видит он становища огни
И думает: «Меня сожгут они!»
И сердце вдруг охвачено огнем,
И мнится: искры заметались в нем…
Вознес он к небу огненный язык,
Открыл огню воспламененный лик,
Как пышет пламенем зажженный куст,
Он песню-пламя выпустил из уст:
«Огонь, благословенный проводник!
Ты в ночь печали предо мной возник.
Я вижу: искры падают в траву, —
Их звездами печали назову.
Вознесся дым, как вздох твоей груди,
Как цель, очерченная впереди.
Лепешку спрятал ты в своей золе, —
То месяц на заоблачном столе.
Кто взглянет на тебя, тому сурьмой
В глаза войдет летучий пепел твой.
Но роза не глядела на очаг.
Откуда ж цвет сурьмы в ее очах?
Или решила стать сурьмой зола,
Когда она в твои глаза вошла?
Огонь! Горящий жар твоих углей
Рубинов драгоценных мне милей:
В нем вижу я — мне цвет багряный люб —
Всепожирающее пламя губ!
Нет, не венец — рубином, а венцом
Украшен сей рубин: ее лицом!
Ты в ночь заботы подал руку мне,
Ты озарил в ночи разлуку мне.
Как высказать, как я люблю тебя?
Каким стихом я восхвалю тебя?
И что тебе я, путник робкий, дам?
Алоэ и сандал в растопки дам!
Огонь! Тебе никчемных слов не дам:
Луну и солнце я в жаровни дам!
Огонь! Всегда будь на моем пути,
Всегда свети, вселенной всей свети!..»
Не кончил он, как ветер вдруг донес
Протяжный лай: залаял в стане пес…
Он скорчился, пошла по телу дрожь,
И на собаку стал он сам похож.
И стон его поднялся в вышину, —
Не стон, а вой нарушил тишину.
Как путник, потерявший караван,
Взывает, страхом темным обуян,
Следы читает сквозь кромешный мрак, —
Так шел несчастный Кайс, и пел он так:
«О ты, чей голос радость мне принес,
Ночной товарищ мой, печальный пес!
Ты, верный друг, мне громкий подал крик,
Всех заблудившихся ты проводник!
Вокруг селенья ходишь, честный страж,
Не правда ль, одинаков жребий наш!
Пройдут ли ночью воры в мирный кров, —
Зубами в клочья разорвешь воров,
И хна для ног твоих — людская кровь.
О, мне конец такой же приготовь!
Я тоже пес, как ты, но ты важней:
Ты можешь в стан войти, к прекрасной, к ней.
Твоя судьба — хранить и хлеб и кров.
Моя судьба — бродить вокруг шатров!»
Так пел влюбленный, так шагал в пыли…
А ты, месяцеликая Лейли,
Ты плачешь тоже, ты грустишь о нем,
Ты видишь Кайса утром, ночью, днем,
Он призрак, он души твоей звезда.
Беда арабов — пленная беда:
Тебе попала, Кайс, в полон она,
И вот не ест, не пьет, не знает сна…
Как легкий локон вьется на ветру,
Лейли в тоске металась по шатру
И падала на ложе, ослабев…
Вдруг скорбный к ней доносится напев,
Лейли глядит: степи темным-темно,
Все племя сладким сном пьяным-пьяно.
Отраден сон для тех, кто не влюблен,
Но кто влюблен, — для тех запретен сон…
Старуха-нянька вместе с ней жила,
Ее любви наперсницей была,
Благословила двух сердец союз,
Желала им нерасторжимых уз,
Ей Кайс — как сын, она — как мать ему…
Когда в степную выбежала тьму
Лейли, в ночи сияя, как луна, —
Как тень луны, пошла за ней она.
Лейли, не видя ничего, бежит.
К возлюбленному своему спешит.
Два вздоха пламенных светло зажглись,
Два сердца раненых в одно слились.
Как боль ясна, как тайна их чиста!
Какой немотой скованы уста!
Как будто солнце скрылось, а светло.
Нет наводненья, — стену всю снесло!
Друг друга пусть обрадуют они!..
Но без сознанья падают они.
Старуха тут заплакала навзрыд:
Увидят их — какой позор и стыд,
Они погибнут от людского зла!
И на плечо она Лейли взяла
И ношу понесла — любви сосуд.
Не так ли солнце небеса несут?
Ее согнуло горе… не солгу:
Так небеса сгибаются в дугу!
И девушку вернула в отчий дом,
И возвратилась к юноше потом,
И юношу взвалила на плечо,
И горе жгло ей сердце горячо.
Чуть ноша становилась тяжела,
Безумного по травам волокла,
Подальше от селенья своего,
От подозрений всяких, от всего,
Что может ввергнуть юношу в беду,
Когда у всех он будет на виду.
Оставила его в степном песке,
И в дом направилась в глухой тоске,
Судьба-старуха, где твой правый путь?
К тебе взываю: справедливой будь!
Ты горе посылаешь на людей,
Как мать, проклявшая своих детей!
Миниатюра из рукописи XV в.
«Лейли и Меджнун»
Кто рассказал о ночи роковой,
Украсил так рассказ печальный свой:
Увидели родные на заре,
Что Кайс опять не спал в своем шатре,
И вороты порвали на себе,
Взмолились небу о его судьбе.
Отец, рыдая, утешает мать,
Велит людей на поиски послать.
И люди, наконец, следы нашли:
Вели следы к становищу Лейли.
И люди в стан пришли по тем следам
И новые следы открыли там:
Одни — глубоко вдавлены в песок,
Как будто путник тяжкий вьюк волок,
Другие — как создания пера,
Как будто пери здесь прошла вчера,
А третьи — в глушь пустынную ведут,
Возникнут вдруг и снова пропадут…
И люди в глушь пустынную пошли,
Песчаный холм увидели вдали.
Приблизились, разрыли… о творец!
Там Кайс лежал, недвижный, как мертвец.
Пустынный вихрь песком его занес!
Тут хлынули из глаз потоки слез:
«Убит, — один другому говорит, —
Убийцею тайком в песок зарыт».
И светлый мир им показался пуст…
Вдруг слышат: вылетает вздох из уст.
«О небеса! Он жив, он жив еще!»
Один из них взял Кайса на плечо,
И люди тронулись в обратный путь…
Разорвалась родительская грудь,
Когда больной вернулся в отчий дом!
Но Кайс, придя в сознание с трудом,
Не знал, как объяснить поступок свой,
Стоял с опущенною головой.
Обрушились упреки на него,
Во всем нашли пороки у него.
Один сказал: «Тебя сломила страсть?»
Другой: «Ты страстью насладился всласть?»
А третий: «Будь сильней, сломи ее!»
И что ни слово — острое копье,
Вонзились в сердце резкие слова,
Осыпана камнями голова —
Невидимою грудою камней:
Невидимые, бьют они больней!
Один сказал: «Наставить должно ум».
Другой: «Избавить от опасных дум».
А третий: «На ноги наденьте цепь!»
Но Кайс молчал, вперяя взоры в степь.
Мечтал он, чтобы день короче стал,
Он с нетерпеньем темной ночи ждал,
И только звезды стали высыпать,
Он к племени Лейли пошел опять.
Опять родители к его шатру
Направились поспешно поутру,
Опять его нашли в степной глуши,
И был сильней недуг его души.
Опять слова — острей змеиных жал…
А ночь пришла — опять он убежал.
И поняли родители тогда:
У них — непоправимая беда.
Слова напрасны: кто безумен, тот
Безумным слово разума сочтет.
Собрали знахарей и лекарей —
И колдунов, чтоб вылечить скорей.
Росло в дому советчиков число, —
Безумие любви быстрей росло,
Недуг страдальца был неисцелим…
И дети бегать начали за ним,
И вот Меджнуном прозван с юных лет.
«Меджнун! Меджнун!» — ему неслось вослед.
Но что ему, сошедшему с тропы,
Презрительные прозвища толпы,
Когда в глухое впал он забытье,
Когда он имя позабыл свое,
Народа своего, своей земли, —
Одно лишь имя помнил он: Лейли!
Когда: «Лейли» — он голос поднимал,
Меджнун пред ними — каждый понимал.
Он шел по вечерам и по утрам
К становищу Лейли, к ее шатрам,
Чтоб воздух племени ее вдохнуть,
И камнем ударял себя он в грудь.
Влачил вокруг шатров страданья цепь,
А прогоняли — возвращался в степь.
О ты, кто сделал степь моей страной!
Я заблудился. Сжалься надо мной!
Я одинок. Устал я в царстве лжи.
Дай руку мне, дорогу покажи!
Кто написал страданья книгу, тот
Свое повествованье так ведет:
И превратил круговорот времен
Меджнуна имя в притчу для племен.
Владыкам сильным, людям слабым всем,
Известным сделалось арабам всем.
И некто благосклонный, злобы враг,
О нем отцу Лейли поведал так:
«Был Кайс несчастный в племени Амир,
Его способностям дивился мир.
Разумен был он, сдержан был весьма,
Но, кажется, теперь сошел с ума.
Чуждается людей отныне он,
Блуждает и вопит в пустыне он.
Жалеют люди: «Бедный человек,
Любовь свершила на него набег!
Он словно грозной бурею влеком:
Любовью к некой гурии влеком».
Отец Лейли растроган был до слез.
Он руку укусил и произнес:[8]
«Ах, бедного хвалили столько раз,
Его дурной, наверно, сглазил глаз.
Ах, светлая погибла голова,
Ум совершенный, дивные слова!
Язык сладчайший всем понятен был,
Он и моей душе приятен был.
О, каковы страдания отца
И матери! Разбиты их сердца!
Каким огнем он мучим и палим?
Душа объята пламенем каким?
Какая роза в нем любовь зажгла?
Какое племя для него кыбла?»[9]
И некто молвил: «О дающий свет!
Раз ты спросил, позволь держать ответ:
В степи широкой множество племен, —
Ни к одному из них не склонен он.
Его любовь плоха иль хороша,
Но в племени твоем — его душа,
Но в племени твоем — весь мир его,
Но в племени твоем — кумир его!
В гареме целомудрия — душа.
Лишь ветром целомудрия дыша,
Она прекрасна, как весенний ток.
Основа этой ткани и уток —
Учтивый, скромный нрав… Но пробил миг,
И вздох страдальца в сердце ей проник…
В его очах — забвение всего.
В его речах — свержение всего.
Ты знаешь сам: он мастерства достиг,
Отмечен высшим даром плавный стих,
Но в каждой строчке — имя лишь одно,
Не будет упомянуто оно.
Сказал я. Сам теперь ты все поймешь
И разум свой в советники возьмешь».
И слушавший лишился вдруг себя.
Как нитка, закрутился вкруг себя,
Сначала даже слова не сказал,
Ни доброго, ни злого не сказал,
В ушах его стоял немолчный шум!
Потом очнулся, успокоил ум
И молвил так: «Ступай, вкушая мир.
Скажи владыке племени Амир:
«Такие речи недостойны нас,
Я перед ними слух замкнул сейчас.
Пусть говорит народная молва,
Но ты гони подобные слова.
Давно сыновний видел ты недуг,
Ты должен был смирить строптивый дух.
Знай, заслужил безумец одного:
Цепь, только цепь — лекарство для него!
Иль ты забыл могущество мое,
И каково имущество мое,
И как мое значенье велико?
С тобой и сыном справлюсь я легко!
Или тебе неведом больше страх?
Я раздавлю, я превращу вас в прах!
Запри Меджнуна, если он упрям!
Не подпускай его к моим шатрам!
Настойчив будет он в своих делах, —
Тогда судьею станет нам аллах,
Его тогда о милости моли:
Я твой народ смету с лица земли!»
Отправил с этим словом он посла:
Война свой пламенный язык зажгла.
Пришел посланец, долг исполнив свой…
Поник родитель Кайса головой,
Когда он смысл речей уразумел.
Спасенья нет! Смириться он сумел,
Согласье дал. Простился с ним посол…
А весь народ в смятение пришел,
Меджнуна люди бросились искать
И плачущим нашли в степи опять,
Как будто был покойник у него
Или напал разбойник на него!
Безумца притащили в отчий дом,
Надели цепи на него потом…
О ты, чей жребий — звон стальных цепей,
Гордись счастливой участью своей!
Кто и в цепях сберег свободы пыл, —
Свободу многим тысячам добыл.
Кто жемчуга блестящих слов низал,
Увидел мысли блеск и так сказал:
В ту ночь, когда Лейли, в тоске немой
Покинув сад, направилась домой,
В пути благоухая, как жасмин, —
Ее увидел человек один
И потрясен розоволикой был!
Среди арабов он владыкой был
И прозывался так: Бахт Ибн-Селлям…
Терял он счет верблюдам и коням,
Баранам и быкам терял он счет, —
Покрыл пустыню всю несметный скот,
И так как знатен был он и богат,
Он жил, ни в чем не ведая преград…
Заботы заблудившемуся нет,
Когда увидит звездный блеск монет.
Звезда блеснула Ибн-Селляму вдруг,
И душу страстный охватил недуг.
Не запустил болезни он своей,
Задумал исцелить себя скорей.
Направился к становищам своим,
И кинулся к сокровищам своим,
И выбрал сто подарков дорогих,
Сто редкостей, — не видел мир таких, —
И выбрал несколько проводников,
Как шейхи, златоустых стариков,
И людям цель свою открыл глава,
И племя приняло его слова.
Послы, чуть свет, чтоб не застиг их зной,
Поехали с подарками, с казной.
Отец Лейли приветствовал гостей:
Он долю получил благих вестей,
Он Ибн-Селляма знал уже давно,
К нему приязнь питал в душе давно:
Богат и знатен, как гласит молва,
Народа Бену Асад он глава…
И вот, к приему посланных готов,
К ним дружбу проявил на сто ладов.
Радушием смущенные послы,
Седые, благосклонные послы,
Раздав подарки и воздав хвалу,
Присев к гостеприимному столу,
Рассказ неторопливый повели,
Рассказ красноречивый повели,
И, цель свою достойно объяснив,
Ответа ждали, головы склонив.
Сказал отец: «Да снидет благодать!
Когда моим он сыном хочет стать,
Я встречу, как родной отец, его,
Да красит жемчуг мой венец его!
Но потерпеть он должен некий срок:
У розы как бы сломан стебелек,
Она больна, гнетет ее тоска.
Надежды пальма — веточка пока,
И солнце — только месяц молодой.
Когда придут здоровье с красотой,
Пусть поспешит благословенный сын,
И с розой пусть обнимется жасмин!»
Так, расточая сотни добрых слов,
Обрадованных отпустил послов…
Лейли гуляла в этот час в саду,
Еще не зная про свою беду.
Там нет лекарства от ее тоски,
Там розы распустили лепестки, —
Ей розы открывали вновь и вновь
Кровопролитную свою любовь,
Как бы кровавый обнажали меч,
Чтоб сердце ей безжалостно рассечь.
И вот печаль свершила свой набег, —
И плакала рожденная для нег.
Она пришла домой, дрожа, в бреду,
Сказала: «Дурно стало мне в саду».
Так обманула легковерных слуг.
Но те, кому понятен был недуг, —
Ее друзья, наперсницы любви,
Стремились ей отдать сердца свои.
И занялся у старой няньки дух:
А вдруг ушей Лейли достигнет слух
О том, что замышляет Ибн-Селлям?
Тут сердце разорвется пополам!
Решила: скроем от Лейли скорей,
Какой удел приуготован ей…
Однажды к ним знакомые пришли,
Друзья, подруги, жившие вдали,
И все, кто был отцу Лейли сродни, —
Больную навестить пришли они.
Была меж ними дряхлая весьма
Старуха, выжившая из ума,
Она, чтобы влюбленную развлечь,
Язык в смертельный превратила меч:
«Не огорчайся, роза! От волос
На лик твой много амбры пролилось,
Но скоро обретешь веселье ты,
Нас позовешь на новоселье ты,
Возвращена здоровью будешь ты,
Исцелена любовью будешь ты!
Нет в мире краше прелестей твоих, —
Красивым оказался твой жених.
Об этом люди говорят давно.
В твой кубок льется радости вино!»
Старуха вовсе разумом плоха:
Сказала даже имя жениха…
Когда в сознанье пери дорогой
Проникла весть об участи такой, —
Та весть дошла случайно до нее,
И явной стала тайна для нее! —
Сознание покинуло ее,
Старуха сердце вынула ее!..
О ты, кто скрыт, но явен, кто в глазах
Отсутствуя, присутствует в сердцах!
Открыл ты пламя сердца небесам,
Открой сиянье и моим глазам!
Кто мысли излагает без прикрас,
Так начал удивительный рассказ:
Когда страдалец, жертва всех скорбей, —
Меджнун освободился от цепей,
Когда, не разыскав безумца, в дом
Вернулись посланные со стыдом, —
Тогда в отца смятение вошло,
На мать как бы затмение нашло.
Они сидели, слабые, вдвоем,
Они о сыне думали своем:
Слова найдут — и тут же отведут,
Возникнут мысли — тут же отпадут.
И так они решили наконец:
Всевышний лишь поможет нам творец!
Мы нищим подаянье раздадим,
Отыщем путь к отшельникам святым,
Пусть дервиши помолятся в тиши
Об исцелении больной души.
Узнав о двух беспомощных сердцах,
Нам сына, может быть, вернет аллах!»
Нарочно ль время выбрали они,
Но подошли паломничества дни.
В пустыню вновь отправили гонцов,
И найден был Меджнун в конце концов.
Меджнун готов забыть для Кабы все.
Да, Каба исцелить могла бы все!
И, нищих одаряя без числа,
Семья Меджнуна в Мекку понесла.
И прибыли паломники в Харам,
Увидели благословенный храм.
На каменной основе он стоял:
На непреложном слове он стоял!
Благоговейным трепетом влеком,
Безумец обошел его кругом,
Издал безумец исступленный крик,
Сказал: «О ты, владыка всех владык!
Ты, говорящий мертвому «живи»!
Весь мир бросающий в огонь любви!
Ты, открывающий любви тропу!
Сгореть велевший моему снопу![10]
Ты, нам любви дающий благодать,
Чтобы камнями после закидать!
Ты, женщине дающий красоту,
Из сердца вынимая доброту!
Ты, утвердивший страсти торжество!
Ты, в раковину сердца моего
Низринувший жемчужину любви!
Раздувший пламенник в моей крови!
Испепеливший скорбью грудь мою, —
Вот я теперь перед тобой стою!
Несчастный пленник, проклятый судьбой.
В цепях любви стою перед тобой!
И тело в язвах от любовных ран,
И тело режет горестей аркан,
Суставы тела — грубые узлы,
Душа сожженная — темней золы,
Но все же я не говорю: «Спаси!»
Не говорю: «Мой пламень погаси!»
Не говорю: «Даруй мне радость вновь!»
Не говорю: «Убей мою любовь!»
Я говорю: «Огонь раздуй сильней!
Обрушь трикраты на меня камней!
Намажь мои глаза сурьмой любви!
Настой пролей мне в грудь — самой любви!
Да будет зной — пыланием любви,
Да будет вихрь — дыханием любви,
Язык мой — собеседником любви,
А сердце — заповедником любви!
Я загорюсь — пожару не мешай!
Меня побьют — удару не мешай!
Меня печалью, боже мой, насыть.
Дай ношу скорби множимой носить!
Мне люди скажут: «Вновь счастливым будь,
Забудь свою любовь, Лейли забудь…»
Бесчестные слова! Позор и стыд!
Но пусть и тех людей господь простит.
О, в кубок просьбы горестной моей
Поболее вина любви налей!
Два раза кряду предложи вина.
Напьюсь любовным зельем допьяна.
Великий бог! Мне жилы разорви,
Наполни страстью их взамен крови!
Души моей, аллах, меня лиши,
Дай мне любовь к Лейли взамен души!
О всемогущий! Смерть ко мне пришли, —
Мне станет жизнью память о Лейли!
Больному сердцу моему вели:
Да будет сердце домом для Лейли!
Великий бог мой, милости продли:
Да будет вздох мой вздохом о Лейли:
Лиши меня вселенной целой ты, —
Мою любовь нетленной сделай ты!
Когда, господь, изменят силы мне, —
Врачом да будет призрак милый мне!
Когда последняя наступит боль, —
Сказать: «Лейли!» в последний раз позволь.
Захочешь возвратить меня к живым, —
Дай мне вдохнуть ее селенья дым.
Геенну заслужил я? Раскали
Геенну страстью пламенной к Лейли!
Достоин места я в твоем раю?
Дай вместо рая мне Лейли мою».
Когда мольбу любви Меджнун исторг,
Привел он всех в смятенье и восторг,
Оцепенели жители пустынь,
И каждый повторял: «Аминь! Аминь!»
Отец от горя разум потерял:
Он всю надежду разом потерял.
И Кайс безумным сделался опять,
Утратив разум, перестал рыдать.
Родные, слушая безумный бред,
Решили так: «Пути к спасенью нет».
И подняли его и всей семьей Они
Меджнуна понесли домой…
Водой любовный пламень не туши:
Стать маслом ей дано в огне души.
Хотели сделать слабою любовь,
Но укрепилась Кабою любовь…
О ты, кто место Кабы посетил!
Ты в свой восторг меня бы посвятил!
Молясь творцу, меня воспомяни:
Огнем любви себя воспламени!
Кто эту быль узнал из первых рук,
Свои слова в такой замкнул он круг:
Когда прошли паломничества дни,
Познало племя горести одни.
Отец в оцепененье вскоре впал,
В неописуемое горе впал,
Отчаялся безумного спасти,
Вернуть его с безумного пути,
И так, в слезах, решил о сыне он:
Как знает, пусть живет отныне он!
И вот Меджнун скитается в горах,
В глухих степях, где зноем выжжен прах,
Куда идет? Не скажет, не поймет, —
Толкает сила некая вперед!
У слабого покоя боле нет,
Желанья нет и доброй воли нет.
Измученный, бредет в жару, в пыли,
Одно лишь слово говорит: «Лейли!»
Окинет землю с четырех сторон, —
Одну Лейли в сиянье видит он.
Вообразит он только лик ее —
И стройный стан уже возник ее.
И думает тогда Меджнун: «Хвала!
На кипарисе роза расцвела!»
Он о Лейли слагает сто стихов,
Сто редкостных газелей — жемчугов,
Всем рифмам красота Лейли дана,
Лейли во всех редифах названа!
И в каждом слове страсть к Лейли звенит,
И в каждом звуке власть любви пьянит.
И строчек падает жемчужный ряд, —
Они обрадуют и огорчат:
Для горя — сладость вспомнить о Лейли.
Рыдает радость, вспомнив о Лейли.
И каждый стих — великий чародей,
Смятенье сеет он среди людей,
Унылому дарит надежду вновь,
Вселяет в равнодушного любовь.
Когда блеснет в мозгу Меджнуна свет, —
Он — дивных слов кудесник, он — поэт;
Войдет безумие в свои права, —
Он говорит нелепые слова,
Бессмысленно другим внимает он,
И сам себя не понимает он.
Испепелен тоской великой он,
И как бы стал пустыней дикой он.
Рыдает горько без кручины он,
Смеется звонко без причины он.
Плоть без души, — он скорбною тропой
Бредет, весь в синяках, избит судьбой.
Опомнится на миг Меджнун, — и страх
Войдет в него, он завопит: «Аллах!»
Но странника спасительный испуг
Бесстрашная любовь прогонит вдруг…
Он плакал, как ребенок, он кричал,
И долго отзвук в горной мгле звучал.
В песках он высохшим растеньем был,
Отца и мать забыл, себя забыл.
Он муку сделал спутницей своей,
И скуки не знавал он без людей.
Он яства и питье забыл давно,
Он самоистязанья пил вино.
Он шел и шел, куда — не зная сам:
Подобен путь безудержным слезам.
Людей чуждался в страхе странном он,
Пугливым сделался джейраном он.
Он жил в степи, животных не губя:
Природу пса он вырвал из себя.
И вот газельи дружат с ним стада,
Он окружен газелями всегда,
Он с ними разговаривает вслух, —
Газелей диких он теперь пастух.
Газелей на руки порой берет,
Одну целует в лоб, другую в рот.
Дика пустыня, и земля тиха,
И волки, как собаки пастуха.
И гибель ожидала бы его,
Но бог услышал жалобы его.
В пустыне пребывал глава племен.
Был Науфаль и честен и умен.
Среди арабов редкостью он был.
Повсюду славен меткостью он был.
Владел он луком и мечом владел,
Расширил он земли своей предел…
Охотился однажды Науфаль,
Попали ловчие в глухую даль.
Охота всю пустыню потрясла:
Газелям вкруг Меджнуна нет числа,
И всякая спешит к Меджнуну дичь,
Охотничий заслышав страшный клич.
Пернатых стаи и стада зверей
Меджнуна просят их укрыть скорей.
«От гибели спаси ты!» — просят все,
Убежища, защиты просят все…
И странным происшествием таким,
Противным всем обычаям людским,
Был Науфаль безмерно удивлен:
«Что это означает? — молвил он, —
Я, кажется, в своем уме вполне!
Благоговение внушает мне
Событие, украсившее свет!
Вы тоже это видите иль нет?»
И несколько нашлось людей таких,
Которые слыхали от других,
Какая губит юношу печаль.
Их выслушав, заплакал Науфаль:
И он путем любви когда-то шел,
И он блуждал в пустыне бед и зол!
Границ не видит горю своему,
Охота опротивела ему,
Сказал: «О дивный эликсир — любовь!
Ты молнией сжигаешь мир — любовь!
Когда ты сердце жертвой изберешь,
Войти не смеет в это сердце ложь.
Вот рядом человек и дикий зверь,
И зверь к нему ласкается теперь.
Любовь! Столь чистым сделало твое
Могущество Меджнуна бытие,
Что звери в нем не видят свойств людских!
Избавился Меджнун от свойств дурных,
Лишился человеческого зла, —
И сразу дикость у зверей прошла!
Друзья! Не будем обижать зверей
И лук и стрелы бросим поскорей,
Собачьих свойств довольно в нас и так, —
Покрепче привяжите всех собак!»
И Науфаль, такой отдав приказ,
К несчастному приблизился тотчас.
Хотя в стада животных страх проник,
Меджнун остановился все ж на миг,
Приязнью к неизвестному влеком,
Как будто был он с ним давно знаком.
И Науфаль сказал ему: «Привет!»
И поклонился юноша в ответ
И молвил: «О, таким же будь и впредь!
Благословенье — на тебя смотреть,
И весь ты — солнце дружбы и любви,
Сияют верностью глаза твои.
Но странно мне: в довольстве ты живешь,
С толпой невежественной ты не схож,
Ты сыт, и людям голод не грозит, —
Зачем твоя стрела зверей разит?
Или других не знаешь ты забав,
Или мучений требует твой нрав?
Кто вправе кровь напрасную пролить
Лишь для того, чтоб душу веселить?
Наступишь на колючку в поле ты,
И закричишь от сильной боли ты.
Зачем же натянул обиды лук?
Зачем готовишь зверям столько мук?
Животным тоже душу дал аллах, —
Дыханье бога есть и в их телах.
Не будь убийцей. Стань душой добрей,
Безвинных ты не истребляй зверей».
И Науфаль, услышав эту речь,
Пред ним не постыдился наземь лечь
И молвил так, поцеловав песок:
«О ты, чей дух воистину высок,
Ты, непохожий на других людей, —
Моей душой отныне ты владей!
Я понимаю все твои слова
И принимаю все твои слова.
Не буду я преследовать стада:
Себя убью, а зверя — никогда!
И речь твоя в душе моей жива,
Но выслушай теперь мои слова».
Сказал Меджнун: «О чистый свет зари,
Благословенный свыше, — говори!»
И Науфаль ответствовал: «О ты,
Кто стал примером вечной чистоты,
О ты, кто показал мне правый путь,
Сказав: «Вражду к беспомощным забудь», —
Ты покорил мой разум навсегда,
Беспомощным не причиню вреда.
И я стремлюсь к сиянью твоему,
Но я дивлюсь деянью твоему.
Наперекор обычаям, пойми,
Ты зверям другом стал, порвав с людьми.
Ласкаешь ты зверей, людей боясь.
Ужель тебе с людьми противна связь?
Творения светило — человек,
Предвидения сила — человек!
Дрожа перед породою людской,
Ужель среди зверей обрел покой?
Я знаю, по какой причине ты
Покинул мир, живешь в пустыне ты:
Одной розовощекой ты смущен,
Одной огненноокой ты сожжен.
Но если так, прошу тебя: покинь
На время некое зверей пустынь,
И погуляй со мною в тех местах,
Где ты навек запутался в сетях,
Где дни твои в силке любви прошли!
Хочу с тобой соединить Лейли;
Благословит судьба такую цель, —
В одну вас положу я колыбель.
Нам не помогут просьбы и казна, —
Поможет нам священная война.
Подарки, деньги могут всех привлечь.
Чего не скажет злато, скажет меч.
Поможет нам небес круговорот, —
Найду я деньги, соберу народ,
Все мыслимые средства приложу,
Но этот узел бедствий развяжу,
А если будет против нас господь, —
Твою беду сумею побороть:
Тогда я сыном сделаю тебя,
Твой светлый ум и сердце возлюбя.
Но только ты друзей своих оставь,
Животных диких и ручных оставь!
Одной породы — люди все, поверь,
Природы разной — человек и зверь!..
Коль встреча
Так приложи старание твое!»
При слове «встреча» задрожал Меджнун,
И слез горячих побежал Джейхун.
От радости страдалец ослабел,
От слабости скиталец онемел,
Улыбка на устах, в глазах вода…
И так заговорил Меджнун тогда:
«На все твои слова, мой старший друг,
Был у меня готов ответ, но вдруг
Ты слово «встреча» произнес, и мне
Все чуждым стало в дикой стороне,
И в мыслях отошел я от всего.
О, если обещанья твоего
Тебе не даст исполнить рок людской, —
Пусть служит голова моя ногой
Прославленному твоему коню,
Лицом своим — копыто заменю!»
И так друг другу выказав почет,
И видя, как друг к другу их влечет,
Обрадовались близости своей,
Один другого полюбил сильней,
И тот, кто подал о свиданье весть,
Меджнуна взять с собой почел за честь…
О ты, кто в жертву дал себя принесть
Разлуке! Слышишь о свиданье весть?
Пусть не дождется встреч твоя душа,
Но даже весть о встрече — хороша!
Кто много трудных странствий совершил,
Слова в таком убранстве разложил:
Когда два редких существа земли
В дом Науфаля радостно вошли,
Потребовал хозяин поскорей
Своих красноречивейших людей,
Чей опыт, знания помочь могли, —
Велел им ехать к племени Лейли.
Казны, подарков дорогих — не жаль!
И приказал посланцам Науфаль:
«Отцу скажите: «Ты, кому верны,
Кому покорны счастья скакуны, —
Послушай: Кайс, чье слово, как резец,
Кто всех народных качеств образец,
Любовью чистой воспылал к Лейли.
Но крайний стыд и робость привели
К тому, что изъясниться он не мог.
И вот переступил он свой порог,
Отца и мать покинул и родных
И начал жить среди зверей степных.
Он так любовью очарован был,
Он так любовью околдован был,
Так обезумел от своей Лейли,
Что все его Меджнуном нарекли.
Постиг науки всей вселенной он,
И в смысл проникнул сокровенный он,
В твоем народе знанья добывал
И не забыл еще твоих похвал.
Что думает отец и что творит,
Узнав, что сын в огне любви горит?
Хоть не был сыном он тебе родным,
Ты поступить, как с сыном, мог бы с ним.
Но очевидцев ты слова отверг,
Ты боль живого существа отверг!
Его ты сделал пленником скорбей.
Влачил он жребий свой в глуши степей.
Пусть это канет в вечность наконец!
О, где же человечность наконец?
Но поздно каяться. Таков наш путь:
Прошедшее не в силах мы вернуть.
Участье принял я в его судьбе,
В степи нашел его, привел к себе.
Мне сыном стал теперь и другом он,
Простился со своим недугом он.
Тебя прошу, к тебе взываю так:
Да будет заключен скорее брак!
Добро любое Кайсу дать я рад,
Как нам велит обычай и обряд:
Блестит жемчужиной своей венец,
Рубины рядом — и светлей венец.
Ты должен просьбу выполнить мою,
Не то — страшись: обиды не таю!..»
Вручив подарки и сказав слова,
Мужей послал он с целью сватовства.
Отец Лейли, безжалостный отец, —
Собранием, приятным для сердец,
Почтил высокое посольство все,
Чтобы видели его довольство все.
Людей с вестями принял, как гостей,
И новость он узнал среди вестей.
Враждебно эту новость встретил он,
Послам — не вовремя! — ответил он:
«Так было суждено, так хочет мир,
Чтобы Фархара месяц и кумир,
Краса, что расцвела в саду моем —
Будь розою она или шипом —
Досталась мужу славному в удел,
Чтоб ею любящий другой владел.
То приказанье — небом нам дано.
Но даже было бы другим оно,
Не вижу я причин — свой сан забыть,
У Науфаля в подчиненье быть,
Так поступить, как замышляет он, —
Его желанья превратить в закон!
И речь его, к тому же, в двух частях:
Надежда — в первой, а в последней — страх.
Обрадовал надеждой Науфаль,
Но страхом усмирит меня едва ль…
Той, что у многих отняла покой,
Предназначается жених другой.
Раскается ваш вождь в письме своем, —
Он — там, мы — здесь без горя заживем,
А если дела не поправит он,
Пусть ненависть иль милость явит он.
Проявит милость он — мы здесь сидим,
Покажет ненависть — мы здесь стоим.
Он к нам пойдет — и мы к нему пойдем.
Войну начнет — и мы войну начнем».
И так закончил, отпустив послов:
«Идите. Я других не знаю слов!»
И с тем ушли смущенные послы,
Отказом огорченные послы.
И Науфаль, ответ узнав такой,
Стал озабоченным, забыл покой,
И голос чистой совести не молк:
«Исполнить обещанье — вот мой долг!»
Собрал он войско племени всего.
Война! Война! — решенье таково.
Меджнуну повелел вступить он в бой,
Его поставил рядом он с собой,
Помощником назначил, дал коня,
Что создан был из вихря и огня,
Одежду благовоньем напитал
И голову тюрбаном обмотал.
Меджнун то слезы льет, а то вздохнет:
Не замечает, что б ни делал тот.
Конь скачет, — ничего не скажет он,
Конь станет, — мчаться не прикажет он…
И вот готово племя для войны,
Все воины по смелости равны,
И чтоб Меджнуна храбрецы спасли,
Повел их вождь к становищу Лейли.
В становище пришли в расстройство все,
Но сразу обрели геройство все:
Всех воинов собрать заставил враг!
И ненависти затянув кушак
И видя приближение беды,
Пошли навстречу, выровняв ряды.
И небо, их восторг уразумев,
И храбрость, и благословенный гнев,
Свои дела творило хорошо,
И часто говорило: «Хорошо!»
И Науфаля воины, тверды
И яростны, построились в ряды,
И плотный пар среди равнин степных,
Как от верблюдов пьяных, шел от них.
Так встретились два смелых войска там,
Чтоб славой подышать геройской там,
Чтоб кровь пролить, чтоб ужас возбудить,
Погибнуть с честью или победить.
И конский вихрь селенья закрывал
И жалости растенья вырывал.
Степь задрожала, недрами гудя,
И стали стрелы струями дождя.
И звери заметались, видя смерть,
Напоминая смерч и водоверть.
Как змеи скручиваются в траве,
Когда ударить их по голове,
Свернулись копья — буквы «даль» кривей,
Они — подобья ивовых ветвей.
Двуострый меч могучим в битве был.
В цирюльне той подобен бритве был,
Но сразу гнев его обуревал:
Не волосы, а головы сбривал!
Как птица горя — каждая стрела,
И вот она расправила крыла,
И вот уже взлетела, и летит…
Тут сразу жизнь из тела улетит!
Взлетают стрелы в воздух наконец,
И вот все небо в звездах наконец!
Те звезды — несчастливые всегда…
Но вот копье — падучая звезда —
Проходит сквозь кольчугу: так игла
Пройти бы легкий шелк насквозь могла!
Кинжал единый миг в крови лежал, —
И стал кровавым языком кинжал.
Когда копье ломалось о копье,
Друг друга брали воины в дубье,
И в чашу головы, в пылу войны,
Дубина пряталась, как бы в ножны!
Войска напоминали стаи туч,
И меч — как молния: блестящ, летуч,
Степные звери — вихрь, издалека
Гоняющий густые облака,
И кровь подобна дождевой воде.
И тонет мир в неслыханной беде!
Зигзаги молнии при свете дня, —
Как ноги богатырского коня!
Убийством дышит в день войны ездок,
Как богатырь отважен и жесток!
Сыны арабов ревностны в бою:
Зажгли, как пламя, ненависть свою.
Два племени, две рати, две толпы, —
Стоят над ними пламени столпы.
Рать Науфаля — больше и сильней,
И ярче ярость разгорелась в ней,
Когда увидел это пламя враг,
Он оробел, закрался в сердце страх,
Отец Лейли свою заставил рать
Путь робкой осторожности избрать,
И видя: гибелью враги грозят, —
Помчались воины его назад.
Вечерняя настала тишина.
Победа славная предрешена!
И возвратился облаченный в сталь
Довольный и веселый Науфаль,
И выбрал он для сна удобный лог,
И стан воинственный на отдых лег,
И войско звезд, когда народ заснул,
Несло ночной порою караул.
Китайский хан покинул свой престол,
И на него Хосров тогда взошел.[11]
Короче: закатился шумный день,
Упала на поля ночная тень.
Решили оба стана боевых
Отрядов несколько сторожевых
Расставить на долине, на горе…
Но что судьба готовит на заре?..
О ты, боец любви! Подай вина!
Печалью мне объявлена война.
Хмелея и смелея, — в правый бой
Помчусь я с обнаженной головой!
Кто слóва своего копье метнул,
Калама так поводья повернул:
Тогда как жаждет Науфаль войны,
Его противники устрашены.
Отца Лейли отчаянье берет:
Он медленным увидел свой народ.
Решил: дождемся бед, а не побед, —
И воинов собрал он на совет,
И долго люди спорили о том,
Как прекратить войну, каким путем?
Но споры прекратил отец Лейли:
«Дни испытания теперь пришли!
Что будет, если недруг победит
И наше войско в бегство обратит,
И Науфаль, всесильный, как эмир,
Мою Лейли — мой светоч, мой кумир —
Захватит в плен? Скорбей тогда не счесть,
Погибнет наша слава, наша честь!
Нам умереть придется со стыда
Иль родину покинуть навсегда!
Я гак решил предотвратить беду:
Лейли я на рассвете приведу.
Иглой стрелы одежду ей сошью,
Нужна ей хна? Я кровь ее пролью,
На землю пальму тела повалю
И в землю ствол зарыть я повелю.
Хотя она свеча моих очей,
Цветущий сад она души моей,
Она — мне дочь, и потому хочу,
Чтоб ветер смерти погасил свечу,
Чтоб осень разорила этот сад,
Но только чтобы враг не знал услад!
Пусть уничтожу юную красу, —
Зато свою и вашу честь спасу!»
И воинов обрадовал глава,
Одобрили они его слова.
Но Науфаля рать была сильней:
Удача гордо реяла над ней.
Меджнуна жизнь похожа на туман,
То счастлив он, то горем обуян.
Как вспомнит о Лейли, о встрече с ней, —
Его чело становится ясней.
Поймет, чтó племени ее грозит, —
Смертельная тоска его пронзит.
Сочувствует другим тот, кто влюблен:
Великодушье — вот любви закон!
Он горем был подавлен, угнетен,
А счастье на глаза нагнало сон.
Он дивный образ увидал во сне.
Нет, девушку, подобную весне!
Не девушку, а кипарис! О нет:
Для солнца — страшной ревности предмет.
И меркнет луч луны в ее луче!
От головы до ног в шелку, в парче,
Касалась легкою стопой земли.
Меджнун узнал ее, свою Лейли!
Остановилась на пороге вдруг,
Поцеловала Кайса в ноги вдруг,
Склонилася, чтобы его поднять,
И сделала, чтобы его обнять,
Для шеи ожерелие из рук.
Сказала: «Верный друг! Нет, вечный друг!
Решил отец, а с ним и весь народ,
Убить меня, когда заря взойдет,
Чтоб солнце жизни скрылось за горой,
Чтоб стала кровь вечернею зарей,
Чтоб стала кровь вечернею зарей,
Чтоб я нашла жилище под землей.
Мой друг! Судьбу мою благослови!
Я раствориться жаждала в любви,
Искала я в любви небытия,
И вот исполнилась мечта моя!
Чего хотела, для чего жила,
К чему стремилась я — к тому пришла.
Пришла к своей любви, к твоей любви.
Прощай. Умру я завтра. Ты — живи».
Из глаз прекрасных слезы потекли,
И спящего покинула Лейли.
Издал безумец исступленный стон,
И сразу всех людей оставил сон.
Стонал он и рыдал в печали там,
А воины впотьмах кричали там:
«Что это значит? Нет ли здесь врага?»
Но к Науфалю быстро, как слуга,
Меджнун помчался, горестью гоним,
Поцеловал он землю перед ним,
Заговорил, — а страх застыл в глазах:
«О повергающий врага во прах!
Прошу тебя, — вложи свой меч в ножны.
Прошу тебя, — не продолжай войны.
Ведя войну, воюешь ты со мной,
В меня теперь вонзаешь меч стальной!
Лук ненависти вырони из рук:
Ты на меня направил этот лук!»
Был озадачен Науфаль весьма.
Подумал: Кайс опять сошел с ума?
Расспрашивать страдальца начал он,
И рассказал Меджнун свой вещий сон.
И выслушал страдальца Науфаль,
И погрузился в долгую печаль.
И понял он: правдив Меджнун во всем,
Он просветлен правдивым, вещим сном.
Меджнун — прозрачный ключ с прозрачным дном,
Он зеркало: мир отразился в нем.
Но, всматриваясь в эту чистоту,
Увидим только правды красоту!..
Когда пришла аравитянка-ночь,
Семью младенцев-звезд отбросив прочь,
Когда расставил юрты звезд, как встарь,
На синем поле тюрков государь, —
О сне Меджнуна, молнии быстрей,
Распространилась весть среди людей.
Одобрил весь народ его слова:
«Уйдем назад, пока Лейли жива!»
И с войском удалился Науфаль,
А Кайс помчал коня в степную даль…
О голос неба, ты меня призвал,
Достоин ты бесчисленных похвал:
Рабу — счастливую мне долю дал!
О, лучше бы, прогнав, мне волю дал…
Кто разукрасил чистую тетрадь, —
Слова такие пожелал избрать:
Гадали соплеменники Лейли:
«Зачем бойцы противника ушли?
О, что же тут содеял Науфаль?
Не хитрость ли затеял Науфаль?
Так близок он к победе был уже!..»
Решили: надо быть настороже,
В другой степи разбить решили стан,
Сказав: «Уходит в Мекку караван…»
Меджнун, держа за повод скакуна,
В степи с утра скитался до темна,
И путника нежданно встретил он.
Клеймо скорбей на нем заметил он.
И, горем незнакомца огорчен,
Спросил Меджнун, о чем тоскует он?
И молвил тот: «О господин! Твой раб —
Несчастнейший, презреннейший араб.
В такую впал я страшную нужду,
Что нищенскую жизнь в степи веду,
У всех я подаяния прошу,
Дневного пропитания прошу.
Мое пристанище — народ Лейли,
Мне служит ложем пыль его земли.
Голодной я обременен семьей.
Зовусь я Зейдом, жалок жребий мой.
Когда Меджнуну преданным слугой
Стал Науфаль, чтоб кровь пролить рекой,
Когда на стан Лейли повел он рать, К
огда, войну прервав, ушел он вспять, —
Решил народ Лейли, что здесь — обман,
Что Науфаль поймает всех в капкан,
Что рано веселиться и плясать,
Что возвратится Науфаль опять,
Что здесь опасно ночевать сейчас,
Что надо перекочевать сейчас!
И вот над миром пролита смола,
Легла густая мгла, ночная мгла, —
И я заснул. Проснулся — стан исчез,
И только пыль восходит до небес!
И я пошел, чтоб к племени примкнуть,
Но мне внезапно преградили путь
Два всадника: они, в тряпье худом,
Сидели на верблюдице верхом.
У Науфаля бранный гнев затих, —
Он отпустил всех воинов своих,
И эти тоже ехали домой…
И вот они мешок забрали мой, —
Хранился промысел мой нищий там:
Немного было черствой пищи там
И два дирхема, и один дирхем
Зашит… И воры завладели всем!
Упал я под ударами бича,
А воры надо мной стоят, крича:
«Где спрятал ты свое добро, скажи!
Вернись назад и место покажи!»
И долго так тиранили меня,
Измучили, изранили меня,
И вот разбойники умчались вскачь,
И в том узрев удачу из удач,
Поспешно я пошел степной тропой,
Столкнулся неожиданно с тобой.
Но если ты такой же вор и тать,
Как эти всадники, — то должен знать:
Пуст мой карман, и все мое добро —
Моей души правдивой серебро!»
Меджнун заплакал, выслушав рассказ.
Сказал: «О друг мой! Ранен ты сейчас,
Ты нищ, и по душе пример твой мне,
Отрадно за тебя стать жертвой мне!
Когда от Науфалевых людей
Ты пострадал или другой злодей —
Меджнун — виновник всех твоих обид,
Так знай: Меджнун перед тобой стоит!
Ты нищий, ты валяешься в грязи?
Возьми же меч, Меджнуна порази
И надвое Меджнуна рассеки,
И разруби ты сердце на куски!
Пугает злодеяние тебя?
Но я прощу заранее тебя!..
Ты деньги потерял из-за меня?
Возьми в замену моего коня!
Ограблен ты бесчестными людьми?
Взамен своих вещей мои возьми!»
Меджнун своим добром не дорожил.
Одежды снял, пред Зейдом их сложил,
Подвел к нему лихого скакуна
И все доспехи подарил сполна,
И ноги он поцеловал ему
И молвил: «Смерть я за тебя приму!
Когда от горестей своих вдали,
Ты вновь достигнешь племени Лейли, —
Как я скажу, где я найду слова:
Привет, мол, передай Лейли сперва,
Такая-то, мол, и такая весть…
О, на какой язык мне перевесть
Мою печаль и боль! Здесь нужен крик,
Другой, не человеческий язык!
Судьбою равен ты моей судьбе,
С мольбою обращаюсь я к тебе:
За племенем Лейли иди всегда,
Куда пойдет Лейли, пойди туда,
Ляг на пороге у ее дверей,
Не поднимая головы своей,
И прахом стань перед ее дверьми,
И душу раздели между людьми!
А если жаль тебе души своей, —
Мою возьми, вынь сердце поскорей,
И душу растопчи пред нею сам,
И сердце брось на растерзанье псам!»
От этих слов, от этих горьких дум
Расстроенный пришел в расстройство ум,
И Зейда эти речи потрясли.
Меджнуну поклонившись до земли,
Сказал: «Избранник дней, ты — светлолик!
Как знаменье Корана, ты велик!
В ночи разлуки, в этой мгле сырой,
Лейли сияет утренней зарей!
Она заря твоей надежды. Нет,
То — солнца вечного нетленный свет!
Так от любви к тебе она слаба,
Что сказкой сделалась ее судьба.
Лишь о тебе твердят ее уста,
В ее душе — лишь о тебе мечта.
Я о тебе доставлю повесть ей, —
Душою станет эта новость ей!
И счастье госпожи в отраду мне, —
Она двойную даст награду мне.
Прикажешь — передам Лейли привет,
Прикажешь — принесу тебе ответ,
Отныне и во сне, и наяву
Желаньем двух влюбленных я живу!»
Сказал Меджнун, надеясь и томясь:
«Для ран моих твое дыханье — мазь!
О друг моей души, товарищ мой!
Я разлучен с Лейли, и я немой.
Ты просишь слов? Не знает слов язык,
Из-за Лейли я говорить отвык.
Ступай. Одежды верности надень,
Да будет бог с тобою каждый день».
И Зейд на скакуна вскочил тогда
И скрылся, как летящая звезда.
Помчался к племени Лейли скакун,
И в ту же сторону пошел Меджнун.
Не шел он, — сами ноги привели
К стоянке прежней племени Лейли…
О ветер из жилья любви! Спеши,
Неси благоухание души!
Я задохнусь, паду я на ветру!
Нет вести о любимой? Я умру!
Кто на площадке слов бывал горяч,
В човган играя, так подбросил мяч:
Был жаркий полдень, — гибель для земли.
На мир бросал он пламя, как Лейли.
В степях Аравии настал таммуз,
И землю зной давил, как тяжкий груз.
Горячий ветер, как Меджнун гоним,
Всех обжигал дыханием своим.
Меджнун бежал и ноги поднимал,
Как от жаровни, ноги отнимал:
Песок июньским солнцем накален!
От зноя пострадал и небосклон,
И звезды, устрашенные жарой,
Искали тени где-то под землей,
Переменилось неба естество,
Как видно, лихорадило его!
Весь мир жара ужасная сожгла,
И стала пеплом каждая скала,
А камни драгоценные в скале
Подобны углям, тлеющим в золе.
Река в себя струю жары вберет,
И начинается водоворот!
Захочет утка сунуться в поток, —
Ее обварит этот кипяток,
Но чтобы ноги в воду окунуть,
Спешит их перепонкой обтянуть.
Колосья хлеба лопнули везде,
С горохом схожи на сковороде.
И небу желтый блеск жара дала,
И землю раскалила добела.
И вот уже к сковороде земли
Фазан и куропатка подошли,
Они клюют готовое пшено:
Ай, хорошо изжарено оно!
Паук в полыни скрылся от жары:
Он в паутине скрылся от жары.
Бежит собака, высунув язык:
То — летний месяц молодой возник!
Червяк — он плавится в таком аду —
Спешит укрыться в наливном плоду.
Так солнце убивает все плоды,
А прежде нежило на все лады!
В степи лежало озеро, дремля, —
Всю воду залпом выпила земля,
От горя треснуло сухое дно:
Тоскует по своей воде оно…
В подобный день Меджнун достиг земли,
Где прежде жил народ его Лейли.
Меджнун следы стоянки обошел,
Становища останки обошел,
Там, где следы жилья заметить мог,
Он подметал ресницами порог.
Случайно поднял он безумный взор, —
Увидел он возлюбленной шатер.
Упал Меджнун, от боли сжался весь:
Вот здесь она жила, дышала здесь,
Вот этот прах… то был порог ее!
Вот эта пыль касалась ног ее!
Меджнун еще сильнее занемог,
Любви еще свежее стал ожог,
К любимой сердце бедное рвалось.
Он запах чувствовал ее волос,
Припав к земле, вбирал он грудью всей
Дыхание возлюбленной своей.
Ресницами густыми жалкий прах
Он подметал и пыль скрывал в глазах,—
Как бы легла на стекла эта пыль,
От слез его размокла эта пыль,
И стала глиной вязкою она,
И сделалась замазкою она:
Окно замазать нужно навсегда,
Чтоб в дом любимой не вошла беда!
И на мгновенье лег безумец в печь,
Чтобы своим огнем ее зажечь,
Золой глаза намазал, как сурьмой,
И, как сурьма, глаза оделись тьмой.
Потом конюшню старую нашел,
Он к стойлам опустевшим подошел, —
И сразу пожелтел он, как саман!
И снял он с крыши несколько семян,
Посеял в сердце семена любви.
И раны он перевязал свои,
Из крыши вырвав войлока кусок…
Его вниманье жалкий пес привлек.
Был в язвах, лишаях паршивый пес,
Краснела кожа, вся сплошной расчес,
Из носа, изо рта текла вода,
И в жилах крови не было следа;
Был от сустава отделен сустав,
Валялось мясо, от костей отпав.
Песчинка, волос, что к нему прилип, —
Считаться ношей для него могли б.
Не в силах был ходить, не в силах встать,
Не мог поднять хвоста пустую кладь.
Он запахом гниения пропах;
Не закрывались губы на зубах, —
Он зубы скалил, будто над собой
Смеялся, над несчастною судьбой;
Глаза низверг он в ямы: спрятал взор,
Как бы стыдясь взглянуть на свой позор!
Все тело гнойной влагой налито,
Вся кожа превратилась в решето,
И черви жадные вползли в нее:
Находят в ранах пищу и жилье.
И, с пластырем и мазью незнаком,
Облизывал он раны языком,
Облизывал их с яростью такой,
С какой когда-то лаял день-деньской!
Кишело столько мух в отверстьях ран,
Что мнилось: пятнами покрыт тюльпан.
От мух немало вытерпел он мук,
И вороны над ним чертили круг…
И, возмущен жестокостью такой,
Глядел на пса Меджнун, глядел с тоской,
Умилосердить он хотел червей,
Умилостивить птиц мольбой своей:
«О вороны! Ваш вид благословен!
Мне будьте, вороны, венка взамен!
Вся в ранах голова моя сейчас, —
Гнездо готово каждому из вас!
Пробито сердце вздохами насквозь,
И дыр немало бы для вас нашлось!
Разрушен я неправдой, горем, злом,
О, сделайте развалину жильем!
Вонзитесь в тело, выклюньте глаза, —
Не трогайте глаза и тело пса!
Вам нужен только тощий пес больной?
Я пес больной. Насытьтесь, птицы, мной!»
Но понял он, что речь его слаба,
Бессильны довод, просьба и мольба,
И крикнул он, и птицы скрылись прочь…
Меджнун спешил животному помочь,
Страдающего пса поцеловал,
Потом свою рубаху разорвал,
На ранах вытер кровь умело он,
Повязки наложил на тело он,
И в тень больного пса он перенес,
Взрастив на нем цветы кровавых слез:
«О ты, кто был на благо всех племен
Из верности и дружбы сотворен!
Ты умираешь, горе — твой удел,
Каким великим сердцем ты владел!
Как мышь летучая, не знал ты сна,
И голова была всегда ясна,
О верный страж! Так чуток был твой слух,
Что сотни прочих сторожей и слуг,
Храня жилье, могли спокойно спать,
Курильщиками опиума стать!
Насторожился волк, тебя страшась:
Огни зажег в глазах в полночный час!
И леопард, придя издалека,
Едва заметив два твоих клыка,
От огорченья, бедный, занемог,
Пятнистым стал от головы до ног!
И полосы на шкурах тигров злых, —
Следы царапин от когтей твоих!
И барс глаза зажмурил от стыда,
Увидев, как ты прыгаешь всегда!
Подобны мирте отпечатки лап.
«Плеяды», — говорит о них араб.
О, ты бежал под стременем царя,
И шею гладила твою заря!
Ты болен. Человечий страшен суд:
Тебя завидев, люди прочь бегут.
И пусть бегут себе! Но ты поверь:
Я дружбою с тобой горжусь теперь!
Когда ты лаял на дворе Лейли,
В собачьей стае бегал я в пыли.
Ты мчался по степи стрелы быстрей,
Я был собакой у ее дверей.
Когда ты возвещал, что будет гость,
Ты получал из рук прекрасных кость,
Тебя ласкала лучшая из дев,
На шею ожерелие надев.
Пусть буду жертвой телу твоему!
Пусть гибель от клыков твоих приму!
Вот кровь моя, больного сердца дань:
Сильней и здоровей, чем прежде, стань!
И если снова счастье обретешь
И в дом Лейли ты снова будешь вхож,
Тогда моей тоске чужим не будь,
Тогда меня, страдальца, не забудь,
И душу у меня ты отними
И положи перед ее дверьми!
По улице промчишься, верный страж,
И мой привет прохожим передашь.
Ты будешь кость на улице глодать —
Меня припомнишь: я — кости под стать.
Вдруг счастье вздумает тебе помочь:
Настанет ночь, тебе не крикнут: «Прочь!» —
Ты сразу прекратишь протяжный вой,
Положишь тихо подбородок свой
На пальцы мягкие передних ног,
Положишь морду на ее порог, —
Тогда, прошу я, милость мне даруй:
Порог любимой тайно поцелуй,
Чтобы никто, никто узнать не мог,
Что это я поцеловал порог!
Пусть позабуду я сиянье дня,
Но вырви оба глаза у меня,
И на ее дорогу положи,
Там, где поставит ногу, положи!»
Так мудро говорил он о Лейли,
Прохожих эти речи привлекли.
Кто знал его — заплакал, пожалев,
А кто не знал, дивился, ошалев:
Собаку он слезами оросил!
И некий добрый человек спросил:
«О ты, кто углем был в огне любви!
Нет, саламандрою себя зови!
Небесными твои дела слывут,
И люди ангелом тебя зовут.
Из пламени и света существо,
Ты ангела являешь естество.
Был ангелом для нас бесплотным ты, —
Свел дружбу с мерзостным животным ты!
Меж ангелом и псом какая связь?
Как чистоту соединить и грязь?
Не вступит ангел в дом, в котором — пес:
Преграду между ними бог вознес!»
Меджнун ответил на слова его:
«Ты о любви не знаешь ничего!
Себя скорее ангелом зови:
Ни разу не страдал ты от любви!
Таких, как я, звать ангелами — ложь:
Я даже духам злым внушаю дрожь!
В любви сгорело существо мое,
Небытием сменилось бытие.
Я куча пепла: раненому псу,
Как пепел, облегченье принесу.
Пес — в ранах весь. Иль будут люди злы
И пса прогонят от моей золы?
В нем нет собачьих свойств, он чист вполне:
Вся псарня мира собрана во мне!
Я пес, я раненое существо,
Позор я для народа своего!
Кто ранен, душу тот готов отдать
За пластырь. Я же должен обладать
Десятком душ, нет, нужен мне туман,
Нет, сто туманов, чтоб спастись от ран!»
Росло безумье в нем от этих слов…
Внезапно диких вспомнил он ослов
Пустыни, где с джейранами бродил,
С газелями, куланами бродил,
И на прощанье пса поцеловал,
И на пустынный вышел перевал,
И к диким зверям побежал скорей,
И стал он жить опять среди зверей.
Когда Меджнуном посланный к Лейли
Зейд, наконец, достиг ее земли,
И доступ вскоре получил к луне,
И с ней увиделся наедине, —
О нем, испепеленном, рассказал,
О жалком, о влюбленном рассказал.
У пери закружилась голова,
Едва услышала его слова,
Дыханье стало пламенем полно,
И сердца сталь расплавило оно.
То амброю пропитана коса,
Иль дым над головою поднялся́?
Она, как черная коса ее.
Вся извивалась, и краса ее
Неугасимым пламенем зажглась,
Вода печали потекла из глаз:
«Твои слова, как душу, я приму:
Вернул ты душу телу моему.
Недуга моего целитель ты,
Не человек, а небожитель ты!»
И быстро побежала в свой покой,
И вышла со шкатулкой дорогой:
Там были редкостные жемчуга.
Сказала: «Весть твоя мне дорога,
Она ценней подарка во сто раз,
Но мало денег у меня сейчас…
О Зейд! Не скрою жадности своей:
Стократ была бы весть твоя ценней, —
Я недовольной все-таки была б!
О, где же он, любви безумный раб?
Ему письмо страданья напишу!
Я милости и верности прошу!
Свою печаль я передам письму,
Доставь его безумцу моему,
Ко мне с его ответом поспеши!»
И Зейд сказал: «Я раб твоей души,
Но торопись: меня пославший ждет,
К несчастью промедление ведет!»
Потребовав чернила и калам,
Чернила со слезами пополам
Смешав, Лейли закончила письмо, —
В нем сердце запечатано само!
И Зейд в пустыню поспешил с письмом,
А там в очаровании немом
Дни одиночества Меджнун влачил,
И Зейд ему послание вручил.
Упал он, уподобившись тому
Искомканному, смятому письму,
И молвил так: «Благословен посол!
С каким известьем ты ко мне пришел?
Единым словом исцеленье дай,
Открой письмо, ее веленье дай!»
Кто начал эту книгу в добрый час,
Продолжил так правдивый свой рассказ:
По милом сыне убивалась мать,
Отец не в силах был уже страдать,
Хотя решил: непоправимо зло, —
Стремленье к сыну верх над всем взяло.
Быть может, думал он, безумный сын
Над скорбью сжалится его седин,
И плач родительский, истошный крик
Безумья свяжет, может быть, язык,
Язык отца найдет сто тонких слов,
И вновь Меджнун войдет под отчий кров…
Решил: надежда сбудется его!
И повезла верблюдица его
В пустыню, и прошло немало дней,
И груду серых он нашел камней,
Он жалкие развалины нашел,
Он сына, опечаленный, нашел!
Безумному развалины сродни:
Он был разрушен больше, чем они.
Чем занят он, отшельником живя?
То убивает жалкого червя,
То под горою глину роет он,
Столбы из этой глины строит он,
То голову посыплет прахом он…
То, одержим внезапным страхом, он
Садится быстро на́ стену верхом,
Трясется весь в отчаянье глухом,
Кусает ногти, рукава жует…
То запоет он, как сова поет,
И молкнет, обессиленный, потом,
От пыли чистит филина потом,
И, дерзкая, познав свои права,
Ему садится на руку сова,
Садится филин и глядит вперед,
Рога о голову Меджнуна трет.
Господь раненья в голову нанес, —
На ней ранений больше, чем волос.
В глазах окровавлённых — сто сучков,
Их больше, чем ресничных волосков.
Черты на крыше выведет впотьмах,
Из этих черт невольно выйдет: ах!..
И был отец несчастьем сразу смят,
Сыграло с ним страданье, сделав мат!
Воскликнул он: «Подобие чего
Вот это загнанное существо?
Ужели человеком назову?
Ужели сына вижу наяву?»
Отшельник страшен был, а шаг тяжел,
И все ж отец к Меджнуну подошел.
Но в сторону безумец отбежал,
Как будто страх отец ему внушал,
Как будто им сыновний долг забыт.
Заплакал тут седой отец навзрыд:
«О, должен ли меня страшиться ты!
О, сердца моего частица ты,
А сердце потеряло ранам счет!»
И понял сын: отец его зовет,
И встречей счастлив он с отцом родным,
И, вздох издав, упал он перед ним.
Отец нагнулся, поднял сына он,
С Меджнуном слился воедино он.
И крепко два страдальца обнялись,
Как буквы однородные слились,[12]
В смятении кричали каждый миг,
И это был печали страшный крик.
Когда же улеглась тоска сердец,
Воскликнул так дряхлеющий отец:
«Несчастный сын! Ты — часть моей груди!
Сердечных ран моих не береди!
Ты плоть моя: ты ранен — ранен я,
Ты бездыханен — бездыханен я.
Еще не начинались дни твои,
А кровь твоя текла в моей крови.
Я требовал тебя в мольбах своих, —
Кормил голодных, одевал нагих,
С молитвою ложился и вставал
И милостыню бедным раздавал.
И я тебя нашел на склоне дней,
Ты стал единой радостью моей.
Сто капель крови я терял, пока
Ты насыщался каплей молока.
Колючка малая в твоей ступне
Вонзалась острым жалом в печень мне.
И свет наук твои глаза привлек, —
Тебя на первый я привел урок,
Чтоб с добрыми ты чувствами дружил,
С науками, с искусствами дружил,
Чтоб знание, достоинство и честь
Сумел ты самым высшим благом счесть.
Когда ты уходил и приходил,
За каждым шагом я твоим следил.
Я думал так: настанет мой черед,
От Истинного смерть ко мне придет,
Как некогда к родителям моим, —
Таков удел, назначенный живым, —
Тогда жилище взглядом обведу,
Тебя с собою рядом я найду, —
Ты будешь то в ногах, то в головах,
И я легко земной покину прах.
Когда простится с бренным телом дух,
Увидишь: дней моих огонь потух, —
От горя скрутишься веревкой ты,
Забьешься бабочкой неловкой ты,
Мне рай твоя молитва отопрет,
Тобою озарится мой народ.
Я думал: встречу смерть свою светло,
Мое в народе имя не мало,
И не мала и не пуста казна:
Чужому не достанется она.
Не даст наследник расточаться ей,
Не устремятся домочадцы к ней,
Не страшен ветер моему шатру,
Найдется крепость моему добру,
Мой дом родной не будет знать невзгод,
И в радости пребудет мой народ…
И время наступает: я умру.
Ночь тягот мчится к моему утру,
Сменило утро смерти ночь мою,
И я обличье смерти узнаю.
Свеча моя вот-вот сгореть должна,
Один твой вздох — погаснет вдруг она.
Душа вот-вот отправится в полет,
Один твой крик — и крыльями взмахнет.
Ты не был волен в том, — не прекословь, —
Что пала слабая душа в любовь,
Но есть конец, пойми, для всяких дел,
Но есть для каждой гибели предел.
Иль не видали мы людей любви?
Иль не топтали мы путей любви?
Кто в битве с нею голову сложил,
Тот разума презренье заслужил,
Тот не утонет, кто в пучине вод
Ногами и руками бить начнет,
Но тот, кто не старается спастись,
Не может не погибнуть, согласись.
Чтоб выбраться из чаши, муравей
Не силу — ум спешит собрать скорей
Не только немощь людям дал господь, —
Лекарство дал, чтоб немощь побороть.
Сверни, мой сын, с опасного пути,
Старайся думать, как себя спасти.
Не сразу станет мудрым ученик,
Не сразу станет сахарным тростник,
Не сразу исцеленье ты найдешь,
Но все же к просветленью ты придешь.
Сто лет прожить захочет человек, —
Терпенья пусть возьмет на целый век.
Увы, тяжел на минарет подъем,
Зато легко сойдем с него потом.
Безумия вершина под тобой:
С горы спустись знакомою тропой.
Доколе без тебя мне горевать?
Покоя без тебя не знает мать,
От ночи до утра не знает сна,
С утра до ночи слезы льет она.
Взывает мать: «Мой сын, ребенок мой!»
Рыдает мать: «О верблюжонок мой!»
И так о камень бьется головой,
Что даже камень плачет, как живой.
Лицо свое, что горем обожглось,
Осыпав камфарой седых волос,
Тоскует мать, твоей тоской полна,
Ты падаешь — и падает она.
Последний или предпоследний вздох, —
Вот все, что ей теперь оставил бог.
Ушла надежда наша, — не вернуть.
Пора нам собираться в дальний путь.
Мой бедный сын! Ушел из дому ты, —
Ужель отдашь его чужому ты?
Тепло твое хранит твоя постель, —
Мой бедный сын! Ей дашь остыть ужель?
Умрем из-за тебя. Подумай сам:
Что ты ответишь гневным небесам?»
И, выслушав прекрасные слова,
Меджнун к ногам отца припал сперва,
Ресницами подмел он каждый след
Отцовских ног и так сказал в ответ:
«О ты, чье племя для меня кыбла!
О, да сгорит печаль твоя дотла!
Лекарства мне ты приготовил в дар,
Но в пепел превратил их мой пожар.
Терпенье, говоришь? Его унес
Поток моих кровавых, жарких слез!
Зачем твоя безжалостная речь
Клеймом клеймо старается прижечь?
Где мужество, где право я возьму,
Чтоб отвечать призыву твоему?
Твое желанье для меня приказ,
Как ты велишь, так поступлю сейчас.
Что я могу сказать в ответ тебе,
Когда ответа нет в моей судьбе?
А был бы вправе дать тебе ответ, —
Свидетель целый свет, — сказал бы: нет!
Но всюду заклеймен позором я,
Судьбы наказан приговором я,
Зажжен любовью, связан я судьбой.
Лишен я воли над самим собой.
Меня спасать остерегайся ты:
Меджнуна видишь, а не Кайса ты!
Не кипарис, — трава перед тобой,
Уже трава становится золой, —
Быть может, смерч, кружащий на земле,
Вид кипариса вновь придаст золе!
Когда, как солнце, ты пришел сюда,
Увидел ты: я — черная звезда.
Зачем не знал я ранее тебя?
Бежал я от незнания тебя!
Вовеки недостоин я того,
Чтоб ты со мною признавал родство!
Пути зверей, я понял, не для нас,
Не может человеком стать Наснас.
Хотя собаки хуже всякой я,
Но быть хочу твоей собакой я:
Неверности не ведает она.
За человеком следует она.
Безумный пес в глуши пустынной я,
Но прихожу к тебе с повинной я.
Захочешь — пса прогонишь ты пинком,
Захочешь — пожалеешь, примешь в дом.
И точно так же ты меня прими,
Я буду снова жить между людьми!
Разумными считай мои дела,
Да не коснется их твоя хула!
Виновен я, но есть один закон:
Кто повинился, должен быть прощен».
Замолк Меджнун, и с быстротой слуги
К верблюдице направил он шаги,
И сразу — не забыл сноровку он —
От сбруи отвязал веревку он,
И к шее привязал ее своей
Одним концом, и подал поскорей
Другой конец отцу, и произнес:
«Я твой привязанный за шею пес!»
И, молвив так, он посреди пути
На четвереньках принялся ползти.
Отец веревку с шеи снял с трудом,
Спеша вернуть безумца в отчий дом…
Когда безумцем я проклятым стал,
Я родины своей вожатым стал.
У Кайса дом, отец… О Навои,
Ты без отца, и к дому нет любви!
Кто ехал на верблюдице стихов,
Тот песню пел, и был напев таков:
Когда безумец в отчий дом вступил,
Обрадовался тот, кто грустен был,
Отец повеселел душой опять,
Помолодела сгорбленная мать,
В парчу одели сына, в тонкий шелк…
Об этом деле разговор не молк,
Сердца людей он заставлял расцвесть!
Узнал и Науфаль благую весть.
Он тосковал о юноше больном,
Он горевал, скорбел душой о нем.
Прогнал счастливый слух его печаль!
И, чтоб Меджнуна видеть, Науфаль
Помчался вскоре к племени Амир.
Забыто горе в племени Амир,
С любовью встречен знатный воин был,
Прием сердечен и достоин был,
За гостя каждый жертвой стать готов!
И, дружбу выказав на сто ладов,
Меджнун и полководец обнялись,
Как две лозы, они переплелись.
И долго в стане племени Амир
В честь Науфаля шел веселый пир.
Был весел Науфаль, доволен всем,
Не видел, что Меджнун смущен и нем.
Когда зашла вечерняя заря,
Как Науфаль, отвагаю горя,
Когда меджнуноликим небесам
Предаться время пробило слезам,
Разбросить всюду горсти звезд своих —
Опресноки припасов путевых, —
Тогда и гость дорогою прямой
Направил скакуна к себе домой.
Был весел Науфаль, ретив скакун, —
По-прежнему невесел был Меджнун.
Отец его, с собой наедине,
Так думал: «Прибыл Науфаль ко мне,
Меня возвысил он среди людей,
Мой дом почтил он милостью своей.
Мне полководец оказал почет…
Какая цель его сюда влечет?»
И вспомнил он: «Твердили все кругом:
С Меджнуном Науфаль давно знаком,
Меджнуна ради обнажил он меч,
Меджнуна сыном он желал наречь,
На дочери своей женить его…
Да, склонен он вступить со мной в родство
А нет, — зачем он прискакал в мой стан?
У Кайса не такой высокий сан,
Чтоб запросто к нам ездил Науфаль!
Без повода он прибыл бы едва ль…
Мы Науфаля посетим сейчас, —
Того учтивость требует от нас,
Проявим кротость в разговоре с ним,
Потом слова о браке изъясним.
Нам будет радость, если скажет: да!
А скажет: нет! — смиримся мы тогда.
И вот старейшин всех собрал глава.
Одобрили они его слова.
Решили: Кайс останется в дому, —
Не подобает выезжать ему.
И вот плеяды полночи зажглись,
И люди, как плеяды, собрались,
И двинулись они степным путем,
И сто рассказов повели потом,
И побасёнкам не было конца.
Увеселяя так свои сердца,
Достигли науфалевых шатров.
Они нашли гостеприимный кров.
Умом высок и светел Науфаль!
Гостей с почетом встретил Науфаль,
Он поместил их в лучшие шатры,
И начались веселые пиры.
И гости, молчаливые досель,
Открыли, в чем их посещенья цель.
Был Науфаль обрадован весьма.
Благая весть для сердца и ума!
Сказал: «Давно уже, по мере сил,
Заботу о Меджнуне я вкусил,
О браке слово я сказал давно,
То слово крепкое навек дано,
Отказывать не стану и теперь.
Назад ступайте к стану вы теперь,
А здесь для пира свадебного я
Велю готовить яства, пития.
Меджнуна сыном скоро назову —
Желаньем этим только и живу».
И свадьбы день назначил Науфаль.
Приготовленья начал Науфаль,
Чтоб угощеньем на пиру блеснуть…
Простились гости и пустились в путь,
Поехали, довольные собой,
Не зная, чтó им суждено судьбой.
Случилось так: Меджнун в своем шатре
Метался, как преступник на костре,
Его объяла пламенем любовь,
Лишила воли, в степь толкала вновь.
И вырвался язык огня любви,
И выбежал безумец в забытьи.
Родных разбив надежды, — убежал,
В пустыню без одежды побежал.
Так мчится до заката солнца он,
Не знает сам, куда несется он, —
Любовь Меджнуна по степи несла.
Но вот седое небо до Козла[13]
Домчалось, наконец, издалека,
Собрало звезды — капли молока,
Лепешку приготовило оно,
И снова солнце мира зажжено!
И услыхал Меджнун блеянье вдруг,
И стадо увидал баранье вдруг,
И встретился в пустыне с пастухом, —
Казалось, был ему пастух знаком,
И пастуха страдалец поразил,
Страдальца о здоровье он спросил.
«Твой лик благословен! — Меджнун вскричал, —
Скажи, где прежде я тебя встречал?
Меня влечет к тебе твой добрый нрав!»
Сказал пастух, к ногам его припав:
«Мой жребий скромен — я пастух простой.
К баранам отношусь я с добротой,
С ягнятами беседую всегда,
Лейли принадлежат мои стада.
В народе я видал тебя не раз,
Страданья школу ты прошел у нас,
Давно я знаю про твою беду,
Но я лекарство для тебя найду!»
Меджнун, чтоб высказать любовь свою,
Упал пред ним, он сделал бровь свою
Подковкой для сандальи пастуха,
Воскликнул: «О не ведавший греха!
Твои слова, как душу, я приму,
Вернул ты душу телу моему!
Ты мертвых оживляешь, как Иса,
В пастушестве творишь ты чудеса!
О ты — Муса: твой клич законом стал!
Ты — Аарон: твой жезл драконом стал![14]
Нет, Хызром стал ты на моем пути,
Живую воду мне помог найти![15]
В ночи разлуки стал ты светом дня.
Я болен страстью. Пожалей меня».
Сказал пастух: «Благословен твой путь!
Мой друг, со мной до вечера побудь,
Мне ведомо влечение твое,
Мне сладко излечение твое».
И вот Меджнун весь день в пыли бредет,
Но длится долгий день, как целый год.
И вот заходит солнце. День потух.
К становищу погнал стада пастух,
Потом баранью шкуру показал:
«Накинь ее на плечи, — он сказал, —
Войди в нее, Меджнун, согни свой стан
И стань четвероногим, как баран,
И буду в стаде я тебя пасти, —
Такого случая не упусти.
Узнай: как солнце озаряет мир
В созвездье Овна, так и твой кумир,
Играя и резвясь в кругу подруг,
Сюда приходит, на зеленый луг,
Чтобы взглянуть, как мы доим овец,
Блеснуть, как солнце, для простых сердец,
Дойдет она до головы твоей, —
Тогда на пери бросить взгляд сумей!»
И вот Меджнун — таков его удел —
Баранью шкуру на себя надел,
И весь вошел в нее, согнув свой стан, —
И стал четвероногим, как баран.
И вот встает становище вдали,
И вот бежит с подругами Лейли, —
Так в ореоле звезд блестит луна.
Она тоской великою полна,
Огонь разлуки щеки ей ожег, —
Покрыл румянец кожу нежных щек.
И лепесток — лицо ее: оно
Росой кровавых слез напоено.
И локон уподобился метле:
Смятенья пыль развеял по земле.
Смятение сурьмит ее глаза,
В них блещет молния, шумит гроза,
Печали черный дым клубится там,
Ресница каждая — убийца там!
Разумного сожжет ее краса,
Безумного убьет ее гроза.
Воистину красавица она:
Все гибнет, лишь появится она.
Ей пери позавидовать могли б!..
Ее Меджнун увидел — и погиб.
Такой издал он исступленный вздох,
Что небо задрожало, мир оглох!
Среди баранов он упал в пыли, —
Как будто на закланье повели.
Забывшись, он заплакал, и тогда
Бараны разбежались, кто куда, —
Друг друга забодали на бегу.
Лишь он один остался на лугу.
«Что это значит?» — думает Лейли.
«Кто это плачет?» — думает Лейли.
И видит: шкура на траве лежит.
И видит: в ней возлюбленный сокрыт.
Он в пепел превращен огнем любви.
Нет, лучше мускусом его зови!
Как мускус — черен, а в глазах — тоска,
Худое тело тоньше волоска.
И горестью раздавлена Лейли,
И разумом оставлена Лейли,
С Меджнуном рядом падает. О нет,
То падает на землю чистый свет!
Любовью гурия занемогла,
С Меджнуном рядом гурия легла…
Кто был в любви правдив и светел, тот
Возлюбленную любящей зовет.
Служанок робких охватил испуг:
С подругою соединился друг!
И побежали, быстрые, к Лейли,
И подняли ее, и унесли.
Шли пастбищем овец и кобылиц,
Придумывая сотни небылиц,
Чтоб успокоить родичей Лейли.
И вскоре скрылись девушки вдали…
Вот повесть, удивляющая мир:
Когда владыка племени Амир,
Вернувшись в дом, узнал о беглеце, —
Зажег он слезы на своем лице.
Он дал излиться пламенным слезам,
Пошел он, плача, по его следам,
И всех расспрашивал о сыне он,
Безумного нашел в пустыне он,
Нашел его, покрытого песком,
И на руках понес его бегом,
Достиг он стана, тяжело дыша:
Сто раз хотела вырваться душа.
Но вот Меджнуна ложе наконец!
Меджнун очнулся: перед ним отец.
Где был он? Память бедная глуха:
Баранов он забыл и пастуха…
В степях Аймана ты пасешь стада.[16]
Твой пес — тебе я верен навсегда.
Я только твой рассказ передаю.
Возьми же руку слабую мою.
Украшенный жемчужинами слов,
Девичий лик рассказа был таков:
Когда пришел в сознание беглец,
Заплакал, горько жалуясь, отец,
Увещевал Меджнуна без конца, —
И тот, взглянуть не смея на отца,
На землю, от стыда сгорая, лег,
Он целовал следы отцовских ног,
Молил отца: «Прости меня скорей,
Я прибегаю к милости твоей!»
Решив: сознался сын в своей вине,
Раскаяньем наказан он вполне,
Отец сказал: «Ты можешь быть прощен,
Но должен жить, как требует закон.
Вину свою ты искупи сейчас:
Как я велю, так поступи сейчас».
Меджнун всегда великодушным был,
Он благородным и послушным был,
Когда в мозгу не воцарялась мгла,
Чужда ему невежливость была.
Исполнен вежества прямых людей,
Исполнен мужества святых людей,
Несправедливости не выносил
И неучтивости не выносил.
Он так сказал отцу: «Твой правый суд
И слово — пусть прощенье принесут.
Твой приговор я с радостью приму,
Я слову подчиняюсь твоему».
От этих слов повеселев тотчас,
Отец повел о сватовстве рассказ:
«Единственный среди аравитян,
О нет! Скажи: среди подлунных стран, —
Был Науфаль заступником тебе,
Всегда сочувствовал твоей судьбе,
Всегда помочь твоей любви хотел,
Но был тебе сужден другой удел…
Его стараний счесть я не могу,
Ты в неоплатном у него долгу,
Ты должен повиниться перед ним,
И будешь ты прощен отцом родным.
Ты хочешь быть покорным до конца?
Исполни просьбу дряхлого отца;
Мне принеси повиновенья дань,
А Науфалю верным сыном стань.
Есть у него жемчужина одна,
И сердце каждое влечет она.
Таит живую розу красоты
Девичий заповедник чистоты.
Она красой затмила небеса,
Сразила сто племен ее краса,
Ее невольникам потерян счет,
Открыться ей — невольный страх берет,
Твое согласье — слава для меня,
А твой отказ — отрава для меня.
Прощу тебя, когда согласье дашь,
И весь народ возрадуется наш».
Язык Меджнуна так отец связал,
Что «соглашаюсь я!» Меджнун сказал.
Обрадовал отца ответ его,
Людей созвал он племени всего,
И вот выносят яства и вино —
Припасы приготовлены давно.
Одежды пира украшают всех,
А на Меджнуне — драгоценный мех,
Вот соболь черный, белый горностай, —
Одетым в день и ночь его считай!
И двинулся веселый караван,
И показался Науфалев стан.
Созвал и Науфаль своих гостей,
Созвал он знатных и простых людей.
Уселись приглашенные в кольцо,
К законам счастья повернув лицо.
И длился пир семь дней и семь ночей.
И много было сказано речей,
И много чаш осушено до дна,
И радость остается им одна:
Сейчас войдут в нарядах дорогих
Прекрасная невеста и жених.
Невесту девять спрятало завес,
Как месяц девять спрятало небес.
Жених красив, как солнце поутру.
Ему готово место на пиру.
И вот, красноречивый, как Иса,
Восславил проповедник небеса,
Хвалу и славу господу воздал
И солнце с месяцем он сочетал.
И деньгами осыпана чета, —
Да будет жизнь в богатстве начата.
Когда, сходна с невестой молодой,
Заря закрылась темною фатой,
И на земле, на пастбищах степных,
Ночь на колени стала, как жених,
И дорогих каменьев без числа
На девяти подносах поднесла,[17]
Тогда, смеясь над юною четой,
Их вместе привели в шатер пустой,
Смеялись, ложе разостлав для них, —
Невеста не смеялась и жених.
Свели, увлечены своей игрой,
Купца — с товаром, Муштари — с Зухрой.
Но мудрый Науфаль пришел потом,
Людей он попросил покинуть дом,
Закрыл от взоров любопытных вход,
И разошелся по шатрам народ…
А Науфаль сидел и пил вино,
Но сердце было смутою полно.
И, беспокоясь о судьбе детей,
Он тихо встал, чтоб не привлечь гостей.
И, крадучись, приподнял он кошму,
И что же тут представилось ему?
Узнав, что любопытные ушли,
Привстала сразу дочь его с земли,
Привстала, чтоб у ног Меджнуна лечь,
И повела потом такую речь:
«Единственный средь мира и в любви!
Сияют верностью глаза твои!
Из-за страдальческой любви к Лейли
Ты притчей стал для жителей земли,
И славят все влюбленные тебя,
Твою любовь навеки возлюбя.
Лейли ты отдал сердце и покой,
Зачем же в брак вступаешь ты с другой?
Желая наших радовать отцов,
Зачем ты сердца заглушаешь зов?
О юноша! Ты — царь страны любви
И всех, чьи помыслы — верны любви!
И я внушила страсть душе одной,
И у меня есть милый, есть больной,
Из-за меня сгорает он в огне,
Привязан путами любви ко мне.
И я люблю, горю я вместе с ним,
Но пламя наше в тайне мы храним.
Подумай сам: что будет, если вдруг
Услышит он, что мне Меджнун — супруг?
Как нынешнюю ночь он проведет?
Не в силах жить, он гибель обретет!
Отныне тайну знаешь ты мою,
О милости, Меджнун, тебя молю:
Поняв, что я перед другим в долгу,
Что поступить иначе не могу, —
Ты встанешь и покинешь мой шатер,
Не выставив народу на позор.
Из-за меня гонения прими!
Ты строго будешь осужден людьми, —
Пусть ополчатся всюду на тебя,
Но я молиться буду за тебя!
Так счастье дашь ты сердцу моему,
Меджнун! К тебе взываю потому,
Что с прочими людьми не сходен ты,
Великодушен, благороден ты!
Надеюсь я, что бог, дающий свет,
Убережет Лейли от всяких бед.
Жемчужину, рожденную для нег,
С тобой соединит господь навек!»
Меджнун ответил: «В радости живи!
Печальная — счастливой будь в любви!
Любя, одежды верности надень.
Да будет бог с тобою каждый день.
Я понимаю боль любви чужой —
И я скорблю израненной душой.
Упреков не страшись: вот я стою —
Пусть падают на голову мою!
Прощай. Тебе не причиню я зла.
Я сам хотел уйти. Ты помогла».
Так, пожелав ей много долгих дней,
Он проявил великодушье к ней,
Ей братом стал, ее назвал сестрой,
И вышел он и скрылся за горой.
Опять он по степи решил блуждать,
В пустыню горя он ушел опять.
Был Науфаль беседой изумлен.
Своим ушам с трудом поверил он!
Весь разговор, подслушанный в тиши,
Потряс его до глубины души.
И воин встал, и полон был тоской,
И тяжело пошел он в свой покой,
Как тот, кто крепким опьянен вином,
Не ведая, что бендж таился в нем.
Что предпринять ему? С чего начать?
Нельзя рассказывать, нельзя молчать!..
А за другой стеною в эту ночь
Скрывался тот, кого любила дочь.
В руке держал карающий кинжал,
От ярости и ревности дрожал:
Замрут в блаженстве, — душу погубя,
Он их убьет сперва, потом себя!
Но был он чистой страстью опалим,
И смилостивилась любовь над ним.
Он, у Меджнуна чистоте учась,
Меджнуном был обрадован сейчас.
Меджнуновым величьем поражен
И разумом девичьим потрясен,
Он понял, что любимая верна:
Любовь неколебимая видна!
К земле припал он, в нем вскипела кровь,
Он сделал явной скрытую любовь.
Терпенье робкое замолкло в нем, —
Любовник пламенный ворвался в дом,
Перед любимой головой поник.
Испуганная, — подавила крик,
И сердце друга ласково взяла,
И голову страдальца подняла,
Укрыла голову в своей тени.
Давно друг друга жаждали они,
До этой ночи, жажде вопреки,
Не подавала встреча им руки,
Но был их пламень чистым, не плотским,
И подало свиданье руку им.
Безгласные, слились они в одно,
Их опьянило близости вино.
Но птица утра прокричала вдруг,
И вот с возлюбленной расстался друг…
Когда заря-невеста поднялась,
Белилами рассвета набелясь,
И небеса прислуживали ей,
Держа пред нею зеркало-ручей,
Тогда решили гости поутру
Направиться к счастливому шатру,
И, радостные, вместе все пошли,
К Меджнуну и невесте все пошли.
И что ж? Нашли одну, а не двоих.
Увидели невесту. Где жених?
Два племени заплакали тогда,
Два племени погибли от стыда!
И головою Науфаль поник.
Был скован немотой его язык!
Но все же долее молчать не мог.
Сказал: «Так пожелал всевышний бог,
Судьба такая свыше суждена,
Не ваша здесь и не моя вина,
Здесь не виновны даже сын и дочь.
Забудем все. Не в силах мы помочь».
И, проводив гостей, вернулся он,
Упал на землю, растянулся он,
От всех скрывая, как душа скорбит,
Скрывая боль страданий и обид…
О лекарь мой искусный! Болен я,
Твоим леченьем недоволен я.
Когда тебе меня взаправду жаль, —
Верни мне душу, прогони печаль.
По всем страницам пробежав, калам
Такую повесть поверяет нам:
Немало в небе вероломства есть,
С обманом у него знакомство есть,
И шутки начало шутить оно!
А шутки — что? Бесстыдство лишь одно!
Меджнуну повелело: «В брак вступи!»
И в то же время мчится по степи
Со всеми родичами Ибн-Селлям:
Он в стан Лейли велел скакать коням!
С почетом племя встретило гостей —
И жениха, и всех его людей.
И свой народ созвал отец Лейли,
И вскоре кубки пира принесли.
Продлилось пиршество немало дней,
А наливались кубки все полней.
Но только свадьба веселит пиры!
Дождались гости радостной поры.
И выбран был благословенный час,
Для двух народов незабвенный час.
И проповедник высунул язык —
Он попусту давно болтать привык —
И закрепил он брачный договор,
И все пошли к Лейли, в ее шатер,
Вступили в целомудрия приют,
И вот луну дракону отдают.
Невесту к Ибн-Селляму подвели,
Он руку протянул руке Лейли,
Но странный случай с ним произошел.
Страдал он сердцем. Был недуг тяжел
И мучил Ибн-Селляма издавна.
К тому же много выпил он вина,
Как будто заливал вином пожар, —
И на пиру его хватил удар.
Все тело судорогой сведено, —
Вперед запомнит он, как пить вино!
Но вот затих, недвижный, как мертвец,
И люди все подумали: конец.
Казалось, был он смертью покорен…
Смех свадьбы стал рыданьем похорон.
И жениха скорее унесли —
Забыли о невесте, о Лейли.
От горьких дум, которым нет числа,
Павлиньи сломаны ее крыла.
И думы ей покоя не дают,
Уйдут — придут на смену сотни смут.
Она решила ночью мертвой лечь
И притаила ядовитый меч.
Желанье Ибн-Селлям не утолит,
Она себя от мира удалит!
Она свободной сделает себя,
Умрет, единственного полюбя!
И выбран этот меч недаром был:
Наказан Ибн-Селлям ударом был…
Коварству неба где найти предел!
Как много в мире непонятных дел!
И вот одно: Меджнуна и Лейли —
Две несказанных радости земли —
Ударила судьба такой волной,
Что двое сделались четой одной.
Но две жемчужины разлучены:
Тот — мужем наречен другой жены,
Той — суждено другому стать женой —
И что же? Нет отверстья ни в одной!
И все это в одну случилось ночь!
Как вероломство неба превозмочь?
Не знают новобрачные родства,
Чужими стали, в брак вступив едва.
Или для них и час, и день, и год
Один и тот же выбрал звездочет?
О нет: и звездочет бессилен тут.
Ведь сказано: «Все звездочеты лгут!»
Когда, решив: жених сейчас умрет, —
Стоял всю ночь вокруг него народ,
Тогда вернулось мужество к Лейли:
Свободна от супружества Лейли!
Пока без чувств лежал ее жених,
Тихонько, незаметно для родных,
Она покинула отцовский дом
И скрылась вскоре за степным холмом.
Куда идет? Не ведает сама,
Не видно стана за песком холма…
И в ту же сторону Меджнун идет,
Не сам идет — любовь его ведет,
И приближаются в степной дали
Лейли к Меджнуну и Меджнун к Лейли!
Его печальный голос ей знаком:
Животворящим он звенит стихом.
Меджнун ее дыхание вдохнул,
Ее благоухание вдохнул.
К Меджнуну подошел его кумир.
Подобной встречи не запомнит мир!
И друг на друга смотрят, не дыша:
Вернулась к телу слабому душа.
Теперь им нужен был один творец!
Для двух жемчужин был один ларец!
Два солнца всходят на одной земле.
Две розы зреют на одном стебле.
В едином теле две души сошлись,
В глазу едином два зрачка зажглись.
Дух плотью стал, и духом стала плоть —
Единой сделал двойственность господь.
Слил виночерпий вина разных лоз
И чашу единения поднес,
Любовным зельем сделалась она,
Он сделался поклонником вина.
Он захмелел, она пьяным-пьяна,
И тот, и та — поклонники вина.
Два имени у них — что из того?
Единое мы видим существо!
Слились две капельки живой воды.
Их не разнять, напрасны все труды!
Она — вода, он — сахар в их судьбе.
Всю воду сахар притянул к себе.
Она — вода. От вздохов он дрожит,
Он пузырьками по воде бежит!..
Над ними небо сжалилось на миг,
И сон в глаза жестокости проник.
И каждое дыхание земли,
И каждое создание земли,
Все крохотные твари в эту ночь
Стремились двум любовникам помочь.
Раскинул нитку длинную паук:
Закрыл их паутиною паук.
Чтобы влюбленных скрыть, на мир легло
Летучей мыши серое крыло.
Чтоб не тревожить их, комар замолк.
Глаза прикрыл мохнатым ухом волк.
Замолк и филин, тяжело вздохнув,
Под перьями он свой упрятал клюв.
Бродил в степи с баранами пастух, —
Вошел в его собаку сонный дух,
И на нее, чтоб не будила стан,
Накинул из бараньих шкур аркан.[18]
Чтобы лиса проснулась лишь к утру,
Ночь окурила всю ее нору.
Заснули насекомые в степи.
Спокойно спят пасомые в степи.
И все летающие твари спят.
И все кусающие твари спят.
За жертвою не скачет крупный зверь.
Не воет и не плачет малый зверь.
Ослабли силы четырех стихий
И стали неожиданно тихи:
Вода бурливой не шумит волной.
Не гонит пыль густую вихрь степной.
Дыханье стужи дремлет под замком,
И пламя не болтает языком:
Оно завесой шелковой встает,
Чтоб войско стужи не сошло с высот.
Луны лепешка скрыта темнотой,
И стала ей земля сковородой.
От глаз Меркурий отгоняет сон,
«Воистину, готовы…»[19] — пишет он.
Венера не читает книг своих,
В руках Венеры звонкий чанг затих.
Любовников дурной не сглазит глаз:
Его проколет Марс копьем сейчас.
Воззвал Юпитер к совести судьбы,
Он распростер ладони для мольбы.
Сатурн влюбленным робкий шлет привет,
И ночи цвет — Сатурна робкий свет,[20]
Но руки вымазала ночь в смоле,
Чтоб не нашел рассвет пути к земле.
Боится утро холодком пахнуть,
На пепел ночи ветерком дохнуть,
Не дышит утро истинное здесь, —
Дыхание развеет пепел весь.
И даже утро ложное, поверь,[21]
Такое осторожное теперь!
Не виден людям утренний рассвет,
Светильников для них на небе нет,
Чтоб разлучить влюбленных не могли!..
Как чуден мир: Меджнуна и Лейли
Преследовали небеса всегда, —
В одну лишь ночь исчезла вся вражда!
Душа и тело, — вот они слились,
Как плющ и кипарис, переплелись.
Один целует ноги у другой,
Ласкает шею робкою рукой.
Она — ладони сетью заплетет,
Как волосами, друга обовьет,
А то ведет ладонью по глазам,
По шее, по лицу, по волосам.
Он тоже к сердцу друга припадет
И локонами руки обовьет,
И кудри — как чудовище-дракон:
Всегда хранит сокровище дракон!
Она, смущаясь, кудри соберет
И — спутанными — пыль с него сотрет,
И говорит: «О, пыль тоски твоей
Татарского мешочка мне милей!»[22]
Свиданием с возлюбленным пьяна,
Себя Меджнуном чувствует она.
В Лейли мечтает воплотиться он:
Игрив и ласков, как девица, он!
Она есть он, отныне он — она.
У них одно дыханье, жизнь одна.
Не страшен путь греха такой чете:
Их даже грех приводит к чистоте.
Кто чистотою равен им, для тех
Вовек любовь не превратится в грех,
Влюбленный должен чистым быть всегда:
Любовь желанью грязному чужда!
Соединила двух людей любовь, —
Решило небо стать жестоким вновь,
И ложным утром озарило всех:
Раздался вероломный, лживый смех.
Взлетели искры утра выше гор,
В груди Меджнуна запылал костер.
Подобна утру светлому Лейли, —
Росой кровавой слезы потекли.
Прошла для них свидания пора,
Настала расставания пора.
Лейли, роняя красный цвет из глаз,
О прошлой ночи повела рассказ,
И на слова Меджнун переложил
Все то, что прошлой ночью пережил,
Один другому ноги целовал,
Один другому сердце разрывал,
Ожог разлуки ожигая вновь,
Немые руки обретая вновь.
С любимым быть на ложе — хорошо,
Но и расстаться — тоже хорошо!
Ушла Лейли: скрывается луна,
Созвездием скорбей окружена.
Пошел безумец по тропам степным:
И боль, и горе следуют за ним…
Свиданья ночь пришла, чудотворя,
Но сеть разлуки нам плетет заря.
Пусть ночь продлится век, — всё жаждем нег.
Как вздох, как вздох один, промчится век!
И ветер осени дохнул чуть свет,
И сад в соломенный окрасил цвет.
Повсюду листья желтые висят,
Как будто заболел желтухой сад.
И ноги протянули, и легли
Иные листья на одре земли, —
Был стебель вытянутою ногой!
Да, ждал кончины сад полунагой!
Увы, осенний ветер был таков:
Он отнял веру в жизнь у лепестков.
Дрожали все деревья, все сады,
В сараях темных спрятались плоды,
Под натиском осенних холодов
Лишились ветви листьев и плодов.
День ото дня глядит печальней сад.
Для пыли стал опочивальней сад!
Безгрешным он, себя очистив, стал,
Страною звезд он из-за листьев стал!
Сто тысяч листьев светятся во мгле, —
Сто тысяч звезд на вымокшей земле!
Звезда — как зеркало, и взор привлек,
Изображая ручку, стебелек.
Нет отраженья в зеркальном стекле,
Ведь золото мы видим на стебле!
Как слезы на лице любви чисты,
На красных ветках желтые листы.
Над купами деревьев воздух мглист,
Письмо о смерти — каждый желтый лист.
Разбросил ветер листья на воде, —
Взгляни на воду: золото везде!
О нет, вода блистает лезвием,
А золото — ножнами назовем.
Чудесен в эту пору виноград.
Плоды червонным золотом горят,
Как перстни на прекраснейшей руке.
Иль это хна пылает вдалеке?
Ушли те дни, когда светла роса,
У гиацинта вьются волоса,
Когда тюльпаны жгучи, как огонь,
И красной краской пачкают ладонь.
Пришли те дни унылые, когда
Одета белым мрамором вода.
Упрямый ветер не щадит дерев,
Вздымает к небу свой протяжный рев,
И соловей, страдая без тепла,
Под собственные прячется крыла.
Дохнул осенний ветер на весну, —
Лейли к последнему склоняет сну.
Вступила осень в розовый цветник,
Цветку велела, чтоб к земле приник,
Сровняла пальму сильную с землей,
Сровняла розу с пыльною землей,
Шафрана разливая желтизну,
На осень переделала весну.
Лейли, что садом красоты была,
Что розой райской чистоты цвела, —
Лейли осенней сделалась порой:
Весна казалась осенью второй.
Болезни ветер дул в лицо сильней,
Распутались узлы ее кудрей.
О, волосы арканами зови:
Они арканы для людей любви!
Царица прелести земной больна, —
Освободила пленников она,
И нет ограды узникам любви,
Свободе рады узники любви,
Один лишь пленник хочет жить в тюрьме.
Но этот пленник — не в своем уме:
Две брови пленник распростер сейчас,
Чтоб радость не вошла в жилище глаз…
Лежит в слезах царица красоты.
Чтоб светом озариться красоты.
К царице смерть-прислужница идет,
Румяна на лицо ее кладет.
Но пот бежит, как слезы по письму, —
Он смыл румяна, индиго, басму.
И сморщились медовые уста,
Нет, запеклись пунцовые уста,
От слов закрылись: надобно молчать, —
Там прыщики похожи на печать!
На подбородке впадинка была, —
Теперь голубка там гнездо свила,
То есть: голубку ожидает смерть,
Открыла впадину земная твердь.
И покрывало было ей дано:
Фиалкового цвета полотно.
То есть: на солнце, что навек зашло,
Фиалковое облако легло…
Решила: мир земной — уже чужой,
Уже расстаться надобно с душой!
От всех спешит избавиться она,
И вот лежит красавица одна,
И только мать она зовет к себе
И говорит ей о своей судьбе:
«Ты, чья душа моим жильем была!
Не помни мной содеянного зла!
Как жертву, отклоненную людьми,
Мою больную душу ты прими.
Я — только огорченье для тебя.
Как вымолю прощенье у тебя?
О, проживи я много тысяч лет,
И то моей вине прощенья нет!
Но губит осень все цветы в саду.
Настало время: скоро я уйду…
Смерть надо мной уже нависла. Нет!
Она пришла! Таиться смысла нет:
Ты знала все, в душе терзалась ты,
Хотя незнающей казалась ты.
Теперь, когда я в землю ухожу,
Не плачь о том, что я тебе скажу,
Не проливай потоки слез в тиши,
Не разбивай своей больной души.
Тебе тяжел, я знаю, мой совет.
Но выполни, молю, другой завет:
Пусть эту розу победил недуг, —
Не плачь, когда цветок уйдет на луг,
И если солнце навсегда зайдет,
Пусть не затмится пылью небосвод.
Но люди, звери, горы и леса
Поймут твоей печали голоса.
Пески сухих пустынь, полынь степей
Услышат громкий стон твоих скорбей.
И тот, кто болен, слаб и одинок,
Кто весь — печаль от головы до ног,
Чья жизнь сгорела в медленном огне,
В ком вместо жизни память обо мне, —
Как ветер, гонит он пустынный прах,
Как эхо, обрывается в горах! —
Когда услышит обо мне слова,
Когда узнает он, что я мертва,
Тогда расплавится его душа,
С моей душою встретиться спеша.
Отдаст он душу, обретет покой:
Он оболочку сделает пустой.
А то — среди живых пойдет ко мне,
Как солнце дней моих, придет ко мне!
Он, одержим любовью, подойдет,
Как солнце, к изголовью подойдет,
Печаль забудем, и любимый вновь
Покажет людям, какова любовь!
С моим он прахом прах смешает свой,
Навек поникнет мертвой головой.
Моей мольбе не откажите вы;
Почет Меджнуну окажите вы.
Любви почившей послужите вы,
Его со мною положите вы.
Мать! Ненависть забудь, поспорь со злом.
Добро и милость сделай ремеслом.
Меджнуну саван сшей — не согреши!
Из покрывала собственной души.
Меня в тот саван белый заверни;
Два тела — милость сделай — заверни!
Все нужное, как сыну, приготовь:
С ним дочь твою соединит любовь.
Для двух детей стели одну постель,
Клади в одну и ту же колыбель!»
Закрыв глаза от материнских глаз,
«Меджнун!» произнесла в последний раз,
Не вспомнила ни разу о Лейли…
И руки смерти на лицо легли,
И солнце смертная закрыла тень,
И мать увидела свой черный день.
И сердце неба кровью залилось:
Крик матери пронзил его насквозь.
И трижды мать вкруг ложа обошла,
Шатер, на смерть похожа, обошла,
Упала перед изголовьем ниц,
Потом соленой влагою ресниц
Лицо почившей стала щекотать,
Как будто говоря: «Не время спать,
Открой глаза, открой, смеясь, уста,
Мне без тебя вселенная пуста!»
Чтоб дать немного своего тепла,
Под мышку руки дочери брала, —
Но то, быть может, из объятий сна
Лейли тянула за руки она?
Откинув кудри от ее чела,
Показывала, как Лейли светла,
Как будто говоря: «Проходит ночь,
Родился день, пора проснуться, дочь!»
Поднимутся, быть может, вежды? Нет:
На пробуждение надежды нет!
И мать, воздев ладони к небесам,
Дав распуститься белым волосам,
Слезам кровавым вылиться из глаз, —
Ногтями в старое лицо впилась.
Как разрывает утро ворот свой,
Рассыпав искры света над землей,
Она, как ворот, грудь разорвала, —
И светом сердца озарилась мгла.
Взывала мать, рыдая: «Горе мне!»
Стонала мать седая: «Горе мне!
Мерещится спросонок это мне?
Проснись, мой верблюжонок! Горе мне!
Открой глаза: дай солнце нам опять,
Чтоб захотелось девушкам гулять,
Чтоб разбежались по саду цветы.
Все ждут они: пойдешь ли с ними ты?
Подруг нарядных много собралось!
Дай гиацинты мне своих волос,
Их локонами землю обовью,
Их запахами землю оболью!
Сокровищницу сладостной красы —
Твое лицо — украсят две косы:
Сплету я косы — будут две змеи
Оберегать сокровища твои.
Окрашу я глаза твои сурьмой,
Окрашу брови я твои басмой:
Глаза — мечи турецкие — должны
Упрятаться в зеленые ножны.
Твое лицо я нарумяню вновь:
Прибавлю я своих царапин кровь.
Я индиго на щеки положу, —
Зрачок дурного глаза поражу.
Я родинку поставлю на щеке,
Как семечко в петушьем гребешке.
И покрывала длинные твои
На волосы накину я твои:
Закрыта будет сторона одна,
Другая будет сторона видна.
Одену плечи в розовый наряд, —
О нем с восторгом все заговорят.
Ты с девушками племени пойдешь,
Как искушенье времени, пройдешь,
Всех освещая, обольщая всех,
Пустынников святых ввергая в грех!
Иди, — любимого найдешь в саду.
Меджнун вопит и стонет, как в аду,
В беспамятстве сейчас он упадет,
Но жизнь вернет безумцу твой приход.
Ты не придешь — он прибежит сюда,
Что я смогу сказать ему тогда?
Где слово я, в смущении, возьму?
Как буду я смотреть в глаза ему?
Не повергай в печаль друзей твоих!
Ужель тебе не жаль друзей двоих?
Ужель тебе не жаль двоих сердец?..»
Так плакала. А за стеной отец
О землю ударялся головой,
Метался, ворот разрывая свой.
Был весь народ в печали о Лейли.
Народ кричал и плакал: «Вай, вайли!»
Я буду о Меджнуне говорить:
О нем я не могу не говорить!
Меджнун лежал на кладбище глухом,
Там люди воскресения кругом,
Среди могил свою печаль влачил,
И был он чист, как жители могил.
Когда бессильной сделалась Лейли,
Он тоже лег, беспомощный, в пыли.
Когда любимой овладел недуг,
Любимый жертвой стал жестоких мук.
То в светлом вымысле, то в ясном сне,
Он был всегда с Лейли наедине.
О ней одной он слушал голоса:
То сердце чистое, то небеса
Весть о возлюбленной ему несли.
Когда старуха-смерть пришла к Лейли
И пери чашу выпила ее, —
Почувствовал безумец: острие
Безжалостное прокололо грудь,
И задрожало сердце, точно ртуть.
И голос неба зазвенел в ушах:
«О воинства скорбей великий шах!
В державе горя — повелитель ты,
Всех любящих сердец правитель ты,
Они тебе приносят рабства дань.
Не спи, герой страны страданья! Встань!
Осенний вихрь в твоем саду сейчас!
Подул самум — светильник твой погас!
Все то, что соловьиное в тебе.
Все то, что голубиное в тебе,
Все мотыльковое ты собери,
Скорее к поднебесью воспари:
Подруга путешествия — луна,
Но спутника все время ждет она,
Ты будешь путешествовать с луной,
Или придется ей уйти одной?»
Хотя, как паутинка, был он слаб,
И нитка задержать его могла б,
Но тигром с ложа прянул он, едва
Услышал эти вещие слова!
Как солнце, как небесная газель,
Он побежал, одну лишь видя цель:
Он видел дом Лейли в мечтах своих!
Держал он песню на устах своих, —
Не песнь рыданья, не страданья песнь,
А песнь свиданья, ожиданья песнь.
Сокровища души держал в руке,
Чтоб разбросать, как деньги, на песке.
Он прыгал — мнилось: молния зажглась,
Струится ливень радости из глаз.
Горя любовью, солнцем стал земным.
Бежали звери дикие за ним.
В груди Меджнуна страха не найти.
Он знал: никто не станет на пути.
Боялись люди твердости его,
Предсмертной светлой гордости его, —
Бежали некоторые скорей:
Боялись некоторые зверей…
И вот Меджнун достиг дверей Лейли.
Вот ждут его стада зверей вдали:
Стоят спокойно, а народ вокруг
Не чувствует от страха ног и рук…
Когда, решив покинуть этот свет,
Лейли давала матери завет,
Тогда влюбленный появился вдруг,
Пришел, как верный друг… Нет, вечный друг!
Глаза — глаза желанные нашли:
Глаза одно желание прочли.
Возлюбленная руки подняла,
Возлюбленному душу отдала.
Возлюбленный склонился, не дыша:
К возлюбленной ушла его душа.
Попутчика себе Лейли нашла,
Теперь дорога ей не тяжела!..
И люди без числа входили в дом,
И двух усопших находили в нем,
Событъю небывалому дивясь:
Нерасторжима двух страдальцев связь!
Все немотою связаны уста:
Любовь Меджнуна так была чиста,
Что смерть нашел в любви, как жил в любви,
Две жизни души отдали свои!
Когда огонь сочувствия погас,
Такие речи начались тотчас:
«Оборвалась двух слабых жизней нить.
Как будем эти жизни хоронить?»
Сказали: «Тех, кому возврата нет,
В ком даже примеси разврата нет,
Двух чистых, чья благословенна кровь,
Кому жестокосердая любовь
Ни разу в жизни счастья не дала,
Чья смерть ужасна так и так светла,
Кто, не вкусив любви в земном краю,
Нашли сближенье вечное в раю,
Двух разлученных, Кайса и Лейли,
Соединим во глубине земли,
Дадим навек соединиться им,
Будь саваном одна гробница им!»
Решили: справедлив такой совет,
Розоволикой вспомнили завет,
И, поступив, как требует обряд,
Как поступать обычаи велят,
В одних носилках понесли двоих,
С невестой рядом возлежал жених.
Два тела вместе в саван облеклись,
В едином теле две души слились,
Две грани здесь кристаллины одной,
Две косточки миндалины одной.
О нет, не косточки! — одно зерно:
Из двух долей оно сотворено.
Не двойственное видим существо,
Единства здесь мы видим торжество.
Два тела, как зерно, слились в одно:
Не в саване, а в кожуре зерно!..
Украсили Меджнуна и Лейли,
На головах носилки понесли.
Душа, соединенная с душой,
Они покрыты шелком и парчой.
И вот в табут возлюбленных кладут,
И в землю опускается табут.
Два путника нашли приют в земле:
Луна и солнце спрятались во мгле.
Наполнил души всех влюбленных страх:
И солнце и луна зарылись в прах,
Свечу надежды погасил самум.
Настало время для печальных дум,
Нет больше над влюбленными царя,
Луна зашла и не взошла заря!
И дважды в день на кладбище текли
Все родичи и весь народ Лейли,
Над камнем плакали отец и мать,
И страшно было стонам их внимать.
Недолго плакали: в тепле земли
Они отдохновение нашли…
О ты, кто стал виною наших слез!
Рыдай: две жизни прахом ты занес!
Когда ушли две жизни в мир теней,
Уйду и я с возлюбленной своей!