Хуберт Мания
История атомной бомбы
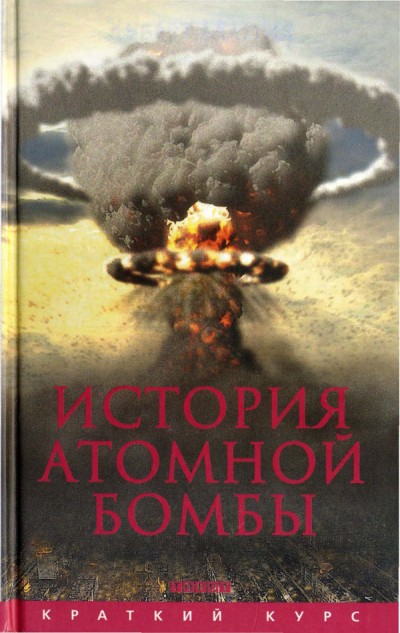
Шипение в самодувной печи лаборатории угрожающе нарастает. Мощный воздушный поток раздувает огонь, чтобы хватило жара расплавить металл. По мере нагревания постепенно улетучивается и сырой выпар из темных камней, что лежат в ящике у печи. На них выступает влага рудника, плесень подгнивших горбылей. Кажется, сам кислый воздух заброшенной серебряной штольни прокрался в трещинки и поры минералов, и теперь его оттуда выманивает в комнату уютное тепло. Но вскоре от затхлости не остается и следа, она исчезает, как бледнеющая память о нудном осеннем дожде. Ибо ничто на свете не в силах перекрыть вонь батареи едких жидкостей в склянках, ампулах и флаконах, выстроенных в ряд.
Берлинский аптекарь Мартин Генрих Клапрот приготовил весь свой наличный запас проверенных субстанций и микстур, чтобы взяться за новые образцы пород из Рудных гор. Он намеревался расщепить и разложить их огнем и кислотами, растворить их солями и размягчить водой. Растирая в ступке ярко-красные комья кровяной соли, он следит за тем, как меняет цвет только что поставленная на огонь настойка дубильного орешка. Она добывается из грубо размолотых коконов личинок осы-орехотворки, отложенных самками в дубовые листья. Их дубильная кислота вымоет из руды ненужные примеси. Черными чернилами, произведенными из такого же отвара, в это же самое время в далеком Париже пылкий демократ Лафайет и радикальный Робеспьер пишут свои наброски «Декларации прав человека и гражданина», в которой выдвигают такие неслыханные требования, как равное избирательное право для всех мужчин и даже полное упразднение монархии.
В эти революционные летние месяцы 1789 года весьма попахивает жареным и в Медвежьей аптеке Клапрота в тени громады Николай-кирхе на Шпандауэрштрассе, угол Пробстштрассе. На почтительном расстоянии от плавильной и фарфоровой печей экспериментатор подолгу вдувает через паяльную трубку в открытое пламя столько воздуха, сколько помещается в его легких. Фитиль свечи он разрезал надвое и теперь держит свою трубку в середине развилки. Так он может модулировать пламя, выдувать его в виде длинного и заостренного языка, чтобы оно охватывало пробу руды величиной с лесной орех, которая лежит на березовом угольке, свободном от искрения. Здесь, в тесной лаборатории, неконтролируемый полет искр или крохотных брызг металла вблизи легковоспламенимых химикалий и углей когда-нибудь да становится роковым даже для самых осторожных практиков. Однако Мартин Генрих Клапрот хорошо осведомлен о рискованных ситуациях при проведении химических реакций. Как член ложи «Единение», он даже похвально упомянут в «Справочнике масонства» за 1787 год. Однажды он уберег своих братьев по ложе от гибельного взрыва во время одного неряшливо подготовленного крупного алхимического эксперимента.
Он не хочет быть причастным к свойственному фракции алхимиков стремлению из всего сделать тайну. Он определенно дистанцируется от мистического пустословия адептов, которые все еще пребывают в поисках философского камня, намереваясь с его помощью превращать обыкновенные металлы в золото. Будучи образцовым поборником научно обоснованной химии, Клапрот считается только с тем, что он может видеть, обонять и взвешивать в своих тиглях и ретортах. Ему не раз приходилось уличать в мошеннических намерениях производителей чудодейственных лекарственных средств. Так, популярную «чудодейственную воздушную соль» он идентифицирует как простую глауберову соль, очищенную от добавок, а в продающемся по грабительским ценам «калии, окисленном святым духом» от основателя гомеопатии Самюэля Ханемана он разоблачает обычную буру.
Тот минерал, образец которого аптекарь и химик Клапрот хочет разложить на составные части, горняки Рудных гор называют смоляной обманкой. Она дает оттенки от сероватого до иссиня-черного и немного напоминает своим жирным блеском смолу. Тяжелые комья пористы и ломаются на куски, по форме похожие на почки и ракушки. Из-за их тяжести еще первые искатели серебра в начале XVII века в неглубоких штольнях Санкт-Йоахимсталя предполагали в этой горной породе высокое содержание металла. Но так ничего и не обнаружили. Потому и считали «обманкой» эти находки смоляной черноты, которые лишь притворялись, что таят в себе скрытые сокровища. На самом же деле смоляная обманка — как гласил окончательный вердикт экспертов — пустая порода, ни к чему не пригодная и лишь препятствующая поиску руд, заслуживающих добычи. С тех пор в серебряных штольнях Рудных гор она шла в отвал.
Клапрот, однако, хочет на сей раз докопаться до правды и основательно исследовать этот отвергнутый минерал. Он с интересом растирает между пальцами мелкие крупинки смоляной обманки, крошит их в калийную соль и помещает смесь в плавильный тигель. Черно-серая масса остается твердой и нерастворимой. Не плавится смоляная обманка и в пламени, усиленном паяльной трубкой. И вот он в поисках ее состава отжигает крошево и испепеляет его, спекает его с кровяной солью, спиртует и дистиллирует, тонирует и фильтрует, студит и высушивает, пока из его смеси с фосфорной солью неожиданно не образуется прозрачная зеленая бусинка — первое указание на верность интуиции экспериментатора. Ведь внутри породы явно кроется что-то особенное.
Многообещающие пробы были взяты из небольшого серебряного рудника «Георг Вагсфорт» в саксонском Йоханнгеоргенштадте, близ границы с Богемией. Этим летом у Клапрота часто бывали дела в Карлсбаде — популярном курорте царей, королей и европейской знати. Он только что закончил статью о минеральных источниках всемирно знаменитых богемских термальных вод. Сделанный им химический анализ целебной минеральной воды отвечает высокому научному стандарту и ожидает публикации в будущем году.
Йоханнгеоргенштадт расположен в двадцати пяти километрах севернее Карлсбада. В середине XVII века некоторые протестантские семьи покинули богемский шахтерский город Санкт-Йоахимсталь из-за религиозных преследований. На саксонской стороне Рудных гор, у подножия горы Фастенберг они построили новый город, который назвали именем своего суверена, курфюрста Йоханна-Георга II. Пивоварня с шинком были готовы раньше, чем ратуша и церковь.
Город лежит на 850 метров выше уровня моря у восточного склона горы Фастенберг с почти полностью изведенным лесом. Когда в июле 1789 года по пути из Карлсбада Мартин Клапрот останавливается здесь, весь город окутан чадом горящего день и ночь угля кузниц и металлургических заводов. Свои лучшие времена город пережил в середине XVII века, когда серебряные рудники — а их было в ближайших окрестностях около 180 — приносили прибыль. Большинство из них истощилось с тех пор, но для шестисот горняков работа еще была. Весь здешний ландшафт изувечен протяжными сточными канавами, мутными от ртути и шлаков, а также высокими, кое-где еще дымящимися отвалами. Запах серы, казалось, никогда отсюда не выветрится. Наметанным глазом Клапрот отмечает на склоне горы по дороге на шахту «Георг Вагсфорт» вентиляционные дыры метрового диаметра. Они дают рабочим в шахтах свежий воздух и солнечный свет. Многие отдушины дымятся. Он видит и добротно построенные входы в шахты — в некоторых по колено стоит вода, — и норы, вырытые наспех искателями счастья и кое-как потом присыпанные.
В берлинскую лабораторию поступает универсальное оружие — азотная кислота. Клапрот на всякий случай держится подальше от белой стеклянной бутыли с «сильной водой»,
Случается карете Клапрота проезжать и мимо забавных часов на ратуше Йоханнгеоргенштадта. Каждую четверть часа из корпуса часов выскакивают два железных горных козла и стукаются рогатыми лбами. Одновременно шахтер приподнимает свой горняцкий головной убор — цилиндр без полей — и стучит оземь палкой. Некоторые домовладельцы ворчат, недовольные последствиями «горной горячки», как здесь называют уже отшумевшую серебряную лихорадку. Множество не поддающихся учету шахт и горизонтальных рудных жил, проходивших под городом, скорее всего, и были причиной появления трещин в стенах домов и проседания фундаментов — ущерб, который могли ощутить лишь хозяева домов. Их уже не оставлял страх, что скоро и они будут причислять себя к жертвам «горной горячки». За кузницей Виттингсталя, горной деревушки из семи домов на окраине Йоханнгеоргенштадта, на особенно слякотных местах, где Брайтенбах впадает в Шварцвассер, поперек дорожной колеи проложены еловые жерди. Здесь вход в заброшенный прииск «Георг Вагсфорт», который порекомендовали Клапроту. По названиям соседних шахт — «Благословенье», «Нежданное счастье» и «Божья милость» — можно догадаться, какую радость испытывали горняки XVII века, находя в земле серебряные сокровища. Прииски заброшены еще сто лет назад, но время от времени сюда наведываются господа с утонченным вкусом, желающие прикупить цветные минералы для своих коллекций. Четыре года назад здесь впервые появился и тайный советник Гёте из Веймара, тоже по дороге из Карлсбада, приобрел красивый кусок пираргирита и с тех пор стал заезжать сюда для пополнения своей коллекции.
После утомительного спуска по приставным лестницам в бывший забой на Клапрота повеяло знакомым духом бесконечного осеннего дождя и прели. Горный мастер точно знает, куда направить луч шахтерской лампы. Он посветит во все расселины и трещины, чтобы брат прусского короля по масонской ложе мог упиться великолепием кристаллизованной зеленой слюды. Ее тонкие пластинки и кубики изумрудно-зеленого, лимонно-желтого и светло-желтого оттенков прочно облепляют смоляную обманку. Вся порода пронизана металлическими землями кирпичного и сернисто-желтого цвета. В одном рыхлом, жирно поблескивающем обломке Клапрот заметил даже голубовато-серый свинцовый пигмент в виде нежно мерцающей жилы и мелкозернистых вкраплений.
В лаборатории небольшая добавка соляной кислоты превращает
Аптекарь Мартин Генрих Клапрот считал себя полным приверженцем экспериментальной химии. Будучи членом Королевский Прусской академии наук и профессором знаменитой горной академии Фрайберга, он вряд ли был бы превосходным практиком с отличной репутацией, если б не обладал способностью извлекать новые сведения из сходных реакций в давно известных обстоятельствах, да еще и находить для них практическое применение. Поэтому сейчас он идет на поводу у одной своей догадки и проверяет пригодность металлической эссенции смоляной обманки в качестве красителя для стекла и фарфора. Для этого он замешивает различные смеси из желтой металлоизвести с фосфорной кислотой. Ее еще называют костяной кислотой, потому что производится она из измельченных в порошок костей животных. Фосфорная кислота очень жаростойка и при накаливании растекается в подобие прозрачного стекла. Так Клапрот сперва получает прозрачную изумрудно-зеленую симуляцию стекла, тогда как с добавкой кремнезема возникает непрозрачное стекло, яблочно-зеленый светлый цвет которого напоминает ему полудрагоценный камень хризопраз. Если умеренно раскаленную металлоизвесть смоляной обманки, добавив флюс, нанести на фарфор и обжечь в эмалировочной печи, получится «оранжево-огненный» цвет.
Старые алхимики часто устанавливали — возможно, под воздействием возбуждающих паров в их лабораториях — связи между вещами и процессами, которые на первый взгляд не имеют между собой ничего общего. В прежние века, до того как Коперник и Галилей своими революционными идеями касательно движения планет вызвали переполох среди охранителей христианского учения, Земля еще пребывала в центре Вселенной. Она была окружена семью планетами, в число которых входило и Солнце. В течение долгого времени было известно и семь металлов — без сомнений, богоугодный, навек неизменный порядок, как и у планетной системы. И вот некий умник, идущий в ногу со временем, догадывается соотнести эти семь металлов с семью планетами. Лучи низведенного в спутники Земли Солнца вызвали появление на земле золота. Таинственные астральные вибрации Луны обусловили рост серебра под домами Санкт-Йоахимсталя и Йоханнгеоргенштадта. Железо лучше всего подходит Марсу, медь — Венере, свинец — Сатурну.
В революционном 1789 году уже ни один ученый не относится всерьез к этой системе, которая зиждилась на аналогиях, тем более что число известных металлов к тому времени выросло до семнадцати, тогда как соответствующие им планеты так и не были обнаружены. Однако всего за восемь лет до этого немецкий астроном Вильгельм Гершель открыл новое небесное тело, которое оказалось-таки планетой, и которое он назвал Ураном. Уран явился астрономической сенсацией, прежде всего потому, что он вращается в доселе невообразимом удалении от Земли и Солнца. Если принять расстояние от Земли до Солнца за астрономическую единицу, то Сатурн со своими девятью астрономическими единицами был до открытия Гершеля самым удаленным от центрального светила объектом. Уран же торит свой одинокий путь в сказочных девятнадцати астрономических единицах, или в трех миллиардах километров от Солнца. Так с появлением этого нежданного участника движения наблюдаемый универсум раздался сразу вдвое — по крайней мере, в сознании активно коммуницирующих членов академических кругов.
Мартин Генрих Клапрот тоже имел представление об этих шокирующих космических размерах, которые венчала новая планета. Возможно, они-то его и окрылили. Ведь за последние восемь лет, минувшие с открытия Гершелем Урана, новый металл так никто и не нашел. Теперь он был волен узаконить свое право открытия и примкнуть к старой традиции, назвав доселе неизвестный металл именем планеты. Он мог бы назвать новый элемент и клапротием, но ему суждено было зваться ураном. Очень помпезное имя для желтого красителя стеклянных изделий.
Тяжелые черные шторы на окнах не пропускают в лабораторию ни лучика света. Вот уже восемь недель господин профессор работает, ест и спит только в своей темной комнате на первом этаже Физического института университета Вюрцбурга и хранит свою тайну. Даже его любимая жена Берта, с которой он делит свою служебную квартиру на втором этаже, не знает о его странном открытии. При всем уважении к его труду она, должно быть, воспринимает его молчание как обиду. Больше всего ее ранит догадка, что муж явно наслаждается этим добровольным, граничащим с одержимостью заточением в темной норе — там, внизу. Когда ей случается — довольно редко — столкнуться в узком коридоре с этим бледным призраком, который когда-то был ее Вильгельмом, он что-то пишет на ходу или смотрит сквозь нее усталым, невидящим взором. Время от времени он отдает себе отчет в плачевном положении домашних дел. Но это не помогает. Он должен работать дальше, скрывая результаты, чтобы не выставить себя на посмешище преждевременными заявлениями. Ни перед Бертой, ни перед публикой. Вначале надо окончательно удостовериться. Ведь на кону стоит его доброе имя физика.
В лабораторном журнале профессора д-ра Вильгельма Конрада Рёнтгена вечер 8 ноября 1895 года отмечен как дата того открытия, которое и ввергло непоседливого, как ртуть, ученого в этот дурман работы. Он, как и многие физики его поколения, исследует многообразные формы электромагнитных явлений. Ровно тридцать лет назад шотландский физик Джеймс Клерк Максвелл четырьмя гениальными уравнениями показал, что как свет — видимый и ультрафиолетовый, — так и электрические и магнитные явления одинаково принадлежат к спектру электромагнитных волн. Рёнтгена особенно интересуют световые явления электричества в стеклянных трубках. Трубка длиной один метр с минимальным содержанием газа подключена двумя проводками к источнику тока цилиндрической формы. В тот достопамятный вечер пятницы он как раз обернул свою трубку светонепроницаемым черным картоном, чтобы выяснить, можно ли ее таким образом полностью изолировать. Включив в затемненном помещении ток высокого напряжения, он заметил слабое свечение на столе вблизи аппаратуры. Там случайно лежал бумажный экран, покрытый химическим веществом, отражающим свет, если на него попадает подходящее излучение.
Рёнтген озадачен. Ведь из его стеклянной трубки свет не пробивается. Плотно прилегающий черный картон надежно удерживает электрический свет. Он выключает ток. Свечение мгновенно исчезает. Он снова включает трансформатор. Экран на столе тут же озаряется. Рёнтген боится поверить своим глазам, ведь он не знает излучения, которое могло бы в таких экспериментальных условиях исходить из его стеклянной трубки. Он несколько раз повторяет процедуру, отодвигая при этом стол с экраном все дальше от трубки. На расстоянии двух метров люминесценция еще возникает, как только в трубке происходит газовый разряд. Судя по всему, черный картон не может удерживать излучение. Теперь он выставляет на пути лучей поочередно станиолевую полосу, бумажные тетради, еловую дощечку и, наконец, книгу толщиной в тысячу страниц. Неведомые лучи беспрепятственно проникают и сквозь эти преграды, оставляя на светящемся экране свои следы.
Только теперь, после пары дюжин лихорадочных, нервных опытов Рёнтген обращает внимание на нездешнюю красоту этого светового явления. По поверхности экрана в ритме колебательных разрядов катятся волны нежного желто-зеленого света или медленно плывут над ним, как облака. Но и в конце этого волнующего вечера смущенный ученый все еще полагает, что стал жертвой иллюзии. Слишком фантастическим кажется ему напрашивающийся вывод, что он имеет дело с неизвестным доселе излучением. В следующие дни он действует по системе и пускает в ход более тяжелые орудия, как то: тонкие листы из алюминия и цинка, из меди, серебра и золота. Однако и эти металлы не могут противостоять проникающей силе излучения. Лишь свинцовая и платиновая пластины толщиной в несколько миллиметров преграждают лучам из стеклянной трубки путь к экрану.
Постепенно Рёнтген привыкает к мысли, что он действительно открыл новый вид лучей, и приходит к дерзкой идее. Он заменяет световой экран из бумаги с покрытием на фотографическую пластинку. Опыт удается. Невидимые лучи, произведенные в стеклянной трубке, проникают сквозь глухой деревянный ящик, в котором хранится набор весовых образцов металла. На экспонируемой пластине, которая во время облучения лежала под ящиком, отчетливо прорисовались темные округлости образцов. И стрелка компаса в жестянке тоже становится видимой за счет нового способа светокопирования. Когда однажды его ладонь случайно попадает в поток излучения, он ужасается. Лучи явно могут просвечивать структуру материи насквозь и фотографировать там вещи, скрытые от человеческого взгляда. И поскольку они до сих пор так уверенно демонстрировали, что великодержавно проникают сквозь любые субстанции, фотопластинка может оставаться в своей светозащитной упаковке из бумаги или фольги. Это счастливое обстоятельство позволяет фотографировать непосредственно, без окольных путей через камеру и в освещенных помещениях. Так в лаборатории летят дни и недели. Все, что происходит в Вюрцбурге и в мире, мало интересует Рёнтгена. Двадцать седьмого ноября 1895 года, в разгар его опытов, шведский химик Альфред Нобель, изобретатель динамита, учреждает фонд, который должен ежегодно присуждать премию за выдающиеся достижения в области химии, медицины, физики, литературы и за вклад в дело мира.
Сколь бы сенсационными ни были первые доказательства проницаемости твердой материи при помощи новых лучей, больше всего впечатляют, конечно, снимки частей человеческого тела. Когда Вильгельм Конрад Рёнтген двадцать второго декабря 1895 года наконец посвящает Берту в свои тайны и в течение четверти часа облучает ее кисть, он эффектнейшим образом, без лишних слов доводит до ее понимания возможности его X-лучей, как он их теперь называет, позаимствовав у математиков универсальное обозначение неизвестной величины. X-лучи лишь смутно проявили на экране мускулы, кожу и нервные ткани руки Берты Рёнтген, но тем отчетливее отобразили структуру ее костей. Однако при виде собственного скелета к удивлению и восторгу человека невольно примешиваются и мысли о смерти.
Двадцать восьмого декабря Вильгельм Конрад Рёнтген передает секретарю Физико-медицинского общества университета Вюрцбурга первый научный отчет о своем самобытном кино в отрыве от его института. Отчет носит название «О новом виде лучей». Работа сразу идет в печать и рассылается девяноста коллегам по всей Европе. Газеты реагируют на новое открытие молниеносно. По всему миру, прежде всего в Англии и США, в первые недели после публикации вспыхивает форменная рентгеномания. Снимок скелета руки Берты побуждает необозримое множество медиков, физиков и предпринимателей к производству качественных рентгеновских снимков человеческих ладоней. Особенное внимание в эти первые недели нового 1896 года привлекает картинка из государственной Физической лаборатории в Гамбурге, на которой обручальное кольцо невесомо парит вокруг косточки безымянного пальца.
Двадцать четвертого января газета «Фрэнкише фольксблатт» сообщает о якобы первом практическом применении X-лучей в Англии. В лондонской больнице вот уже несколько месяцев лежит матрос, парализованный по необъяснимым причинам. Поскольку врачу и пациенту нечего терять, его позвоночник просвечивают X-лучами. При этом врач обнаруживает между двумя позвонками чужеродное тело, которое после извлечения оказывается обломленным кончиком ножа. Уже вскоре после этого матросу выпал случай принять живейшее участие в ближайшей драке. Такие сообщения будят фантазию и окрыляют дух предпринимательства. Так, знаменитый изобретатель лампочки накаливания Томас Альва Эдисон объявляет, что намерен просветить X-лучами мозг. Три недели его дом осаждают репортеры, и ему в конце концов приходится обескураженно признаться в неудаче. В одной американской газете кто-то призывает направить лучи Рёнтгена на мозг преступников, чтобы исцелить их от криминальных наклонностей. Один более безобидный — якобы! — вариант этой идеи и впрямь осуществляется, а именно: прекрасный пол подвергается облучению, чтобы избавиться от нежелательного роста волос над верхней губой, на родинках и икрах. Облучают в салонах красоты и в кабинетах врачей — во всю силу рентгеновских трубок. Эйфория пока велика.
Уже в середине января 1896 года зубной врач Отто Валькхофф в Брауншвейге вырезает из фотопластинки кружок, заворачивает его в светонепроницаемую бумагу и закрепляет его, «широко раскрыв рот, за обоими рядами зубов. Облучение ведется через щеку... Двадцать пять минут экспонирования были пыткой», — пишет неустрашимый пионер-рентгеновец, признавая на основании «снимка пульповых камер и корней, сидящих в костях, что эти лучи имеют в нашем деле большое значение».
Во Франции один физик тоже вдохновился на собственные опыты с X-лучами. Правда, он не просто повторил опыт Рёнтгена, а нашел новый подход, напрашивающийся сам собой. На январском заседании 1896 года членов Парижской академии наук под председательством знаменитого математика Анри Пуанкаре сильно впечатляет волнующий отчет со снимками из Вюрцбурга. Анри Беккерель, профессор физики парижской Политехнической школы, зачарован одной деталью. Источником X-лучей, должно быть, является — это подтвердил ему и Пуанкаре — светло-зеленое световое пятно на стенке стеклянной трубки, используемой Рёнтгеном. Беккерель уже давно знаком с люминесцирующими веществами. Эти вещества способны отдавать свет после того, как их подержали на солнце. Не удастся ли с этими своеобразными веществами, размышляет Беккерель, добиться сходных результатов с теми, что описывает Рёнтген. Он хотел бы выяснить, не смогут ли и они зачернить фотопластинку. Его отец Александр Эдмон Беккерель сконструировал чувствительный аппарат с фосфороскопом. Этот аппарат фиксирует малейшую способность свечения тел. Тем самым в распоряжении сына изобретателя был широкий спектр субстанций для его опытов. В тот же день он приступает к эксперименту и кладет на фотопластинки кристаллы, заведомо обладающие послесвечением. Фотопластинки, во избежание воздействия света, завернуты в черную бумагу или алюминиевую фольгу.
И вот в затемненной лаборатории Беккереля снова отдают поглощенный солнечный свет в оттенках различной интенсивности — зеленом, голубом, фиолетовом и оранжево-желтом — плавиковый шпат, редкие цианистые соединения платины, нафталинрот и пробы воды с замоченной в ней свежей корой конского каштана. Однако впечатляющее цветное кино не приносит ожидаемого успеха. Фотопластинки не темнеют, как от X-лучей, ни от одного из известных люминесцирующих веществ даже после недельной выдержки. В конце февраля Беккерель хочет провести опыты с кристаллами соли урана, известными своей сильной люминесценцией. Он выставляет их на солнечный свет, затем заворачивает в два слоя черной бумаги и кладет тонкую серебряную фольгу между препаратом и фотопластинкой. Через два часа экспозиции на пластинке впервые появляются темные пятна. Это однозначно очертания крошек урановой соли.
Когда Антуан Анри Беккерель докладывает о своем открытии Академии наук в Париже 24 февраля 1896 года, все члены академии уверены, что излучение урана объясняется его способностью к послесвечению. Мол, здесь, возможно, тоже присутствуют лучи Рёнтгена, проникающие сквозь светонепроницаемый материал. Уран и через сто лет после его открытия остается всего лишь популярным и надежным красящим средством для стекла и керамики. Вот только удивительно, что он оказался единственным металлом, испускающим лучи, которые не могут быть обычным светом.
Но подлинное потрясение Беккерель испытывает лишь несколько дней спустя. Поскольку небо над Парижем в эти последние дни февраля никак не хочет проясняться, облучить солнечным светом очередные пробы урановой соли нет надежды. Поэтому Беккерель пока что откладывает в долгий ящик упакованную в фольгу фотопластинку, положив на нее сверху обломок урана. Пару дней спустя — солнце так и не показалось — он снова извлекает их оттуда. То ли его подвигло нетерпение, то ли внезапное наитие, что уран мог испускать остаточную люминесценцию, — это навсегда останется тайной. Беккерель проявляет пластинку, озадаченно обнаруживая и здесь уже знакомый фотографический эффект: очертания кристалла урана тенью отобразились на фотопластинке. Лихорадочные контрольные испытания со всеми доступными соединениями урана, даже со слабо, а то и вовсе не люминесцирующими препаратами, все приводят к тому же результату: излучение урана вызвано однозначно не солнечным светом. Оно не имеет ничего общего с явлением люминесценции. Даже месяцами хранившиеся в темноте урановые соли непрерывно испускают проникающее излучение.
Это поистине знаменательное свойство так называемых «лучей Беккереля» публикуется Парижской академией наук 2 марта 1896 года. Прошло всего четыре месяца со времени открытия лучей Рёнтгена, а к спектру электромагнитного излучения добавился второй неизвестный вид лучей. Однако новые научные выводы Беккереля поначалу беззвучно и бесславно тонут в шуме глобального восторга, вызванного лучами Рёнтгена. Физики слишком заняты постепенным усовершенствованием метода светокопии по Рёнтгену, чтобы обратить серьезное внимание на известия из Парижа, не говоря уже о том, чтоб повторить опыты Беккереля. Они в упоении фотографируют «черепа» и кости рук своих детей и жен, не задумываясь о продолжительности экспозиции, либо вместе с медиками уже работают над концепциями лучевой терапии.
Хотя урановые лучи и могут проникать сквозь металлическую фольгу и вызывать довольно-таки заметный фотоэффект, это не в силах изменить предвзятое мнение в головах коллег. Они не хотят извлечь из работы Беккереля должные выводы, что имеют дело с новым свойством материи. Они усматривают в этом лишь слабый вариант лучей Рёнтгена. Лучам Беккереля требуются целые сутки, чтобы оставить на фотоэмульсии мало-мальский отпечаток. Они не могут даже близко создать нечто подобное тем эффектным картинкам, какие производят лучи Рёнтгена, проходя сквозь материю. Что такое смутная тень комочка урана по сравнению с видом сверкающей пули внутри ствола охотничьего ружья Вильгельма Рёнтгена? Лучи Рёнтгена позволяют отчетливо видеть пули, застрявшие в лопатках и большеберцовых костях ветеранов войны, сломанные кости рук и ног, проглоченные и теперь, казалось, невесомо парящие внутри таза монеты. Американские энтузиасты X-лучей могут за полдоллара купить радиографию почки; если с камнями в почках — то за 75 центов.
Те немногие коллеги, которые потом все же вникли в тезисы Беккереля, высказываются с оговорками. Дескать, слишком фантастично звучит утверждение, что какая-то незначительная составная часть красителя для фарфора может без воздействия света или электричества проявлять проникающие свойства, сходные с X-лучами. И совсем уж ни в какие ворота не лезет допущение, будто уран может и вовсе «спонтанно», то есть на основе
Учителя вольфенбюттельской гимназии Юлиус Эльстер и Ганс Гейтель относятся к числу немногих исследователей, которые уже в апреле 1896 года повторили опыт Беккереля, подтвердили по всем пунктам его результаты и послали протокол своей работы скептику Вильгельму Рёнтгену. Который, надо отдать ему должное, показал, что верная наблюдательность северогерманской пары исследователей произвела на него впечатление. Однако в своем ответном письме от двадцать третьего февраля 1897 года, спустя ровно год после первой публикации Беккереля, он пишет: «...я должен признаться, что не вполне в это верю...» И в другом месте он приходит к такому заключению: «Правда, это не умещается у меня в голове...». К этому времени опубликовано уже более тысячи статей и пятьдесят книг об X-лучах. На фоне такой бумажной лавины вряд ли кто принимает во внимание публикацию Беккереля. За исключением одной тридцатилетней женщины-химика польского происхождения. Она как раз подыскивает тему для диссертации и прочитала все статьи об излучении урана, которые Беккерель опубликовал до середины 1897 года. Другой литературы на эту тему, судя по всему, нет, а она как раз находит эту тему в высшей степени интересной. Но именно это обстоятельство и подстегивает ее, поскольку дает простор для самостоятельных исследований. И поэтому она решает писать свою диссертацию об излучении урана.
Свое свадебное платье Мария Склодовская получает в подарок от родственницы. Она попросила себе черное и скромное, чтобы потом можно было носить его вместо лабораторного халата. Ведь на темной ткани не так заметна угольная пыль, которую постоянно задувает со двора. Молодая женщина из Варшавы работала за гроши служанкой и гувернанткой у богатых людей в польской провинции, отрекшись от своих интеллектуальных способностей. Однако благодаря самодисциплине и упорству все же поступила в конце концов в Сорбонну. Она изучает физику, математику и химию и знакомится там с Пьером Кюри, который сразу влюбляется в хрупкую, честолюбивую женщину с печальным взглядом.
Кюри преподает в Школе промышленной физики и химии в Париже и зарабатывает немногим больше рабочего. Но это не заботит Марию. Она привыкла к безденежью и знает, как обойтись малыми средствами. На свадьбу молодая пара отказывает себе даже в такой роскоши, как обручальные кольца. Мадам и мсье Кюри попросили дарить им деньги и исполняют свою мечту: купив новые велосипеды, они совершают длительные загородные прогулки. Даже летом 1897 года, на восьмом месяце беременности Мария садится на велосипед, чтобы сопровождать своего Пьера в Брест. Однако через несколько километров она понимает, что такая суровая гимнастика не для беременных.
Их дочери Ирен исполнилось всего три месяца, и в декабре 1897 года Мария Кюри приступает к первым исследованиям лучей Беккереля. Но даже в либеральном Париже профессорам и руководителям институтов непонятно, откуда у молодой матери, которая должна бы в первую очередь печься о младенце, столько честолюбия, что она вместо этого пишет диссертацию. До сих пор еще ни один европейский университет не присваивал женщине титул доктора наук. Начальник Пьера предоставляет ей для мастерской маленькое застекленное помещение на первом этаже здания школы. Здесь хоть и сыро, и сквозит, но на такие мелочи невзыскательная докторантка не жалуется.
Для начала она повторяет опыты Беккереля и подтверждает его результаты. Он ведь тем временем обнаружил еще одно важное свойство соединений урана: исходящие из них лучи делают окружающий воздух электропроводным. При помощи изобретенного Пьером аппарата, специального электрометра, она замеряет наэлектризованный воздух над различными урановыми пробами и может из этого делать опосредованное заключение об интенсивности их излучения. Так она нашла простую меру — силу тока — для определения интенсивности излучения своих урановых препаратов. Внешние обстоятельства — такие, как сильные температурные колебания в рабочем помещении Марии, влажность воздуха, равно как и освещение, искусственное или естественное, — не оказывают никакого влияния на степень интенсивности излучения. Самый сильный ток, с большим отрывом от остальных, она замеряет над пробами смоляной обманки из саксонского Йоханнгеоргенштадта, за ними вплотную идут образцы из богемского Санкт-Йоахимсталя.
Ее внимание привлекает еще одно важное наблюдение. При измерении излучения не играет роли, подвергает ли она вещества экстремальному нагреву или охлаждению, исследует ли она уран в виде оксида, соли или фосфата в водном растворе, в виде комочков или в форме порошка. Следовательно, оно не может быть свойством того или иного соединения, а должно быть связано напрямую с элементом ураном. Ибо чем больше доля урана в веществе, тем интенсивнее излучение. И его ничем не устранишь. Ни агрессивными химикалиями, ни мощными электрическими разрядами. Теперь Мария намерена действовать упорядоченно и исследовать все известные химические элементы периодической системы. Для этого она первым делом опустошает коллекцию минералов в школе Пьера. При этом она обнаруживает, что и соединения, содержащие элемент торий, тоже дают излучение и электризуют воздух. Чтобы впредь иметь общее обозначение для силы излучения урана и тория, Мария вводит понятие «радиоактивность».
После этого значительного открытия весной 1898 года она наталкивается на странное обстоятельство, измеряя два урановых минерала. Излучение смоляной обманки в четыре раза превосходит излучение чистого урана. И хоть она не спешит делать из этого выводы, ей остаётся в конце концов лишь одно-единственное заключение: в самородных, необработанных урановых минералах, должно быть, скрыто еще одно вещество, которое излучает сильнее урана и тория. Но поскольку мадам Кюри уже исследовала при помощи аппарата Пьера все известные на тот момент элементы на предмет излучения, это скрытое вещество может быть только новым химическим элементом.
Летом революционного 1789 года Клапрот в Берлине выделил из смоляной обманки новый элемент и назвал его именем самой удаленной от Солнца планеты Уран. Он придает столовому стеклу, флаконам и вазам в преуспевающем ныне стиле модерн типичные желто-зеленые тона всех оттенков — от насыщенного янтарно-желтого до темного яблочно-зеленого. И вот, по прошествии более чем ста лет, Мария Кюри явно выходит на след еще одного неизвестного элемента в смоляной обманке. Какой триумф после четырех месяцев работы. Она пока не может предъявить его в виде материальной субстанции, ибо его существование в этой горной породе мимолётнее, чем дуновение ветра. Но она уверена, что скоро и эта материя, видимая и весомая, захрустит в ее лабораторной ступке.
Вот она стоит в лаборатории вместе со своим мужем. Пьер Кюри приостановил свою работу над кристаллами, чтобы помочь Марии в поисках нового элемента. С оптимизмом пионеров они жертвенно отнимают от сокровища смоляной обманки несметные сто граммов для кропотливого дела растворения, выделения и очистки минерала. Семь недель спустя Мария Кюри уже умеет отделять свою гипотетическую материю от всех прочих веществ, содержащихся в смоляной обманке. Под конец опытов они с Пьером так наловчились применять огонь и сероводород, что проба излучала в триста раз сильнее, чем уран. И с каждой следующей степенью очистки радиоактивность продолжала нарастать. Тут были отринуты последние сомнения.
Восемнадцатого июля 1898 года Академия наук в Париже получает статью супружеской пары Кюри под заголовком «О новом радиоактивном веществе, содержащемся в смоляной обманке». В тридцать один год Мария Кюри считает новый химический элемент самым значительным открытием своей жизни и называет его в честь своей родины «полонием». Но смоляная обманка припасла для нее еще больший сюрприз, чреватый далеко идущими последствиями. После выделения полония у нее осталось небольшое количество легкого металла бария. И он тоже проявляет значительное радиоактивное излучение. Значит, в тускло-сером веществе должна быть скрыта еще одна неведомая радиоактивная субстанция.
А супруги Кюри что-то стали необъяснимо быстро уставать, работая с лучистыми веществами, и им приходится бороться со странной летаргией. Кроме того, Пьер жалуется с некоторых пор на боли в конечностях. Эти боли он принимает за ревматизм, тогда как Марии причиняют муки потрескавшиеся, воспаленные кончики пальцев. Они оба явно нуждаются в перерыве для отдыха. И их лабораторные журналы остаются нераскрытыми до одиннадцатого ноября. Видный химик Эжен Демарсе помогает им до Рождества сделать так называемую спектроскопию нового вещества. Каждому химическому элементу соответствует собственная характерная спектральная линия. Она представляет собой свет, который исходит от разогретых атомов этого элемента, и является, так сказать, неповторимым отпечатком пальца этого особого изотопа. Вот над этим однозначным доказательством существования нового элемента и работает Демарсе. Он наносит крошечную пробу вещества на электроды, через которые пропускает электрическую искру. Так ему удается сфотографировать спектр искры вещества. На этой фотографии он находит спектральную линию, которую нельзя отнести ни к одному из известных элементов. После каждого последующего шага очистки неизвестная спектральная линия видна все отчетливее.
И таким образом удачливое трио двадцать шестого декабря представляет академии очередную работу. В ней они называют новый радиоактивный элемент «радием». Он излучает в девятьсот раз сильнее, чем уран, но, кажется, обладает еще гораздо большим потенциалом радиоактивности. Правда, дальнейшая очистка и рафинирование радия невозможна, поскольку Кюри без остатка израсходовали весь свой запас смоляной обманки. Благодаря хорошим отношениям с венским геологом профессором Эдуардом Зюсом им перепадает сто килограммов смоляной обманки, которую предоставляет государственная урановая фабрика в богемском Санкт-Йоахимстале, щедро не выставив за нее счета.
Лучший из чуланов, в котором до сих пор работала исследовательская пара, новым требованиям отвечать уже не может. Им нужно больше места, и они получают разрешение использовать бывший анатомический зал школы. Мария Кюри так описывает свой сарай: «Стеклянная крыша протекала во время дождя. Летом часто бывало жарко и душно; зимой раскаленная печь приносила одно разочарование. У самой печи было нестерпимо жарко, а в нескольких шагах от нее можно было замерзнуть». Дочь Ева рассказывает о собственноручно помеченных местах на рабочем столе и на полу, куда сквозь худую крышу попадал дождь. На эти места нельзя было ставить аппаратуру. Из-за «вредных газов», которые из чулана невозможно было выветрить, большая часть работ и без того проводилась в маленьком внутреннем дворике. Знаменитый химик Вильгельм Оствальд, однажды посетив лабораторию, принял все это за дурную шутку — «помесь хлева с картофельным подвалом».
Вот мадам Кюри стоит перед своим чугунным чаном и стоически перемешивает дымящуюся жидкость железной палкой, длиной с ее собственный рост. В продолжительной череде всегда одних и тех же действий она измельчает материал, растворяет его в теплой соляной кислоте и сероводороде, тщетно пытаясь уклониться от ядовитых паров, фильтрует, очищает и кристаллизует лучистый бульон. Это еще и борьба с угольной и железной пылью, постоянно задувающей со двора, которая все равно то и дело загрязняет тщательно оберегаемые на столах сосуды для кристаллизации, губя тем самым работу многих часов, а то и дней. К этому времени Мария и Пьер Кюри уже знают, что и ста килограммов смоляной обманки в качестве исходного материала слишком мало, чтобы выделить достаточное количество радия для определения его атомного веса. Приходится мыслить в промышленных масштабах. В процесс кристаллизации надо ввести самое меньшее тонну. Они находят промышленного партнера — Научный центр химической продукции, который готов взять на себя тяжелую работу сепарации. В качестве ответной услуги парижская химическая фабрика просит во временное пользование лишь капельку радия, чтобы представить его на Всемирной выставке 1900 года в Париже.
Некогда славный своим изобилием серебра богемский горняцкий город Санкт-Йоахимсталь теперь принадлежит к двуглаво-орлиной Австро-Венгерской монархии. Урановая фабрика вот уже пятьдесят лет обогащает смоляную обманку, которая до открытия Клапрота шла в отвал. Теперь из измельченной руды здесь выделяют все соединения урана и перерабатывают в красители для местных стекольных фабрик и фарфоровых мануфактур. Лишенные урана отходы, считающиеся пустыми, в свою очередь, десятилетиями сбрасываются в протекающую мимо фабрики речку. С недавнего времени, однако, эти так называемые хвосты стали копить в сосновом лесу за территорией фабрики — к счастью для Кюри, поскольку, с их точки зрения, эта куча отвала на краю леса — настоящее лучистое сокровище, которое содержит радий и полоний. Помимо того, йоахимстальцы считали трудоемкий процесс выделения урана уже пропащим делом. Поэтому 150 франков за тонну плюс транспортные расходы — приемлемая цена. Тяжелые мешки, которые вскоре выгрузят во дворе Школы физики в Париже, содержат коричневый порошок, из которого сплошь торчат сосновые шишки и хвоя.
Времена своей первопроходческой работы по очистке радия в неприглядной и пронизанной сквозняками лаборатории Мария Кюри воспринимает как счастливую пору. Иногда, не желая прерывать важный опыт, она даже варит обед в своей облученной кухне. А радий в составе твердых солей излучает в пять миллионов раз сильнее, чем уран. И уж разумеется, супруги Кюри совсем не принимали во внимание то, что все лабораторные предметы, с которыми соприкасался высокоактивный радий, тоже становились радиоактивными и оставляли на фотопластинках, свои тени сквозь черную бумагу. «Пыль, комнатный воздух, одежда — всё радиоактивно. ...Бедствие настолько обострилось, что мы больше не можем держать в изолированном состоянии ни один прибор». Когда лаборатория облучена до такой степени, измерения становятся недостоверными и их приходится проводить где-то в другом месте.
Но оба умеют извлечь из этого эффекта и нечто позитивное. Ведь чем больше радий приближается к своей чистой форме, тем сильнее становится его спонтанное свечение. И вскоре это становится любимым «развлечением» пары, по выражению Марии. Поздним вечером еще раз заглянуть в лабораторию, чтобы побаловать себя фантастическим зрелищем: «Повсюду виднелись слабо светящиеся очертания пробирок и мешочков, в которых находились наши препараты. Вид и впрямь был великолепный, всякий раз он казался нам новым. Тлеющие трубки походили на волшебные огоньки».
Научный мир Германии почти не принял к сведению работу Кюри даже по прошествии года с открытия радия. Лишь некоторые одиночки — такие, как Юлиус Эльстер и Ганс Гейтель, — идут по следам Кюри. Они принимают участие и в рассуждениях о причинах излучения. Так, Мария Кюри летом 1898 года подозревает, что радиоактивные элементы единственные в периодической системе могут абсорбировать космические лучи из Вселенной и превращать их в наблюдаемое излучение. Для проверки этой теории так называемого вторичного излучения Эльстер и Гейтель спускаются в шахту под Клаусталем в Гарце на глубину 850 метров, имея при себе урановый препарат. Они исходят из того, что слои земли и горных пород должны абсорбировать космическое излучение, так что на такой глубине оно уже не будет поддаваться измерению. Однако они обнаруживают, что и там уран излучает с такой же силой, как у входа в шахту. Так они приходят к заключению, что космические лучи в качестве причины радиоактивности «в высшей степени неправдоподобны». Сама Мария Кюри тоже принимает во внимание эксперимент немцев и оценивает его как опровержение теории вторичного космического излучения.
В начале 1899 года истинное решение уже носится в воздухе. На одном заседании Брауншвейгского общества естественных наук 19 января 1899 года Эльстер и Гейтель докладывают о своих исследованиях в области радиоактивности и становятся на следующую — удивительную — точку зрения: «...приходится делать вывод, что источник энергии заключен скорее в самих атомах этих элементов. Мысль близка к тому, что атом радиоактивного элемента переходит из нестабильной связи в стабильное состояние путем отдачи энергии». При этом они впервые указывают не только на атомарный источник излучения, но и на возможность распада атома в качестве объяснения излучения. Эта теза вскоре будет точно разработана Эрнестом Резерфордом и Фредериком Содди в Монреале. К кругу исследователей в земле Брауншвейг принадлежит и зубной врач Отто Валькхофф, который уже через две недели после новаторской публикации Рёнтгена сделал снимки своих челюстей при помощи X-лучей, тем самым впервые продемонстрировав терапевтическое использование новооткрытого излучения в стоматологии. Однако в центре внимания, без сомнения, оказывается профессор Фридрих Гизель, ведущий химик Брауншвейгской хининовой фабрики Бухлера. Он разрабатывает хитрый метод отделения радия, который ведет к успеху гораздо быстрее, чем метод очистки Марии Кюри. Гизель оживленно переписывается с супружеской парой парижских ученых. Они посылают друг другу по почте препараты высокой радиоактивности и обмениваются результатами исследований. Для своей фирмы он специализируется на коммерческом производстве препаратов радия, чтобы удовлетворить спрос, постепенно растущий в лабораториях.
Уже в 1896 году, когда весь мир бросился к X-лучам, а открытие Беккереля игнорировалось, Гизель использовал собственное излучение урановой руды, чтобы запечатлеть на фотопластинке изображение лягушки. Сходство отображающей способности лучей Рёнтгена и Беккереля наводит его на вопрос, а не сопоставимо ли и физиологическое действие обоих видов лучей. Имея дело с лучами Рёнтгена четыре года, радиологи и конструкторы аппаратов уже знают об опасности передозировки для здоровья. Они работают над мерами защиты, чтобы уменьшить силу лучей. Ведь случаи затяжных недугов, а то и вовсе тяжелых ожогов со смертельными последствиями заметно поубавили рентгеновскую эйфорию среди физиков и медиков. Никто не знает точно, какая доза облучения может считаться допустимой.
Неустрашимый зубной врач Отто Валькхофф тоже, конечно, осведомлен о вредном воздействии рентгеновских лучей, когда осенью 1900 года отваживается на первый задокументированный опыт с радиоактивностью на себе самом. Для этого Гизель предоставляет в его распоряжение 0,2 грамма своего препарата радия. Может быть, надеялся Валькхофф, этот способ облучения тоже пригодится в терапии. Он кладет препарат, заключив его в целлулоидную капсулу, на свое предплечье и дважды облучает его по 20 минут, после чего его кожа воспаляется. Фридрих Гизель, который каждый день соприкасается в лаборатории с радием, недоумевает, однако принимает вызов Валькхоффа и повторяет опыт, слегка повысив дозу. Чтобы действовать наверняка, он дает капсуле пролежать на внутренней поверхности плеча сразу два часа. Через две недели он получает «очень сильное воспаление кожи с пигментацией на упомянутом, точно очерченном месте; за воспалением последовало образование пузырей и отторжение верхнего слоя кожи, как при ожоге, после чего наступило заживление». Полтора года спустя на этом месте все еще виден шрам. И волосы на этом месте больше не растут. Этот феномен должен был бы вообще-то напомнить ему о собственных ранних опытах с X-лучами, когда он страстно добивался лучшего изображения на рентгеновских снимках, и у его девятилетнего сына Фрица выпали волосы после бессчетных просвечиваний черепа.
В Париже отчеты Валькхоффа и Гизеля воспринимаются с воодушевлением и тут же со спортивным азартом побиваются более сильными козырями. Если Гизель положил себе два часа облучения, то Пьер Кюри не станет мелочиться и взвинтит свой рекорд до испепеляющих десяти часов. С возникшей после этого раной пришлось повозиться гораздо больше, чем со сравнительно безобидным ожогом немца. Пострадавшая поверхность кожи тщательно обмеряется, дням воспаления ведется счет, в дело идут перевязки, а рана, похоже, въелась глубоко в мякоть, поскольку «приобретает серый оттенок», что с удовлетворением отмечает Кюри. Вскоре и Анри Беккерель описывает собственный опыт со сходными ожогами кожи после того, как слишком долго носил в кармане пиджака капсулу с радием. Раны демонстрируются с известной гордостью экспериментаторов — поскольку оптимизм пока что перевешивает опасения: исследователи надеются, что наблюдаемый эффект однажды приведет к лучевой терапии рака и кожных лишаев.
Гизель уже превратился в радийного дервиша до такой степени, что обрыскал в поисках жертвы весь дом и сад. Комнатные растения его жены после короткого облучения радием приобретают осенние цвета и гибнут. Он разрушает — именем науки — всхожесть цветочных семян и целенаправленно истребляет хлорофилл всех зеленых организмов, какие попадаются на пути ему и его капсуле радия.
Беззаботное обращение и ежедневный контакт со все более чистым и все сильнее излучающим препаратом радия превращают пионеров в живые источники излучения. Всё, к чему они прикасаются, становится радиоактивным. Записные книжки Марии и Пьера Кюри и в XXI веке всё еще заражены радиоактивностью так сильно, что их приходится держать в свинцовом ящике. Также в письма и документы из наследия Гизеля можно заглянуть лишь с соблюдением противолучевых защитных предписаний. Летом 1904 года немецкий знаток радия предоставляет самого себя в качестве подопытной персоны для одного очень специфического опыта своих друзей Эльстера и Гейтеля. Экспериментаторы исходят из следующих соображений: поскольку радий непрерывно испускает радиоактивный инертный газ радон, Гизель после шести лет работы со своими препаратами должен был настолько пропитаться радоном, что его дыхание могло стать электропроводным и поддающимся на сей счет измерению. Они велят ему надышать воздуха под колокол аппарата, и тот действительно показывает наличие электрического заряда, намного превышающего средние значения. Одну щекотливую деталь их испытания Эльстер и Гейтель стыдливо спроваживают в мелкий шрифт сноски: «И моча подопытного (220 куб. см), если пропускать через нее воздух, отдавала ему такое количество эманации, что его электропроводность в семь раз превышала нормальную».
Ладони Фридриха Гизеля теперь постоянно воспалены. На коже образуются чешуйки, а кончики пальцев затвердевают. Неумеренные опыты над собой проводятся из научного любопытства и в осознании того, что пионерам приходится и рисковать. Мария и Пьер Кюри поначалу тоже не думают о вредном воздействии полученного облучения. Весной 1903 года Мария работает в лучистом сарае ничуть не меньше обычного, хотя она снова беременна. Даже после выкидыша ей все еще невдомек, что гибель ее дочери с высокой степенью вероятности связана с радиационным облучением. Ведь оно с легкостью разрушает как раз клетки в процессе деления — а это клеточное состояние естественно для эмбриона.
Сенсационные обстоятельства добычи радия, сообщения о магическом свечении нового элемента и не в последнюю очередь вручение Нобелевской премии 1903 года по физике Анри Беккерелю и супружеской паре Кюри выносят славу парижских ученых, исследующих радиоактивность, далеко за рамки специализированных научных журналов. Однако в сообществе физиков бурно обсуждается в первую очередь одно весьма специфическое, необъяснимое свойство радия. Кусок угля за короткое время сжигает всю свою тепловую энергию. Остается лишь щепотка остывшей золы. И динамит или порох выпрастывают свою энергию в одном сильном взрыве, не оставляя никакого отхода, пригодного для использования. У радия все иначе. С его излучением явно связано постоянное тепловыделение. Оно в двадцать тысяч раз превышает энергию, которая выделяется с теплотой химической реакции при молекулярных превращениях. Вот уже три года Фридрих Гизель, будучи единственным производителем радия, снабжает из Брауншвейга ученых всего мира пробами бромида радия в количествах, подходящих для лабораторных исследований. К радости ученых он не использует свою мировую монополию для получения выгоды. Он щедро дает препараты напрокат, а то и просто дарит. Все это время французы, немцы, англичане и американцы в один голос подтверждают, что излучение высокорадиоактивного элемента не убывает. Он отдает свою энергию непрерывно и равномерно, одними и теми же порциями изо дня в день, из года в год. И конца этому не видно. Пьер и Мария Кюри хотя и принимают излучение за атомарное свойство, но не могут объяснить источник энергии, загадочно дремлющей в глубине материи.
В канадском Монреале — параллельно с работой супругов Кюри — физик новозеландского происхождения Эрнест Резерфорд уже занят основательной инвентаризацией еще молодой области исследований. Вместе со своим английским ассистентом Фредериком Содди он разработал теорию, которая удовлетворительно объясняет все известные явления излучения. По их утверждению, происходит постепенное превращение атомов радиоактивного вещества. Уран, радий и торий превращаются — через несколько промежуточных ступеней — в атомы других элементов. Превращение сопровождается высокоэнергичным излучением. Высвобождаемая при этом процессе энергия истекает непосредственно из атомов. Неиссякаемым этот источник энергии, конечно, отнюдь не является. Ведь одновременно с излучением энергии атомы теряют также часть своего материального вещества. То есть происходит распад атомов, который после определенного, хоть порой и весьма продолжительного времени снова прекращается. После этого превращение закончено, атомы конечного продукта снова стабильны и больше не дают излучения. Источник энергии исчерпан. И поэтому радиоактивные процессы ни в коем случае не нарушают священный закон сохранения энергии. Никакая энергия не исчезает, никакая дополнительная энергия не производится. То есть излучение энергии стоит в прямой пропорции к уменьшению массы в атоме.
Резерфорд и Содди оценивают свои данные статистически и выясняют, что распад всех известных радиоактивных веществ и их промежуточных продуктов подчиняется некой математической закономерности. Каждому элементу требуется точно установленное время, чтобы превратить половину своих атомов в атомы другого элемента. Этот временной промежуток они назвали периодом полураспада. Химически едва уловимые продукты превращения тоже подлежат — по крайней мере, математически — этой закономерности. Поначалу это лишь приблизительные расчеты. Постепенно они уточняются, и период полураспада радия стабилизируется на отметке 1620 лет. Теперь и двум пионерам излучения становится понятно, почему до сих пор ни один из наблюдателей во всем мире не заметил изменения активности распада радия и его энергоотдачи. Из 30 миллиграммов радия, имеющегося в распоряжении Содди, через 1620 лет останется всего 15 миллиграммов, через 3240 лет — 7,5 и через 4860 лет — 3,75 миллиграмма.
Резерфорд и Содди с удивлением обнаруживают, что атомы урана распадаются невообразимо медленнее радия. Период их полураспада растягивается более чем на четыре с половиной миллиарда лет. Тем самым ученые невзначай попали в такие разряды величин, которые даже геологи с их богатой фантазией до сих пор не связывали с возрастом земной материи. Любому ученому в начале XX века не по себе от таких огромных цифр. Некоторые же продукты превращения урана, напротив, теряют половину своего вещества и излучения уже через несколько микросекунд, часов или дней. Например, газ радон, возникающий непосредственно из распада радия, имеет период полураспада всего четыре дня. И хотя утверждения Резерфорда и Содди согласуются с лабораторными данными, на третьем году XX века они своей теорией распада и превращения элементов все же приводят в колебание оплот химии, а именно учение о неразрушимости химических элементов. Приписывать безжизненной материи способность к превращению — это подозрительно напоминает алхимическую мечту о трансмутации материи. После этой неслыханной атаки на химическую догму Резерфорд и Содди должны были приготовиться к тому, что их обзовут еретиками.
Фредерик Содди еще раз исследует свойства радия, которые Мария Кюри уже описала. В своих публичных докладах о феномене радиоактивности он не скрывает, что больше всего зачарован полной независимостью процесса распада от внешних воздействий. Подвергает ли он свои пробы радия экстремальному охлаждению при помощи самого современного лабораторного оборудования, разогревает ли их до 2500 градусов Цельсия, сжимает ли их в стальном баллоне под давлением в 1000 атмосфер, доводя до «взрыва», или воздействует на них агрессивными кислотами — излучение радия всегда остается постоянным. Даже сильнейшие электрические разряды, магнитные поля и центробежные силы не могут изменить скорость распада радия, а тем более остановить его. Содди остается роль бессильного наблюдателя, чьи попытки вмешаться в атомарный процесс превращения смехотворно бездейственны.
Он поневоле вспоминает один космический феномен, который тоже ставит его в положение удивленного зрителя. Не так ли и непрерывно горящий с древних времен костер солнца ускользает от всякого человеческого контроля? Потому и кажутся ему исчезающе малые зернышки радия в капсуле — этот бесценный дистиллят из смоляно-черной породы Рудных гор — миниатюрным солнцем на его ладони, свет и тепло которого он может ощущать, но не может на него воздействовать. Взволнованный этой игрой мысли, он делает простой расчет и приходит к поразительному результату. Его радий, препарированный Фридрихом Гизелем, излучает, относительно своей массы, больше энергии, чем наше центральное светило или любая другая звезда в наблюдаемой Вселенной. Если бы масса нашего Солнца состояла из чистого радия, то оно испускало бы в миллион раз больше света и тепла.
При более точных исследованиях радиоактивных веществ Эрнест Резерфорд делает важное открытие. Он идентифицирует два вида излучения, которые пронизывают материю с разным успехом. Он называет их альфа- и бета-лучами. Движение альфа-лучей, начавшееся со скоростью 20 000 километров в секунду, заканчивается уже через несколько сантиметров. Эта лучи поглощаются воздухом. Одного листа бумаги достаточно, чтобы полностью заэкранировать радиоактивный источник. А бета-лучи летят со скоростью света, но застревают в алюминиевом листе толщиной пять миллиметров. Это препятствие — не проблема для открытых французом Полем Вилларом гамма-лучей. Но конец их пути наступает через пять миллиметров свинца.
Несмотря на слабость проникновения альфа-лучей, большая часть теплоты, возникающей при радиоактивном распаде, идет именно на их счет. Кроме того, они вызывают электризацию воздуха — достаточное основание для того, чтобы заняться ими подробнее. Теперь Резерфорду удается доказать, что альфа-лучи в действительности являются атомами гелия. Их выбрасывает из радиоактивного источника. Так радиоактивное вещество теряет часть своей массы — событие, которое, в свою очередь, приводит в действие химическое превращение. Полегчавший остаток атома становится атомом нового вещества, которое опять-таки нестабильно и подлежит дальнейшим химическим изменениям, а те вновь сопровождаются излучением альфа-частиц.
Фридрих Гизель тем временем разработал оригинальный флюоресцентный экран нового типа. Он состоит из кристаллического соединения цинка и серы с добавкой небольшого количества меди. Это вещество оказалось подходящим для того, чтобы сделать видимыми альфа-лучи. Когда Гизель в темном помещении подносит свои препараты радия к сернисто-цинковому экрану, тот озаряется оживленным зелено-голубым светом. Что означает, что до него долетели альфа-частицы, они же атомы гелия. Ганс Гейтель и Юлиус Эльстер делают по образцу Гизеля экран, и его импозантные световые явления зачаровывают их. Но в ярких отсветах они не могут разглядеть детали. Для их целей гораздо лучше подходит сильно разбавленное радиоактивное вещество. Им удается чрезвычайно тонко спроектировать лучистую материю на сернистоцинковый экран. Он светится так слабо, что им приходится прибегнуть к лупе. Однако то, что они затем видят, завораживает их. Экран озарён неравномерно — свет, казавшийся сплошным, лучится с разной интенсивностью. Повсюду с высокой скоростью вспыхивают маленькие световые точки и тотчас снова исчезают. У Эльстера и Гейтеля складывается впечатление, что они смотрят на «туманное пятно на небе, которое на самом деле представляет собой звездное облако... если смотреть на него через телескоп с большой силой увеличения».
Теперь становится возможным систематический подсчет вспышек альфа-частиц на флюоресцентном экране, так называемых сцинтилляций. Разумеется, надежно зарегистрировать общее количество всех вспышек не удастся ни одному человеку. Но есть очень хорошо зарекомендовавший себя метод последовательных приближений. Наблюдатель направляет микроскоп на квадратный миллиметр экрана и несколько раз с большой точностью считает точки, вспыхивающие в течение часа, чтобы потом вычислить старое доброе среднее значение. Эльстер и Гейтель вдохновенно демонстрируют свои наглядные и элегантные сцинтилляции как доказательство существования атомов. Если до сих пор типичный аргумент атомных скептиков гласил, что никто пока еще не видел атом, то теперь каждый мог взглянуть на сернистоцинковый экран Гизеля и во вспышках альфа-частиц увидеть отдельные атомы гелия в их движении. Видеть атомы! Это уже маленькая сенсация. Таким образом, эффектно подтверждается учение об атомах, некоторыми учеными так до сих пор и не признанное, уверяет пара исследователей. Но на финишной прямой в состязании за первую публикацию их опережает английский химик и физик сэр Уильям Крукс, который открыл метод сцинтилляций одновременно с немцами.
Вскоре сернистоцинковый экран установлен и в Физическом институте Венского университета на Тюркенштрассе. Физику и философу Эрнсту Маху, известному главным образом по параметру скорости звука, названному его именем, и ожесточенному противнику идеи атомов достаточно было одного-единственного удивленного взгляда на экран, чтобы увлечься. Да и людей с глубоко донаучными представлениями вспышки атомов гелия просвещают на месте. Рассказывают, что Луиджи Пьяви, патриарх Иерусалима, тоже однажды взглянул на венский флюоресцентный экран и тут же решил одну основную философскую проблему. Он якобы понял теперь, что библейское восклицание о сотворении мира «Да будет свет!» больше не противоречит тому факту, что небесные светила — Солнце, Луна и звезды — были сотворены лишь позднее.
В сентябре 1904 года в рамках Всемирной выставки в американском Сент-Луисе состоится мероприятие Международного конгресса искусства и науки. Резерфорд приглашен с докладом. В помпезных выставочных павильонах с электрическим освещением посетители могут подивиться на беспроводной телеграф, электрические локомотивы и новейшие автомобили, в том числе на знаменитую спортивную машину «Спайкер» со сказочными восемьюдесятью лошадиными силами. Яркие дирижабли над территорией выставки своими смелыми маневрами напоминают о прошлогоднем историческом моторном полете братьев Райт, и уж совсем особый аттракцион — автоматы, из которых можно получить орешки и жевательную резинку. Но самый большой хит — это съедобные фунтики из вафельного теста для мороженого. И в этой атмосфере как значительных, так и пустяковых инноваций Резерфорд излагает международному собранию ведущих ученых и людей искусства свою революционную идею радиоактивного распада. Многие из присутствующих физиков и химиков до сих пор не имели случая познакомиться с представлениями о трансформации радиоактивной материи. Большинство английских профессоров химии воспринимает гипотезу атомарного распада как неслыханную наглость: «Уж не хочет ли Резерфорд внушить нам, что атомы страдают неизлечимой навязчивой идеей самоубийства?» — усмехается один коллега. Восьмидесятилетний Уильям Томсон, более известный как лорд Кельвин — живая легенда, почти уже вознесенный на научный Олимп и сидящий одесную Ньютона, — возглавляет группу скептиков. Он отградуировал шкалу температур и навсегда связал со своим именем самую холодную точку универсума. И он убежден — отстав на целых пять лет от теоретических дискуссий, — что радий не сам излучает энергию из атома, а принимает ее из космоса: абсорбируя эфирные волны. Ведущий английский физик рассчитал, с какой скоростью распространяется теплота в горных породах, определил точку их плавления и вывел отсюда зависимость их тепловых свойств при затвердевании. По этим расчетам выходило, что Земля не может быть старше нескольких миллионов лет. И теперь, когда Резерфорд выражает время распада урана цифрой в несколько миллиардов лет, в универсуме лорда Кельвина это уже граничит с ересью.
И не Резерфорд ли с Содди, еще одним зеленым юнцом, без зазрения совести раструбили по всему миру о
Опасения лорда Кельвина, что алхимические идеи вернутся в лаборатории недавно зародившегося XX века, необоснованны. Резерфорд и Содди — выдающиеся современные ученые, однако они, разумеется, знакомы с историей идей алхимии и осознают, что параллели их теории превращения элементов путем радиоактивного распада с диковинными представлениями алхимиков о трансмутации просто бросаются в глаза. Минувшим летом в Париже Эрнест Резерфорд провел памятный вечер, когда он и его жена Мэй с супругами Кюри и еще несколькими друзьями праздновали сданный Марией Кюри экзамен на докторскую степень. Они сидели в саду, и, когда стемнело, Пьер Кюри достал из кармана пиджака пузырек с почти чистым радием и поставил его на стол. Даже сам Резерфорд благоговейно замер, залюбовавшись ярко светящимся веществом. Столь сильного препарата ему еще не приходилось видеть. Если алхимики лишь грезили о
Если отвлечься от сомнительных добытчиков золота в среде алхимиков, то для серьезных адептов этого учения разложение земных веществ в очистительном огне их плавильных тиглей есть лишь символ необходимости самим бесстрашно погрузиться во тьму своей души и добиться очищения духа. Речь идет не о чем ином, как о тайне смерти, возрождения и трансценденции, равно как и о прискорбной нужде деятельно вмешаться в этот процесс. На уровне космических наблюдений медленный распад материи означает неотвратимый уклон в хаос. Картина будущих гибельных событий завершается в конце концов уничтожением Земли. Очищение мира в глобальном огне приближает надежду на последующий «золотой век». В этом состоит одно из многих «истинных» значений алхимического превращения неблагородных металлов в золото.
Нездоровой притягательности этого алхимического бреда Резерфорд и Содди явно не сумели избежать, тем более что потенциальная разрушительная сила энергии урана не осталась для них тайной. В первую очередь Содди в своих научно-популярных докладах выражает беспокойство по поводу высвобождения атомарной энергии. Он поднимает вверх флакончик с диоксидом урана и оглашает содержание энергии этой дозы, выраженное через теплотворную способность каменного угля: она равна двумстам тоннам. Ведь уран имеет невообразимо долгий запас времени, сопоставимый с предполагаемым возрастом Земли, чтобы отдать обильную энергию. Чтобы подключиться к ней для непосредственного использования, размышляет Содди, надо бы найти возможность искусственно ускорить распад урана. Что запустило бы саму трансмутацию. И на этом стыке, по мнению Содди, алхимия и современная наука, скорее всего, и найдут примирение: «В ногу с трансмутацией элементов шествует возможность высвободить энергию, заключенную в материи».
Однако понимание масштаба высвобождения энергии из урана внушает ему форменный страх, потому что эта энергия впервые выдвигает пророчества о конце света в область реальности. Овладев атомной энергией, человек вступает в обладание «оружием, которым можно при желании разрушить Землю». Он заклинает своих слушателей «уповать вместе с ним на то, что природа убережет свои тайны». Эрнест Резерфорд считает возможным использование атомной энергии в военных целях: «Если бы нашелся подходящий детонатор, можно было бы представить, что волна атомного распада взрывообразно распространится на всю материю, пока вся масса земного шара не превратится в гелиевые отходы». Изречение Резерфорда о придурковатом лаборанте, который может по недосмотру взорвать весь мир, становится крылатой фразой. Может быть, он вспоминал при этом о первом неудачном эксперименте своего детства. Используя полый гардеробный крюк в качестве пушечного ствола и пригоршню пороха, десятилетний мальчишка в родительском саду хотел выстрелить камешком по мишени. Детскую пушку разворотило взрывом, а камешек упал на землю.
Теперь Резерфорд хорошо разбирается во взрывах. Они парадоксальным образом совершаются беззвучно и невидимо и являются частью его лабораторных будней. В 1908 году Резерфорд при вручении ему самой желанной в мире премии по химии шведского динамитного магната продуманно описывает радиоактивные процессы как бризантные события, напоминающие ему взрывы: «Частица атома радия становится нестабильной и лопается со взрывной силой». И об инертном газе радоне, исходящем из радия: «Атомы этого вещества существенно неустойчивее, чем атомы радия, и снова взрываются...», а то и вовсе: «...во время этого атомарного взрыва выбрасывается единственный атом гелия».
Общее собрание Германского Бунзеновского общества прикладной и физической химии десятого мая 1907 года в Гамбурге грозит закончиться столпотворением. Девиз заседания гласит: «Радиоактивность и гипотеза атомного распада» и очень подходит для того, чтобы разделить всех присутствующих на сторонников и непримиримых противников теории. Главным образом старшие господа настроены почти враждебно против этой новой ветви физической химии. Революция вселяет в них неуверенность. В конце концов фундамент химии, учение о неизменности и непроницаемости элементов, основательно поколеблен самим существованием радиоактивных веществ. Скептики не хотят признавать радий в качестве самостоятельного химического элемента и отвергают статус радона как инертного газа. И соответственно, они с раздражением реагируют на совсем еще молодых, но прекрасно информированных и убедительно аргументирующих сторонников теории распада Резерфорда и Содди.
В центре бурных дебатов стоит двадцативосьмилетний доктор химии, чье заявление на получение доцентуры в качестве приват-доцента как раз рассматривается. Он страстно защищает новейший накопленный опыт международных исследований. Он может рассказать впечатляющие детали об экспериментах, которые по всем правилам химического искусства доказали, что радон не поддается вступлению ни во временные, ни в прочные соединения. Что однозначно доказывает его природу инертного газа. Как-никак молодой человек обучался в Лондоне у Уильяма Рамсея, открывшего инертные газы аргон, криптон и ксенон. Некоторым профессорам старшего поколения в голосе ученика Рамсея чудится самонадеянность и непочтительность. Его прямодушные возражения они воспринимают как дерзость. Да кто он такой, негодует один из присутствующих. «Это такой англизированный берлинец», — насмешливо говорит другой, ведь слово «англизированный» может означать и подрезанный хвост лошади, а слово «берлинец» тем более многозначно: от пончика до дорожного узелка.
Правда, родился Отто Ган, этот англизированный берлинец, во Франкфурте-на-Майне. Начиная изучать химию в Марбурге, младший сын состоятельного стекольного фабриканта проявляет мало рвения и честолюбия. После первой огорчительной лекции по математике этот предмет для него умер. С куда большей выносливостью он справляется с комплексными задачами по выпивке. Долгое время его отец на вопросы об успехах отпрыска без всяких церемоний отвечает, что основной интерес Отто сосредоточен на пиве. Тем не менее тот выдерживает докторский экзамен с оценкой «magna cum laude» («с большим почетом»). Хотя призвания к исследовательским занятиям в себе не чувствует. Ему видится скорее должность промышленного химика. Научный руководитель его докторской диссертации советует ему пожить за границей, чтобы он смог за счет знания иностранных языков повысить шансы своей карьеры в бурно расширяющейся химической отрасли Германии. Так в октябре 1904 года Отто Ган попадает в институт Уильяма Рамсея в Университетском колледже Лондона. Со странной пассивностью он просит у Рамсея о задании. Тот сразу швыряет его в холодную воду. Радиоактивность? Нет, об этом Гану не приходилось слышать во время его учебы в Марбурге и Мюнхене.
А Рамсею незадолго до этого доставили пять центнеров высокорадиоактивного минерала торианита, содержащего торий, и эти пять центнеров с тех пор сократились до 100 граммов соли бария. И вот Рамсей дает своему немецкому ассистенту задание выделить из этого вещества приблизительно подсчитанные 10 миллиграммов радия. Послушник Отто Ган основательно готовится к своему испытанию, штудирует тогда еще обозримую литературу по этому предмету, слушает лекции Рамсея и затем приступает к работе с тщанием и острой наблюдательностью, которая в будущем станет его отличительной чертой. Толковым везет, и ему с самого начала сопутствует удача. Уже скоро он маневрирует на тех же путях познания, какими шла Мария Кюри, у которой смоляная обманка после отделения урана все еще продолжала излучать, благодаря чему был открыт новый элемент. После того как Отто Ган выделил из эссенции торианита радий, остатки продолжают проявлять радиоактивность. Интенсивность излучения, однако, не сопоставима ни с одним из известных в то время радиоактивных элементов. Когда после повторений опыта и перестраховки он смог исключить ложный вывод, обусловленный неопытностью, новый радиоактивный элемент назван им с заслуженной гордостью открывателя радиотором. Он излучает в 250 000 раз сильнее тория. Гана не подвело верное чутье и смелость рук ремесленника. Руководитель института Рамсей обрадован и объявляет об открытии Гана на заседании Королевского общества шестнадцатого марта 1905 года.
Ган набрался в Лондоне достаточной уверенности в себе. Свой следующий практикум он выполняет у Эрнеста Резерфорда в Монреале. У него он учится импровизировать, мастерить из табакерок, баллонов из-под масла и консервных банок действующие аппараты для проверки радиоактивных веществ. Но и в лаборатории Резерфорда, фонтанирующего энергией и воодушевлением, давно уже облучены все инструменты и оборудование, так что измерения слабых по природе излучений приходится проводить в других помещениях. Как и Гизель и супруги Кюри, Резерфорд сам уже стал радиоактивным источником. Однажды он чинит сломанный электрометр на рабочем столе Гана. Прибор после починки хоть и заработал, но зато теперь излучает. Методом сцинтилляций Ган исследует альфа-излучение «своего» радиотора и погружается в чарующие световые явления сернистоцинкового экрана. И в Монреале он тоже открывает сразу два новых элемента, так что мастер на прощанье выдает ему свидетельство на совершенно особый нюх.
Химический институт Берлинского университета возглавляет Эмиль Фишер, нобелевский лауреат 1902 года. По возвращении из Канады в октябре 1906 года Гану разрешено оборудовать под лабораторию пустующую столярную мастерскую на первом этаже. Правда, на признание и уважение коллег он рассчитывать не может. Профессия радиохимика все еще не принимается всерьез, а некоторые органические химики ее органически не переносят. Когда на факультете вывешивают его заявление на получение доцентуры, на листке вскоре появляются пренебрежительные замечания. «Надо же, кто только не претендует нынче на доцентуру», — гласит комментарий одного сотрудника. Однако Гана не смущают предвзятые коллеги. В марте 1907 года он подтверждает в препарате тория присутствие «исходного вещества» своего радиотора и называет его мезотор.
Ведущие исследователи радия Кюри, Беккерель и Гизель демонстрировали вредное воздействие радия на человеческий организм на собственных телах с глубокими и плохо заживающими язвами. Пьер Кюри в своей нобелевской речи даже предостерегал от слишком легкомысленного обращения с высокорадиоактивными веществами. Говорил, что это может привести к потере двигательной способности и в конце концов стать смертельным. Он знал, о чем говорил. К тому времени ему было уже трудно удерживать пальцами пробирку. Однако когда австрийский физик Штефан Майер выясняет, что вода слывущих целебными термальных источников в Бад-Гаштайне радиоактивна, никто больше не хочет слышать никаких предостережений.
Не заставило себя ждать и то, что медики, встрепенувшись от радиационного бума, стали пристально приглядываться к урановым рудникам Санкт-Йоахимсталя. Якобы шахтеры там никогда не страдают ревматизмом, подагрой и невралгиями, чему причиной может быть постоянное испарение радона из радия — продукта распада урана. Мол, здесь радиоактивный воздух явно оказывает такое же воздействие, что в Бад-Гаштайне исходит от легендарной воды. Как раз в это время шахтные воды были официально признаны радиоактивными. Это грунтовая вода, постоянно сочащаяся в штольни сквозь щели и трещинки в налегающих породах. Одного предприимчивого йоахимстальского булочника Куна эта хорошая новость навела на коммерческую идею. С разрешения властей он нанял людей таскать ему в дом рудничную воду из шахт в деревянных дежах и стал предлагать ревматическим больным ванны, якобы облегчающие недуг. Разлитая в бутылки для питья, эта целебная вода конечно же должна была прописываться врачом, но исцеляла и без врача, продаваемая из-под прилавка, принося булочнику изрядный побочный доход. Пока четыре кабинки с ваннами, установленные рядом с пекарней в плачевных гигиенических условиях, еще только становятся зародышем будущей модной радийной водолечебницы Санкт-Йоахимсталь, курорт Бад-Гаштайн в земле Зальцбург, упоённый своим радиоактивным источником молодости, совершенно официально рекламирует себя стихами:
Чудодейственный источник Бад-Гаштайн.
Я сама купаюсь в ванне, полной тайн.
В излучающем бульоне поварюсь,
Снова девочкой-подростком обернусь.
В аптеках теперь можно купить кожаные мешочки, в которые расфасовано по 62 грамма смоляной обманки с содержанием оксида урана 43 %. Если носить такой мешочек на теле, то препарат своим излучением изведет ревматические заболевания. В пансионах и отелях расцветающих радийных курортов Санкт-Йоахимсталя каждый день подают к столу свежий хлеб, выпечку и даже пиво с добавлением радона. Одно фармацевтическое предприятие рекламирует свой продукт такой надписью на упаковке: «Доказательством биологического воздействия может служить тот факт, что полуминутное или минутное облучение уже вызывает покраснение кожи». И австрийская фабрика радия Нойленгбах продает свои радиоактивные грязи в виде порошка в мешках по пять килограммов для домашних ванн и обещает: «При длительном применении — поразительно стойкий эффект».
При таких коммерческих выгодах и беспечном увлечении новой терапией снабжение науки радием перекрывается. Когда Эрнест Резерфорд в 1907 году переезжает из Монреаля в Манчестер, он с трудом, всякими правдами и неправдами добывает приемлемое количество радия для особой серии опытов, которую намеревается поставить. В конце концов ему удается договориться с Венской академией наук. Он получает в длительное пользование 0,4 грамма хлорида радия — щедрость, которая творит историю. Ибо тут крохотное количество светоносной материи, освобожденной от многих тонн тяжелой, черной, как смола, породы, встречается с неповторимой силой воображения гения. И этой необычной встрече в нужный момент времени сообщество физиков обязано первым значительным прорывом во внутреннюю структуру атома.
Резерфорд чуть было не прозевал идеального сотрудника для своего прорывного эксперимента, ибо Ганс Вильгельм Гейгер, двадцатипятилетний докторант из Нойштадта, что стоит на «винодельческой дороге», только что окончил свою годичную стажировку в Физическом институте Манчестерского университета и уже укладывает чемодан для возвращения в Германию. Разговорившись с ним и увидев его выдающиеся способности экспериментатора, энергичный Резерфорд предлагает ему стать его ассистентом. Первым делом Резерфорду нужно усовершенствовать подсчет альфа-частиц, которые испускает радиоактивное вещество. Это должен взять на себя электрический прибор, разгрузив человеческий глаз. Вдохновившись идеями шефа, Гейгер разрабатывает опытную установку, из которой в конечном итоге получается так называемый «счетчик заряженных частиц», прототип счетчика Гейгера. При помощи нового прибора Резерфорд и Гейгер фиксируют, что один грамм радия испускает 34 000 000 000 альфа-частиц в секунду.
Альфа-магистру понятно, что они с Гансом Гейгером установили тем самым первый международный стандарт радиоактивности. После этого он осуществляет свою давно лелеемую мечту и покупает автомобиль «уолслей» с четырьмя сиденьями и пятнадцатью лошадиными силами. Машину пригоняет с завода шофер, который потом три дня живет у Резерфорда и дает хозяину уроки вождения. Но автомобильными прогулками наслаждаются не только его жена Мэй и дочь Айлин. Руководитель института регулярно приглашает и двадцать своих сотрудников из Японии, России, Германии, Америки и Англии группами по три человека на моторизованные вылазки на природу с отчаянной скоростью сорок километров в час. Хаим Вейцман, будущий президент Израиля, а в то время биохимик Манчестерского университета, описывает Резерфорда как «молодого, энергичного, неукротимого... Не было под солнцем ничего такого, о чем бы он не поддержал оживленного разговора, зачастую ничего в этом не понимая. Когда я шел обедать в столовую, по всем коридорам разносился его добродушный, громкий голос». Резерфорд явно замечал эту собственную черту характера и в других людях. Об одном своем закадычном друге он пишет: «Целый день лорд Кельвин рассуждал о радии, и меня восхищает самоуверенность, с какой он говорит на тему, в которой ровно ничего не смыслит». Один из его студентов видит в нем «вождя племени», который с каждым пошутит, шагая по лаборатории, сияющий, румяный и голубоглазый, и воодушевит своих студентов — не хорошо, но громко исполняемым — церковным гимном «Вперед, солдаты христианства».
В период между 1910 и 1912 годами Эрнест Резерфорд снова посвящает себя давней проблеме, которой он уже занимался в Монреале: взаимодействию излучения высокой энергии с материей. Луч из альфа-частиц, пройдя сквозь тонкую металлическую фольгу, становится нечетким. Несколько альфа-частиц явно отклонились на пути сквозь атомы металла. Что позволяет сделать заключение об огромных электрических силах внутри атома. Гансу Гейгеру и двадцатиоднолетнему студенту Эрнесту Марсдену поручено присмотреться к этому феномену. В их опытной установке им приходится опять вернуться к традиционным наблюдениям за световыми вспышками, поскольку искомое рассеяние не поддается автоматическому учету. На то и человеческий мозг, чтобы регистрировать отклонения. Лупу первых опытов Эльстера и Гейтеля уже давно заменил микроскоп с 70-кратным увеличением, на выходе которого закреплен сернистоцинковый экран. Этим привинченным экраном микроскоп заглублён в вакуумную камеру, где натянута тонкая золотая фольга, позади которой стоит источник радона.
Два физика пустились в трудоемкое дело. Они должны зрительно отсчитать 80 000 прямолинейно мчащихся сквозь атомы золота альфа-частиц, чтобы засечь пригоршню тех корпускул, которые отклонились в сторону. Время от времени они регистрируют рассеяние и под таким углом, который больше похож на возврат альфа-частиц к своему радоновому источнику. Этот феномен можно было заметить лишь при таком тщательном наблюдении за световыми вспышками, и он остается загадкой для Резерфорда и его ассистентов. Он ставит под сомнение все сложившиеся представления о структуре атома. Эти данные исключают равномерное распределение массы атома. Впоследствии Резерфорд сформулировал это так: «Это почти так же невероятно, как если бы швырнуть фанату на лист шелковой бумаги — и она рикошетом попала бы в тебя самого».
Результаты измерений Гейгера и долговременная статистика допускают такой вывод, что внутри атома золота вся его масса сконцентрирована в минимальном пространстве. Когда альфа-частица со скоростью 20 000 километров в секунду натыкается на это внутреннее ядро, она стопорится на лету сильным электрическим зарядом ядра и с ускорением отдачи отбрасывается назад к своему источнику. Все остальные альфа-частицы, пролетающие мимо ядра, более или менее сильно отклоняются от своей прямолинейной траектории. Но если почти все 80 000 альфа-лучей беспрепятственно пролетают сквозь золотую фольгу, то атом должен по большей части состоять из пустоты. И поскольку это ядро, nucleus, как нарекает гипотетическое образование Резерфорд, так редко задевается, оно должно быть невообразимо мало. Простой расчет соотношения приводит Резерфорда, Гейгера и Марсдена к поразительным выводам о размерности атомов. Если сам атом не больше чем стомиллионная доля сантиметра, то ядро должно быть еще меньше на 10 000 порядков.
Здесь, в Физическом институте Манчестерского университета как раз и формируется совершенно новое, хоть еще и несколько смутное представление о структуре атома. По мнению Резерфорда, ядро объединяет в себе почти всю массу атома. Оно положительно заряжено, тогда как электроны образуют наружную оболочку атома и заряжены отрицательно. Где еще, как не в этом крошечном ядре атома, мог бы происходить распад у радиоактивных элементов? Где еще, если не там, должна быть скрыта могучая атомарная энергия? Судя по всему, радиохимия на глазах превращается в «нуклеарную» науку, а именно в учение об атомном ядре.
Отто Ган принадлежит к числу первых ученых, которые узнали о волнующе новом представлении об атоме непосредственно из уст бывшего учителя. Они встречаются в Париже, в марте 1912 года как участники конференции Международной комиссии по радию. Мария Кюри демонстрирует там 22 миллиграмма высокочистого радия, запаянного в стеклянную трубку, в качестве международного стандарта радия. Как эталон он должен теперь храниться в Севре близ Парижа в Международной палате мер и весов. Тридцатитрехлетний профессор Ган считается между тем одним из ведущих радиохимиков мира. Год назад он во время поездки на пароходе в Штеттинской бухте [1] познакомился со своей невестой Эдит Юнгханс, на которой собирается вскоре жениться. Может быть, хоть тогда, как он надеется, прекратятся слухи, которые ходят в институте у него за спиной. Ибо Ган с конца 1907 года работает вместе с женщиной, австрийской «фройляйн доктор».
Лиза Мейтнер, дочь еврейского адвоката, стала второй женщиной, получившей ученую степень доктора в Венском университете. Вообще-то директор Эмиль Фишер в принципе отвергает преподавательниц в своем институте. Такая установка согласуется с прусскими законами о высшем образовании, которые практически не дают возможности женщине сделать академическую карьеру. Однако для Лизы Мейтнер Фишер делает исключение. До тех пор пока она знает свое место в столярной мастерской Гана и не кажет носа в студенческих аудиториях и лабораториях, ей можно работать в Химическом институте. Разумеется, лишь в качестве вольной посетительницы и на собственный кошт. Ган и Мейтнер явно находят общий язык. Тут же возникают слухи и пересуды. Воспоминания Гана об этом периоде жизни звучат почти как запоздалое опровержение: «О нашем общении между собой вне стен института не могло быть и речи. Лиза Мейтнер к тому же и воспитана была как дитя высшего света, она была очень сдержанна, почти нелюдима... За многие годы я ни разу даже не обедал вместе с Лизой Мейтнер за пределами института. Мы никогда не прогуливались вместе. Лиза Мейтнер шла домой, и я шел домой. При этом мы все-таки были сердечными друзьями». Ган при этом человек общительный, в свободное время регулярно встречается с коллегами для обмена мыслями и... он поет. Сподвигнутый песнями, которые напевает Лиза в долгие часы их совместных измерений — а это Брамс, Шуман и Вольф, — он вливается в университетский певческий кружок «Хриплый фазан», в котором преобладают дамы. Гану грезится амурная атмосфера. Однако замыслил он — тем более что теперь он обручен — совсем другое, ведь здесь поют «племянницы Планка, дочери Гарнака... Дамы хорошего круга, а быть принятым в их семьях не так легко».
В 1911 году, по инициативе теолога Адольфа фон Гарнака, отца трех певучих дочерей из «Хриплого фазана», учреждается Общество кайзера Вильгельма — для содействия фундаментальным научным исследованиям. В октябре 1912 года открывают первое научное учреждение этого общества: Химический институт кайзера Вильгельма в берлинском Далеме с Эмилем Фишером во главе. Отто Ган должен руководить там отделом радиоактивности. Лиза Мейтнер приглашена и далее работать с Ганом в новом здании института. В это переломное для науки время в столице Германии распространяются и первые сообщения одной из новых многообещающих теорий, которую, по слухам, создал Фредерик Содди. Она неожиданно убедительно объясняет некоторые непонятные свойства радиоактивных веществ. К 1911 году найдено более двадцати новых радиоактивных элементов, в таком множестве они уже не помещаются в периодической системе, которая оказалась им тесновата, как слишком узкий корсет.
Новая идея проясняет некоторые прежние расхождения. Содди исходит из того, что все радиоактивные элементы — такие, как уран, радий и торий, — имеют разные сорта атомов, которые впоследствии будут названы «изотопами». Они хоть и обладают одинаковыми химическими свойствами, но совершенно различаются по физической структуре. Если следовать теории Содди, то Отто Ган в 1905 году у Рамсея в Лондоне открыл не новый элемент радиотор, а лишь доселе неизвестный дополнительный изотоп тория. И другое открытие Гана — мезотор — тогда тоже не новый элемент, а всего лишь другой изотоп радия. Для всех изотопов радия характерно следующее: у них разные физические свойства — индивидуальный вид распада, собственный период полураспада и атомный вес. Тогда как в отношении химических свойств они не отличаются от элементарного радия. Отто Ган сожалеет, что сам не опубликовал аналогичную догадку, добытую в многолетних кропотливых трудах. «А ведь Содди наверняка сделал не так много негативных опытов отделения, как я, — ропщет Ган на самого себя, но все же справляется с завистью: — ...но у него было больше мужества». Резерфордовская модель атома и соддиевская теория изотопов еще не завершены, но оба исследователя — в который раз — на верном пути к лучшему пониманию атома.
На торжественное открытие Химического института кайзера Вильгельма двадцать третьего октября 1912 года кайзер вознамерился прибыть собственной персоной. Надо бы устроить для него нечто особенное, и Гану выпадает сомнительная честь сыграть роль чужеземца и продемонстрировать его величеству эффект свечения мезотора. Накануне открытия прибыл, бряцая волочащейся саблей, императорский флигель-адъютант, чтобы проинспектировать здание и местность. Офицеру необходимо точно знать торжественную программу в ее последовательности. Ган предполагает показать 300 миллиграммов мезотора — поистине царское количество — в красивой коробочке на бархатной подушечке. От свинцового экрана наплевательски решили отказаться из эстетических соображений. Чтобы подобающе инсценировать эффект самосвечения препарата, комната, естественно, должна быть хорошо затемнена. Что флигель-адъютант, однако, решительно отверг: «Исключено, мы не можем направить его величество в совершенно темную комнату».
Призванный для содействия шеф института Эмиль Фишер выторговал компромисс. Путь императору в темноте будет указывать маленькая красная лампочка. Однако в день торжественного открытия выясняется, что Вильгельм II темноты не боится. Он отказывается от красной лампочки. Ган демонстрирует ему эффект свечения, а выделяющийся из препарата радиоактивный газ полыхает по сернистоцинковому экрану изумрудными волнами.
В то время как Мария и Пьер Кюри в Париже в месяцы до и после смены века изучают радий в богемской смоляной обманке, немецкий физик Макс Планк в Берлине занят излучением так называемого абсолютно черного тела. В качестве экспериментального приближения к этому представлению можно, пожалуй что, представить полость разогретой самодувной печи в лаборатории Мартина Генриха Клапрота. По законам классической физики невозможно увидеть излучаемый печью световой спектр — от светло-желтого через красный и голубовато-белый до вошедшего в поговорку цвета белого каления. Более того, при постоянно нарастающем жаре в раскаленных стенках печи должно преобладать коротковолновое излучение, так что вскоре отдаваться будет только свет ультрафиолетовой области. К тому же в неограниченном количестве. Если уютно примоститься у такой коротковолновой печки, то будешь ощущать тепло, но свет огня видеть не сможешь, потому что доминирующий ультрафиолетовый свет невидим. К счастью, такой печи не бывает, ибо в физической реальности нет бесконечной энергетической ценности. Однако основанная на ньютоновской механике теория теплового излучения требует в конечном счете именно бесконечной энергетической ценности. На этом основании классическая теория не может быть верной.
Макс Планк, профессор теоретической физики Берлинского университета, работал над решением этой проблемы в течение трех лет, пока четырнадцатого декабря 1900 года не выдвинул наконец поистине революционную гипотезу ради того, чтобы непротиворечиво описать фактический спектр электромагнитного излучения. По этой гипотезе тепловое излучение нагретых тел не может быть непрерывным процессом, при котором энергетические уровни плавно, без скачков становятся сколь угодно малы. Вместо этого энергообмен между горячими стенками печи и излученным светом идет — чтобы не нарушать картину — дискретно, долями, ступенчато отделенными друг от друга. Здесь больше нет плавных переходов, а есть скачки. Минимальную порцию энергии, которую можно испустить или поглотить, Планк называет квантом. Энергия одного кванта — произведение частоты излучения и природной константы, которую сам Планк поначалу называет элементарным квантом действия, но которую вскоре в его честь назовут постоянной Планка. Ее размерность — исчезающее малое количество энергии, умноженное на время, — самое малое допустимое в природе действие. Это невообразимо малое число, а именно нуль, за которым после запятой следуют еще 34 нуля, прежде чем появится наконец пара значащих цифр. Бесспорное указание на то, что речь идет об атомарных порядках величин.
Не пройдет и недели после презентации его гипотезы, как другие ученые подтвердят своими вычислениями справедливость решения Планка: их экспериментальные данные согласуются с его теорией. Никто, даже сам Планк, не понимает, почему именно неполноценные «затычки», получившие определение квантов, создают помехи ультрафиолетовым печам. Но они вряд ли могут что-то значить в реальном мире, полагает первооткрыватель. Они могут представлять собой не более чем гениальную математическую уловку — таково единодушное мнение сообщества физиков. Англичане говорят о типично немецком изобретении, которое элегантно устраняет бесконечные величины.
Макс Планк безоговорочно поддерживает оценку своих коллег. Он чуть ли не оправдывается за свою искусную уловку, даже называет ее «актом отчаяния». Мол, он хотел «любой ценой, даже удвоенной» найти решение и рассматривает кванты лишь как временное средство. Не сам ли он обозначил свою константу буквой «Н», которая происходит от слова «вспомогательная величина» (Hilfsgröße)? Мол, уже в ближайшее время его работа подвергнется пересмотру и тогда станет понятен краткосрочный характер этих беспокойных переходов энергии. Ведь нет ничего более чуждого ему, закоренелому консерватору, чем ставить этим дискретным квантом под сомнение Лейбница, который не допускал в природе никаких скачков. Без сомнения, мол, в обозримом времени эта вынужденная конструкция отыщет вход в более объемлющую теорию, которая не будет так нахально противоречить классической физике. Естественно, в этих утешительных мыслях о предстоящем примирении между ньютоновской традицией и своей, в корне новой, концепцией Макс Планк не мог брать в расчет одного молодого изобретательного физика.
Родившийся в Ульме, выросший в Мюнхене и в семнадцать лет добровольно отрекшийся от немецкого подданства, чтобы избежать солдатской службы, этот не имеющий гражданства выпускник Цюрихского политехникума с дипломом преподавателя физики и математики колесит по Швейцарии в поисках работы. Даже и по окончании учебы он по-настоящему старается держаться в курсе последних разработок в области теоретической физики. Несколько недель в качестве подменяющего учителя в Винтертуре, потом ничтожная работа частного учителя в Шафхаузене, чтобы подготовить абитуриента к экзаменам, скандал с семейством ученика и изгнание с треском, потому что он находит нестерпимыми разговоры за обедом и с обезоруживающей самонадеянностью требует, чтобы по этой причине его еду, оплаченную, разумеется, работодателем, он мог забирать с собой в гостиницу. На все его заявления о должности ассистента «у всех профессоров от Северного моря до самой южной точки Италии» он получает иногда уведомления о получении письма, но никогда не получает личного ответа. Да, несколько иначе представлял себе начало своей научной карьеры двадцатитрехлетний Альберт Эйнштейн. К тому же его подруга сербского происхождения беременна. И обе родительские пары против этого союза.
Но позднее, летом 1902 года, фортуна, похоже, повернулась к нему лицом. Отец друга способствует злосчастному выпускнику в получении должности технического эксперта III класса в Швейцарской государственной службе интеллектуальной собственности в Берне. Швейцарское гражданство, необходимое для работы в патентном бюро, ему уже предоставлено. Сорокавосьмичасовая рабочая неделя в качестве «батрака патентов», как он сам называл себя, не удерживает его от того, чтобы давать еще и частные уроки и регулярно писать статьи для «Анналов физики», самого значительного в мире специального журнала. Весной 1905 года он формулирует свою «квантовую гипотезу света». Она идет еще на шаг дальше революции Планка. Альберт Эйнштейн размышляет о так называемом фотоэлектрическом эффекте. Там все дело во взаимодействии света и материи. Когда луч коротковолнового света попадает на поверхность металла, энергия света выбивает электроны из атома металла. Доступная при этом энергия не зависит ни от интенсивности, ни от яркости света, как того требует классическая теория, а лишь от его частоты. Ибо экспериментальные данные однозначно показывают: чем выше частота, тем больше энергии свет передает электронам. И тут вдруг извлекается на свет божий формула Планка, в которой энергия как раз и определяется частотой света.
Чтобы лучше понять эти обстоятельства, Эйнштейн предлагает пересмотреть классическую концепцию исключительно волновой природы света. Если свет отражается от зеркала или преломляется поверхностью воды, его можно рассматривать как волну. Но если свет обменивается энергией с атомами металла, его нужно понимать как частицы. И эти частицы света вроде как идентичны квантам Планка, этим четко ограниченным долям энергии, они якобы являются «квантами света», которые — пусть и вопреки собственным представлениям Планка — на самом деле обладают физической реальностью. Они носятся в пространстве как невообразимо маленькие ракеты и обладают силой выбивать электроны из атомов металла. В итоге квантовая гипотеза света пошатнула теоретическое здание классической физики. То, что Планк лишь робко надпилил — с глубоким сожалением и с надеждой на будущее выздоровление, — служащий Бернского патентного бюро, доросший до технического эксперта II класса, теперь обрушивает прямо-таки с наслаждением и с большим шумом. Его необычайное утверждение гласит: свет может быть как волной, так и частицей.
Из математической уловки Планка, из его всего лишь вспомогательного коэффициента h становится атомарной реальностью. Хоть на нее поначалу и дивились лишь как на блестящую идею в обширном заповеднике синапсов импульсивного Эйнштейна. Ибо мало у кого хватило храбрости поддержать отчаянную точку зрения, сформулированную этим независимым умником из Берна. Даже сам изобретатель кванта Макс Планк поначалу воздерживается бросать в воздух шляпу. Это кажется парадоксальным, ведь как-никак в эйнштейновском толковании фотоэлектрического эффекта совершенно недвусмысленно всплывает планковская формула энергии E=hν. Значок ν, греческая буква «ню», здесь обозначает частоту света.
Эрнест Резерфорд, представляя себе структуру мельчайшей единицы материи, воспользовался аналогией из необъятных просторов Солнечной системы. Подобно тому как кружатся кольца вокруг планеты Сатурн, так видится ему вращение отрицательно заряженных электронов вокруг положительно заряженного ядра. Его теза хоть и подстрахована достаточным количеством экспериментальных данных, но она опять-таки не согласуется с классической физикой. Ибо по законам Максвелла электроны, вращаясь вокруг ядра, в мгновение ока излучили бы всю свою энергию и упали на ядро. Но и это убежище не могло бы стать надежным для потухших электронов, потому что положительно заряженные частицы ядра, оставшись без своих отрицательных визави, взаимно оттолкнулись бы друг от друга — и само ядро распалось бы. А ведь атомы как раз и отличаются удивительной стабильностью. Резерфорд осознает теоретическую дилемму. Его представление о крошечном атомном ядре, электронной оболочке и обширном пустом пространстве между ними в принципе должно быть верно. Но сам он не отваживается сделать из этого единственно возможный вывод: в атоме не действует классическая электромагнитная теория. Здесь вступают в силу другие законы.
Кембриджский университет, Тринити-колледж — мечта любого молодого физика. Здесь работали Ньютон, Максвелл и лорд Рейли, изменившие мир. В 1911 году заведующего кафедрой и руководителя Кавендишской лаборатории зовут Джозеф Джон Томсон. Он принадлежит к числу виднейших современных физиков. В 1897 году он подтвердил существование электронов в составе атома и разработал собственную теорию атома. Она стала известна как модель «пудинга с изюмом». Томсон убежден, что масса равномерно распределена по всему атому и электроны вкраплены туда, как изюминки в тесто.
Нильс Бор, двадцатисемилетний доктор физики из Копенгагена, явился сюда с большим самомнением и с наивным намерением подискутировать с Томсоном о слабых местах его теории электронов. Однако руководитель института, судя по всему, не принял всерьез многообещающего ученого младшего поколения. Диссертация Бора, с трудом переведенная на английский, так и остается месяцами лежать на письменном столе Томсона. Обмен мыслями не состоялся.
Однако потом Бор видит в Тринити-колледже на ежегодном торжественном ужине в память об открытии электрона почетного гостя вечера: Эрнеста Резерфорда. Находясь в приподнятом настроении от еще свежего опыта выдвижения новой модели атома, тот на своем бывшем рабочем месте с родительской гордостью рассуждает об «атоме-Сатурне». В разгар вечера он побуждает гостей своим громовым голосом встать на стулья, взяться за руки и спеть старую студенческую песню, включая непристойный тайный куплет. Своим авторитетом жизнерадостного ученого он провоцирует молодых докторантов и почтенных профессоров произносить лимерики и тосты. Нильса Бора впечатляет непринужденность и своевольный шарм крестьянского сына из Новой Зеландии, и с этого вечера он проникается к Резерфорду лучшими чувствами. Отныне он человек Резерфорда. В марте 1912 года он покидает Кембридж и отправляется в Манчестер.
Бор атлетически сложен, у него четко очерченный подбородок и крупные ладони. Жесткие волосы он зачесывает назад крутой волной. Из-за этого его и без того высокий лоб производит еще более сильное впечатление. Раньше он был отличным вратарем университетской футбольной команды Копенгагена. Рассказывали, что он выцарапывал формулы и ряды вычислений на столбах ворот, если во время игры ему приходило в голову что-то важное. Нильс Бор и Резерфорд с самого начала находят общий язык. Последний в юности был страстным игроком в регби у себя в Новой Зеландии — то есть оба они были командными игроками, которые, однако, могут оказаться и «в противниках». Открыватель атомного ядра восхищен хваткой молодого человека и умеет оценить разнообразие его интересов. С остроумным Бором он может говорить и на бытовые темы, и на философские, и об искусстве.
Резерфорд, вырастивший из своих учеников одиннадцать будущих лауреатов Нобелевской премии, не колеблясь, говорит: «Этот молодой датчанин самый умный парень из всех, кого я когда-либо встречал».
Ганс Гейгер и Эрнест Марсден, прилежные счетчики альфа-частиц, знакомят Бора с экспериментальными методами новой ядерной науки. К этому времени чуть ли не все радиохимики заняты той проблемой, что два вещества с различным атомным весом могут иметь одинаковые химические свойства и потому вообще-то должны бы занимать одно и то же место в химической периодической системе. То есть радиоактивных веществ больше, чем мест в таблице. Резерфорд тоже не знает объяснения этому странному феномену. Фредерик Содди напряженно работает над этим.
И вот Бор теперь делает из этой парадоксальной ситуации вывод, который озадачивает ученых Манчестера. Он исходит из допущения Резерфорда, что чуть ли не вся масса атома сконцентрирована в ядре, а массой электронов, собственно, можно пренебречь. Итак, если вещества с различными массами ядер могут быть химически идентичными, значит, ядро, возможно, и не влияет на химию элемента. Не убедительно ли было бы посему, задается вопросом Бор, рассматривать число и порядок расположения электронов, вращающихся вокруг ядра, как решающие факторы
Разумеется, Бор знаком с работой Планка и знает также квантовую гипотезу света Эйнштейна. Так что не он был первый, кто скорее поставит под сомнение полубогов Ньютона и Максвелла, чем отречется от гипотезы — пусть неправоверной, но удовлетворительно объясняющей реальность. Тем не менее, он знает, конечно, о значении предмета своего исследования. Речь тут идет не меньше, чем о структуре атома, о самой
Чтобы ничего не упустить из виду, Бор склеивает разлинованные листы со своими расчетами в длинный свиток, разворачивая его в разговорах с Резерфордом, словно ученый библейской древности. И постепенно из его числовых рядов и формул начинают проступать «кольца Сатурна»: на одном таком «кольце» могут вращаться до восьми электронов. При этом они не теряют энергию и, следовательно, не могут упасть на ядро. Так сохраняется стабильность атома. Но если химию атома определяют число и порядок электронов, то по числу электронов можно установить, имеешь ли дело с атомом гелия, золота или натрия. И поскольку атомы всех элементов электрически нейтральны, число положительно заряженных частиц в ядре в точности соответствует числу отрицательно заряженных электронов.
Удивительным образом из соображений Бора вытекает еще одно числовое соотношение, исполненное смысла. Ведь в химической периодической системе элементы расположены по атомному весу. Легкий водород стоит на первом месте, тогда как уран, как самый тяжелый элемент, на 92-м и — по состоянию науки на текущий 1913 год — последнем месте. Числа этого ранжирного весового списка называются порядковыми номерами элементов. И вот выясняется, что, например, атом магния с порядковым номером 12 имеет также 12 электронов, в железе — 26-м номере периодической системы — ядро окружают ровно двадцать шесть электронов, а ртуть с номером 80 также обладает ровно восемьюдесятью электронами. С этим полным соответствием порядкового номера элемента числу его электронов «атом-Сатурн» Резерфорда постепенно превращается в атомную модель Резерфорда — Бора, которая открывает новые взаимосвязи между физикой и химией элементов.
Электроны движутся не по всем геометрически возможным, а лишь по «разрешенным» орбитам с точно определенным радиусом вращения вокруг ядра, при этом они не отдают энергию. Только если электрон «спрыгивает» с одной такой прочной орбиты на соседнюю с более низким энергетическим уровнем, он излучает количество энергии, которое производит типичные для этого элемента спектральные линии — например, зеленую, синюю и желтую у бария. Занимаясь математикой этих линий, Бор наталкивается на матрицу решетки и делает при этом поразительное открытие: формулу легко можно преобразовать так, что в ней выявляется постоянная Планка h. Она работает и здесь, поскольку прыгающий электрон излучает энергию порциями, строго отделенными друг от друга: квантами Макса Планка. А это означает: атом Резерфорда — Бора подчиняется законам квантовой теории.
Когда немного погодя становятся известны первые совпадения экспериментальных данных с теорией Бора, не кто иной, как Альберт Эйнштейн, посвящает Бора в рыцари: «Это огромное достижение. Оно доказывает, что теория Бора верна». Другие физики далеко не в восторге. Со стороны геттингенских семинаров, например, Бор видит как смущенное молчание, так и нескрываемый ужас перед этой государственной изменой классической физике. В ноябре 1913 года некоторые заключения Бора и впрямь могли казаться еще слишком умозрительными и недостаточно обоснованными, однако сам он знает точно, что находится на верном пути. В Манчестере и Копенгагене в это время идет очень осторожная прорисовка плана строения самой природы. Промерены энергетические уровни, определены геометрические соотношения. Они противоречат старым теориям. Постоянная Планка, судя по всему, оказалась в сознании физиков-первопроходцев чем-то вроде Полярной звезды для успешной навигации сквозь еще неизведанные пространства атомной физики. Резерфорд целиком на стороне Бора, Эйнштейн в полном восторге, да и Планк вообще-то должен чувствовать себя польщенным, что его открытие тринадцатилетней давности, как оказалось, играет решающую роль на этом фундаментальном уровне природы.
Знаток Бетховена, прогуливаясь дивным июльским вечером 1914 года по Грюневальду — берлинскому кварталу вилл, — мог опознать волнующее
Вскоре после того, как отзвучала четвертая часть —
В дверях веранды стоит скрипач, не очень веря в то, что разыгрывается у него на глазах, и колеблется, не ринуться ли и ему тоже в общую сутолоку. Этот человек воспринимает материю как затвердевшую энергию. В его сознании пространство и время связаны в нерасторжимое единство, в котором сила тяжести больше не действует, а формируется в некую геометрическую величину — в четырехмерное пространство-время, которое искривляется под влиянием массы. Эта концепция уже скоро сделает его самым знаменитым физиком XX века. Альберт Эйнштейн уже три месяца живет неподалеку от виллы Планка. Свой статус почетного директора Физического института кайзера Вильгельма без преподавательской нагрузки он принимает, как всегда, невозмутимо и с юмором. Он оповещает весь мир, что прибыл в Берлин «наподобие живой мумии». Его институт существует пока что лишь в воображении всех участников, которым удалась хитрость заманить сюда Эйнштейна. Он только что развелся со своей женой Милевой: «Жизнь без моей жены для меня лично — настоящее возрождение, — признаётся он другу. — У меня такое чувство, будто я оставил позади десяток лет каторги».
Лиза Мейтнер с живостью вспоминает тот домашний музыкальный вечер с трио си-бемоль мажор Бетховена на вилле Планка: «Эйнштейн, очевидно преисполненный радости от музыки, сказал, громко смеясь, в своей беззаботной манере, что ему стыдно за свою плохонькую технику. Планк стоял рядом, со спокойным, но буквально излучающим счастье лицом и потирал ладонью в области сердца: "Эта чудесная вторая часть". Когда потом я и Эйнштейн уходили, Эйнштейн ни с того ни с сего сказал: "Знаете, в чем я вам завидую?" И когда я ошеломленно взглянула на него, он добавил: "Что у вас такой начальник". С 1912 года ее должность личной ассистентки Планка в университете наконец-то оплачивается регулярным жалованьем. А в Химическом институте кайзера Вильгельма она и летом 1914 года по-прежнему работает с Отто Ганом как «неоплачиваемый специалист».
В марте 1914 года Ган приглашен на праздник Карлом Дуйсбергом, директором концерна «Байер-Верке» в Леверкузене. Он должен удивить гостей чем-нибудь впечатляющим из области исследования радиоактивности. Для этой цели он выбрал экзотический «карандаш»: стеклянную трубку с сильно излучающим и светящимся мезотором. Этим карандашом он пишет на фотопластинке имя директора. Пластинку тотчас проявляют, и публика получает возможность полюбоваться этой радиографией. Вечером, на превосходном торжественном банкете столы украшают доставленные из Голландии орхидеи, а вино в термосах охлаждается сжиженным воздухом.
Немецкая химическая промышленность — ведущая в мире. Вот и потребовало прусское военное министерство полгода спустя вклада химиков в войну. На заводах Байера в процессе производства скапливается огромное количество ядовитых промежуточных продуктов, теперь их поставляют в институт Фрица Габера в берлинском Далеме. Там эти вещества исследуются на предмет их применения в военных действиях. Габеру к началу войны 46 лет. Родившись в Бреслау евреем, он в возрасте 25 лет переходит в протестантизм, поскольку в империи царит настроение латентного антисемитизма. Протестанту в Пруссии сделать карьеру легче. Военному министерству не приходится долго его упрашивать. Страстный патриот с головой окунается в работу и первым делом внедряет новые антифризы для того, чтобы моторизованное наступление немецких войск на Россию не застопорилось с началом зимы, а смазочные вещества для артиллерийских орудий не замерзали.
Однако для честолюбивого химика это всего лишь гимнастика для разогрева. Не зря же он еще пять лет назад сделал одно изобретение чрезвычайной военной важности, которое принесло ему как химику мировую известность. Из неистощимого и, считай, дармового источника Габер добыл вещество, которое в принципе позволяет эффективно победить голод в мировом масштабе. Одну составную часть вещества, названного аммиаком, он взял буквально из воздуха. Атмосфера Земли на три четверти состоит из азота. И Габеру удалось то, что целые поколения химиков до него считали безнадежным, а именно: специальными аппаратами улавливать из воздуха азот и удерживать его. Водород в качестве второго компонента аммиака, тоже практически без ограничений, можно получать из воды. И этот газ с резким запахом является исходным продуктом для искусственных удобрений, значение которых возрастает ввиду роста народонаселения Земли. К тому же сообща с Карлом Бошем, химиком концерна «BASF», этот гений синтеза поставил производство азотных удобрений на промышленную основу.
Сам Фриц Габер всегда видел свое призвание в неутомимых созидательных исследованиях на благо человечества. Однако теперь, в эйфории первых месяцев войны, он немного видоизменяет свое истинное предназначение, приспособив жизненный девиз к новой ситуации: «В мирное время — человечеству, в военное — отечеству». Ибо синтез аммиака ведет не только к повышению урожая пшеницы, кукурузы и риса. Аммиак можно переработать с азотной кислотой в исходный продукт для боеприпасов и взрывчатых веществ. В то время как другие воюющие стороны рассчитывали лишь на Чили как на главного поставщика натуральной селитры, германский император мог положиться на своих толковых химиков из «BASF». Если бы не метод Габера — Боша, немецкие солдаты остались бы без боеприпасов уже в середине 1915 года, поскольку британский флот стал перехватывать корабли с селитрой, предназначенной для Германии. С габеровским синтезом аммиака и промышленным производством, инициированным Карлом Бошем, немецкая химия достигла невиданных масштабов. На глазах сбывалась сказка «Столик, накройся!». Искусственные удобрения обещают скатерть-самобранку, а сказочный приказ «Дубинка, из мешка!» превращает аммиак во взрывчатое вещество. Накормить человечество и истребить человечество — из этой дилеммы науке уже не выпутаться во всех грядущих войнах. Лишь пацифист Альберт Эйнштейн не разделяет военную эйфорию своих далемских коллег. Как сторонний наблюдатель он, конечно, зачарован тем, с какой изобретательностью немецкие ученые разогнали военную машину. Своему другу Ромену Роллану он сообщает: «Эта всеохватная организаторская сноровка не укладывается в голове. Все университетские ученые взяли на себя какие-то военные задания или услуги».
Впереди всех — Фриц Габер. За исключением отдела радиоактивных исследований, возглавляемого Ганом и Мейтнер, все помещения Химического института кайзера Вильгельма заняты разработкой химического оружия. В ассортимент поставляемых концернами «Байер» и «BASF» отравляющих веществ входит и смертельный газ хлор. Будучи отходом производства, он имеется в огромных количествах на обеих фабриках — идеальное условие для широкомасштабного военного применения. Габер закачивает газ в стальные сосуды и отрабатывает метод его эффективного применения на местности в качестве боевого отравляющего вещества. Во втором сражении во Фландрии близ городка Ипр на юго-востоке Бельгии впервые «стравливают» 150 тонн хлора по методу Габера. 22 апреля 1915 года дует легкий ветер норд-норд-ост. На закате солнца немецкие саперы на пять минут открывают вентили шести тысяч стальных цилиндров. Облако, желто-зеленым цветом напоминающее уран, движется широким фронтом протяженностью в шесть километров на позиции союзных войск, которые окопались в походной грязи.
То, чего не добьется ни атакующий солдат, ни осколок снаряда, ни пуля, без труда удается газу. Он тяжелее воздуха и стелется по земле, он проползет через болото, перевалится через мешки с песком, проберется сквозь мотки колючей проволоки и, в конце концов, заполнит окопы. В этих уже вырытых могилах солдаты застигнуты неожиданным оружием врасплох. В панике они бегут от облака, несущего смерть, не понимая, что с ними творится, они давятся кашлем, вдыхая при этом еще больше хлора, который сжигает их легкие. В смертном ужасе они затыкают рот рукавом, ногтями роют ямки в земле, чтобы перед тем, как задохнуться, остудить в грязи горящее лицо и укрыться от желто-зеленого тумана.
После этого быстрого, неожиданного в своей легкости прорыва фронта, который стоил жизни пяти тысячам союзных солдат и оставил десять тысяч увечных, институт Фрица Габера в Далеме становится неоспоримым тыловым центром химического ведения войны. Отто Ган как представитель «газовых» инженерных войск в это время ведет разведку местности в Шампани для новых химических атак. Всем заправляет лично Габер, который скептичного поначалу Гана убеждает тем доводом, что химическое оружие покончит с войной быстрее и тем самым эффективно спасет человеческие жизни. Ган делает этот довод собственной философией, так что позднее он «с полным убеждением» обучает солдат на стальных цилиндрах и лично руководит газовыми атаками на Восточном фронте.
Явно возбужденный первым военным опытом, Ган приходит к естественной мысли о применении в оружейной технике и радиоактивных веществ. Он сам придумал, как можно было бы применить радий и мезотор. Находясь вдали от материалов и лабораторной аппаратуры, он по полевой почте поручает Лизе Мейтнер позаботиться о разработке радиоактивной светящейся массы. Ее надо нанести на ружейную мушку, чтобы немецкие солдаты могли стрелять и ночью — таков был ход мысли Гана. Лиза Мейтнер и ее коллега-химик Отто фон Бейер объединяются для серии испытаний с радиотором и цапонлаком, смесью целлулоида и ацетона. Этот препарат выдерживает сильные сотрясения, не смывается проточной водой и может нагреваться до 90 градусов Цельсия без ущерба для его функции. Одну пробу этого вещества Мейтнер наносит на тонкую медную проволоку и посылает ее на экспертизу Гану, агенту химической войны на разных фронтах. 9 января 1915 года он пишет: «Путем измерения я установил, что цапонлак не уменьшает эффект, к тому же он образует защитный слой». Три недели спустя из Берлина к вице-фельдфебелю ополчения отправляется пакетик с «двумя сравнительно сильными смесями радия с сернистым цинком и цапонлаком... в двух маленьких пузырьках...». Ган должен, таково естественное представление тыловиков Мейтнер и Бейера, испытать идею на собственном ружье и составить картину ее пригодности. В конце января 1915 года предложение Гана и пробы подготовленной Бейером и Мейтнер радиоактивной светящейся массы лежат перед «оружейной комиссией» прусского военного министерства. И где-то там, в ожидании резолюции, затерявшись в стопке прочих ходатайств и заявлений, а может, аккуратно подшитая в папочке, терпит неудачу первая попытка сочетать радиоактивное вещество с оружием.
Фриц Габер между тем работает круглые сутки, ибо спираль гонки вооружений уже взвивается вверх. В распоряжении союзнических войск уже скоро оказываются хоть и примитивные, но действенные против хлора противогазы. Поэтому Габер хочет найти такое раздражающее средство, которое, проникнув сквозь резину и кожу, заставит неприятеля сорвать с лица противогаз, чтобы его, незащищенного, тут же накрыло второй волной смертельного газа. Эти газы впоследствии будут названы «зеленый крест» и «синий крест», а в совместном применении получат продуманное название «цветной крест».
В июне 1915 года и газовый сапер инженерных войск Отто Ган попадает на «передовые позиции», очутившись на окраине сожженной польской деревни. Для ночлега там использовались пустые гробы, а в качестве снотворного — чайная ложка 95-процентного спирта. При благоприятном ветре пускали газ фосген, он же «зеленый крест». Он в десять раз ядовитее, чем хлор, но пахнет сладковатой прелью, как сырое сено. Впервые Ган был свидетелем газовой атаки, которая состоялась под его командованием: «Не было ни выстрела... Атака увенчалась полным успехом. Фронт мог продвинуться вперед на несколько километров». Но когда облако рассеялось, он видит, что завоеванная территория усыпана трупами отравленных русских, и среди них агонизирующие, еще живые, но обреченные на смерть. Он спонтанно бросается оказывать помощь собственными спасательными приборами, облегчающими дыхание. Но отравленные газом уже не годятся в военнопленные. Судя по всему, они не встревожились, когда на них повеяло сырым сеном. «Я был тогда глубоко пристыжен и внутренне очень взволнован, ведь в конечном счете я сам вызвал эту трагедию».
Весной 1916 года в концерне «Байер» в Леверкузене Гану доверено щекотливое задание — вручную наполнять фанаты сжиженным фосгеном, при этом для защиты собственных легких он вырабатывает специальную дыхательную технику. Видимо, смущение, испытанное от увиденного «на фронте» действия фосгена, быстро вытеснялось обыденностью войны, поскольку он по-прежнему готовит для фронта отравляющие газы — правда, держится вдали от передовой, предоставив себя в распоряжение верховного химического главнокомандующего Габера для опасного эксперимента. А тот хочет выяснить, когда противогазы перестают действовать. Ган добровольно вызывается в подопытные кролики. Он должен носить противогаз до тех пор, пока газ не попадет в дыхательные пути. «Для этого мы заполняли фосгеном избыточной концентрации герметичную дощатую будку и оставались в этой атмосфере, пока защитное действие противогаза не ослабевало. Время определялось снаружи секундомером».
В апреле 1917 года компания по использованию радия в Вене срочно конфискует весь запас радия в Санкт-Йоахимстале, поскольку из Германии поступил крупный заказ. Судя по всему, планы Гана, Мейтнер и Бейера все-таки извлечены из-под слоя пыли и одобрены. Одному заводу в Будапеште поручено оснастить светящимися мушками миллион ружей для армии Вильгельма II. Подсчитано необходимое для этого количество радия: 850 миллиграммов. В конце августа 1918 года, за несколько недель до окончания войны, светящиеся мушки якобы в улучшенном исполнении одной венской фирмы должны наконец пройти первые практические испытания. Курсы снайперов в австрийском Бруке-на-Лейте выдают отрезвляющий результат: «Поскольку цель в темноте так и так не видна, то и светящиеся мушки не имеют смысла». Тем самым вся затея оказалась полным головотяпством. Умные и проницательные люди — Эмиль Фишер, Фриц Габер, Отто Ган и Лиза Мейтнер — не додумались, что в темноте должна быть освещена в первую очередь
После проигранной войны Фриц Габер впадает в беспокойство и на некоторое время исчезает из виду. Он боится трибунала над военными преступниками, а победившая власть не преминет объявить его военным преступником как главного ответчика за применение химического оружия. И вряд ли он мог ожидать другого приговора, кроме смертного, доверительно признается он Гану. Тот рассказывает, что беглец отпустил бороду, чтобы его не узнавали. Однако ничего такого не случилось: ни Габер, ни другие ученые на ведущих позициях не были привлечены Гаагской военной конференцией к ответу за нанесенный урон. Совсем наоборот: о международной опале Габера не могло быть и речи. Ибо сразу после войны ему была присуждена Нобелевская премия по химии за синтез аммиака. Габер остается в убеждении, что внес огромный вклад в гуманизацию ведения войны, и продолжает бредить превосходящей эффективностью применения газа в сравнении с пушечными ядрами и ружейными патронами. В 1919 году Габера назначают «рейхскомиссаром по борьбе с вредителями». Он пускает в ход весь свой опыт и наработки, которые должны привести к созданию средства удушения грызунов и паразитов. Название этого средства — «Циклон Б».
Эрнест Резерфорд в войну разработал методы акустической разведки немецких подводных лодок. Описывая собственные эксперименты, Резерфорд придерживается военного жаргона. Да и в его институте в Манчестере постоянно говорят о рафинированной тактике нападения. Поскольку он готовит не что иное, как прямые атаки на атомное ядро. Ведь до сих пор существуют лишь умозрительные рассуждения о составных частях ядра да сдержанные абстракции вроде атомной модели Бора. Но тот, кто действительно хочет заглянуть в самую суть материи, должен по-настоящему взломать ядро. Резерфорд обстреливает азот быстрыми альфа-частицами. Как и при исторических опытах с золотой фольгой, в ходе которых он открыл атомное ядро, Резерфорд и на сей раз наблюдает привычные вспышки на сернистоцинковом экране. Правда, помимо сцинтилляций, вызванных альфа-частицами, на экране дополнительно возникают и куда более слабые мерцания.
По мере того как Резерфорд отодвигает свой источник радия все дальше от экрана, вспышки, типичные для альфа-частиц, исчезают, тогда как более слабые проблески по-прежнему видимы. Поскольку теперь они определенно происходят не из источника радия, Резерфорд может сделать лишь один вывод: должно быть, это следы частиц, дальность действия которых в воздухе явно больше, чем у альфа-частиц. И они, должно быть, вылетают из атакованного ядра атома азота. Поначалу он думает об аномалии азота. Но эти световые следы не удается отличить от тех, что Резерфорд уже исследовал у водорода. В большой пустоте атома водорода по своей одинокой орбите вращается лишь один отрицательно заряженный электрон. Чтобы сохранять электрическую нейтральность атома, в его ядре может существовать только одна положительно наряженная частица. Как знать, не является ли эта особая ядерная частица основополагающим материальным кирпичиком
Резерфорду посчастливилось отколоть от существенно более тяжелого атома азота кусочек ядра при столкновении с альфа-частицей. Это совершенно неожиданный и настолько же невероятный эффект, как если бы воробей налетел на особняк и снес с него трубу. Так Резерфорду было суждено впервые заглянуть на самый глубокий уровень материи, на ее матрицу. И она явно составлена из одних лишь ядерных частиц водорода. При столкновении с альфа-частицами из атома азота выбивается один такой ядерный кирпичик, при этом азот превращается в кислород. И это значит: Эрнесту Резерфорду удалось осуществить первое в истории искусственное ядерное превращение.
Превращение элементов в радиоактивном распаде — естественный процесс, который человек хоть и мог наблюдать, но не мог постичь. Отныне, однако, любому исследователю доступно превратить азот в кислород при помощи описанной Резерфордом аппаратуры и соответствующих препаратов. Этот процесс становится предсказуем и доказуем. Когда Нильс Бор в июле 1919 года посещает своего ментора и друга в Манчестере, он узнает от него и другие подробности о «контролируемых или так называемых искусственных ядерных превращениях, которыми он вызвал к жизни то, что он пристрастно назвал
В 1920 году Резерфорд наконец предлагает рассматривать ядро водорода в качестве элементарной частицы и дать ему — как ядерному первокирпичику любого химического элемента — название «протон». Положительный заряд атомного ядра — все равно, железа ли, золота, кадмия или марганца — всегда есть целое число, кратное ядру атома водорода. Необычайно элегантная теория. Итак, к началу 1920-х годов была видимость, что природе достаточно просто сунуть руку в коробку с кубиками-протонами, чтобы последовательно собрать все ее девяносто два химических элемента. Если она добавит к ядру водорода второй протон, получится гелий. Еще четыре дополнительных «кубика» — и готов углерод, пока в конце концов дело не дойдет до максимальных 92 «кубиков» самого тяжелого элемента урана. Этой картине атомной структуры, правда, еще недостает резкости деталей, однако открытие протона — самый значительный шаг вперед на пути к пониманию мельчайших составных частиц материи. Все формы явлений этого мира обязаны своим существованием сочетаниям этих девяноста двух элементов. Из соединения элементов водорода и кислорода бьет ключом вода. Натрий и хлор связываются в соль, тогда как картошка, кошки и люди обязаны своим существованием преимущественно многообразным соединениям углерода.
Ослепительная красота — это и в 1920-е годы известно всякой светской элегантной даме — исходит не только изнутри. Поэтому она должна ухаживать за своей природной красотой продуктами новой линии «Tho-Radia». Молочко для лица и крем для кожи, обогащенные радием, обещают разгладить морщины и обесцветить дефекты. Лучистое туалетное мыло, губная помада и очистительные лосьоны довершают это инновационное предложение французской косметической промышленности. Радийная эйфория стойко продолжалась и после войны, тем более что радиоактивный элемент якобы оказывает терапевтическое действие при лечении рака. Уж если даже невесомые количества этого вещества отдают так много энергии, что ему стоит оживить усталый, обессиленный организм и поддержать в нем здоровье. Даже в серьезном
Британский хирург и директор Лондонского института радия сэр Фредерик Тревс усматривает в распаде радия и вовсе нечто мистически-величественное и проводит смелую параллель между самосветящейся субстанцией и богоявлением из Второй книги Моисея. Он сравнивает радий, дарующий радон и по человеческим меркам никогда не иссякающий, с кустом терновника, который вечно горит, не опаляясь, и из которого Бог говорил с Моисеем. В распоряжении Тревса находится огромное количество радия — восемьсот шестьдесят миллиграммов, и он разослал отводки этой неопалимой купины в тринадцать английских больниц. Сто пятьдесят миллиграммов зарезервировано для постоянного производства радийной воды, которую разливают по бутылкам и продают по всей стране. Она светится в темноте и в 5000 раз сильнее, чем радиоактивные источники в Бад-Гаштайне и Санкт-Йоахимстале. Через 1620 лет половина неопалимой купины все еще будет в наличии, продолжая непрерывно испускать радон. Руководитель института радия уверяет, что его «сжиженный солнечный свет» в порционных бутылочках устраняет своим излучением ревматизм у сорока процентов его больных.
Правда, годится ли радий в качестве средства против рака, активно оспаривается. В октябре 1921 года президент Американского союза хирургов скептически высказывается о будущем применении радия в терапии рака. По его словам, до сих пор польза лечения, поданного как сенсация, была чрезвычайно мала. Лишь при наружно доступных и менее злокачественных опухолях можно достигнуть при помощи радия некоторого лечебного действия. При карциномах внутренних органов — таких, как желудок и кишечник, — радий, напротив, совершенно неприменим. Спор между сторонниками и скептиками в США уже несколько лет кипит на медленном огне, но полгода назад обострился. Поскольку в мае 1921 года в Нью-Йорк прибывает — в качестве гостя одного американского женского союза — Мария Кюри. Леди собрали 100 000 долларов, чтобы подарить почитаемой двукратной нобелевской лауреатке один грамм радия, который их президент Гардинг лично должен вручить ей в Белом доме. Уже по ее прибытии в порт Нью-Йорка репортерам бросилось в глаза изможденное состояние здоровья мадам Кюри. Они не могли прийти к единому мнению, то ли гостья из Парижа одета в черный сюртук, похожий на рясу, то ли вообще в лабораторный халат. Черные перчатки скрывали ее воспаленные руки, а старая история про черное свадебное платье универсального назначения опять была пущена по кругу. Она намерена, заявляет Кюри прессе, использовать подаренный радий в очередных экспериментах и найти лучшие методы лечения рака: «Радий — действенное средство. Он уже излечивал все возможные виды рака, в том числе и самые тяжелые случаи». Скептиков среди врачей она ставит на место словами: «Если применять радий правильно, будет и успех исцеления. Кто потерпел неудачу, тот просто не знает свое ремесло».
В это время на одной фабрике в Нью-Джерси происходит трагедия. Она несколько убавляет радийную эйфорию и ведет к пониманию, что рак может не только лечиться радием, но и вызываться им. Применение светящейся массы для ружейных мушек в конце мировой войны хоть и оказалось промашкой, но военные все-таки применяли ее для надписей, светящихся в темноте. Все большее значение она приобретает и в других областях жизни. Так растущей популярностью пользуются иллюминированные выключатели света, телефоны и огнетушители, равно как и самосветящиеся спидометры и указатели уровня топлива в автомобилях. Морской флот пристрастился к светящимся стрелкам компасов и к видимым очертаниям навигационных приборов в темноте. Фирма «US Radium» покрывает светящейся краской на своей фабрике в Ист-Оранже километрах в двадцати от Манхэттена кнопки дверных звонков, номера театральных сидений, наживку для удочек и глаза кукол. Эта самосветящаяся краска называется
В просторных, но заведомо пыльных фабричных цехах в Ист-Оранже, Нью-Джерси, перед фронтом огромных окон сидят дюжины молодых женщин, склонившись над рабочими столами; они макают тонкую кисточку в светящуюся краску и красят ею цифры для часов. После нескольких мазков кончик кисточки топорщится. Начальство подучило женщин придавать кисточке форму языком и губами, и это им нетрудно, потому что краска
И не забывайте кисточку вовремя подправлять, посмеиваясь, говорит молодым женщинам бригадирша. Чем быстрее вы работаете, тем больше сможете заработать. Сама она никогда им этого не показывала, поскольку она-то вхожа в отдел разработки и в лабораторию. Там химики, работая с радием, используют щипцы, свинцовые экраны и респираторы. Чуть позже девушки заметят, что им и раскрашивать себя не нужно, чтобы достичь ошеломляющего эффекта. Ибо фабричная пыль проникает и оседает всюду. Волосы, одежда и нижнее белье светятся в темноте — как будто к «radium girls» прилетела добрая фея в лимонно-зеленом одеянии и осыпала их своими сверкающими блестками. Поначалу они в шутку демонстрируют свой нечаянный блеск родным и друзьям. Одна из девушек даже забралась в большой темный гардероб, чтобы и при солнечном свете можно было полюбоваться ее мерцающими волосами. Но когда у них на лицах, на руках, на ногах и на спине стали появляться пепельно-зеленые пятна, им становится не до смеха.
В послевоенное время в физических институтах Европы самая обсуждаемая тема — растущее изобилии публикаций о структурной модели атома Нильса Бора. Решающий вклад в это внес во время войны Арнольд Зоммерфельд, профессор теоретической физики Мюнхенского университета, обобщив траектории электронов Бора. При этом в дело пошли дополнительные эллиптические орбиты, так что первоначальные пути вращения вокруг ядра теперь были лишь частным случаем. Зоммерфельд обнаружил, что и сами эллипсы с их геометрическими и механическими свойствами подчиняются квантовым законам и имеют дискретную структуру. Теперь атомная модель получает законное основание на квантовых условиях: из некогда неисчерпаемого обилия возможных орбит остаются эллипсы, ограниченные по размеру, форме и ориентации определенными ступенями и связями. Во вводной главе своего труда Зоммерфельд устанавливает для своей усовершенствованной планетной модели атома идейно-историческую близость к одному знаменитому астроному. Если Николай Коперник в 1509 году впервые объявил Солнце центральным светилом, а планетам предписал круговые орбиты вращения вокруг Солнца, то Иоганн Кеплер сто лет спустя смог описать космические пути как эллипсы — и в самом деле примечательные параллели к электронным орбитам Бора и Зоммерфельда.
В начале 1920-х годов Бор и Зоммерфельд при описании фундаментальной матрицы природы полагаются на архетипическую силу гелиоцентричной планетной модели, основанной Коперником и Кеплером. При визуализации важных параметров атома — таких, как энергетические уровни, целочисленные интервалы между спектральными линиями и скачкá электронов на соседние орбиты, — планетная модель поначалу служит хорошую службу. Сам Зоммерфельд устанавливает связь между кеплеровской гармонией сфер и «музыкой сфер атома — созвучие целочисленных отношений, возрастающий при всем многообразии порядок и гармония».
В ноябре минувшего года на Альберта Эйнштейна, словно стихийная сила природы, обрушилась слава. Его опубликованная в 1915 году общая теория относительности впервые подтвердилась астрономическими наблюдениями. В отличие от гравитационной теории Исаака Ньютона в универсуме Эйнштейна свет тоже подвержен воздействию силы тяготения. Эйнштейн предсказывал, что прямолинейный луч света далекой звезды будет отклоняться от своего курса вблизи массивного объекта — незначительно, однако измеримо. И вот в мае 1919 года директор Кембриджской обсерватории сэр Артур Эддингтон во время солнечного затмения у западного побережья Африки наблюдал именно этот предсказанный Эйнштейном эффект отклонения света. Он сфотографировал тринадцать звезд в окрестностях затемненного солнечного диска и сравнил снимки с положениями тех же звезд, зафиксированными за несколько месяцев перед тем. Так Эддингтон смог удостоверить теорию Эйнштейна: когда свет далекой звезды попадает в гравитационное поле Солнца, он отклоняется так, что кажется, будто звезда занимает положение, отличное от ее обычной позиции.
Шестого ноября 1919 года лондонское Королевское общество обнародует эту значительную новость. В конце исторической конференции Людвиг Зильберштейн, будучи скорее скептическим членом этого элитного клуба, спросил Артура Эддингтона, действительно ли тот является одним из трех человек в мире, понимающих теорию относительности Эйнштейна. Помедлив, Эддингтон якобы ответил: «Я сожалею, но мне просто не приходит в голову, кто бы мог быть третьим?» Корреспондент
В то время как английская и американская пресса подхватывает это событие как мировую сенсацию и всесторонне его освещает, немецкое население еще страдает от последствий проигранной войны и вынуждено бороться с голодом и холодом. Поэтому большинству людей недосуг разбираться в гениальных мыслях их бывшего соотечественника. Коллеги по предмету и читатели журнала
Эйнштейн — несомненный кандидат на Нобелевскую премию. Хотя бы на сей счет рассорившиеся супруги Альберт и Милева не спорят. Живущая в Цюрихе Милева согласна дать ему развод сразу, как только он оставит ей в качестве отступного деньги, положенные нобелевскому лауреату. Таким образом, еще за три года до вручения премии ожидаемые деньги становятся имущественным долгом в браке, который расторгается в феврале 1919 года. В июне 1919 года Альберт Эйнштейн наконец женится на своей кузине Эльзе Лёвенталь, урожденной Эйнштейн.
Весной 1920 года Нильс Бор в кампусе Копенгагенского университета каждый день на шажок приближается к своему идеальному представлению о современной академии, открытой миру. Когда-нибудь в его Институте теоретической физики молодые, неизвестные, но многообещающие таланты вступят в равноправный обмен мыслями с мастерами гильдии. Здесь не будут приниматься в расчет ни возраст, ни титул, ни звание и авторитет, а одни лишь оригинальные идеи. Традиции и умудренность можно будет подвергать сомнению — при условии достаточно безупречной аргументации, чтобы привлечь внимание Бора. И тут ему приходит письмо из Берлина. Макс Планк приглашает его в конце апреля на свой «коллоквиум по средам», к тому времени уже легендарный, где он должен представить свои новейшие взгляды.
Берлин Веймарской республики в эти дни — далеко не безопасное место. Через полтора года после окончания войны картофель, пшеничная мука и уголь — все еще недоступная роскошь. Так называемая голодная блокада союзников хоть и снята официально, но люди живут по продовольственным карточкам. От нужды многие берлинцы совершают набеги на сельские общины. Но крестьяне с оружием в руках готовы защищать свой урожай и скот. Так что мешочники то и дело терпят поражение в своих вылазках. Только что стали давать без карточек по полфунта кукурузной муки на душу, и это праздновалось как великая радость, хотя кукуруза и считалась в Германии скорее кормом для скота.
Общество, принимавшее Бора в Берлине, было авторитетнее некуда — встреча была поистине исторической. В здании Физического общества впервые вместе собрались Макс Планк как основатель квантовой теории, Альберт Эйнштейн как своевольный интерпретатор планковских сигналов и, наконец, гость из Копенгагена. В математике электронных скачков он обнаружил постоянную Планка и однозначно порционные кванты энергии. Эта квантовая троица не стала тратить много времени на болтовню и обмен любезностями. Они тотчас вступили в дискуссию, которая растянулась на несколько дней до полного изнеможения всех участников. Свежеиспеченный лауреат Нобелевской премии Планк с почти лысой головой и дружелюбно сияющими из-за очков глазами просто олицетворяет своей консервативной одеждой и поведением истинного немецкого профессора. Даже Эйнштейн в свой сорок один втиснул себя по такому случаю в черный сюртук. Но как ни старался он производить официальное впечатление за счет крахмального воротничка и галстука, все равно казался премило растрепанным со своей уже знаменитой на весь мир наэлектризованной шевелюрой.
В этом обсуждении Эйнштейн рассматривает свои кванты света как физическую реальность и тем самым допускает влияние случайности и непредсказуемости на физические процессы. С другой стороны, ему тяжело дается принять нечто столь очевидно измеримое, как спонтанность квантовых скачков в атомной модели Бора — Зоммерфельда. И поэтому он направляет весь свой острый ум на другие модели. Он старается установить связь между этими испускающими энергию переходами электронов на соседнюю орбиту и законами радиоактивного распада. Эйнштейн убежден, что как только будут открыты все атомарные законы, тогда и всякий процесс в атоме станет предсказуемым. Нильс Бор, напротив, со своими привычно размашистыми формулировками и негромким голосом настаивает на том, что точное определение квантовых скачков в принципе невозможно. Ведь и классическая физика, по его словам, тоже не умеет удовлетворительно объяснить всю сложность спектральных линий. Неделю спустя Эйнштейн пишет своему другу, австрийскому физику Паулю Эренфесту: «Сюда приезжал Бор, и я влюблен в него так же, как и ты. Он в высшей степени чуткое дитя и живет в этом мире в некоем гипнозе». Эйнштейн явно узнал в Боре самого себя, ибо любой друг Эйнштейна мог бы теми же словами метко охарактеризовать и его самого.
В то время, когда Бор и Эйнштейн в Берлине заключают дружеский союз, в Мюнхене ученики выпускного класса городских гимназий готовятся к экзаменам на аттестат зрелости. Во время войны юноши дважды в неделю проходили военную муштру в военизированном оборонном объединении Макс-гимназии. Пристрастием молодежи к походам и их любовью к природе и родине можно легко злоупотребить политически. Они учатся дисциплинированно маршировать, производить разведку местности и ночевать на природе. Военная обязанность начинается по достижении полных семнадцати лет. Одного из молодых людей в Макс-гимназии, которому грозит эта участь, зовут Вернер Гейзенберг, однако за месяц до его семнадцатилетия война заканчивается. Однако и три месяца спустя оборонное объединение Вернера все-таки получает боевое задание. В апреле 1919 года в Мюнхене царят беспорядки и хаос. Это время «красного террора» двух недолговечных социалистических советских республик, за которыми следует «белый террор» освободительных войск. Мюнхенские выпускники под командованием опытного военного попадают в самый разгар уличных боев с расстрелами заложников и резней возмездия. Вернер Гейзенберг и его товарищи исполняют службу посыльных и проводников, таскают ящики с боеприпасами, проскальзывают через позиции «Красной армии» и должны с заряженными ружьями охранять коммунистических пленных по пути на допрос и казнь. До самого июня ученик младшего отделения выпускного класса в зеленой униформе своего оборонного объединения размещается при кавалерийском корпусе в Георгиануме, семинарии католических священников на Людвигштрассе.
В свободные от службы утренние часы этих июньских дней 1919 года он взял себе в привычку взбираться на крышу Георгианума, ложиться там под солнцем и читать. Он знакомится с учением Демокрита об атомах, мельчайших неделимых частицах материи, из которых якобы состоит всё сущее. Он с восторгом читает диалог Платона «Тимей» в греческом оригинале и наталкивается там на странную догадку, что атомы могут иметь и нематериальное происхождение. Платон верит, что эти элементарные частицы можно разложить на равносторонние треугольники и заново выстроить их из таких образований. «Сами треугольники не есть материя, — резюмирует позднее Гейзенберг, — они всего лишь математическая форма... Вопрос "почему" об элементарных частицах Платон сводит к математике... Последний корень явлений, таким образом, не материя, а математический закон...».
Неуклюжий молодой человек из Нью-Йорка, очутившийся без спросу на территории рудника в чешском Санкт-Йоахимстале летним днем 1921 года, на удивление хорошо осведомлен. Он явно знаком с историей серебряных шахт на этой стороне Рудных гор, где шахты носят названия «Божье благословение» или «Божий дар», а рудоносные жилы названы именем евангелиста Иоанна или посвящены иерихонской розе. Семнадцатилетний Роберт Оппенгеймер, может, и не очень ловок в движениях, но он точно знает, чего хочет. Он интересуется не знаменитой йоахимстальской смоляной обманкой, а хотел бы купить в этом легендарном горнорудном округе пару цветных камней и красивых кристаллов для своей коллекции минералов. Уже несколько недель он совсем один путешествует по чужой стране, тогда как его родители проводят лето в Ханау. Его отец Юлиус родился здесь и хотел бы познакомить своего Роберта со страной, где его корни.
Юлиус Оппенгеймер и его жена Элла происходят из немецко-еврейских семей. В 1888 году в возрасте семнадцати лет Юлиус эмигрировал в Америку и разбогател в Нью-Йорке на торговле импортным текстилем. Родители Эллы родом из Баварии. Она училась в Париже живописи и теперь дает уроки ученикам в собственной мастерской в Нью-Йорке. Когда Роберт со своей добычей — полным чемоданом минералов — снова возвращается в Ханау, он болен: где-то подхватил бактериальную инфекцию — испорченные продукты или зараженная вода. Он свалился от такой тяжелой дизентерии, что его родители какое-то время боялись за его жизнь. Для возвращения в Америку на пароходе он слишком слаб. И до середины сентября ему поневоле приходится лечить свою болезнь в Германии, отказавшись от запланированного первого семестра в Гарвардском университете. Когда наконец поздней осенью он снова попадает в Нью-Йорк, выясняется, что в стране своих предков он приобрел с дизентерийной инфекцией хроническое воспаление толстой кишки, которое будет сопровождать его всю оставшуюся жизнь.
Когда «отделение Гейзенберга» появляется в Английском саду для занятий по метанию копья, менее спортивным гуляющим лучше свернуть от греха подальше, на берег Изара. Ибо то, что здесь устраивает эта отчаянная банда из десяти—двадцати молодцов, не похоже на нормальные состязания, в которых выигрывает тот, кто метнет копье дальше всех. Отряд делится на две команды, которые становятся друг против друга на некотором расстоянии. Участник бросает копье как можно дальше и выше в воздух, но в сторону команды противника. Член той группы должен выбежать навстречу копью и поймать его еще в полете. Если это игроку не удается, он выбывает. Вернер Гейзенберг любит такие опасные игры, в которых вверенные ему Союзом новых бойскаутов ребята могут доказать свое мужество.
Из немецкого молодежного движения «Перелетные птицы» и сходных мужских объединений после катастрофы мировой войны создаются группы с разнообразными целями. После падения монархии, после продовольственной блокады, красного хаоса и белого контртеррора они хотят искать собственные пути и новые ценности.
Парадоксальным образом они вглядываются при этом в далекое прошлое. На слух взрослых их убеждения звучат незрело-романтически и безнадежно идеалистически. Они грезят своим «Белым рыцарем», который является для них прообразом моральной чистоты и самоотверженности, будучи благородной противоположностью темным искусителям, которые все еще или уже снова стоят у руля власти. Союз этих с виду беззаботных любителей свежего воздуха нацелен, однако, дальше, чем могут догадаться их родители. Члены объединений не просто товарищи или друзья. Они преданы друг другу и готовы погибнуть за товарища. Командир отделения пользуется полным доверием ребят. Они безоговорочно подчиняются ему, а он благородно берет на себя пожизненную ответственность за каждого из них. Родители корят сыновей за небрежность в одежде, но тем наплевать на внешний вид. Внутренняя чистота и правдивость для них важнее, чем безупречная внешность. Правда, и традиционную форму бойскаутов они тоже не носят. Униформа вызывает нехорошие воспоминания.
Всю зиму смертельно больной Роберт Оппенгеймер провалялся в нью-йоркской квартире родителей. С тяжелым колитом, осложнением после дизентерийной инфекции, шутки плохи. Летом 1922 года он пошел на поправку, и для восстановления сил, и для закалки отец посылает его в Нью-Мехико, в царство дикой природы. В сопровождении любимого учителя английского языка Герберта Смита он проводит несколько незабываемых недель на коннозаводском ранчо неподалеку от Санта-Фе. Оппенгеймер привыкает к жизни под открытым небом на высоте 2000 метров и постепенно обретает силу и уверенность в себе. Многодневный верховой поход становится кульминацией его пребывания в малонаселенных краях Юго-Запада. Они пересекают дремучие хвойные леса и проезжают по скалистым каньонам, красно-коричневые стены которых изрыты природными пещерами. Для здешнего ландшафта характерны просторные долины, над которыми вздымаются столовые горы.
Оставив позади очередной каньон, они попадают на скалистое плато из вулканической породы с обрывистыми трещинами. На этом плато протяженностью в три километра стоит большое школьное здание с примыкающим к нему конным ранчо. Здесь вместе с учителями живут несколько дюжин подростков в возрасте от двенадцати до восемнадцати лет. По представлениям основателей школы, мальчики, рожденные в больших городах, должны вести здоровую жизнь на отшибе и вольной природе. Здесь они достаточно удалены от вредного влияния матерей, которые только балуют своих сыночков. Здесь во главу угла поставлены занятия спортом. Все входят в организацию бойскаутов, спят при любой погоде на веранде и круглый год носят короткие штаны. Походы и жизнь в палатках на высокогорье — обязательная часть учебной программы наравне с латынью и геометрией. У каждого мальчика свой конь, за которым он должен ухаживать сам. Выздоравливающий от тяжелой болезни Оппенгеймер впечатлён строгой дисциплиной и спартанской жизнью на этом уединенном скалистом плато. Это своеобразное поселение на вулканической породе названо испанским словом, обозначающим американские тополя, что так живописно окаймляют ручей в каньоне, приведшем Оппенгеймера к этой школе на свежем воздухе: Лос-Аламос.
Нильс Бор, работая со своей планетарной моделью атома, выявил удивительные взаимосвязи. Электроны, эти мельчайшие единицы электрической силы, эти излучающие свет частицы, обладают лишь незначительной массой в пространстве атома. Однако их конфигурация, скачки и взаимодействия между собой отвечают за всё многообразие облика мира, за готовность водорода и кислорода вступать в соединения, за цвет золота, за вонь серы, за непомерный вес куска урана. Все химические и физические свойства элементов и веществ заново тасуются именно здесь, на орбитах планетной системы Бора — Зоммерфельда. Со своей могучей интуицией Нильс Бор добрался до основ химии. Он проанализировал порядок расположения электронов, и ему удалось по-новому истолковать структуру периодической системы элементов. То, что изначально было задумано как физическая теория атома, оказалось вместе с тем и непреложным учением о химических соединениях на элементарном уровне.
Но Вернер Гейзенберг, студент Физического семинара Арнольда Зоммерфельда в Мюнхене, считал, что Бор и Зоммерфельд слишком уж прилипли к их наглядной планетарной модели, что они слишком буквально приняли свою удачную метафору. В то время как в здании этого учения еще так много нестыковок и так много отклонений от системы. Если, например, атомы, возбужденные нагреванием, поместить в магнитное поле, то спектральные линии — а они считаются чем-то вроде отпечатков пальцев элемента — загадочным образом расщепляются на более тонкие подлинии. Гейзенберг уверен, что настоящего прогресса в завершении квантовой теории атома можно добиться, только отказавшись от наглядности. Теория атома и без того представляет собой в начале 1920-х годов сложное, трудно постижимое объединение классических принципов с квантовыми правилами, а теперь, похоже, она станет еще более абстрактной.
Между тем Нильса Бора наперебой приглашают по всему миру с докладами. В июне 1922 года он приезжает наконец со своими семью докладами в Гёттинген, во всемирно известный Математический центр. На летний семестр 1922 года в университет Георга Августа записалось триста одиннадцать женщин, это уже десять процентов студенчества — отрадный рост по сравнению с временами Марии Кюри и Лизы Мейтнер.
Арнольд Зоммерфельд отправил в Гёттинген своего студента Вернера Гейзенберга, оплатив его поездку из Мюнхена. Чтобы тот смог живьем увидеть великого Нильса Бора. На вокзале Гёттингена царит жуткий кавардак и давка из-за того, что железнодорожные пути перекладывают на второй уровень. Мюнхенцам приходится пробираться к выходу через пакгаузы, мимо строительных канав и отвалов. Когда они ступают на привокзальную площадь, там приспущены флаги по случаю отторжения Восточной Верхней Силезии от Германской империи — условие Версальского договора. Но вовсе не на флаги обращен тоскливый взгляд Гейзенберга, а на цветущее и благоухающее великолепие палисадников. Он страстно ждет пощады от аллергического сенного насморка, неотступно донимающего его каждую весну.
В переполненной большой аудитории гёттингенского Физического института собрались ведущие физики и математики Германии. К стилю докладов Бора еще нужно привыкнуть. Он, по своему обыкновению, тихо бормочет, и от слушателей, особенно в задних рядах, это требует чрезвычайной концентрации. Многие сидят, подавшись вперед и приставив к уху ладонь. Нередко слушатели становились свидетелями его
Если и присутствует в Гёттингене «гений места», то это строгий дух математики. После того как Карл Фридрих Гаусс, Бернард Риман и Герман Миньковский задали здесь новый масштаб науки, сподвигнувший Альберта Эйнштейна к его общей теории относительности, в Гёттингене и теперь преподают мировые корифеи — такие, как Феликс Клейн и Давид Гильберт. Все они однозначно доказали свои теоремы. Математические истины остаются вне всяких сомнений, тогда как перманентные поиски Бора и его интуитивное нащупывание основы всего сущего давно не отвечают строгим критериям собравшихся здесь математиков. Поэтому Бор вдумчиво подбирает слова. Строгие наблюдатели хоть и признают авторитет Бора и впечатлены его харизмой, однако ропщут на отсутствие однозначности и раздражающую ауру таинства, которым не место в естественных науках. На их вкус, Бор оставляет своим слушателям слишком много простора для собственных интерпретаций. Но именно это обстоятельство приводит молодого Гейзенберга в приподнятое настроение. Он способен проникнуться смутными чувствами Бора и понять его боль расставания с очевидностями классической физики. В метаниях от наглядности к трудно поддающейся пониманию абстракции именно эта приблизительность и скрытность и кажутся ему единственно уместным изображением квантовой теории: «...и почти за каждым тщательно сформулированным тезисом просматриваются длинные шеренги мыслей, из которых произнесению поддается лишь начало, а конец теряется в полутьме очень волнующей меня философской позиции» — так передает Гейзенберг настроение в аудитории.
И у него хватает самоуверенности, чтобы пробиться в философскую полутьму Бора и включить там освещение. Для большинства слушателей это первая встреча с Нильсом Бором, который к этому времени уже упоминается наравне с Альбертом Эйнштейном. Немецкие профессора в восторге. Они умеют оценить тот факт, что Бор игнорирует культурный бойкот против Германии, и потому упиваются визитом ведущего атомного теоретика. Бор возвращает достославному университету долгожданный международный лоск. Соответственно и ведущие представители немецкой науки с благодарностью и почтением слушают доклады знаменитого датчанина и в последующих дискуссиях задают свои сочувственные вопросы скорее сдержанно и уважительно, не отваживаясь на открытую критику. Тем более смущенно публика реагирует, когда в конце третьей лекции в задних рядах встает какой-то узкоплечий «белобрысый юнец», который мог попасть сюда и случайно, как «крестьянский парнишка или ученик столяра», и жестко возражает мастеру в определенном пункте.
А именно: Нильс Бор как раз собирался преподнести гёттингенской публике расчеты своего ассистента Хендрика Крамерса по расщеплению спектральных линий в электрическом поле в качестве подтверждения его центральной метафоры — атомарной планетной системы. Двадцатилетнему Гейзенбергу уже известна работа Крамерса, и теперь он беспощадно критикует ее за то, что она деликатно прибегает к классическим методам. Желая вскрыть ее принципиальную ошибку, он соглашается признать приведенные псевдодоказательства лишь в качестве предельного случая. Он без всяких затруднений демонстрирует потрясенному Бору недостатки расчетов во всех их постыдных подробностях.
«В дискуссии он храбро оборонялся, и мы дивились на него», — вспоминает будущий друг и коллега Гейзенберга Фридрих Хунд. Четвертый семестр, возмущаются авторитеты. Ведь он тогда еще даже не защитил диссертацию. Бор забеспокоился и дрогнул. Ему не удается парировать доводы Гейзенберга. Но он прекрасно видит, что ученик Зоммерфельда хорошо ориентируется в слабых местах его теории. По окончании мероприятия Бор приглашает молодого человека прогуляться — оценка, которой могли позавидовать многие профессора. Во время этой аудиенции на свежем воздухе Гейзенбергу становится ясно, что Бор в первую очередь философ и лишь потом физик. Который окружает картины атомарных процессов вопросительными знаками и преподносит с большим сомнением. Который скорее угадывает и чует их, вместо того чтобы выводить заключения. Который к собственной теории настроен более скептично, чем, например, Зоммерфельд. Который в принципе хоть и готов отступиться от наглядных описаний структуры атома, но еще не знает нового языка, на котором удалось бы добиться понимания.
Нильс Бор не мог знать вечером четырнадцатого июня 1922 года, что прогуливается по лесистому Хайнбергу на окраине Гёттингена с человеком, который сможет вывести квантовую теорию из кризиса. Однако столь же интуитивно, как он занимается своей атомной физикой, Бор выискивает людей, обладающих творческой силой и отвагой для разрешения внутренних противоречий квантовой теории. Приглашение на стажировку в Копенгаген этот студент вполне может расценивать как посвящение в рыцари.
Пока Арнольд Зоммерфельд осенью 1922 года уезжает на шесть месяцев в США в качестве приглашенного профессора, Гейзенберг учится у Макса Борна в Гёттингене, летом 1923 года защищает диссертацию у Зоммерфельда в Мюнхене и в октябре того же года возвращается в Гёттинген ассистентом Борна. К этому времени инфляция достигла своей абсурдной кульминации. Если за год перед тем Гейзенберг платил за пачку сливочного масла 750 марок, чтобы хозяйка, у которой он снимал комнату, могла при случае приготовить ему вечером жареный картофель, то теперь кило ржаного хлеба стоит полтриллиона марок. В тесном сотрудничестве с Борном Гейзенберг берется за основательную реформу квантовых закономерностей, которые положены в основу модели атома Бора — Зоммерфельда. Правда, их общие попытки спасти систему планетных орбит вращения электронов вокруг ядра, добавив новые законы, не привели к успеху. Родившуюся из усилий Гейзенберга работу Борн принимает в мае 1924 года в качестве заявки на доцентуру в университете.
Разумеется, Макс Борн и его ассистент Гейзенберг в Гёттингене хотят ни много ни мало как основать новую теорию атома. Та же честолюбивая идея движет и Нильсом Бором с его ассистентом Хендриком Крамерсом в Копенгагене. Сам Бор давно уже распрощался с пластичным, но уже несостоятельным представлением об атоме как о Солнечной системе в миниатюре. В поисках пути реформирования теории атома Бор ведет себя временами еще туманнее и загадочнее, чем прежде. Ради своей новейшей тезы он даже ставит под сомнение священный принцип сохранения энергии и причинно-следственную связь. И снова — типичные для Бора необоснованные допущения, которые он не может ни вывести, ни математически обосновать. Эйнштейн находит тезы своего друга Бора «отвратительными». В письме к Максу Борну он и вовсе грозит своим полным устранением из профессии. Ибо если работы над новыми квантовыми законами и дальше будут продвигаться в столь странном направлении, «то лучше я буду сапожником, а то и вовсе работником казино, чем физиком».
Запутался и Вольфганг Паули, еще один ученик Зоммерфельда. «Физика в данный момент снова сбилась с пути, для моего ума она, во всяком случае, непостижима, — кокетничает острый на язык профессор в мае 1925 года, — и я бы предпочел быть киношным комиком, никогда ничего не слыхавшим о физике». Давид Гильберт верит ему на слово. Знаменитый математик вещает из Гёттингена, что физика нынче и впрямь стала слишком трудна для физика. Только математик мог бы навести в ней порядок. Сам Гильберт, правда, благородно воздерживается от предложения решений.
Полгода спустя Гейзенберг наконец приезжает на вожделенную стажировку в копенгагенский институт Бора как стипендиат Рокфеллера и с первого дня прилежно изучает датский и английский языки. В следующие восемь месяцев он постоянно работает с Бором и его личным ассистентом Хендриком Крамерсом, который, помимо всего остального, превосходно играет на виолончели и фортепьяно. Сообща они оттачивают теорию, которая довела Эйнштейна и Паули до того, что те подумывали присмотреть себе менее изнурительное ремесло. Гейзенберг остается непоколебим в своем отрицании существующих положений и учится защищать свои мысли от доминирования Бора и его ассистента. Правда, одна компонента поднятой на смех теории задела его за живое. Это представление об атоме как скоплении колебаний, которые соответствуют наблюдаемому световому шоу спектральных линий. Математика этих колебаний позволяет — что Крамерс с блеском и доказывает — полностью рассчитать взаимодействия атома со светом любой частоты.
Значит, он все-таки мог бы, думает Гейзенберг, рассматривать не наблюдаемые напрямую движения электрона как наложение атомарных колебаний. Это была бы подходящая альтернатива расхожему представлению об орбитах электронов, тем более что сам он больше не участвовал в рассуждениях о модели планетного кругообращения.
Судьбоносная прогулка по гёттингенскому Хайнбергу получает свое подобающее продолжение в многодневных пеших странствиях по Дании. Тут Гейзенберг в своей стихии, тем более что бывший футболист Бор загорелся спортивным азартом, когда Гейзенберг на пляже вызвал его потягаться, кто дальше запустит плоский камешек скакать по поверхности моря и сможет попасть в плавающие буи. Когда молодой немец, полный задора, поднял с проселочной дороги камешек, швырнул его в очень далеко стоящий телеграфный столб и действительно попал в него «вопреки всякой вероятности», Бор мгновенно посерьезнел: «Целиться в столь отдаленный объект и потом попасть — это, разумеется, невозможно. Но если у тебя хватает наглости бросить камень в ту сторону, не целясь, и вообразить при этом абсурдную возможность, что попадешь, тогда, быть может, это и случится. Воображение... может оказаться сильнее, чем воля и тренировка».
В мае 1925 года Гейзенберг снова у Борна в Гёттингене и формулирует, независимо от контрагентов в Дании, классическим математическим методом недоступные для непосредственного наблюдения местонахождения и скорости электронов. Расчеты оказываются ближе к действительности, чем до сих пор. Свойства электронов, обозначаемые раньше как «скачки», «движения» и «время обращения», отныне определяются как наложения атомарных колебаний. Это значит: внимание Гейзенберга смещается. Он больше не потрясает и без того неприступную внутреннюю структуру атома. Вместо этого он выражает
С этим намерением Вернер Гейзенберг осуществляет радикальный отход от классической механики, где все вертится вокруг уравнений для местонахождения и для скорости частиц. Бор и Крамерс хоть и придерживаются того же представления о наслоении колебательных состояний, но непременно хотят остаться в классических рамках. Неужели Гейзенберг со своей «наглостью» снова попал — на сей раз в квантовую теорию, как тогда в телеграфный столб во время пешей прогулки с Нильсом Бором?
В конце мая 1925 года он, однако, прочно застревает в непроходимых дебрях сложных математических формул. Как назло, в этой тупиковой пробуксовке его настигает сильный аллергический приступ сенного насморка. И седьмого июня он уезжает на остров Гельголанд — скупо озелененные красные скалы в Северном море, — чтобы усмирить свою сенную лихорадку. Лицо у него такое опухшее, что хозяйка пансиона подозревает, не подрался ли ее молодой постоялец накануне вечером со своими собутыльниками. Ночи коротки. О сне — ввиду той задачи, которую Гейзенберг поставил перед собой, — нечего и думать. Когда ему нужно расслабиться от вычислений и набросков новых условий квантования, он совершает обход этого обозримого острова, лазает по скалам крутого берега из цветного песчаника, плавает в море или заучивает наизусть стихи из гётевского «Западно-восточного дивана». Избавленный от непрерывных дискуссий в Гёттингенском университете, он постепенно успокаивается. Ему удается «сбросить ненужный математический балласт».
Поскольку теперь он хочет брать в расчет лишь наблюдаемые величины, он отказывается от бессмысленного отслеживания местонахождений и скоростей электронов. Они теперь преобразованы в модель наслоения колебаний и выражают переход из одного атомарного состояния в другое. С классической точки зрения отклонения этих колебаний — амплитуды — перемножаются между собой. Здесь, на Гельголанде, Гейзенбергу однажды ночью удается в конце концов вывести соответствующее правило перемножения для квантовой системы. Он позаботился о том, чтобы из классической механической системы возникла квантово-механическая система. Кажется, он даже нашел давно искомый математический инструмент, который позволяет ему непротиворечиво определить энергообмен в атоме. В первых торопливых проверочных вычислениях этой ночи подтверждается даже закон сохранения энергии, с которым так не повезло последней теории Бора.
Теперь Гейзенберг уже не сомневается в цельности своей новой квантовой механики: «В первое мгновение я пережил настоящий испуг. У меня было чувство, что я заглянул сквозь оболочку атомарных явлений и увидел глубокое дно разительной красоты. У меня голова закружилась при мысли, что теперь я должен добираться до сути этого обилия математических структур, которые природа развернула передо мной там, внизу. Я был так взволнован, что о сне нечего было и думать». И он покидает свой пансион в утренних сумерках, бежит к северной оконечности острова и взбирается на «Длинную Анну», символ Гельголанда — красный скалистый столб высотой сорок семь метров, отвесно выпирающий из моря.
В будущей квантовой механике должны устанавливаться исключительно «отношения между принципиально наблюдаемыми величинами». Этим прозрачным отречением от классической механики Вернер Гейзенберг возвещает о своем эпохальном труде 29 июля 1925 года в
К математике Гейзенберга, требующей определенного навыка, принадлежит также одно странное правило перемножения, которое предписывает факторам необратимость. При нормальном перемножении двух чисел их последовательность, естественно, не играет роли: 3×4=12 и 4×3=12. В рядах и колонках квантовых матриц тоже, без сомнения, стоят числа. Однако в них закодированы реальные переходы из одного атомарного состояния в другое. Числа, таким образом, выражают физические события, в которых замещаются кванты. И
Однако сообществу физиков новая концепция Гейзенберга дается тяжело. В немецкой столице Планк и Эйнштейн, сердечно связанные друг с другом гармонией домашнего музицирования — как сыгранные пианист и скрипач, — совпадают и в оценке приема Гейзенберга. В работе неистового квантового чародея им чудится чудовищный диссонанс. Возможно, любители музыки при чтении статьи Гейзенберга вспомнили о модернистах Шёнберге и Хиндермите, которых хоть и признаёшь, но добровольно слушать никогда не станешь. Ведь это они, два вельможных физика, устроили в начале XX века квантовую революцию. А теперь молодая поросль псевдореволюционеров только портит им настроение. Эйнштейн с присущим ему добродушием посмеивается над историческим деянием Гейзенберга. Мол, тот развел «квантовню», которая разве что в Гёттингене, влюбленном в математику, может сойти за мудрость в последней инстанции. А его, Эйнштейна, пусть уж избавят от этой мудрости. Спасибо, он обойдется и без решения немыслимой гейзенберговской матрицы.
Разумеется, Гейзенберга, который в свои двадцать четыре года уже пользуется мировой известностью, приглашают в апреле 1926 года в Берлин на «коллоквиум по средам» — даже лучше было бы сказать: требуют его приезда, — чтобы он ввел собравшуюся элиту физиков в курс новейшего состояния дел. И даже такому своенравному гостю Эйнштейн не преминул задать жару во время прогулки до его квартиры. Однако Гейзенберг храбро пускается в диалог с самым знаменитым физиком в мире. Тут сталкиваются две личности, научная креативность которых содержит сильную музыкальную компоненту. Оба они своим успехом обязаны не только выдающемуся уму, но и в такой же мере художественной интуиции. Они следовали ей, невзирая на критику коллег. Так Гейзенберг на Гельголанде поддался «эстетическому критерию истины» математических моделей, которые отличались «великой простотой и красотой». Эту формулировку мог бы разделить и Эйнштейн, который постоянно говорил об эстетической компоненте своей работы.
Будучи на двадцать два года старше, Эйнштейн связал пространство и время в единство, которое в присутствии тяжелых объектов оказывается на удивление гибким. Это искривление пространства-времени он и признал за притягательную силу гравитации. Он доказал, что движущиеся часы идут медленнее, чем неподвижные, и каждый комочек материи можно рассматривать как источник энергии. Но в первую очередь он основательно изменил взгляд на большие структуры во Вселенной и сформулировал новые законы движения планет. Младший же нашел первую многообещающую схему вычисления для мира мельчайших частиц. Своему другу Вольфгангу Паули он после возвращения с Гельголанда описал свои важнейшие задачи простыми словами: «Все мои убогие стремления сводятся к тому, чтобы навсегда покончить с понятием орбиты [электрона], которую ну никак нельзя наблюдать, и заменить ее чем-то более подходящим». И он концентрируется после этой первой атаки исключительно на измеримых величинах. Такая установка, однако, является выпадом против глубочайших убеждений Эйнштейна. Чья способность нестандартно мыслить позволяет вообще-то судить о широте его восприятия. Тем не менее он ревниво защищает классическую физику от гёттингенской квантовой механики. Эйнштейн считает ее преходящей, несовершенной моделью атомарного мира и надеется, в конце концов на решение классической чеканки.
Мастер макроскопического пускается в пикировку с мастером микроскопического, причем неясно, кто тут, собственно, кому дает аудиенцию и кто выйдет из диспута победителем. Оба пешехода выстроили лучшие по тому времени теории о вселенски больших и о невообразимо малых структурах — от отклоненного луча света далекой звезды до желтой спектральной линии атома гелия. Сможет ли когда-нибудь Большое объединиться с Малым в единой теории?
Десятилетний Карл Фридрих фон Вайцзеккер явно высокоодаренный мальчик, и он решительно намерен сделать свою детскую страсть к астрономии профессией. В качестве доказательства своей серьезности он преподносит матери в подарок стихотворение собственного сочинения:
Были б деньги для житья
И хороший домик,
Уж тогда бы точно я
Был бы астрономик.
После этого родители выписали отпрыску популярный астрономический журнал, и вскоре обнаружилось, что его интерес — отнюдь не быстрогаснущая падающая звезда. 1927 год он, четырнадцатилетний, проводит со своими родителями вдали от немецкой родины. Отец у него дипломат и работает в Копенгагене, в немецком посольстве. К этому времени Карл Фридрих уже занимается планетарной моделью атома Бора и набрасывает собственные ответы на вопрос, почему в атоме действуют другие законы природы, чем в мире, который он может воспринимать своими органами чувств. Однако обратное падение с высоких орбит воображения в низменность будней для пубертатно своенравного характера сопряжено с великим разочарованием. Все ему кажется «омерзительным»: учителя, соученики-верхогляды. В общем, все люди. Вообще всё. Мать в отчаянии. Она чувствует, что ее сын несчастен, и не знает, как ему помочь.
Вечерние приемы в доме Вайцзеккеров — составная часть дипломатической профессии и даже рутина. Но в первые недели 1927 года к ним приходят друзья и близкие — на проводы. Ибо Вайцзеккеры покидают Данию и отправляются в Женеву. Однажды вечером в гости приходит и Вернер Гейзенберг, который в это время вместе с национальным героем Дании Нильсом Бором как раз возводит несущие опоры новой квантовой механики. Марианна фон Вайцзеккер познакомилась с ним на одном приеме, и его виртуозная игра на фортепьяно привела ее в восторг. Следуя наитию, она сажает Карла Фридриха за стол рядом со знаменитым физиком. Может быть, в надежде, что ее сын найдет этого неизменно жизнерадостного гостя не столь «омерзительным», как весь остальной мир. Начитанный мальчик и без матери знает, что сидит рядом с человеком, только что вышедшим на след законов атомарного мира.
Когда гости разошлись, Карл Фридрих, сияя, говорит матери: «Это был лучший день в моей жизни!». И что астрономия, возможно, не так интересна, как квантовая физика. Вернеру Гейзенбергу тоже понравился вечер, проведенный рядом с сыном посла. Мальчик напомнил ему, должно быть, бойскаутские времена. Как прирожденный вожак и идеальный старший брат, он по-мальчишески парировал не по годам разумные доводы сына дипломата. То, что за этим «лучшим днем в его жизни» уже вскоре последует куда более значительное событие, связанное с Вернером Гейзенбергом, юный Вайцзеккер никак не мог ожидать. Через короткое время после этой первой встречи — семья дипломата как раз возвратилась из Копенгагена в Берлин — от Гейзенберга приходит почтовая карточка. Она адресована не родителям, а Карлу Фридриху. Гейзенберг пишет, что по дороге из Копенгагена в Мюнхен должен делать пересадку в Берлине. Не хочет ли Карл Фридрих встретить его на Штеттинском вокзале и потом проехаться с ним на такси до Ангальтского вокзала. Они смогли бы, таким образом, продолжить прерванный копенгагенский разговор, тем более что у Гейзенберга есть чем поделиться.
Уже несколько недель Гейзенберг ожесточенно спорит с Бором о точной формулировке нового вида теории вероятностей. В то время как он стремится к радикально новому языку, Бор продолжает настаивать на том, что надо примирить классическую физику с квантовой механикой. Но Гейзенберг полон хладнокровной решимости опубликовать свое открытие, даже если это приведет к разрыву с Бором.
Наблюдателю квантовых масштабов, объясняет Гейзенберг юному Вайцзеккеру, принципиально невозможно точно измерить местонахождение частицы и одновременно ее скорость. Чем упорнее этот наблюдатель сосредоточится на локализации электрона, тем менее будет поддаваться измерению его скорость. Для обратного процесса справедливо то же самое. Эта принципиально возникающая неточность при измерениях двух величин — таких, как местоположение и скорость электрона, — никак не связана с неумением физиков или с несовершенством измерительных приборов. Эта неопределенность есть установленная природой граница, которую наблюдатель атомарных событий преодолеть не может.
Чтобы вообще измерить местоположение и скорость частицы, надо направить на нее луч света. Световая энергия вступает в неизбежное взаимодействие с частицей и отталкивает ее, так сказать, в сторонку. Значит, свет хоть и находит точное местонахождение электрона, но вместе с тем изменяет его скорость, которую в это мгновение уже нельзя измерить точно.
Если же изначально отказаться от
Гейзенберг с напряжением ждет, как сообщество физиков откликнется на публикацию его нового принципа. Он только что отослал свою работу в
И без того одаренный четырнадцатилетний подросток, должно быть, чувствовал себя при прощании со своим ментором еще и одаренным щедрыми дарами. В те дни «от Гейзенберга исходило невероятное сияние только что совершённого великого открытия». Вайцзеккер, должно быть, чуть не лопался от гордости, что знает теперь то, о чем не догадывается даже сам Эйнштейн. Он представляет себе, что было бы, если б он встретил сейчас на улице величайшего физика мира. Кстати, он ведь и живет где-то тут, неподалеку: «...хоть я и робкий вообще-то, но с меня бы сталось заговорить с ним и спросить: а что вы думаете, собственно, о соотношении неопределенностей и о Вернере Гейзенберге?».
Вот бы огорошил его физик-теоретик своей новостью, что он теперь подался в практики и конструирует холодильники, избавленные от механических быстроизнашивающихся деталей. В это время увлеченный техникой Эйнштейн действительно бьется над методом, который позволил бы обойтись без ядовитых охладителей — аммиака, метилхлорида и двуокиси серы. Недавно целая семья в Берлине задохнулась во сне оттого, что из дефектного охлаждающего насоса выходил газ. Бывший «батрак патентования» из Швейцарского бюро интеллектуальной собственности в Берне теперь сам подает заявки на патенты — как внутри страны, так и за ее пределами — на свои инновационные холодильники. В этой работе Эйнштейн явно находит желанное отдохновение от нервного участия в создании новой атомной теории. Над набросками которой синхронно работают в Мюнхене, Гёттингене, Берлине, Цюрихе и Копенгагене. Правда, прежний вклад Эйнштейна в теорию внимательно изучается, но копенгагенская трактовка квантовой механики набирает в международном сообществе физиков все больший вес — такой поворот дела не мог понравиться новоиспеченному холодильному технику. Он пишет Максу Борну фразу, которая стала впоследствии крылатой: «Квантовая механика очень даже внушает уважение. Но внутренний голос подсказывает мне, что это Федот, да не тот. Теория дает нам много, но вряд ли приближает к тайне Старика. Я, по крайней мере, убежден, что Старик не играет в кости». Гейзенберг же считает, что ему лучше знать, чем Эйнштейну. Он застукал Бога с поличным на игре в кости и теперь всюду разносит эту неслыханную весть.
Компаньон Эйнштейна по легкомысленным выходкам — родившийся в 1898 году в Будапеште физик Лео Силард. В 1920 году он пошел учиться на инженера в Берлине, но был не очень доволен своим выбором. Его тянет к великим мужам физики — к Планку, Эйнштейну, фон Лауэ, Нернсту и Франку. Силард появляется в знаменитом Физическом коллоквиуме, вольнослушателем посещает семинары и доклады. Поначалу он только вслушивается, вдумывается и держит нос по ветру. Однако о том, что Силард уже вот-вот ввяжется в схватку, первым догадывается Макс Планк, когда тот предстает перед ним осенью 1920 года с просьбой записаться к нему на курс. Естественно, со словами о том, как он взволнован и как его стимулирует великолепная интеллектуальная атмосфера берлинского сообщества физиков. Но, предупреждает он Планка, в процессе обучения его будут интересовать только физические факты: «Теории я уж потом сам как-нибудь разработаю». Этот нахальный новичок из Будапешта и впредь доставит Планку и Франку немало поводов позабавиться.
Но тот не ограничивается хвастливыми высказываниями. Всего лишь год спустя он защищает докторскую диссертацию у нобелевского лауреата Макса фон Лауэ с гениальным ответом на трудную, пятнадцать лет не находившую решения проблему в области термодинамики — эта работа заставляет навострить уши даже архитектора теории относительности.
Следующая цель Силарда — получение второго докторского титула, желательно в экономических науках. Осерчавший ректор университета, однако, не знает такого прусского закона, который разрешал бы присуждение второй докторской степени одному и тому же лицу. Он искренне не понимает, почему учреждение должно дважды подтверждать Силарду в принципе одно и то же, а именно, что тот в состоянии самостоятельно овладевать всяческими знаниями, выносить независимые суждения и обладает достаточной зрелостью, чтобы быть ученым и деятелем в области науки.
И вот Силард пишет в августе 1922 года следующую статью на тему термодинамики. При этом он размышляет об обмене энергии в нервной системе человека. Чтобы в мозгу могла обрабатываться информация, расходуется энергия, при этом возрастает «энтропия», или беспорядок, в форме теплоты. Правда, информация может образовать упорядоченную структуру — например, след памяти в нервных клетках, — однако разупорядочение, возникающее в мозгу при обмене энергии, всегда больше, чем достигнутый порядок. Силард — первый физик, применивший Второе начало термодинамики к обмену информации в нервной системе разумных существ. Тем самым он поднимает его из сферы шумных паровых машин — таких, как локомотивы, паровые молоты и водяные насосы, — и возвращает туда, где оно было найдено: в человеческий мозг. Четыре года спустя Планк и фон Лауэ принимают работу Силарда в качестве диссертации для получения доцентуры.
А Силард и действительно видит смысл своего существования в бурном обмене идеями. Этот неутомимый интеллект постоянно в пути и в поиске новых собеседников. Даже в одной и той же квартире он долго не выдерживает. За двенадцать лет жизни в Берлине он двенадцать раз переезжает. Свои прописки и выписки он наклеивает на внутреннюю сторону крышки чемодана. Одна старая подруга из Будапешта с испугом удивляется тому, как безупречно он приспособил свои беглые маршруты между кафе, мастерскими художников, галереями и институтами к нервному пульсу немецкой метрополии. К кругу его друзей принадлежат художник Эмиль Нольде, писатель Артур Кёстлер, тоже родом из Венгрии, и философ Манес Шпербер.
В институтах и лабораториях он, судя по всему, прижился и всем полюбился со своей почти детской чистосердечностью и со своей пресловутой жизненной ролью. Так Силард регулярно разгуливает по Институту химии волокон кайзера Вильгельма, чтобы поболтать с исследователями, осведомиться о последних разработках, а потом экспромтом предложить какой-нибудь эксперимент и раздавать налево и направо дельные советы. Иной руководитель института мог втайне и обидеться, когда Силард откровенно заявлял ему, что тот своим методом напрасно разбазаривает время и деньги и что лучше бы он делал так, как Силард советовал ему в свой последний приход. Другие недоверчивы к нему, подозревают Силарда в промышленном шпионаже или находят его предложения дерзкими и заносчивыми. Тем не менее этот остроумный и докучливый человек — желанный гость в берлинских исследовательских учреждениях, и вскоре его там приветствуют словами: «А вот и господин генеральный директор!» — что всякий раз доставляет Силарду громадное удовольствие.
Совершенно особая дружба устанавливается в конце концов между ним и Альбертом Эйнштейном. Отношения начинаются в конце 1920 года в Физическом коллоквиуме фон Лауэ, в дискуссиях которого принимает участие и Эйнштейн. Гению коммуникации Силарду с его здоровой самоуверенностью и юношеским избытком энергии ничего не стоит регулярно вовлекать в личные беседы вдвое старшего, преуспевающего физика. Вскоре он становится желанным гостем в квартире Эйнштейна на Хаберландштрассе, где жена Эльза сервирует чай с печеньем. Блестящая диссертация Силарда завоевывает уважение Эйнштейна и содействует укреплению дружбы. Эйнштейну нравится предаваться веселому интеллекту молодого коллеги. Тем более что оба обладают сходным чувством юмора.
В качестве приват-доцента университета Фридриха Вильгельма на Унтер-ден-Линден Лео Силард ведет семинары о «новых представлениях в теоретической физике» и по-прежнему регулярно встречается с Эйнштейном, чтобы «поразмышлять». Весной 1927 года они совместно разработали электромагнитный насос для холодильников. Отрасль электротехники в эти годы относится к ведущим направлениям экономики в крупнейшем промышленном городе Европы. Передовые мировые концерны — такие, как «АЭГ» и «Сименс», — имеют свои центральные резиденции в Берлине и тесно связаны с институтами, учрежденными Обществом кайзера Вильгельма. Поэтому для руководства «АЭГ» не остается тайной, что Эйнштейн и его менее знаменитый коллега по-дилетантски увлечены электротехникой. Почуяв выгоду в сделке с мировой звездой, ремесленнику-самоучке делают предложение.
Эйнштейн не хочет давать свое имя холодильнику. А вот Лео Силард с радостью подписывает с «АЭГ» договор о научном консультировании, чтобы заработать небольшую прибавку к скромным доходам от лекционных гонораров. Вообще, как ему кажется, он больше выгадал от совместной работы со знаменитым коллегой. Ведь Эйнштейн щедро уступает ему львиную долю поступлений от совместных патентов. Правда, на испытательном стенде «АЭГ» насос, разработанный двумя мастеровитыми самоучками, производит такой адский шум, что «домашнему холодильному агрегату Эйнштейна—Силарда» так и не суждено выйти за ворота мастерской. Силард рассказывает, что невыносимый вой агрегата напоминал ему истории о завываниях шотландских привидений. Кто заслышит крик этих мифических
В это же самое время, весной 1927 года, у Макса Борна в Гёттингене защищает диссертацию молодой, многообещающий американец. Изучая химию в Гарварде, он обнаружил в себе любовь к физике и подал заявление на участие в продвинутых семинарах по физике, не пройдя в этой дисциплине даже основного курса. Чтобы продемонстрировать свое знание предмета, он представил список из пятнадцати книг, которые он якобы проштудировал. Предание сохранило реакцию профессора: «Если он [Оппенгеймер] говорит, что прочитал все эти книги, то он врет, но ему можно присуждать степень доктора за одно то, что он знает названия этих книг».
После трех лет Гарварда в Кембридже, Массачусетс, закончив курс с отметкой
Оппенгеймер почитает своего кембриджского наставника по физике, впоследствии лауреата Нобелевской премии Патрика Блеккета, и усердно старается ему понравиться. Блеккет отличный экспериментатор, да и выглядит ослепительно — такому человеку, кажется, удается все. Но, как нарочно, именно он взваливает на Оппенгеймера дополнительные часы ненавистной лабораторной работы, доводя его до белого каления. Осенью 1925 года он кладет на письменный стол Блеккета — если верить преданию — яблоко, отравленное лабораторными химикалиями. Его наставник обнаруживает
«Отравленное яблоко» можно трактовать и как метафору дефектного, умышленно недоброкачественного или незаконченного лабораторного отчета Оппенгеймера, которым он хлопнул своему наставнику по столу от гнева за нелюбимую практическую работу — порченый «подарок», который должен был застрять у того в горле. Его друг Фрэнсис Фергюссон ничего не хочет знать ни о каких метафорах и убежден, что Оппенгеймер действительно обработал яблоко ядом.
Оппенгеймеру остается только примириться с тем, что физик-экспериментатор из него никудышный. Высокие запросы к самому себе придется поубавить, чтобы не быть несчастным. С тем большей страстью он пускается теперь в новую гёттингенскую квантовую механику. Оппенгеймера притягивает настроение прорыва, преобладающее в среде квантовых физиков. Здесь отношения между профессорами и студентами непринужденнее, чем в других отраслях науки. Любой из молодых одаренных новичков может стремительно сделать себе имя и проснуться однажды утром знаменитым. Вольфганг Паули называет квантовую механику «физикой мальчишек», потому что основной вклад в нее внесли студенты не старше двадцати четырех лет.
А потом Оппенгеймер знакомится в Кембридже с Нильсом Бором, который вовлекает его в разговор о физике и философии. Эта встреча укрепляет его в желании работать в теоретической физике. За несколько месяцев двадцатидвухлетний Оппенгеймер публикует две работы на темы квантовой механики. Когда Макс Борн весной 1926 года посещает Кембридж, Оппенгеймер уже окончательно избавился от зимней депрессии. Руководитель Института теоретической физики в Гёттингене очарован многогранной личностью молодого американца и его подходом к теоретическим вопросам, над которыми Борн сейчас как раз работает. Он приглашает Оппенгеймера в Гёттинген и предлагает ему защищаться у него. Время сомнений в себе и обиды на томсоновскую лабораторию наконец осталось позади.
Господская вилла из гранита, окруженная парком, находится неподалеку от обсерватории, в которой Карл Фридрих Гаусс продолжал дело Кеплера: местожительство Оппенгеймера в Гёттингене на целые миры отдалено от его убогой конуры в Кембридже. Владелец имения врач, потерявший во времена инфляции свое состояние и лишившийся государственной медицинской лицензии. Теперь он сдает комнаты состоятельным студентам, которые живут там на правах членов семьи. Идеальные условия для Роберта Оппенгеймера, чтобы углубить познания в немецком языке в ежедневных беседах. Его удивляет ожесточение, неприкрытый страх перед завтрашним днем и недовольство людей политикой Веймарской республики. Последствия проигранной войны так и не преодолены даже через восемь лет после капитуляции. Хоть весь мир и твердит о «золотых двадцатых», наступивших после 1924 года, по-настоящему благоприятны они лишь для тончайшей прослойки богачей, биржевиков, спекулирующих на кризисе, и художников.
В конце лета 1926 года Роберт Оппенгеймер занимает у Борна место, на котором до него были Вернер Гейзенберг и Паскуаль Йордан. Именно эти трое физиков в прошлом году в этом самом институте и приняли из купели квантовую механику. Оппенгеймер попал в самый центр теоретической физики. Весной 1927 года он знакомится и с Вернером Гейзенбергом, который останавливается в Гёттингене по дороге в Копенгаген. Гейзенберг производит на Оппенгеймера сильное впечатление, походя подсказав ему, как при помощи новой теории атома можно было бы объяснить структуру молекул.
Роберт Оппенгеймер уже владеет латынью, греческим, французским, испанским и немецким. Теперь он изучает итальянский, чтобы читать Данте в подлиннике, причем все это не в ущерб его работе в институте. Его постоянно подстегивает честолюбие, он должен блистать во всех областях. Этот докторант Борна не ограничивает свои разговоры в кафе и за кружкой пива скоростями электронов, ядерными колебаниями и аномалиями спектральных линий. Он чувствует себя в хорошей форме лишь тогда, когда во время размашистых прогулок по центру Гёттингена может прочитать своим запыхавшимся спутникам лекцию о кругах ада, ярусах греха и наказаниях за содомию из дантевской «Божественной комедии». Или цитирует ошеломленным немцам по памяти целые строфы из Гёльдерлина — со своим американским акцентом. Или с особой психологической жестокостью шокирует слушателей мрачными намеками на взгляды Марселя Пруста. Или изображает архетипическую коллизию между матерью и сыном как неотвратимую дилемму человеческой души. Его ровесник, немецкий физик Вальтер Гейтлер сам видел, как Оппенгеймер, сидевший в кафе со знакомыми супружескими парами, внезапно полез под стол и принялся там лаять.
Любовь к дискуссиям у этого отъявленного сноба иной раз принимает неприличные размеры. Из чувства собственного превосходства он взял себе в привычку необоснованно резко критиковать своих сокурсников на семинарах и лекциях Борна. Стоит кому-то сделать у доски ошибку, он без спросу встает, берет кусок мела и поправляет отвечающего. Даже если никакой ошибки нет, этот мучитель Оппенгеймер наверняка знает лучший метод решения. В конце концов студенты написали письменный протест и пригрозили бойкотом мероприятий, если этот «вундеркинд» не уймется. У Борна не хватает решимости открыто приструнить любимого ученика. И тогда он приглашает его к себе в кабинет для разговора о диссертации, оставляет петицию студентов на видном месте и под каким-то предлогом выходит из комнаты. Вернувшись, он находит бледного, молчаливого Оппенгеймера, который отныне больше никогда не выступает в роли ментора.
Насколько красноречивым и многословным бывает Оппенгеймер, если речь заходит о литературе, философии или о его частной коллекции картин, настолько же лаконично и компактно он пишет свои работы по специальности. К концу его девятимесячного пребывания в Гёттингене у него опубликовано семь статей. Для их общей с Борном статьи Оппенгеймер отсылает пять страниц, что на вкус соавтора все же маловато. В статье речь идет о применении квантовой механики на молекулярном уровне — тема, вдохновленная подсказкой Гейзенберга. Макс Борн, обозначенный как первый автор, дополняет трактат, впоследствии ставший известным как «Приближение Борна — Оппенгеймера», собственными замечаниями и теоремой так, что из него получается тридцать страниц. Оппенгеймер втайне считает это декоративными излишествами и разжижением его, оппенгеймерского, концентрата. На разработку диссертации о фотоэлектрическом эффекте в водороде и в рентгеновских лучах у него уходит ровно три недели. На одиннадцатое мая 1927 года назначен экзамен на степень доктора, который он выдерживает с высшей оценкой. Один из экзаменаторов — свежеиспеченный лауреат Нобелевской премии Джеймс Франк, сухо замечает: «Хорошо, что я вовремя вышел. А то он уже начал экзаменовать
В конце 1927 года Вернер Гейзенберг обустраивает себе скромную служебную квартиру в Институте теоретической физики Лейпцигского университета. Адрес — Линнештрассе 5, «на полдороге между кладбищем и психушкой». Наконец-то он принял профессуру, после того как его пытались заманить к себе Колумбийский университет в Нью-Йорке и Государственная высшая техническая школа в Цюрихе. Однако возможность работать в Германии была для него приоритетной. Первым же его «служебным актом» стал сквозняк: он распахивает настежь все двери и окна затхлых помещений института, покупает постельное белье и распоряжается основательно отремонтировать свое будущее жилище. Для полного счастья ему недостает фортепьяно и стола для настольного тенниса, но то и другое можно организовать.
Позади у него остался очень бурный год. На двух важных физических конгрессах — в итальянском Комо и в Брюсселе — верх одержала копенгагенская трактовка квантовой механики. Она зиждется на соотношении неопределённостей Гейзенберга и на принципе дополнительности Бора. Бор утверждает, что при всяком атомарном эксперименте следует рассматривать электрон одновременно и как частицу, и как волновую функцию. В процессе измерения экспериментатор сам делает выбор либо в пользу волны, либо в пользу частицы. При этом, по его мнению, «необходимое решение экспериментатора в пользу одного или другого представления вызывает нарушение, которое и приводит затем к неопределённостям». И они устанавливаются между двумя парами измеренных величин: местоположение—скорость и энергия—время. Ненаблюдаемый сам по себе электрон остается по этому принципу неопределенным.
Но тревожные последствия этой неопределенности механических величин в атомарном мире простираются глубже. Ведь ею серьезно поколеблен священный принцип причинно-следственной связи, который считается необходимым условием научного подхода. Тем самым «закон причинности становится некоторым образом недействительным», — делает вывод Гейзенберг. Если до сих пор можно было, зная настоящее, вычислить будущее — например, рассчитать следующее солнечное затмение, зная траектории движения Земли и Луны вокруг Солнца, — то теперь закон причинности разбивается о границу точности в квантовой механике. Ибо, если недостаточно точно знаешь начальные условия, то и будущие процессы атомарной системы уже непредсказуемы.
Наблюдающий физик неотвратимо вмешивается в атомарные события и изменяет их своими измерениями. Это революционное представление об активной роли наблюдателя и принципиальной невозможности безупречного измерения ставит с ног на голову прежнюю философию физики. С этим соглашаются, конечно, далеко не все исследователи. Противники копенгагенской школы настаивают на физике, которая может предсказать результат эксперимента — независимо от ученого, проводящего эксперимент. Оттого на шестидневном Сольвеевском конгрессе в Брюсселе в октябре 1927 года дело и выливается в дискуссионный марафон между копенгагенцами и Альбертом Эйнштейном. По коридорам отеля, в котором поселились участники конгресса, курсируют разные версии эйнштейновской мантры «Бог не играет в кости». Он просто не хочет признать, что на уровне атома можно исследовать лишь возможности и вероятности. Уже за завтраком он преподносит Бору и Гейзенбергу мысленный эксперимент, который однозначно должен довести соотношение неопределённостей до абсурда. В течение дня его доводы анализируются, и уже во время совместного ужина Бор может опровергнуть аргументы Эйнштейна. Гейзенберг вспоминает: «Тогда Эйнштейн становился несколько обеспокоенным, однако уже к следующему утру у него был готов новый мысленный эксперимент, сложнее предыдущего, и уж этот точно должен был опровергнуть соотношение неопределённостей. С этой попыткой, конечно, вечером было то же, что и с предыдущей».
Профессор Вернер Гейзенберг в Институте физики Лейпцигского университета пользуется между тем мировой славой. Его принцип неопределенности одержал верх в физическом сообществе как копенгагенская трактовка квантовой механики, тогда как запутанный принцип дополнительности Бора большинство коллег предпочло бы оставить для философских семинаров. На курс Гейзенберга и на его лекции стремятся попасть многие студенты. Как шахматист он в своем институте непобедим. Кроме того, он стремится стать превосходным игроком в настольный теннис. А пока что проигрывает то один, то другой матч, и это, конечно, не дает ему покоя. Ведь и на зеленом столе он должен быть лучшим. В марте 1929 года он отправляется в мировое турне на восемь месяцев, чтобы читать доклады в США, Японии и Индии. Из-за этого ему впервые приходится отказаться от совместного отпуска с его «бойскаутами» в Баварских Альпах. Несмотря на сжатую программу докладов, которая ведет его из Чикаго в Калифорнию и обратно, он находит время, чтобы плавать, ходить под парусом и играть в настольный теннис. Вершиной его спортивных достижений становится альпинистская вылазка в Скалистых горах, о которой он еще долго с восторгом вспоминал.
В середине августа он встречается с Полем Дираком в Сан-Франциско, чтобы вместе с ним сесть на корабль до Иокогамы. Английский физик слывет неразговорчивым и замкнутым даже с коллегами. Тот, кто не разбирается в физике, вообще не имеет шансов с ним познакомиться. Лишь с детьми до десяти лет он легко находит общий язык. В зимний семестр 1926—1927 годов он живет в Гёттингене, на той же самой вилле, что и Оппенгеймер. Чье увлечение Достоевским и Данте ему совсем не по душе. А когда он видит, что Оппенгеймер и сам пишет по-настоящему изысканные стихи, это выводит его из себя. Он не понимает, как можно изучать физику и вместе с тем скользить по тонкому льду поэзии, и брюзжит на Оппенгеймера: «В физике мы стараемся донести до людей неведомое так, чтобы им стало понятно. В поэзии же все как раз наоборот». Когда Оппенгеймер позднее рекомендует своему соседу по вилле несколько книг для прочтения, тот отклоняет их вежливо, но со всей определенностью. Чтение книг, по его словам, разжижает мозги.
В Японии Гейзенберг и Дирак должны вместе ввести новую поросль физиков в курс современного состояния квантовой механики. По пути в Иокогаму через океан, как вспоминает впоследствии Дирак, его спутник, будучи фанатом подвижности, постоянно сдвигал столы к стенкам каюты, чтобы тренироваться в настольный теннис, а вечерами еще предавался танцам на палубе — времяпрепровождение, которое закоренелый затворник и чудак Дирак не мог понять и потому спросил коллегу о его мотивах. «Танцы доставляют огромное удовольствие, если девушки хороши», — отвечает Гейзенберг. После короткого молчания Дирак спрашивает: «Как вы можете знать заранее, что они хороши?». Когда в Японии они проходят однажды мимо впечатляющей пагоды, Поль Дирак становится свидетелем акробатических способностей Гейзенберга. Ему пришлось, замерев, наблюдать, как альпинист, «не проронив ни слова, осторожно взбирался к верхушке пагоды и в триумфальном пренебрежении опасностью разбиться насмерть балансировал на одной ноге на самом острие здания при сильном, порывистом ветре». По возвращении в Лейпциг Гейзенберг уже непобедим и в настольном теннисе.
Тогда как в 1920-е годы одно путеводное открытие квантовой механики следует за другим, а мнимый антагонизм волны и частицы переплавляется под руководством Бора в единство, требующее всего лишь привычки, в лабораториях ядерных физиков-экспериментаторов царит гнетущий застой. Эрнест Резерфорд, первооткрыватель атомного ядра и со времени этого светоносного деяния неутомимый исследователь атомарной пустоты, летом 1920 года вводит в игру новое умозрительное рассуждение о строении атома. За несколько месяцев до того ему удалось первое в истории науки превращение элементов. Целенаправленной атакой на атомное ядро он превратил азот в кислород и при этом открыл протон как универсальный кирпичик ядра. Теперь он уже не склонен рассматривать электрически положительно заряженный протон и отрицательно заряженный электрон, которые взаимно притягиваются, как единственные кирпичики, а предполагает существование третьей частицы, не имеющей электрического заряда и потому способной двигаться сквозь материю более свободно.
С его помощью Резерфорд хочет объяснить очевидные расхождения между числом массивных протонов в атомном ядре и реальным весом атома. Так, например, у железа 26 протонов, а атомный вес 55. Чем можно объяснить 29 недостающих единиц массы? Самый тяжелый элемент уран содержит 92 протона при атомном весе 235. И такая ошибка по массе есть у каждого из известных элементов. За разницу в 29 у железа и 143 у урана теперь можно сделать ответственными эти гипотетические частицы, предлагает Резерфорд. При условии, что их масса сопоставима с массой протона. Из-за электрической нейтральности этой сомнительной частицы 29 дополнительных таких частиц в ядре атома железа не нарушают электрическую стабильность между 26 положительно заряженными протонами и 26 отрицательно заряженными электронами, но удовлетворительно объясняют атомный вес 55.
Резерфорд пустил по следу нейтральной частицы своего заместителя по руководству лабораторией Джеймса Чедвика, попытки которого изловить эту беглую штучку в Кавендишской лаборатории Кембриджа до сих пор, правда, оставались безуспешными. Но основные свои старания директор и его заместитель вкладывают — воодушевленные успехом превращения азота в кислород — в попытки превратить и другие элементы путем обстрела альфа-частицами. Они верят, что уже близки к прорыву с бериллием, редким легким металлом. Поэтому зимой 1925 года Чедвик прибегает к помощи ассистента Дж. Дж. Томсона, который занимается исследованиями в том же кампусе. Роберт Оппенгеймер в лаборатории Томсона наносит бериллий тончайшим слоем на клейкую пленку, которая затем снова должна быть тщательно удалена. Для всей лаборатории остается тайной, почему гостю из США, обычно тяготящемуся экспериментальной работой, не докучает эта исключительно кропотливая возня с пленкой. Сила Оппенгеймера явно в теории. Но Чедвику в его экспериментах нужен препарат бериллия. И приходится Оппенгеймеру поставлять правой руке Резерфорда эти специальные тончайшие слои.
О застенчивости Чедвика ходят легенды. Вообще-то он хотел изучать математику в Манчестерском университете. Но на собеседование при поступлении он попадает по какой-то бюрократической ошибке не к тому доценту. Увидев, что тот спрашивает его по физике, Чедвик не осмеливается прервать его, исправно отвечает на вопросы и в конце концов безропотно подписывает бумагу о зачислении на курс физики. Так тихий студент-физик поневоле знакомится с полтергейстом по имени Эрнест Резерфорд. После экзамена он отправляется в Берлин к Гансу Гейгеру в физическое имперское учреждение и, по своему обыкновению, ни словом не перечит, когда тот представляет ему Лизу Мейтнер, Отто Гана и Альберта Эйнштейна. Когда начинается мировая война, он не успевает своевременно вернуться в Англию. Вместе с четырьмя тысячами земляков, которым не повезло, будучи гражданами Британии, оказаться не в том месте не в то время, он на всю войну попадает в лагерь для интернированных в Рулебене, предместье Берлина. Лишенные всякой личной жизни «гражданские военнопленные» размещены в переполненных конюшнях на краю ипподрома. Более ста преподавателей — художники, философы, физики, математики и литераторы — сообща создают Лагерный университет и преподают своим сокамерникам — в том числе и под открытым небом. Они ставят спектакли по пьесам Шекспира, читают немецких классиков и дискутируют под профессиональным руководством о Шопенгауэре и Ницше. Горстка высококлассных игроков в гольф пытается сохранить форму, воспользовавшись овальным полем в центре ипподрома, и посвящает желающих в тайны спорта. Джеймс Чедвик тоже регулярно проводит в одной из конюшен курс по электромагнетизму и радиоактивности. Аппаратуру и материалы для него организует Лиза Мейтнер. Поскольку в аптеках Германии продается радиоактивная зубная паста, он уговаривает лагерных охранников купить ее для его экспериментов. Отощавший, с разрушенным здоровьем, он возвращается в 1918 году в Манчестер, и Резерфорд с радостью снова принимает его к себе.
В Парижском институте радия Марии Кюри постоянно скапливаются в больших количествах пустые ампулы. Они были наполнены радоном, который все еще используется для лечения рака. Из-за короткого периода полураспада радона ампулы уже через несколько дней после наполнения не годятся для лечебного применения. Но вот оставшийся в ампулах продукт распада радона — полоний-210 — желанный источник излучения для ядерных исследований. Поскольку гамма-излучение у полония в 100 000 раз меньше, чем у радия, этот чрезвычайно редкий элемент превосходно подходит в качестве источника альфа-лучей для обстрела тех материалов, у которых необходимо исследовать гамма-излучение. Это позволяет провести измерение источника и мишени чисто. Врачи со всего мира посылают Марии Кюри свои ампулы, содержащие полоний, в качестве некоей дани ученой, открывшей полоний. Поэтому Ирен Жолио-Кюри, пошедшая по стопам матери, располагает к началу 1930-х годов самым большим в мире количеством полония.
Мария Кюри и в шестьдесят три года работает в лаборатории по двенадцать—четырнадцать часов в день. Дважды лауреатка Нобелевской премии жалуется на постоянную усталость, борется с катарактой на обоих глазах, и ее постоянно мучает звон в ушах. Облученные руки болят одинаково — что в сухом, что в гнойном состоянии. Она регулярно засиживается за полночь на полу, обложившись книгами, журналами и расстелив диаграммы. За столом ей со всем этим тесно. На коленях у нее лежит блокнот, и когда она делает расчеты, то числительные бормочет по-польски.
В 1931 году супруги Жолио повторяют эксперимент немецких физиков Вальтера Боте и Герберта Беккера. Те год назад обстреливали некоторые легкие элементы — такие, как магний и бериллий, — альфа-лучами из полониевого источника, чтобы изучить гамма-излучение этих элементов. И пришли к странному результату, что излучение, вызванное в ядрах бериллия, оказалось существенно сильнее, чем у полониевого источника. Боте и Беккер истолковали этот неожиданный феномен как гамма-излучение, однако некоторое сомнение в этом оставалось. Теперь супруги Жолио намереваются разрешить эту загадку. Из своих полониевых сокровищ они изготовили к этому времени самую сильную в мире альфа-лучевую пушку. Французы подтверждают открытие немцев, но еще немного расширяют экспериментальную установку Боте и Беккера. Позади полониевого орудия и бериллиевой мишени они размещают и другие материалы — например, парафин. Так они обнаруживают, что таинственное «излучение бериллия» выбивает из парафина протоны, которые отлетают с огромной необъяснимой скоростью. Однако нового толкования эксперимента из Парижа так и не поступает. Жолио удивляются этому курьезу, но так и остаются перед ним в растерянности. Поэтому они присоединяются к мнению Боте и Беккера и приписывают гамма-излучению из ядер бериллия всю ответственность за выброс протонов из парафина.
Когда Джеймс Чедвик в январе 1932 года читает статью французов, он предугадывает решение этой загадки. Гамма-лучи, правда, могут выбивать из орбит легкие электроны, но протоны оказывают гораздо большее сопротивление, поскольку они почти в 2000 раз тяжелее. Если наблюдение Жолио верно, то картина похожа на то, как если бы метнуть бильярдный шар в гранитный валун и ждать, что валун отлетит по воздуху на двадцать метров. Чедвик знает: лишь одна частица, по массе близкая протону, в состоянии выбить из парафина протон и отбросить его. Тут действительно могла вступить в игру электрически нейтральная частица, которую Эрнест Резерфорд предсказал почти двенадцать лет назад и масса которой сопоставима с массой протона. Супругам Жолио, как видно, неизвестно, что теза Резерфорда как влитая могла бы встать в пробел интерпретации. И вот Чедвик врывается — с журналом
Итак, обстоятельства складываются в пользу того, чтобы наконец доказать существование нейтральной частицы. В Кавендишскую лабораторию как раз поступила большая партия использованных радоновых ампул из американского университета Джона Хопкинса. И после того как Чедвику удалось не вполне безопасное выделение полония, он может сам исследовать это пресловутое «излучение бериллия», уже имея в голове убедительную гипотезу, припасенную до поры до времени. Альфа-частицы из его полониевого источника вызывают в бериллии, как и ожидалось, сильное излучение. Чедвик тестирует, однако, не только их действие на парафин, но выставляет позади препарата бериллия еще добрую дюжину других элементов — таких, как углерод, азот и кислород. Даже свинцовый слой толщиной в два сантиметра не представляет собой препятствия для лучей. Выясняется, что независимо от структуры материала из элемента выбивается одно и то же число протонов. Эти столкновения настолько энергичны, что гамма-лучи никак не могут рассматриваться в качестве их причины. Чедвик убежден: то, что коллеги трактовали как таинственное излучение бериллия, на самом деле является потоком частиц. Эти выбитые из бериллия частицы сталкиваются с протонами стоящих позади него мишеней. Из измеренных характеристик этих столкновений Чедвик вычисляет массу неизвестной частицы. Она почти идентична массе протона.
Чедвик может подтвердить и второе предсказание Резерфорда. Новооткрытые частицы без труда проникают сквозь различные материалы. Они не отклоняются электрическими зарядами атомного ядра и электронов. А это означает: они, должно быть, электрически нейтральны. Так Джеймс Чедвик в феврале 1932 года, после десяти лет тщетных поисков, осуществил стремительный финишный рывок и открыл мифическую нейтральную частицу. Он называет ее «нейтрон». В полном изнеможении и уже слегка подвыпивший, он оповещает взволнованно сбежавшихся сотрудников Кавендишской лаборатории о своем значительном открытии. Английский физик и писатель Ч. П. Сноу был свидетелем этой речи. В конце Чедвик якобы сказал: «А сейчас бы мне уснуть под хлороформом и недели две не просыпаться». Однако желание отдохнуть так и осталось несбыточным, поскольку открытие Чедвика — сенсация, великий прорыв, который бурно обсуждается по всему миру. Физики-экспериментаторы надеются, что этот новый проницающий материю снаряд поможет им глубже проникнуть в ядро, поскольку электрические барьеры в атоме бессильны перед ним и не могут его остановить. Как знать, что там еще скрывается в ядре.
На Пасху 1932 года в копенгагенском институте Нильса Бора собирается на весеннюю конференцию избранное общество. Немецкие гости находятся под впечатлением столетия со дня смерти Гёте. По этому поводу пара расшалившихся любителей сцены разыгрывает в качестве пародии несколько пассажей из «Фауста». Вряд ли еще какая профессиональная группа лучше физиков-атомщиков подошла бы для интерпретации девиза Фауста: «Узнать бы мне, что скрепляет мир изнутри» [2]. Физики Макс Дельбрюк и Феликс Блох переиначивают классический текст. Среди участников также венгр Эдвард Теллер, который в 1930 году защищался у Гейзенберга, и девятнадцатилетний Карл Фридрих фон Вайцзеккер, который еще юным «астрономиком» наловчился вгонять слова в рифму.
Конферансье объявляет «квантово-теоретическую Вальпургиеву ночь», для которой первым делом необходимо ввести новый временной параметр, чтобы отграничить ее от классической Вальпургиевой ночи. Но тогда Фаусту приходит в голову, что одно лишь наблюдающее вмешательство публики элегантно устранит классическую версию шабаша ведьм, так что можно сразу начинать с квантово-теоретического варианта. Обыгрываются в пьесе и персональные разногласия, и выдохшиеся гипотезы. Так, новая теория поля Эйнштейна в качестве блохи третьего поколения вливается посредством какао в ухо великого ученого. Добродушно вышучиваются слабости характера коллег и эксцентричные формы поведения, к действующим лицам кокетливо подкрадывается «противоположный знак», и гетевские «Четыре Серых Бабы» из пятого акта зовутся в Копенгагене так: «Эталонный вариант», «Константа тонкой структуры», «Негативная энергия» и «Единичный случай». Такой спрессованной вещественной женственности физики страшатся больше всего. И под занавес «мистический хор» славит Джеймса Чедвика и его нейтрон:
Все, что заряжено,
Это не вопрос!
Всюду срывалось,
А здесь — удалось
Феноменальное,
Сделано сейчас!
Вечно-нейтральное
Притягивает нас!
Калифорнийский университет в Беркли на придирчивый взгляд Роберта Оппенгеймера «научная пустыня» — в противоположность зеленой университетской территории, живописно разбросанной среди холмов напротив бухты Сан-Франциско. Услышав слова «квантовая механика», там лишь плечами пожимают. Предыдущий год Оппенгеймер провел у Вольфганга Паули в Цюрихе и теперь здесь, на тихоокеанском побережье, хочет основать американскую школу квантовой механики, которая со временем сможет потягаться с Гёттингеном, Берлином, Кембриджем и Копенгагеном. Убийственный сарказм Паули и его иногда дьявольская критика по отношению к коллегам явно задели какую-то струну в Оппенгеймере. Как будто давно искали и в Швейцарии нашли друг друга два несравненных насмешника и глумителя. Паули такой теоретик, славит Оппенгеймер своего ментора, что как только он входит в лабораторию, аппаратура выходит из строя и все эксперименты срываются. Но и ту оценку, которую Паули дает своему бывшему докторанту, тоже следует считать похвалой: идеи американца всегда были оригинальны; только ему не хватало терпения и основательности, чтобы их развить. Кроме того, мол, складывалось впечатление, что физика для Оппенгеймера — побочное занятие, а вот психоанализ, напротив, есть его истинное призвание. Из того, что Дж. Дж. Томсон, Макс Борн и Вольфанг Паули всегда порицали в методе работы Оппенгеймера, в калифорнийском Беркли он вырабатывает свой господствующий стиль. Поначалу студенты не поспевают за скоростью мышления Оппенгеймера, но уже скоро спешат вместе с ним от одной идеи к другой, которые всегда находятся на острие европейской науки. Оппенгеймер не стремится блистать стилистически и писать статьи, проработанные до мельчайших математических деталей. Для него важнее внушить студентам волнующее чувство, что они пребывают в самом пекле дебатов по квантовой теории, заглядывая, так сказать, через плечо прямо в записные книжки авангарда физиков и добиваясь признания дерзкими умными комментариями.
В своем старом «крайслере» Оппенгеймер пускается наперегонки с поездами Тихоокеанской прибрежной железной дороги, пока однажды неподалеку от Лос-Анджелеса не теряет управление машиной и не попадает в аварию, в которой его спутница теряет сознание. Когда слухи об этом доходят до старшего Оппенгеймера, он дарит молодой даме подлинный рисунок Поля Сезанна, а своему сыну — новый автомобиль, который тот называет именем знаменитого еврейского патриарха
Следующий «крайслер», которым отец одаривает его три года спустя, он называет
По прибытии в Беркли в конце лета 1929 года Оппенгеймер поселяется в комнате при факультетском клубе и сводит там дружеское знакомство с физиком-экспериментатором, который живет в том же холле, в комнате напротив. Эрнест Орландо Лоуренс на три года старше Оппенгеймера, родом он из Норвегии и уже сделал себе имя как технарь Божьей милостью. Он думает над машиной, которая могла бы заменить резерфордовский сложный метод бомбардировки атомных ядер. Хотя Ганс Гейгер своим усовершенствованным электрическим счетчиком облегчил физикам утомительный подсчет сцинтилляций, предел эффективности его метода давно достигнут. Ибо чем тяжелее элементы, тем больше электрически заряженных протонов теснится в ядре. А с увеличением заряда резерфордовским альфа-частицам из источников радия и полония уже не удается прорвать электрические барьеры атомного ядра. Альфа-частицы просто отскакивают от него.
Теперь Лоуренс задумал нечто совершенно новое. Он бьется над способом ускорять легкие атомные ядра в сильном электромагнитном поле. Теоретически ядерные частицы должны при этом достигать энергий в миллион электрон-вольт. Таким высокоэнергетичным лучом из частиц, размышляет Лоуренс, можно было бы вообще-то раздробить и ядра тяжелых элементов, которые Резерфорд со своей аппаратурой до сих пор не пробил. Роберт Оппенгеймер становится свидетелем, как его сосед по жилищу и друг Эрнест в конце концов выпускает протоны в вакуумную камеру, многократно переделанную и усовершенствованную, и при помощи электромагнита весом в две тонны разгоняет их по спиралевидной траектории, на которой они должны сделать сто оборотов. При этом с каждым новым кругом они ускоряются до все более высокой скорости, причем и энергия их нарастает. Затем они сжимаются в сфокусированный пучок и направляются на мишень. Эрнест Лоуренс открыл принцип циклотрона.
Лоуренс подсчитал, что интенсивность пучка, полученного в его ускорительной машине, соответствует источнику излучения ровно в пять килограммов радия — такого количества никогда не добыть из всех урановых запасов нашей планеты. А вдруг его ускоритель и впрямь позволит разбомбить любое атомное ядро и тем самым открыть доступ к потенциально неистощимому источнику энергии. И он срочно ищет спонсора, который профинансировал бы электромагнит весом в восемь тонн.
Вот уже и в дебатах по бюджету в рейхстаге в феврале 1931 года всплывает тема атомной энергий. В протокольных записях речь идет об одной заявке на финансирование. Ученые Общества кайзера Вильгельма планировали опыты, как значится в протоколе, «которые затрагивают важнейшую проблему расщепления атома. В будущем, когда иссякнут наши залежи угля, этот вопрос приобретет огромное значение, ибо в атомах таятся могучие энергии». Заявитель и ходатай — не кто иной, как сам президент исследовательского института Макс Планк.
По достоверным сведениям, первым заявку на патент для ускорителя частиц подал в 1928 году в Берлине Лео Силард. Правда, он так и не приложил усилий, чтобы построить машину. И принцип циклотрона он запатентовал в 1929 году, за год до первых набросков Лоуренса. Но пока страстный мыслитель Лео Силард предается своей привычке каждый день с 9 до 12 часов мокнуть в ванне, чтобы в полном расслаблении еще раз обдумать свои вчерашние физические придумки и прислушаться к новым озарениям, трудяга Эрнест Лоуренс копошится в кутерьме опытов и ошибок и действительно строит машину.
Отто Мандль, венский друг Лео Силарда, советует ему почитать роман Г. Дж. Уэллса «Освобожденный мир». Уэллс написал эту картину разрушенного атомными бомбами мира еще в 1914 году и посвятил его химику Фредерику Содди, открывшему как полезный, так и разрушительный потенциал распада урана. Он снабжал Уэллса научными обоснованиями для романа о будущем, в котором тот расписывал последствия, связанные с промышленным доступом к атомной энергии. Англия, Франция и США, объединившись, ведут атомную войну против Германии. Атомные бомбы превращают в руины крупнейшие города мира.
Тридцать первого июля 1932 года Национал-социалистическая немецкая рабочая партия становится сильнейшей партией в рейхстаге. В конце октября венгерский еврей и гражданин Германии Лео Силард собирает пожитки, освобождает свою квартиру в Вильмерсдорфе и переселяется в Далем, в гостевую комнату Харнак-хауза, принадлежащего Обществу кайзера Вильгельма. Силард готовится к тому, что ему придется покидать Германию в любой момент. «У меня там стояли в буквальном смысле только два собранных чемодана. Ключ торчал в замочной скважине, и мне оставалось только повернуть его, чтобы исчезнуть, как только станет совсем худо», — пишет Силард.
В первые дни декабря того же года Эльза и Альберт Эйнштейн тоже сидят на шести собранных чемоданах невдалеке от Харнак-хауза. Они ждут въездной визы в США. На территории элитного Принстонского университета вблизи Нью-Йорка основан Institute for Advanced Study, частно финансируемая фабрика мысли, в которой лучшие ученые мира смогут заниматься своими исследованиями, освобожденные от преподавательской нагрузки. И для начала учредители приглашают туда Альберта Эйнштейна, чтобы таким образом поднять планку как можно выше. За годы в Берлине Эйнштейн поневоле обрел свою еврейскую идентичность. Когда в начале 1920-х слава Эйнштейна стала распространяться и за пределы физических семинаров, антисемитские группы принялись устраивать на его лекциях выпады против него. И не только хулиганствующие студенты, но и высокопоставленные коллеги начали заметно осложнять жизнь Эйнштейна. Нобелевский лауреат по физике Филипп Ленард повел себя как его злейший личный враг. Он даже учреждает «Рабочую группу немецких естествоиспытателей для поддержания чистоты в науке». Причем чистота для членов группы равнозначна понятию «быть немцем по крови». Они отвергают теорию относительности Эйнштейна как «еврейскую физику... недоказанные гипотезы... и логически несостоятельный вымысел». Были и откровенные угрозы жизни, поэтому летом 1922 года, когда убили Вальтера Ратенау, немецкого министра иностранных дел с еврейскими корнями, Эйнштейн месяцами не показывался на людях.
Теперь, в конце 1932 года, когда супруги Эйнштейн запрашивают в американском консульстве визу, дело доходит до скандала. Служащий консульства задает неизбежный вопрос о его симпатиях к коммунистам и анархистам. Эйнштейн с негодованием отказывается отвечать на такие вопросы, назвав их «инквизиторскими», протестует против объявления его «подозрительным», предпочитая при таких унизительных условиях лучше отказаться от въезда в США, и в гневе покидает консульство. На следующий день визы предоставлены супругам без всяких оговорок. Десятого декабря 1932 года Эльза и Альберт Эйнштейн садятся на Лертском вокзале в поезд до Антверпена, а там пересаживаются на пароход до Нью-Йорка. Они еще не догадываются, что больше никогда не увидят Берлин и Германию.
Уже через месяц после перехода власти к национал-социалистам в Берлине двадцать седьмого февраля 1933 года горит рейхстаг, что дает новой власти желанный повод для ускоренного принятия чрезвычайного декрета «О защите народа и государства». Под этим названием цинично ставились вне закона основные права, а граждане подвергались государственному произволу. Критиков режима теперь можно арестовывать без предъявления обвинения — подготовительный шаг к принятому через три недели закону о полномочиях, который окончательно превращает правовое государство Веймарской республики в диктатуру. Во время ночных полицейских облав коммунистов и прочих неугодных именем народа утаскивают в тюрьмы и пыточные подвалы, подвергают там издевательствам, а иногда и забивают до смерти. И без того немногочисленные либеральные газеты подвергаются цензуре и вскоре после этого приобщаются к господствующей идеологии. «Арийский параграф», безобидно звучащий как «Закон о восстановлении профессиональных служащих» от седьмого апреля 1933 года, дает новой власти возможность увольнять с государственной службы всех евреев.
Из своей принстонской «башни из слоновой кости» Альберт Эйнштейн публично протестует против удушения политической свободы, против преследования инакомыслящих и возврата Германии в «варварство». При таких обстоятельствах, заявляет он, в Германию он больше не вернется. Верноподданные господа из Прусской академии наук в Берлине воспринимают критику Эйнштейна как предательство. Его слова явно задевают их национальную гордость. Макс Планк дает знать своему другу и партнеру по домашнему музицированию, что после этого заявления, облетевшего весь мир, больше не хочет иметь с ним ничего общего. За неделю до принятия «Арийского параграфа» Эйнштейн, предвосхищая официальное исключение из академии, объявляет о прекращении в ней своего членства — после почти двадцати лет. Несколько дней спустя он пишет заявление — уже второй раз в своей жизни — об отказе от немецкого гражданства.
В конце марта 1933 года Лео Силард подхватывает оба свои чемодана, поворачивает ключ в двери, покидает Харнак-хаус и садится в пустой поезд до Вены. На следующий день, рассказывает он впоследствии, тот же самый поезд был уже переполнен и задержан полицией на австрийской границе. Пассажирам пришлось выйти и подвергнуться допросу. «Я упоминаю об этом лишь для того, чтобы было понятно: совсем необязательно быть
Пасхальные каникулы 1933 года Вернер Гейзенберг ощущает как «скорбное прощание с "золотым веком" атомной физики». Со времен Мюнхенской Советской Республики, когда он подростком служил в военизированном отряде, он остается подчеркнуто аполитичным человеком. За всеми политическими ходами он всегда усматривает некий денежный интерес. Он не хочет, чтобы его физика была в этом замарана. Тем не менее атмосферу страха и отчаяния, которая с приходом Гитлера к власти распространяется и в университетах, он больше игнорировать не может. Пасхальные каникулы совпадают с первыми увольнениями его лучших еврейских друзей и сотрудников. И вдруг оказывается, что денежный интерес тут ни при чем, а идет расистски мотивированное и чуть ли не с религиозным рвением форсируемое отторжение уважаемых коллег. Если до сих пор представление о «еврейской физике» было лишь абсурдной точкой зрения фанатичного академического меньшинства, то теперь этот лозунг повысился в чине до официальной государственной доктрины. Теория относительности теперь официально запрещена к преподаванию в немецких вузах, а имя Эйнштейна запрещено упоминать.
Идиллическая горная гостиница «Лунный свет» в южнотирольских Доломитовых Альпах становится в начале лета 1933 года пристанищем европейской физической элиты. Сюда перебрался со своей семьей Макс Борн, чтобы в покое спланировать свое академическое будущее за границей. Вольфганг Паули, Эрвин Шрёдингер и математик Герман Уэйл — постоянные гости Борна. Паули настойчиво призывает своего друга Гейзенберга в Лейпциге отложить запланированный летний альпинизм и присоединиться к клубу «Лунного света». Втайне физики надеются, что Гейзенберг — хотя бы из солидарности со своим учителем Максом Борном — тоже откажется от профессорской должности, чтобы подать знак, что он полон решимости освободиться из тисков нацистов, которые недоверчиво стерегут каждое его движение.
Однако Вернер Гейзенберг предпочитает объединиться с Максом Планком. Сообща они стараются убедить нееврейских коллег, настроенных на эмиграцию, остаться в Германии и пытаются остановить увольнения хотя бы знаменитых еврейских физиков. Чем, конечно, зарабатывают упреки в том, что молча терпят увольнение второстепенных и третьестепенных лиц. Свою стратегию персональных петиций они называют «тихой дипломатией». В мае Планку даже удается пробиться лично к Гитлеру. В ходе разговора Планк делает различие между «евреями, ценными для науки и не ценными...». Его предостережение от роковых последствий «Арийского параграфа» для науки не приводит ни к одному восстановлению на работе. Конечно, Гитлер обещает не чинить ему в науке никаких препятствий, которые выходили бы за рамки Закона о служащих. В качестве ответного шага Макс Планк как президент Общества кайзера Вильгельма распоряжается о скорейшем увольнении еврейских сотрудников и неделю спустя заверяет Гитлера, «что и наука Германии готова приложить все силы к восстановлению нового национального государства, которое берется быть ее защитой и опорой». Немецкие преподаватели высшей школы не организовали ни одной коллективной ноты протеста против дискриминации их еврейских коллег. Голландский физик Сэмюэль Гоудсмит, работающий в это время в Мичиганском университете в Энн-Арборе, уже предвидит, что вследствие антисемитской служебной политики Германия скатится в области науки к нации пятого сорта.
Макс Борн в Южном Тироле решил принять предложение Кавендишской лаборатории в Кембридже, а в это время ее руководитель Эрнест Резерфорд в своем докладе выражает личное мнение, от которого Лео Силард в лондонском отеле «Империал» вскакивает с газетой в руках. Резерфорд считает, что в ближайшем времени станет возможным превращение всех известных элементов путем бомбардировки их атомных ядер. Это предположение он высказывает одиннадцатого сентября 1933 года в Лейчестере, на ежегодной встрече Британской ассоциации развития науки. Однако он решительно отвергает оптимистические иллюзии некоторых коллег, что атомное ядро можно расщепить подходящими средствами — и при этом высвободится огромная связующая энергия, которая удерживает атомное ядро в целости. «Talking moonshine» — пустая болтовня — так он называет амбициозные обещания получить источник полезной энергии из превращения атомной структуры. Это оставляет Силарда в некотором недоумении. Его пониманию просто не поддается, как ядерный физик формата лорда Резерфорда считает заведомо недостижимой такую достойную цель, как извлечение атомной энергии. Две недели Силард тратит на изучение проблемы. Прибегая к своей испытанной технике медитации — продолжительные ванны, затем резвые прогулки по зеленому району Блумсбери, — он раздумывает, чем бы возразить решительному утверждению Резерфорда. Нейтрон был открыт Джеймсом Чедвиком полтора года назад. И Силард, разумеется, осознаёт тот факт, что электрически нейтральная частица в принципе представляет собой идеальный снаряд, который беспрепятственно мог бы преодолеть электрические барьеры атомного ядра и расщепить его. Однако до сих пор никто не предложил метод, позволяющий улавливать огромное количество энергии, которое высвобождалось бы при реакции между нейтроном и атомным ядром.
Сильная сторона Силарда — его интеллектуальная независимость и многогранность. Как свободно мыслящий творец и универсалист, Силард не обременен преподавательской нагрузкой и избавлен от необходимости заботиться о семье. Ему можно очертя голову пускаться в любые рассуждения, не рискуя потерять научную славу. Для него не табу даже такой источник вдохновения, как роман Уэллса «Освобожденный мир» с его сценарием атомных бомбежек. Благодаря приятной жизни в отеле «Империал» он может все свое время посвятить решению проблемы. В креативных играх ума он любит сводить вместе факты и теории из разных областей знания, открывая порой волнующие перспективы. И хотя ему чаще всего недостает упорства, чтобы проверить свои тезы на деле, на сей раз резерфордовская провокация с «Talking moonshine» становится для него особым вызовом. Она задевает его честолюбие. Не сам ли Резерфорд еще в первые годы XX века любил горячо порассуждать о разрушительной силе энергии, скрытой в атомном ядре, считая возможным, что «какой-нибудь придурок-лаборант» однажды невзначай взорвет планету. Возможно, его отрезвил тот факт, что за прошедшие тридцать лет никому — даже ему — так и не пришел в голову пусковой механизм для бомбы или катализатор для промышленного использования. И если даже
И вот, недели через две после доклада Резерфорда, Силард идет по запруженной транспортом Саутгемптон-роуд, на которой расположен его отель, и на светофоре ему приходится ждать перехода. В тот самый момент, когда загорается зеленый, его и настигает
Тут в дело вступает второе наитие Силарда. Он первый, кто в связи с этим наметил принцип критической массы, хоть и не применил само понятие. Подходящий элемент должен быть в достаточном количестве и в довольно спрессованном виде, чтобы нейтроны не улетали, а оставались после их высвобождения в веществе и тут же натыкались на соседний атом. Если такая цепная реакция пойдет достаточно медленно и будет управляемой, то в распоряжении человечества появится, по мнению Силарда, совершенно новый источник энергии, а пессимистичный вердикт Эрнеста Резерфорда будет посрамлен. Если же высвобождение энергии произойдет в виде внезапного взрыва, то сценарий атомной бомбардировки из фантастического романа Г. Дж. Уэллса «Освобожденный мир» осуществится быстрее, чем автор считал возможным в 1914 году.
Представление о критической массе и цепной реакции как механизмах высвобождения атомной энергии — хоть и дерзкая идея, типичная для нетрадиционного мышления Силарда, однако она не противоречит законам природы и потому не является физической невозможностью. Но перед следующим за идеей практическим шагом он все же пасует. Ведь теперь ему следовало бы методично протестировать все известные элементы, чтобы выяснить, какое вещество подошло бы для цепной реакции. Более унылого занятия он не может себе представить. Но ему приходит в голову решение: он найдет спонсора и на его деньги наймет лаборанта, который и проделает эту работу. А пока что он мог бы приступить к патентной заявке на ядерную цепную реакцию.
Когда Г. Дж. Уэллс писал свой роман-предвидение, он относил время открытия искусственной радиоактивности к 1933 году. Осенью 1933 года Лео Силард пытается заразить ведущих физиков и химиков Англии своей идеей. Между тем Ирен Жолио-Кюри и Фредерик Жолио в Париже ломают голову над одной странной ядерной реакцией. Они поставили свою легендарную полониевую пушку перед тонкой алюминиевой фольгой и обстреляли этот легкий металл альфа-частицами. Но вместо ожидаемых протонов из атакованных ядер алюминия разлетались нейтроны и другие частицы. Когда Фредерик Жолио удаляет источник полония, алюминиевая фольга прекращает испускать нейтроны. Но он с удивлением видит, что счетчик Гейгера продолжает реагировать своим характерным жестким пощелкиванием. Это может означать лишь одно: в возбужденном алюминии идет радиоактивный процесс. Ядра алюминия превращаются в радиоактивные ядра фосфора, которые в природе не встречаются. Их период полураспада составляет ровно три минуты, и они превращаются, в свою очередь, в стабильные ядра кремния-30. При этом они испускают частицы, которые и регистрирует счетчик Гейгера. Сами того не ведая, супруги невзначай наткнулись на метод, как искусственно вызывать радиоактивный распад, который до сих пор всегда считался природным процессом, не поддающимся воздействию человека.
Преисполненная гордости Ирен Жолио-Кюри демонстрирует этот опыт своей знаменитой матери. Заслышав щелчки счетчика Гейгера перед алюминиевой фольгой, Мария Кюри понимает, что этот монотонный шум должен звучать в ушах ее дочери музыкой, увертюрой к нобелевскому торжеству. Сама она уже не застанет телеграмму, отправленную из Стокгольма супругам Жолио. Она на то время единственный человек, дважды в своей жизни удостоенный этой высшей награды — неповторимое признание необыкновенного ученого. Через несколько недель после грандиозного открытия ее дочери в институте радия Мария Кюри сляжет и 4 июля 1934 года в швейцарском санатории умрет от загадочной болезни крови, которую врачи истолкуют как следствие чрезмерного контакта с радиоактивными веществами. Когда-то в убогом сарае она создала понятие радиоактивности и выделила из смоляно-черной породы самосветящееся вещество, которое дало решающий толчок развитию атомной физики.
Теперь Ирен Жолио-Кюри и Фредерик Жолио своим открытием искусственной радиоактивности хронологически точно подтвердили предвидение писателя Герберта Уэллса. Сенсационные новости из Парижа воспламенили надежды Силарда в Лондоне. Коль оказалось возможным вызвать радиоактивный распад в таком от природы стабильном элементе, как алюминий, из которого в итоге получается искусственное атомное ядро и свободные нейтроны, то из этого обстоятельства можно, пожалуй, выковать инструмент для исследования цепной реакции.
Когда шестнадцатилетняя римлянка Лаура Капон отправляется весной 1924 года с друзьями на экскурсию и знакомится со своим будущим мужем, тот одет в черный костюм и с черной фетровой шляпой на голове, поскольку у него траур по недавно умершей матери. Невысокий, мускулистый доктор физики представился как Энрико Ферми. Он ходит, подавшись вперед и туда же вытянув шею, «неукротимо стремясь головой опередить ноги». Экскурсия заканчивается на зеленом лугу на берегу Тибра. Откуда-то берется, как по волшебству, надувной футбольный мяч. Под руководством Энрико могут играть даже девушки. Он наскоро посвящает Лауру в тайны защиты ворот, однако черный костюм не снимает даже во время игры. Внезапно он падает, потому что оторвалась подметка его ботинка. Он приматывает ее шнурком и играет отчаянней прежнего.
Ферми — прирожденный вожак, именно он определяет в компании, кому что делать, и ему все доверяют. Его серо-голубые глаза сияют радостью. Он основательно думает, прежде чем что-то сказать. Наверное, поэтому его суждения всегда разумны и справедливы. Его спортивное честолюбие непомерно. В походе он водружает себе на плечи самый тяжелый рюкзак, и чем круче подъем, тем одержимее он стремится опередить и оставить далеко позади себя всех. Вдвоем с другом Франко Разетти они ради удовольствия заучивают энциклопедические сведения из далеких им областей знания, чтобы произвести на друзей впечатление учеными диалогами и задать им каверзные вопросы, на которые обе эти ходячие энциклопедии сами же и отвечают, исполненные гордости, донимая невежд пристрастием к деталям. Преподавая в Римском университете, Ферми и Разетти сразу же получили прозвища. Ферми — это Папа, а Разетти — Кардинал. Манера Ферми передавать знания — от души и играючи — делает его любимым преподавателем вуза.
Хотя супруги Жолио открыли искусственную радиоактивность при помощи альфа-частиц, однако эти снаряды, пролетая через атомы мишени, тормозятся электронами. Большинство из-за этого так и не достигает ядра. Кроме того, они слишком слабы, чтобы расщепить атомное ядро тяжелого элемента. Когда Энрико Ферми весной 1934 года берется за исследование искусственной радиоактивности, о существовании нейтрона как электрически нейтральной частицы известно уже два года. Теоретически нейтроны должны бы пронизывать атом, не испытывая торможения, и быть в состоянии расщепить ядро. Но никто еще не пытался испробовать это всерьез.
Лео Силард хотя и думает над этим и уже воображает результаты, но в его распоряжении нет университетской лаборатории, а потенциальные меценаты так и не заразились его желанием исследовать ядерные цепные реакции посредством бомбардировки нейтронами. Оппенгеймерская «жертва отравленного яблока» Патрик Блеккет, который только что забрал Макса Борна в Кембридж, не оставляет Силарду надежды на поддержку в Англии. Безумцам его калибра с дорогостоящими идеями можно было бы сдвинуть свою карьеру с места разве что в России. Там для государственных физиков созданы райские условия. А пока Силард стучится во все двери и пожимает руки направо и налево, Энрико Ферми не останавливается перед тем, чтобы на деле воплотить игру ума Силарда и методично обстрелять нейтронами все девяносто два элемента. С той разницей, что итальянец при этом не думает о цепной реакции и о получении атомной энергии, а надеется лишь на углубленное понимание процесса искусственно вызванной радиоактивности.
В марте 1934 года он берется по своей инициативе за геркулесову задачу: исследовать все химические элементы на предмет искусственной радиоактивности. Его сотрудник Эмилио Сегре назначается главным закупщиком. В кармане у того всегда с собой неслыханный бюджет в 20 000 лир — около 1000 долларов, — когда он направляется с корзинкой в свой любимый магазин товаров для химиков и закупает там более редкие элементы, чем имеются в запасе на полках института Ферми. В это же время Ферми приходится заняться приборостроением, поскольку счетчики Гейгера не так-то просто раздобыть даже в 1934 году. А ему для обнаружения продуктов распада требуется сразу полдюжины приборов. Но еще важнее смастерить подходящий источник нейтронов. Ему помогает само «Божественное провидение». Оно является ему в образе профессора Джулио Чезаре Трабаччи. Он директор отдела здравоохранения и за свою легендарную готовность прийти на помощь снискал это прозвище — в Италии граничащее с кощунством.
В подвале Физического института стоит сейф, в котором Трабаччи хранит один грамм радия, предоставленный процессу распада. Энрико Ферми получает разрешение откачивать из бронированного шкафа возникающий при этом радон через систему стеклянных трубок. Радиоактивный газ попадает для очистки в специальный аппарат. Оттуда его берут для наполнения стеклянных ампул длиной один сантиметр, в которых находится небольшое количество порошка бериллия. Наполнение ампул — процесс деликатный. Тонкие трубочки иной раз нечаянно лопаются в пальцах сотрудников Ферми. Но если удается их запаять, источник нейтронов в течение нескольких дней — в соответствии с коротким периодом полураспада радона — фонтанирует достаточно сильно, чтобы провести эксперимент. А когда запаянному радону выходит срок, его альфа-частицы заставляют бериллий испускать миллион нейтронов в секунду. Ферми действует методично и вначале бомбардирует водород, легчайший элемент — без успеха. Также и в следующих элементах таблицы периодической системы — литии, боре, азоте — ничего не происходит. Только у фтора, девятого элемента, ему удается вызвать искусственную радиоактивность. До первой публикации результатов Ферми и его команда добились успеха у 47 из 68 исследованных к тому времени элементов. Так, например, облучаемое железо с порядковым номером 26 превращается в марганец, который в периодической системе занимает номер 25. И возбужденный кремний (14) становится искусственным ядром алюминия (13). Бросается в глаза тенденция оставаться в ближайшем соседстве.
Кто бы мог подумать, что спортивное честолюбие пригодится и в экспериментах. Поскольку выясняется, что некоторые радиоактивные продукты распада уже через минуту своего существования еще раз претерпевают превращение, а потом могут стать и необнаружимыми. Чтобы все-таки подтвердить радиоактивный процесс в облученном веществе, нужно поднести его к счетчику Гейгера непосредственно после бомбардировки нейтронами. Но счетчик непременно должен стоять на достаточном удалении от источника нейтронов, чтобы не регистрировать еще и излучение радона-бериллия, фальсифицируя тем самым результаты. Решить эту дилемму в Физическом институте Римского университета можно,только если разнести в противоположные концы коридора на втором этаже помещение для облучения и помещение для измерения. А это означает: быстрейшие бегуны группы Ферми мчатся с облученным материалом вдоль по коридору к счетчикам Гейгера, чтобы успеть идентифицировать короткоживущие продукты распада. Бегает главным образом начальник собственной персоной, поскольку считает себя непобедимым в спринте. Эдоардо Амальди, который в Лейпциге учился у Петера Дебая, коллеги Гейзенберга, утверждает о себе то же самое и при случае вызывает Ферми на состязание по коридору.
Лаура Ферми описывает посещение института одним испанским аристократом, который с благоговейным трепетом высказывает желание поговорить с «Его превосходительством Энрико Ферми» — и слышит в ответ: «Папа наверху». Когда он поднялся на второй этаж, мимо него, осклабившись, промчались два типа в грязных развевающихся халатах, с шелестящей серебряной фольгой в руках, под вопли коллег-болельщиков. Каков же был ужас посетителя, когда в измерительном помещении один из потных спринтеров как раз и оказался «Его превосходительством» — титул, которым его сподобил Бенито Муссолини и которым он не так уж и гордился. Разговор с испанцем проходил между считыванием показаний счетчика Гейгера и новой пробежкой Папы по коридору — вот этот титул, возникший из дружеской шутки, нравился Ферми куда больше.
Первую из своих десяти статей об экспериментах с нейтронами Энрико Ферми публикует в марте 1934 года. А летом его результаты становятся главной темой разговоров среди физиков и химиков во всем мире. Особенно пристально методы Ферми изучаются в Далеме. В конце летнего семестра группа Ферми успешно бомбардировала нейтронами и самый тяжелый и последний элемент в таблице периодической системы. В ядре урана теснятся 92 протона и 146 нейтронов. До сих пор альфа-лучи были бессильны против этой плотной скученности положительно заряженных и нейтральных ядерных частиц. После облучения нейтронами Ферми, к своему удивлению, находит сразу пять новых радиоактивных изотопов с периодом полураспада от десяти секунд до девяноста минут. Субстанция, исследованная им основательнее прочих, имеет период полураспада тринадцать минут, однако после химического анализа ей не достается места в непосредственном соседстве с ураном. Экскурсия «по окрестностям» приводит Ферми на десять ступенек ниже — до свинца с порядковым числом 82. Спускаться еще ниже, по его мнению, не стоит, поскольку все предыдущие опыты с нейтронным обстрелом показали, что активированные ядра превращаются в элемент, расположенный в таблице непосредственно рядом с элементом — до или после него.
Но если для нового тринадцатиминутного атомного ядра место
Этого требует и женщина-химик Ида Ноддак из Германии. Она, судя по всему, не собирается взмывать вместе со всеми на волне воодушевления трансуранами и критикует методы доказательств Ферми как ненадежные. Она упрекает группу из Рима в том, что сравнение их новонайденного радиоактивного вещества с известными элементами было проведено недостаточно основательно. Почему сравнение произвольно и преждевременно оборвано на свинце? Раз уж в случае с трансуранами речь заходит о новаторском утверждении, Ферми тем более следовало сперва исключить и остальные элементы — если понадобится, вплоть до водорода.
В поиске новых элементов Ида Ноддак знает толк. В 1925 году она, совместно с мужем Вальтером Ноддаком, идентифицировала элемент с порядковым числом 75 и назвала его рений, увековечив свою рейнскую родину. В 1932 году она впервые была выдвинута на Нобелевскую премию по химии и в нынешнем году опять могла питать надежды. Чтобы подчеркнуть, что заключение Ферми, будто он нашел элемент с порядковым числом 93, не является единственным выводом из эксперимента, Ида Ноддак делает в авторитетном журнале
«Расщепление» ядра урана на «несколько
В октябре 1934 года, через четыре недели после выпада Иды Ноддак, секстет Ферми продолжает свои опыты облучения, чтобы выстроить шкалу активируемости ядер. Делая замеры при облучении серебряного цилиндра, стоящего на деревянной столешнице, они странным образом отмечают более высокую радиоактивность, чем у того же цилиндра на мраморной плите. Неужто разные материалы могут как-то влиять на поток нейтронов? В то время как все сотрудники грешат на неисправность приборов, Ферми зацикливается на этом странном феномене и последовательно изменяет порядок эксперимента. Утром двадцать второго октября он только собрался вставить между источником нейтронов и серебряным цилиндром тщательно отшлифованный по его указаниям клин из свинца, как вдруг ни с того ни с сего передумал в пользу парафина — как выяснилось впоследствии, это было ничем не объяснимое наитие, одно из его знаменитых решений
На сей раз эта «чудовищная интуиция» приводит к открытию, имеющему богатые последствия, Лаура Ферми описывает это так: «Они взяли большой блок парафина, сделали в нем выемку, вставили туда источник нейтронов, облучили серебряный цилиндр и поднесли его к счетчику Гейгера, чтобы измерить его активность. Счетчик бешено затикал. По всему физическому корпусу разносились вопли: "Фантастика! Невероятно! Черная магия!"». Парафиновый фильтр увеличил эффект облучения в сотни раз. Видимо, парафин каким-то образом ускоряет нейтроны — гласит первая гипотеза. Пообедав и вздремнув, Ферми выкладывает прямо противоположное объяснение. Парафин имеет высокое содержание водорода. А поскольку атомы водорода представляют собой чистые протоны, то нейтроны, пролетая через парафин, сталкиваются со множеством протонов, прежде чем достигнут серебряного цилиндра. Поскольку нейтрон имеет почти ту же массу, что и протон, он при столкновении теряет энергию и затормаживается. Но именно такой — замедленный — нейтрон теперь столкнется с ядром серебра и взорвет его с большей вероятностью, чем более быстрый нейтрон. Замечательная жена Ферми объясняет это явление на примере мяча для гольфа, который лежит в трех метрах от лунки. В лунку вкатится только медленный мяч. А с размаху ускоренный — пролетит над ней. Также и деревянная столешница в лаборатории, по-видимому, тормозит нейтроны эффективнее, чем мраморная плита.
Итак, если атомы водорода в парафине замедляют нейтроны и тем самым усиливают искусственно вызванную радиоактивность серебра, то эксперимент с водой просто напрашивается. В тот же вечер эта лежащая на поверхности идея претворяется в жизнь. Все имеющиеся в лаборатории сосуды кажутся впавшей в эйфорию группе недостаточно большими, чтобы вместить затребованное Ферми «изрядное количество воды». И тут кто-то вспоминает про искусственный пруд, который хозяин Корбино обустроил в саду Физического института среди клумб и миндальных деревьев. Недолго думая, секстет ненадолго погружает в пруд источник нейтронов и серебряный цилиндр. Первая гипотеза Ферми, похоже, подтверждается, ибо и в воде активность серебра сильно возрастает. Медленные нейтроны — явно ключ к большему выходу искусственно произведенного радиоактивного вещества. Это новое знание позволит в будущем заменить дорогие радиоактивные вещества в медицине и в промышленном производстве на искусственные. Эмигрировавший в 1933 году в Англию немецко-еврейский физик Ганс Бете нахваливал Италию за ее изобилие мрамора и высказал подозрение, что медленные нейтроны могли быть открыты лишь на родине Ферми. В Америке, мол, все опыты проводились бы «на деревянных столах, и никто бы ни до чего такого не додумался».
Однако после этих новаторских открытий в Риме анализ распада урана топчется на месте. Дело весьма сложное, а поскольку никакого продвижения нет, группа Ферми расформировывается. Никто на тот момент не думает об опытах по высвобождению атомной энергии. Кроме, разумеется, Лео Силарда. Своим потенциальным спонсорам он обещает «производство энергии... в таком масштабе и, предположительно, со столь малыми затратами, что можно рассчитывать на своего рода промышленную революцию. Смею сомневаться, продержится ли после этого добыча угля и нефтяная индустрия дольше пары лет». К этому времени Силард своими грандиозными планами довел-таки до кондиции и Хаима Вейцмана. Действительно ли он убедил его своей идеей ядерной цепной реакции, неизвестно. Но Вейцман, по крайней мере, пообещал раздобыть десять тысяч долларов, необходимые Силарду для его опытов. Он с нетерпением ждет в Лондоне денег. Силард хочет облучить все элементы нейтронами, как Ферми, и посмотреть, из какого вещества он сможет выбить дополнительные нейтроны, чтобы вызвать ядерную цепную реакцию.
А пока что он обстреливает нейтронами бериллий, который кажется ему главным кандидатом для запуска цепной реакции. Пожалуй, лишь благодаря своей живой манере вести непринужденную беседу и упоминанию между делом знаменитых имен из круга друзей, он получает разрешение использовать в Лондоне лабораторию, пустующую во время летних каникул. Столкнувшись при этом лицом к лицу с неконтролируемым хаосом из рядов распада и промежуточных продуктов, он — в манере человека, который сделал себя сам, поскольку голь на выдумки хитра, — недолго думая, изобретает сообща с лабораторным ассистентом Томасом Челмерсом простой, элегантный и дешевый метод разделения радиоактивных и нерадиоактивных изотопов одного и того же элемента. Описание этого способа приносит ему летом 1934 года признание сообщества и маркирует его рождение в качестве физика-ядерщика. Однако его царственное шествие к более-менее приемлемой цепной реакции в ядрах бериллия так и не состоялось.
Жгучий интерес к экспериментам Ферми проявляет Лиза Мейтнер у себя в Берлине. Слишком уж хорошо она помнит одного сотрудника Ферми, обаятельного Франко Разетти, который два года назад стажировался в ее институте. Они чуть было не вошли вдвоем в исторические справочники в качестве открывателей нейтрона. К этому вело как предсказанное Мейтнер еще в 1921 году существование электрически нейтрального ядерного кирпичика, так и исследование непонятного излучения бериллия стажером Разетти под ее руководством. Однако Джеймс Чедвик своей публикацией на четыре недели опередил немецко-итальянскую группу. За несколько дней до двадцать третьего октября 1934 года со всеми его волнениями в Риме вокруг куска парафина и вокруг искусственного пруда, реконструируя схему эксперимента Лео Силарда, Мейтнер — параллельно и независимо от Ферми — приходит к предположению, что энергия, а тем самым и скорость нейтронов может оказывать решающее влияние при производстве искусственной радиоактивности. Теперь ей хотелось бы повторить опыты Ферми. Она тоже считает в принципе возможным существование трансурановых элементов, но знает также, что ей, как физику, в дальнейших исследованиях урана необходим рядом выдающийся химик, который проводил бы радиохимические анализы. Ей не приходится долго раздумывать. Один из лучших в мире кандидатов для выполнения этой задачи работает в том же здании Химического института кайзера Вильгельма в Далеме, что и она сама — только этажом выше ее лаборатории. Его зовут Отто Ган.
Двенадцать лет оба они шли в профессии каждый своим путем, что никак не мешало их дружбе. Ган как никто другой подходит для того, чтобы правильно рассчитать запутанные многочисленные радиоактивности и времена распада облученного урана. Пару недель он еще жеманится, но в августе 1934 года Мейтнер и Ган возобновляют их проверенную временем работу в одной команде.
За год до этого Лизе Мейтнер пришлось оставить свою профессуру в Берлинском университете — она тоже стала жертвой «Арийского параграфа», ибо в категориях новых властей Лиза Мейтнер двадцатипятипроцентная еврейка. В негосударственном Институте кайзера Вильгельма ее должность пока не подвергается опасности. Она защищена и своим австрийским паспортом. Ган находится под особым наблюдением членов партии даже в собственном доме, поскольку он откровенно не хочет примыкать к национал-социализму. В конце 1934 года к рабочей группе присоединяется тридцатидвухлетний химик д-р Фриц Штрассман. Он тоже стойко уклоняется от вступления в национал-социалистическую профессиональную организацию, так что трио, работающее сообща, вызывает у режима подозрение.
С самого начала им удается отделить друг от друга короткоживущие продукты облученного урана лучше, чем это смог сделать до них Ферми. Правда, одни вещества при этом постоянно порождают другие с поразительными семейными отношениями. Материнские и дочерние субстанции распознаются и через несколько поколений продуктов распада. Господствующие основные принципы физики и химии позволяют классифицировать продукты реакции как трансурановые элементы. Берлинцы логично подтверждают рассуждения Ферми об искусственных элементах, которые тяжелее урана. Медленные нейтроны производят не такие ряды распада урана, как энергичные снаряды. Значение этих странных результатов по-прежнему остается загадкой.
Лиза Мейтнер — движущая сила берлинского трио. Даже когда Ган и Штрассман радуются доселе неизвестным веществам и подходящим для них порядковым числам, Лизу Мейтнер не покидает тревога. И когда Ган в очередной раз клятвенно заверяет ее в корректности и достоверности своей работы, она порой отвечает ему: «Уймись, Гансик, ступай к себе наверх. В физике ты ничего не смыслишь», на что он обижается — это
Мейтнер знает, что как химики Ган и Штрассман, должно быть, правы, но как физик она не может удовлетвориться своим недостаточным пониманием ядерной реакции. Летом 1936 года Штрассману однажды показалось, что среди короткоживущих радиоактивных веществ урана промелькнул барий, элемент с порядковым номером 56 — для Мейтнер это вещь невозможная. Она отговаривает Штрассмана от дальнейших поисков в этом направлении: по ее словам, это может быть только «эффект загрязнения». Ган, Мейтнер и Штрассман публикуют статью, в которой подтверждают несомненное открытие четырех трансурановых элементов. Но для Лизы Мейтнер физические процессы при облучении урана нейтронами — неожиданно сложные, еще непонятные — имеют такое же большое значение, как и сами трансурановые элементы. К этому времени уже никто больше не вспоминает ни в Беркли, ни в Кембридже, ни в Париже, ни в Цюрихе идею Ноддак о расщеплении ядра на фрагменты приблизительно одинаковой величины.
В то время как трио в Далеме с их современнейшей аппаратурой работает на мировом уровне, Лео Силард в Лондоне постоянно носит свое мобильное оборудование с собой в двух кожаных дорожных сумках. Неподалеку от своего отеля он снял две комнаты, которые превращаются в атомно-физическую лабораторию, как только он переступает порог и распаковывает содержимое своих сумок. В сменное белье завернуты: счетчик Гейгера, блок парафина, усилитель, металлическая фольга в коробках из-под сигарет и записная книжка. Его источник нейтронов — это проверенная смесь из радона и бериллия. Добытые здесь и опубликованные им сведения о поглощении нейтронов в облученных атомных ядрах производят впечатление даже на Нильса Бора и Эрнеста Резерфорда, который еще недавно выгнал его из своего института. В сентябре 1935 года Лео Силард предлагает британскому Адмиралтейству два своих патента на ядерные цепные реакции при критической массе. Он отказывается от лицензий и гонораров. Для него важно только одно: чтобы его идеи сохранялись как военная тайна. Он хочет уберечь их от попадания в руки немцев.
Двенадцатого декабря 1935 года супруги Жолио-Кюри получают Нобелевскую премию по химии. Они доказали, что химические элементы могут — путем облучения — превращаться в искусственные радиоактивные элементы. В заключение своей речи Фредерик Жолио говорит об удивительном прогрессе естественных наук и предостерегает от разрушительного аспекта высвобождения атомной энергии. «Ученые, которые по собственному произволу расщепляют элементы и пересоставляют их заново, вызовут и трансмутации взрывного типа, а именно настоящие химические цепные реакции». Тем самым у него получается — намеренно или нет — ссылка на Альфреда Нобеля, изобретателя динамита. Жолио говорит не о трансформациях, а о трансмутациях, которые могут привести к уничтожению мира — совершенно в смысле алхимической традиции, которой не чужды и Резерфорд и Содди.
«Внешний мир и впрямь отвратителен, а вот работа хороша», — пишет Вернер Гейзенберг своей матери осенью 1935 года. За два года до этого он удостоен Нобелевской премии по физике и считается самым значительным физиком Германии. Однако во внешнем мире воцарился режим, который обязывает Гейзенберга — как должностное лицо — начинать каждую лекцию гитлеровским приветствием и больше ни в статьях, ни в докладах не упоминать имени Эйнштейна. Теперь есть немецкая физика и еврейская физика, что ведет к абсурдным выводам о законах природы первого и второго сорта. Для арийской физики — так аргументируют ее представители — достаточно фундамента ньютоновской механики с основополагающими понятиями силы и энергии. Теория относительности и квантовая механика, напротив, есть издевательство над здравым смыслом человека и искажение физической реальности, пустая фикция. Два физика-нобелиата Филипп Ленард и Иоганнес Штарк с их непомерным влиянием вознеслись чуть ли не в хранители священного Грааля от «немецкой физики», и их кампания травли «против эйнштейнизма в Германии» нацелена и лично в Вернера Гейзенберга. Предполагалось, что он станет преемником Арнольда Зоммерфельда в Мюнхене. Все формальности для этого уже исполнены. Сам Гейзенберг всегда рассматривал свою профессуру в Лейпциге лишь как промежуточное решение. Он ничего не желает так страстно, как возвращения в свой любимый родной город. И тут Штарк поднимает шум против назначения на эту должность Гейзенберга, мол, он ее недостоин, поскольку он «дух от духа Эйнштейна». Упрек в «еврейском мышлении» при гитлеровской диктатуре равносилен угрозе существованию. Этот упрек должен запугать человека и напомнить ему о судьбе его еврейского коллеги.
Политика догнала аполитичного физика. Конфликты стоят сил и времени. Единственная отдушина в этих унизительных обстоятельствах — музыка. В эти времена Гейзенберг играет по вечерам на фортепьяно исключительно Бетховена. Несмотря ни на что, он твердо держится своего решения остаться в Лейпциге. Он отказывается даже от соблазнительного предложения из Принстона: получить возможность развивать свои идеи вблизи Эйнштейна, в волнующих разговорах с коллегами равного ранга и в освобождении от всякой преподавательской нагрузки. Вернер Гейзенберг остается в Германии. Он ненавидит нацистов, но он немецкий патриот. И не он ли дал торжественный обет никогда не покидать своих бойскаутов? Между тем все независимые молодежные объединения запрещены. В 1934 году тридцатитрехлетний «старик» Вернер в последний раз встретился со своими следопытами. Несмотря на предостережения старших членов, большинство юношей и мужчин, завороженные мелодиями гитлеровских крысоловов, вступают в гитлер-югенд, в отряды штурмовиков СА и эсэсовские отряды. Слишком убедительно и маняще звучат идеалы национал-социализма от фюрера и Третьего рейха — в унисон их собственным представлениям о благородном Белом рыцаре, под водительством которого они хотели построить новую, миролюбивую и истинную Германию.
Получив отказ Гейзенберга, Institute for Advanced Study в Принстоне прилагает старания переманить к себе Роберта Оппенгеймера. Он считается ведущим теоретиком американской физики, от которого можно ждать еще многого. Он в это время как раз занимается цепными реакциями в недрах звезд. Однако он, как и Гейзенберг, принимает решение в пользу своей преподавательской нагрузки и своих студентов в Калифорнии. Как ни презирает Вернер Гейзенберг политику своей родины, ему приходится теперь с ней соглашаться. Подобная же перемена позиции предстоит и Роберту Оппенгеймеру. Ведь в число его удивительно многосторонних интересов совсем не входят политические и экономические события текущего дня. Он игнорирует газеты и новостные журналы, у него нет ни радио, ни телефона. Выросший в богатой семье, он может позволить себе кокетство утверждать, что узнал о биржевом крахе октября 1929 года лишь месяц спустя, и то скорее краем уха. Но поскольку некоторые из его студентов попали из-за экономического кризиса в бедственное положение, в Оппенгеймере тоже заговорила социальная совесть. Когда в 1937 году умирает его отец Юлиус, часть своего наследства Оппенгеймер жертвует университету Беркли. Стипендии из этого фонда должны получать для продолжения образования студенты, признанные финансово несостоятельными.
К этому моменту он обручен с двадцатидвухлетней Джин Татлок, дочерью его коллеги по Беркли, Джона С. П. Татлока, профессора английской литературы. Она изучает психологию и готовится к своей докторской диссертации. Красивая и умная молодая женщина — член коммунистической партии и пишет статьи для
Этот радикальный взгляд на общественные обстоятельства может свидетельствовать о приверженности Оппенгеймера социальной справедливости. Однако такое чтение не может удовлетворить его потребность в философской глубине и душевном равновесии. С тех пор как он изучил санскрит и погрузился в духовную атмосферу «Бхагават-гиты», он считает ее «лучшей философской песнью, существующей на каком-либо языке». Человек, взыскующий духовного учения, получит в «Гите» совет заниматься своими повседневными делами дисциплинированно и с сознанием долга. При этом, конечно, стремиться следует не к почестям и славе, а к наибольшему отчуждению от плодов своего труда. Вот путь освобождения души от земных пут. Благодаря постоянному повторению в этой песне из 700 строф призыва к дисциплине и отказу от земного успеха, Оппенгеймер укрепился в убеждении, что ученым следует спуститься из их башни из слоновой кости и самоотверженно работать на людей. В этом можно искать и причину его недвусмысленного отказа от жизни в Принстоне, освобожденной от обязательств. «Исполнение долга, судьба и вера... Три эти принципа в философии Оппенгеймера ни в коем случае не были лишь декоративным украшением, они имели основополагающее значение. Без них он был бы совсем другим человеком». Правда, он достаточно своенравен, чтобы не мутировать тут же в верующего индуса.
Каким образом остроумный интеллектуал находит притягательными фатализм «Гиты» и мифический индуистский пантеон, с трудом просматривающийся в чудотворстве и приоритетности персонажей, остается загадкой для некоторых его друзей и близких. Скупая красота Нью-Мексико — вот ландшафт души Оппенгеймера. Он не забыл спартанскую жизнь школьников Лос-Аламоса. Эта жизнь своеобразно задела его и разбудила тоску по подобному убежищу. И вот он снимает рубленый дом на склоне горного хребта Сангре-де-Кристо. Дом очень скромно обставлен. Свежая вода из родника — вот единственная здешняя роскошь. В студенческие каникулы Оппенгеймер вскакивает в седло и скачет верхом по пустыне.
У Вернера Гейзенберга тоже есть пристанище в горах. Если у Оппенгеймера это рубленый дом, то у Гейзенберга — лыжная хижина на альпийском лугу Химмельмоос в Баварских Альпах, его база для альпинизма и лыжных походов. Пожалуй, самое райское время в хижине он проводит со своей невестой Элизабет в марте 1937 года. Он познакомился с двадцатидвухлетней продавщицей книг в конце января на вечере камерной музыки в доме лейпцигского издателя Бюккинга. Фортепьянное трио соль-мажор Бетховена значилось в программе с приглашенной звездой Вернером Гейзенбергом за фортепьяно. «Этот вечер перевернул нашу жизнь. Мы оба чувствовали, что нашли свою судьбу», — пишет дочь ученого-экономиста Германа Шумахера. Оказывается, она любит петь, и ее новый кавалер не упускает случая аккомпанировать ей на фортепьяно. Две недели спустя они уже помолвлены. Свадьба состоится 29 апреля 1937 года в Берлине.
Лето после возвращения из свадебного путешествия было ему основательно подпорчено. Преемник Зоммерфельда все еще не определен, и поборники «немецкой физики» пустили в ход против Гейзенберга тяжелую артиллерию. Необходимо было устранить его с первого места в списке претендентов Мюнхенского университета. И опять сигнал к нападению на Гейзенберга подает Иоганн Штарк. В эсэсовском еженедельном журнале
Коллеги Гейзенберга по всей стране пишут протестующе письма против травли самого значительного на данный момент немецкого физика. Сам ученый, подвергшийся нападкам, обращается напрямую к рейхсфюреру СС и шефу немецкой полиции Генриху Гиммлеру. Требуя либо «восстановления чести», либо подтверждения, что Гиммлер лично санкционировал нападки на него в печатном органе СС и считает его подрывным элементом и врагом государства. Для того чтобы войти в контакт с Гиммлером, Гейзенбергу приходит на помощь то обстоятельство, что его дедушка Николаус Веккляйн и отец Гиммлера были коллегами по преподаванию в Мюнхенской гимназии и товарищами по туристическому клубу. Благодаря этим отношениям и мать Вернера когда-то познакомилась с матерью Генриха. И теперь она пытается оказать ему посредничество. В добропорядочной бюргерской комнате Анны Марии Гиммлер, перед украшенным цветами распятием посланница Анни Гейзенберг сразу находит верный тон разговора: «Ах, знаете ли, фрау Гиммлер, ведь мы, матери, ничего не смыслим ни в политике вашего сына, ни в политике моего, но мы точно знаем, что должны заботиться о наших мальчиках. И поэтому я у вас». Так благодаря материнской дипломатии письмо Гейзенберга попадает прямо в руки фюрера СС, который затевает долгое расследование. От самого Гейзенберга он требует изложения его позиции относительно обвинений Штарка. Офицеры СС несколько раз допрашивают его и в конце концов заверяют «аполитичному ученому» его «приличный характер».
Личное письмо Гиммлера о снятии вины Гейзенберг получает двадцать первого июля 1938 года, год спустя после поношения в «Черном корпусе». Рейхсфюрер СС порицает нападки Штарка на Гейзенберга и гарантирует последнему, что больше не последует никаких актов недоброжелательства. В качестве ответного шага он требует от него больше не упоминать в лекциях имена еврейских ученых, хотя он вполне может излагать содержание «еврейской физики». В какой опасности действительно находился политически неопытный Гейзенберг, видно из конфиденциального сообщения Гиммлера высокопоставленному руководителю сыска Рейнгарду Гейдериху: «Я думаю... мы не можем позволить себе потерять или умертвить этого человека, который сравнительно молод и может дать нам пополнение». Через неделю после заключения пакта с Гиммлером Гейзенберг уже надевает униформу вермахта, чтобы пройти в Зонтхофене ежегодную восьминедельную военную подготовку резервистов.
В это же время генеральному директору Общества кайзера Вильгельма приходит указание Рейхсминистерства науки, воспитания и народного образования, а тот переправляет это предписание Отто Гану. В нем говорится: «Госпожа профессор Лиза Мейтнер, до сих пор являвшаяся австрийской подданной, работает в Химическом институте кайзера Вильгельма. После того как вышеназванная стала немецкой подданной вследствие присоединения Австрии, необходимо проверить, какая у нее доля еврейской крови. Согласно предыдущим заключениям, у госпожи Мейтнер двадцать пять процентов еврейской крови». Министерство желает «скорейшего суждения по этому вопросу». Когда пятнадцатого марта 1938 года сотни тысяч жителей Вены с восторгом и ликованием приветствуют своего нового фюрера Адольфа Гитлера, Лиза Мейтнер в Берлине сразу же становится жертвой национал-социалистического расизма. По этой простейшей арифметике крови ей рано или поздно грозит увольнение.
Макс Планк, почитаемый Лизой Мейтнер как отец, уже не хочет — заключив в мае 1933 года скверный компромисс с Гитлером — неприятно фигурировать в качестве заступника еврейских ученых. Отто Ган, напротив, приводит в действие все рычаги, чтобы воспрепятствовать ее увольнению. Однако во время официального разговора руководитель института, считающийся политически неблагонадежным, не выдерживает и в конце концов соглашается с тем, что будет разумно намекнуть Лизе Мейтнер отказаться от должности, чтобы впредь она могла продолжать работу в Германии неофициально, но зато беспрепятственно. Из Цюриха и от Нильса Бора приходят предложения, сформулированные иносказательно и запутанно. Джеймс Франк в Чикаго хочет подать от ее имени заявление о гражданстве, чтобы она могла эмигрировать в США. Однако Лиза Мейтнер не хочет покидать Берлин, где она успешно проработала тридцать лет. Поскольку ее австрийский паспорт теперь недействителен, а немецкий всё никак не выдают, ей не так просто поехать в другую страну. Кроме того, ходят слухи о новых законодательных ограничениях выезда из страны для людей с высшим образованием.
Ган, такой всегда стойкий и надежный, разочаровывает ее. Из-за «дела Мейтнер» он явно боится за свое собственное рабочее место. Она не скрывает, что шокирована враждебностью членов партии в ее институте и угодливым послушанием завистливых коллег, которые теперь без стеснения доносят на нее. Она все поняла и ходатайствует о выезде в нейтральную страну. Министр, конечно, отказывает ей на том основании, что она как знаменитая еврейка сможет вести за границей пропаганду против Германии. За этим распоряжением стоит не кто иной, как шеф полиции Генрих Гиммлер.
В 1936 году Карл Фридрих фон Вайцзеккер был «домашним теоретиком» Мейтнер. Будучи ее ассистентом, он сопровождал эксперименты и старался увязать в смелую теорию атомного ядра сложные реакции и смутные родственные отношения между новыми излучающими веществами — и всё безуспешно. По окончании его стажировки они поддерживают отношения. Его отец Эрнст фон Вайцзеккер с первого апреля 1938 года является государственным секретарем в ведомстве иностранных дел. И вот Мейтнер просит сына разузнать, как обстоят дела с ее заявлением на немецкий паспорт. Однако министерство иностранных дел по положению уже сравнялось с небесной канцелярией. Эрнст фон Вайцзеккер как раз инструктирует все немецкие посольства, чтобы они отказывали еврейским эмигрантам в переводе их денег за границу.
Нидерландский физик Дирк Костер, ученик Бора, совместно с ним открывший элемент гафний, организует побег Мейтнер из Германии на поезде. Он добился от своего правительства обещания, что на границе ее впустят без визы. С десятью марками в кармане, парой летних платьев в багаже и бриллиантовым кольцом на пальце, подаренным ей на прощанье Отто Ганом, пятидесятидевятилетняя женщина покидает Германию тринадцатого июля и в сопровождении Костера едет в Гронинген. До последнего момента она боится, что при проверке документов ее арестует СС. Однако побег проходит без инцидентов. Из Гронингена она направляется к Нильсу Бору в Копенгаген, тот уже приготовил для нее место в первом Шведском институте ядерных исследований в Лунде.
Когда она бежит из Германии, физические процессы сложного распада урана все еще не имеют объяснения. Ирен Жолио-Кюри и ее команда в Париже, непосредственные соперники берлинцев, отклоняют теоретические модели Мейтнер и Вайцзеккера. Вокруг так называемого 3,5-часового тела, продукта распада, открытие которого французы приписывают себе, разгорается спор между обеими группами. Неужто берлинцы с их утонченными методами и впрямь проглядели коротко живущий продукт облучения? Они считают его скорее фантомом. Намекая на знаменитую девичью фамилию руководительницы Парижского института, немцы между собой называют спорный изотоп «кюриозом».
В январе 1938 года Ган и Мейтнер написали французским коллегам письмо и снисходительно намекнули, чтобы те взяли назад утверждение о том, будто эта радиоактивная субстанция существует. Тогда, мол, они откажутся от критики в специальной периодической печати. В Париже действительно последовали благожелательному совету из Берлина, однако новая интерпретация не вносит никакой ясности. А именно, что 3,5-часовое тело имеет сходство с лантаном — серебристо-белым редкоземельным элементом с порядковым числом 57. Неужели они искусственно получили радиоактивный изотоп лантана? Не может быть, чтобы одиночный, медленный нейтрон проник в ядро с такой энергией, что оказался способен отколоть от атома урана такой крупный обломок. Это противоречит всем общеизвестным представлениям о состоянии стабильности в атомном ядре. Прямо-таки абсурдная идея, напоминающая о своевольном толковании Идой Ноддак первого трансуранового эксперимента Энрико Ферми.
Когда Ирен Жолио-Кюри в сентябре 1938 года публикует свое предположение о лантане, ротный старшина Вернер Гейзенберг все еще упражняется в обращении с оружием и перепахивает на брюхе окрестности Зонтхофена со своими горными стрелками. Его подразделение, как и все прочие войсковые части, приведено в состояние полной боевой готовности. Выданы боевые патроны. Мир затаил дыхание, пока Гитлер ведет скрытую борьбу за присоединение Судетской области. Эта область охватывает возвышенности и долины Рудных гор между Богемией, Моравией и Силезией. Он неприкрыто грозит чехам и всему миру военным ударом. Двадцать девятого сентября он наконец получает то, что хотел. Итальянский диктатор Муссолини, премьер-министр Англии Невилл Чемберлен и премьер-министр Франции Эдуард Даладье дают ему в Мюнхене свое согласие на присоединение Судетской области к Германскому рейху. Не раздается ни единого выстрела, и резервисты могут наконец отправляться домой. Пожертвовав целое лето на военные маневры, Вернер Гейзенберг вернулся в Лейпциг лишь в октябре. Теперь урановые рудники в богемском Санкт-Йоахимстале с их доходной смоляной обманкой принадлежат рейху.
В октябре 1938 года Отто Ган и Фриц Штрассман используют для облучения своих проб урана препарат из бериллия с радием. И, судя по всему, выходят на след одного важного явления. Они считают, что запутанные результаты французов заслуживают проверки, и устанавливают свою нейтронную пушку. Десять дней спустя из урана выделено уже шестнадцать радиоактивных «тел» — как называют в Далеме продукты облучения — с различными периодами полураспада. Из-за такого инфляционного развития событий изначальная концепция Ферми о трансурановых элементах пошатнулась.
Теперь в Берлине остро недостает ума Лизы Мейтнер и независимости ее интерпретаций. В Стокгольме она чувствует себя отодвинутой на задний план, ей приходится отдельно просить о каждом приборе и каждом препарате. Руководитель лаборатории Манне Зигбан явно не интересуется ее богатым опытом и познаниями. Он полностью зациклен на циклотроне, который строит в Беркли Эрнест Лоуренс. Таким образом, Лиза Мейтнер в шведском изгнании — не более чем терпеливая беженка и плохо оплачиваемая лаборантка. Тем оживленнее развивается переписка между Мейтнер и Ганом. Она жадно выпытывает у него всякую информацию об экспериментах в Институте кайзера Вильгельма, дает советы и отваживается ставить диагнозы на расстоянии, все еще чувствуя себя
В начале ноября оба радиохимика убеждены, что при помощи подложки бария выделили из облученной пробы урана три доселе неизвестных искусственных изотопа радия. В высшей степени необычное открытие, если учесть, что радий, будучи 88-м элементом, имеет на четыре ядерных заряда меньше, чем 92-й элемент уран. И они выдвигают смелое предположение, что радий возник путем отщепления этих четырех ядерных зарядов от урана — тезис, не менее отважный, чем идея трансурановых элементов. Ибо ядерные физики все еще ориентируются на эмпирическое правило, что медленный и тем самым энергетически слабый нейтрон не может выбить из ядра больше одной частицы. Но авторы работы смогли исключить присутствие любых других химических элементов, кроме радия и подложки бария. Следовательно, рассматриваться мог только радий. Их статья появляется в печати восьмого ноября 1938 года, на другой день после шестидесятилетия Мейтнер, в журнале «Естественные науки».
В ночь с девятого на десятое ноября 1938 года по всей Германии бьют окна еврейских жилищ и магазинов. Евреев гонят и издеваются над ними, их собственность разрушается и разграбляется. Несколько сотен человек убиты или доведены до самоубийства. Более тысячи синагог и залов для собраний охвачены огнем. Эти злоупотребления, санкционированные режимом, — начало систематического уничтожения еврейского народа. В берлинское личное дело Мейтнер теперь вписывается дополнительное имя: «Сара».
Посетитель, впервые вошедший в эту осень в фойе Химического института кайзера Вильгельма на Тиль-аллее в берлинском Далеме, чтобы поговорить с Ганом или Штрассманом, ищет направление, полагаясь на свой нюх. В воздухе висит своеобразный резкий запах, который становится все интенсивнее по мере приближения к большой химической лаборатории Гана на первом этаже. В ответе за основную ноту институтского аромата — явно соли азотной кислоты. За двадцать пять лет испарения пропитали все столы и стулья, полки и царапины на них. Помещение для облучения и комната для измерений находятся — как и у Энрико Ферми в Риме — в противоположных концах коридора, чтобы исключить ошибку измерений между источником нейтронов и облученным ураном. Когда Фриц Штрассман в своем процессе разделения радиоактивных веществ манипулирует с высококонцентрированной соляной кислотой и ядовитым хлоридом бария, тут и выступает на первый план едкая головная нота институтского аромата — короткое сильное пощипывание в носу и отчетливо горький вкус на языке и нёбе, который Гану — специалисту по отравляющим газам — уже не мешает. Сердечная нота аромата развертывается лишь тогда, когда господин директор разрешает себе во время работы сигару и пряные табачные клубы слегка оттесняют кислоты на задний план.
По настойчивому совету Нильса Бора и Лизы Мейтнер Ган и Штрассман еще раз повторяют их попытку получить при облучении урана искусственные изотопы радия. С лихорадочной деловитостью они вновь бомбардируют свою пробу урана, следят за счетчиком Гейгера, сменяют друг друга поздним вечером и вводят даже ночные смены. Но в первую очередь они доверяют разделяющей силе их «красивого маленького кристалла хлорида бария», который они годами в упорных трудах очищали от всех примесей. Сейчас они еще раз должны чисто выделить три изотопа радия из облученного урана так, чтобы не примешивались следы других продуктов распада. Ведь барий как средство разделения действует на все щелочно-земельные металлы — например, на бериллий, магний и радий. Сам барий тоже принадлежит к этому семейству. Химическое родство между разделяющим веществом барием и извлекаемым радиоактивным веществом отвечает за то, что лучистый член семейства застревает в промежуточном пространстве кристалла хлорида бария и вымывается из раствора. Даже если в процессе превращения выскочит всего лишь такое не поддающееся взвешиванию количество, как пара тысяч атомов — несколько триллионных долей грамма. Ган и Штрассман хотят доказать физикам-скептикам в Копенгагене, Стокгольме и где бы то ни было, что они, радиохимики из Далема, своей находкой, возможно, открыли новую перспективу для ядерной физики.
На грубо сколоченном деревянном столе в помещении для облучения лежит грязно-желтый кругляш, блок парафина, в середине которого просверлена дыра. В нее вставлена ампула с солями радия и порошком бериллия — берлинский источник нейтронов. Случайная находка Энрико Ферми, что парафин замедляет нейтроны бериллия и благодаря этому повышает вероятность их проникновения в ядро урана, стала уже неотъемлемой составной частью стандартного процесса получения трансурановых элементов. В измерительной комнате определяется радиоактивность облученных проб. Здесь воображение Лизы Мейтнер и ловкость рук Отто Гана произвели неповторимую череду аппаратуры, которая в тысячу раз чувствительнее обычных методов измерения. Когда-то, лет тридцать назад, Ган научился у Рамсея и Резерфорда делать примитивную, но вполне пригодную аппаратуру для измерений из консервных банок и старых емкостей из-под масла. Так же и теперь он сам мастерил для себя счетчики Гейгера. Они были скрыты в раскладных свинцовых ящичках и подсоединялись к усилителям серебристыми вакуумными трубками, которые, в свою очередь, тоже были соединены с электрическими счетными устройствами. Переплетения проводов вели к 90-вольтовым батареям, формой и размерами напоминавшими коробку сигар. Они стояли на вставном днище под столешницей.
Когда десятого декабря 1938 года Энрико Ферми вручается Нобелевская премия по физике — за его новаторские эксперименты с искусственной радиоактивностью и за открытие медленных нейтронов, — дуэт из Далема, еще сам того не ведая, прямиком движется к событию, которое не только доведет до абсурда четыре года исследований трансурановых элементов, но и до основания потрясет ядерную физику. В середине декабря они сталкиваются с ошеломляющим фактом, что их искусственный радий, полученный после облучения урана, химически ведет себя вовсе не как радий. Ибо при первом выделении он не концентрируется в таких однозначных количествах, как они привыкли ждать от этого элемента. В субботу, семнадцатого декабря 1938 года Ган отправляется в финансовое управление, где опять пытается ускорить ход заявления Лизы «Сары» Мейтнер на получение пенсии. Он еще надеется подтолкнуть делопроизводителя при помощи контролируемого приступа ярости. Однако тактика волокиты в органах нацелена в перспективе на полное присвоение еврейской собственности и на отказ беглым евреям в их притязаниях на пенсию.
В тот же вечер Ган и Штрассман начинают решающий эксперимент, который должен подтвердить превращение облученного урана в искусственный радий. На столе в помещении для облучения лежат пятнадцать граммов чистого урана в свинцовом лотке в пределах досягаемости источника нейтронов. После двенадцати часов облучения Фриц Штрассман отделил предполагаемый радий от урановой пробы. Теперь он присутствует в виде смеси с барием. Однако в трех следующих друг за другом попытках отделения он не поддается изоляции и остается равномерно распределенным в барии. Это значит, что их предполагаемый радий ведет себя как барий. В качестве контрольного испытания они добавляют сюда природный радий, чтобы установить, не будет ли он реагировать так же странно, как его искусственный двойник. Однако, как и ожидалось, он концентрируется при первой же попытке отделения. Как химики, Ган и Штрассман вынуждены сделать из этого результата вывод, что нашли никак не радий, а сам барий. Ведь теоретически это было возможно, ибо барий, как средство отделения, может вытягивать из раствора все щелочно-земельные металлы. А к ним относится, естественно, и сам барий. В тот вечер семнадцатого декабря 1938 года все протоколы, графики измерений и контрольные испытания говорят на одном языке. Это не может быть никакой другой элемент, кроме бария, и это не «трансуран».
Но как станут реагировать на эту химическую находку ядерные физики? Единственно мыслимым физическим объяснением существования бария с зарядом ядра 56 было бы расщепление ядра урана на обломки средней величины. Уж если Нильс Бор в середине ноября был так огорчен одним только допущением Гана о том, что от ядра урана было «отколото» четыре заряда, то что же с ним будет при разности в 36 ядерных зарядов между ураном и барием? Ведь здесь речь пойдет уже не о мелком осколке. Поздним вечером в понедельник, девятнадцатого декабря, Ган еще в лаборатории пишет письмо Лизе Мейтнер, сообщая ей «ужасное заключение», к которому они со Штрассманом пришли субботним вечером: что радий ведет себя как барий. «Я договорился со Штрассманом, что мы скажем об этом пока только тебе. Вдруг ты сможешь предложить какое-то фантастическое объяснение. Мы сами знаем, что уран вообще-то
В среду, двадцать первого декабря 1938 года Лео Силард сидит у себя в комнате в нью-йоркском отеле Кing's Crown и пишет письмо в британское Адмиралтейство. Три года назад он отписал военно-морскому флоту свой патент на ядерную цепную реакцию в намерении уберечь его от захвата немцами. С тех пор свободный физик все свои силы прилагал к тому, чтобы воплотить свою мечту о высвобождении атомной энергии. Вначале он потчевал нейтронами бериллий. Потом облюбовал элемент индий. Опять безуспешно. Для дальнейших экспериментов ему не хватает денег. Состоятельные предприниматели, судя по всему, не видят для себя выгоды от планов Силарда производить недорогую энергию. Их раздражает, что он не хочет выложить им все, что знает, его скрытность кажется им подозрительной.
Подгоняемый страхом, что сама военная необходимость подскажет немецкому диктатору идею атомной энергии, Силард настаивает на строгой секретности даже в разговорах о коммерческих перспективах. А когда какой-нибудь заинтересованный спонсор, далекий от этой темы, пытается навести справки у коллег Силарда, те лишь пожимают плечами, ссылаются на пренебрежительный отзыв Резерфорда: мол, все это «moonshine», или с наслаждением цитируют слова Альберта Эйнштейна о пользе бомбардировки атомного ядра нейтронами: «Это все равно что ночью стрелять по птицам, да к тому же в местах, где не так много птиц». На грани финансового краха, сокрушенный неудачными экспериментами, Лео Силард сдается за три дня до Рождества. Он просит британское Адмиралтейство вернуть ему патент на ядерную цепную реакцию, поскольку дальнейшее сохранение секретности бессмысленно.
В тот же день авиаписьмо Отто Гана с сенсационной новостью приходит в Стокгольм. И Лиза Мейтнер отвечает на него в тот же вечер, двадцать первого декабря: «Ваши результаты с радием ошеломляющи. Процесс, идущий с медленными нейтронами и приводящий к барию!.. Пока что мне трудно принять такой далеко идущий разрыв ядра, но мы уже пережили в ядерной физике столько неожиданностей, что нельзя сказать просто: это невозможно!». Это, конечно, еще нельзя считать официальным признанием от ученого-физика. Тем не менее Мейтнер, похоже, сразу свыклась с физической интерпретацией ее коллег-химиков. Это удивительно, ведь у нее почти не было времени на размышления. Свой комментарий она пишет в тот же вечер. Уж не вспомнила ли она в тот волнующий час Иду Ноддак, которая еще четыре года назад, после эксперимента Ферми, предсказывала распад ядра на «крупные обломки»?
Не секрет, что в Далеме свысока поговаривали о конкурентке в списке кандидатов на Нобелевскую премию: «Ган весьма грубо высказывался, что у него язык не повернется процитировать абсурдную гипотезу госпожи Ноддак о разрыве атома урана, иначе ему пришлось бы опасаться за свое доброе имя ученого». Далемское трио не жаловало госпожу Ноддак. И это чувство было взаимным. Но в высшей степени невероятно, чтобы ни Ган, ни Мейтнер не подумали о ней, употребляя в своих письмах ключевое слово — «разрыв» ядра. Податливая реакция Мейтнер на предложение Гана показывает и то, как велико еще их взаимное доверие. Она не ставит под сомнение далемские результаты и может порадоваться эксклюзивности сообщения. Еврейка в шведском изгнании посвящена, тогда как «арийские» физики в институте Гана даже не догадываются об удивительном эксперименте в соседней комнате. Для Гана и Штрассмана, в свою очередь, ее осторожное одобрение — стимул к продолжению усилий.
В своей благодарственной речи по случаю вручения Нобелевской премии Энрико Ферми называет «гесперием» предполагаемый трансурановый элемент 94. В греческой античности Гесперией возвышенно называли Италию. Однако в современной Гесперии царят отнюдь не возвышенные обстоятельства. В сентябре 1938 года Муссолини тоже вводит первые антисемитские законы. Одна фашистская газета упрекает Ферми, что его Институт физики превратился в синагогу. Католик и его еврейская жена Лаура решают навсегда покинуть Италию со своими двумя детьми. Ферми подает заявление итальянским властям на шестимесячную поездку в США. На самом деле у него уже есть предложение от Колумбийского университета в Нью-Йорке о профессуре. Так семья Ферми, воспользовавшись пребыванием в Стокгольме, двадцать четвертого декабря садится в Саутгэмптоне на пароход до Нью-Йорка. Служащая американской иммиграционной службы подвергла свежеиспеченного лауреата Нобелевской премии положенному по закону тесту на интеллект. И он выдержал этот экзамен. Лаура Ферми пишет:
— Сколько будет пятнадцать плюс двадцать семь? — спросила она Энрико.
Тот невозмутимо ответил:
— Сорок два.
— Сколько будет двадцать девять, деленное на два?
— Четырнадцать с половиной, — сказал Энрико.
Убедившись, что он в здравом уме, служащая перешла к следующему кандидату.
В эту среду, двадцать первого декабря, Отто Ган тоже не находит покоя. Не дожидаясь ответа Мейтнер, он пишет ей поздним вечером еще одно письмо: «А как было бы хорошо, если б сейчас мы могли работать вместе, как прежде...» Начались рождественские праздники, и институт уже закрыт. Штрассман как раз отключает счетчики Гейгера, работавшие в непрерывном круглосуточном режиме. Но тут им обоим стало невтерпеж опубликовать результаты. Сообща они пишут статью о поразительной находке бария в облученном уране — элемента, который на тридцать шесть ядерных зарядов легче урана. «Мы не могли молчать о наших результатах, хотя они и были, может быть, абсурдны с точки зрения физики... В пятницу нашу статью отнесли в
Письма между Стокгольмом и Берлином разминулись, и Ган слишком поздно узнал, что Лиза Мейтнер в ту самую пятницу уехала в курортное местечко Кунгельв под Гётебогом на западном побережье Швеции. Там живет семья ее подруги Евы фон Бар-Бергиус. С ними она хочет отпраздновать свое первое Рождество в изгнании. Среди приглашенных и племянник Мейтнер, ядерный физик Отто Роберт Фриш. Ему тридцать четыре года, и он уже четыре года работает в институте Бора в Копенгагене. В качестве приветствия ему не терпится похвастаться тетке своим проектом нового гигантского магнита. Но она и слышать ничего не хочет, у нее своя сенсация: она дает ему прочесть письмо Гана.
Когда тетка и племянник в этот канун Рождества — она в сапогах, он на лыжах — отправляются в заснеженный лес поговорить, звездного часа физики еще ничто не предвещает. Фриш после прочтения письма колеблется между смятением и зачарованностью, тогда как Мейтнер за три дня уже свыклась с фактом существования бария в качестве обломка урана и теперь ломает голову над убедительным объяснением. Ошибку Гана и Штрассмана, что поначалу предполагает Фриш, она исключает. Но оба и не могут представить себе ядро урана как некое хрупкое тело, которое может расколоться наподобие оконного стекла. И вскоре они приходят к более гибкой и близкой к действительности картине, а именно к модели атомного ядра в виде капли жидкости, предложенной Нильсом Бором. Поверхностное натяжение удерживает каплю, препятствуя ее распаду. Нельзя ли применить эту мысль к атомному ядру? «Могучая ядерная сила», удерживающая ядро в целости, могла бы взять на себя функцию поверхностного натяжения, приходит в голову Фришу. Но электрический заряд ядра действует против ядерных сил. И как раз уран — с его наивысшим в природе ядерным зарядом — располагает огромными силами внутреннего отталкивания.
И вот походники уже сидят на стволе поваленного дерева, нарыли в карманах какие-то бумажки и принялись считать. «Мы нашли, — вспоминает Фриш, — что заряда ядра урана действительно хватит на то, чтобы почти полностью преодолеть поверхностное натяжение. То есть ядро урана действительно можно уподобить шаткой, нестабильной капле, которая при малейшей провокации, как, например, при столкновении с единственным нейтроном, может развалиться на две части». И хотя оба уже много лет знакомы с капельной моделью, они явно первыми применили эту модель к процессу деления ядра, которое до сих пор считалось невозможным. Итак, если на ядро действует сила, оно вытягивается в длину — и возникает образование в форме гантели. В конце концов оно перетягивается посередине, пока не разделяется на два приблизительно равных, более легких ядра. Продолжая обсуждать и считать, они дивились динамике этого процесса. Ибо после деления обе «капельки» разлетаются в разные стороны — из-за их взаимного отталкивания — с бешеной скоростью в тридцать тысяч километров в секунду. Энергия ускорения, необходимая для этого, должна бы, по их подсчетам, составлять около двести миллионов электронвольт.
В поиске источника этой энергии Лиза Мейтнер вспоминает формулу расчета массы ядра. Она обнаруживает, «что два ядра... в сумме будут легче, чем исходное ядро урана; разница составила около одной пятой массы протона. Но если масса исчезает, то возникает энергия по формуле Эйнштейна E=mc2, по ней одна пятая массы протона как раз и соответствует 200 миллионам электронвольт. Вот и источник энергии: все сходится!». Эврика! Это и могло быть объяснением результатов Гана. Именно так должно было возникнуть отщепленное ядро бария с пятьюдесятью шестью протонами. А вторым обломком мог быть, например, криптон с его 36 протонами, в сумме они дают 92, число заряда урана. Мейтнер намеревается направить Гана по следу криптона. Энергии, высвободившейся при делении одного-единственного ядра урана, достаточно, «чтобы слегка подбросить вверх песчинку видимых размеров» — так Фриш визуализирует значение двухсот миллионов электронвольт. Хоть пример и не особо сенсационный, однако стоит вспомнить, что в одном грамме урана таких атомов теснится - около 2 500 000 000 000 000 000 000. Если из них взорвется лишь каждое тысячное ядро, то поднимется весьма ощутимая песчаная буря.
В первые дни нового 1939 года Лизу Мейтнер разрывают внутренние противоречия. Если они вдвоем с племянником попали в точку с их объяснением гановской находки бария, то это означает: начиная с 1934 года, Ферми в Риме, супруги Жолио в Париже и трио в Берлине, сами того не ведя, расщепляли ядра урана. При этом, надо думать, не было открыто никакого трансурана. Напрашивается подозрение, что «аузоний» и «гесперий» Ферми с их предположительными 93 и 94 протонами, равно как и «далемские трансураны» 95 и 96 — не более чем объединившиеся более легкие фрагменты расщепления урана. Неужто работа прошедших четырех лет была сплошной ошибкой, а как раз придира Ноддак и подала прозорливую, светоносную идею? С другой стороны, а вдруг Мейтнер с Фришем совершили сенсационное теоретическое открытие — поздний триумф, несмотря на жалкое положение Мейтнер. Вот уже полгода она ютится в крошечной комнатке отеля с наполовину распакованными чемоданами. Когда она пишет, все бумажки и наброски ей приходится раскладывать на кровати, на стульях и чемоданах. У нее нет «буквально ничего, кроме пары платьев». И руководитель института Манне Зигбан не упускает случая дать ей понять, что она здесь всего лишь непрошеный гость.
По возвращении в Копенгаген Фриш сразу рассказывает Нильсу Бору о креативной рождественской прогулке в Швеции. И шеф, обычно весьма скептичный, загорается энтузиазмом: «Ах, какие же мы были идиоты! Ах, какое чудо! Так и должно было случиться! Вы с Лизой Мейтнер уже что-нибудь написали об этом?». Статья для журнала
Когда в пятницу, шестого января 1939 года научный мир читает статью Отто Гана в
Вечером того шестого января Отто Роберт Фриш и Нильс Бор сидят в Копенгагене и обговаривают будущую статью для
Во вторую неделю января — Отто Ган в Берлине напряженно ждет откликов на свою статью — в Нью-Йорке сталкиваются два физика, которые представляют полную противоположность друг другу как по характеру, так и по подходу к работе. Энрико Ферми только что прибыл в Новый Свет со своей семьей и остановился в отеле рядом с Колумбийским университетом. Эмигранты собираются пожить здесь до тех пор, пока не подыщут себе квартиру. Лео Силард немало удивлен, увидев однажды утром в вестибюле своего отеля великого Энрико Ферми. Тот поселился как нарочно в King's Crown, где живет и Силард. Который сразу же подумал о персте судьбы. Ибо он убежден, что является идеальным партнером для первооткрывателя медленных нейтронов. С 1936 года визионер Силард то и дело пытается воодушевить вдумчивого практика Ферми идеей цепной ядерной реакции. Столь же безуспешно он годами охотился за подходящим элементом, в котором после обстрела нейтронами случится цепная реакция. Ферми же, напротив, хотя и исследовал как раз нужное вещество, но пока даже не догадывается, что с момента легендарного эксперимента в искусственном пруду во дворе своего института в октябре 1934 года только и делает, что расщепляет ядра урана. Новость о расщеплении ядра пока что не дошла ни до одного из них.
Прощаясь на вокзале в Копенгагене, Нильс Бор обещал своему сотруднику Роберту Фришу, что никому не расскажет о физическом истолковании радиохимической находки Гана до тех пор, пока в
Сенсацию такого масштаба долго в тайне не удержишь. Если о ней узнает один физик, он все равно проговорится, если не захочет лопнуть от гордости и от счастья, что принадлежит к узкому кругу — стремительно растущему — лиц, допущенных к секретным сведениям. Его ближайший собеседник, в свою очередь, должен поручиться честью, что непременно будет хранить молчание, — и с легкостью ручается в любопытном ожидании, чтобы потом, со своей стороны, потребовать того же от своего доверенного человека. Даже удивительно, как это Бор сумел сдержаться, когда его в порту встречал не кто иной, как Энрико Ферми, вместе с доцентом Принстона Джоном Арчибальдом Уилером, пригласившим Бора в США.
Невозможно в точности реконструировать основные пути разглашения этого секрета. Знаменитые участники событий по-разному вспоминают, кто из них какое место занимал в информационной цепочке в те волнующие дни января 1939 года. Непротиворечиво лишь одно: источник слухов — Принстон, расположенный в ста километрах к юго-западу от острова Манхэттен. Здесь пребывают Боры и Розенфельд, который еще в поезде из порта в Принстон ввел Джона Уилера в курс. В лабораториях, в холлах и кафетериях университета на Восточном побережье новое знание распространяется со скоростью пожара.
Даже в стационаре Принстонской больницы это не секрет. Через несколько дней после прибытия Бора в Нью-Йорк туда приходит Лео Силард навестить своего больного желтухой земляка, венгерского физика Юджина Вигнера. Посетитель не успел снять шляпу и пальто, как Вигнер уже ошарашил его этой новостью. Берлинскому студенческому другу Вигнера не требовалось приносить присягу Бору на обет молчания или покушаться на научный приоритет Фриша и Мейтнер. Силард был, пожалуй, единственным физиком в мире, который сам бы наложил строгий запрет на все разговоры об открытии расщепления ядра, если бы обладал для этого достаточной властью. «Я мгновенно понял, что эти фрагменты расщепления должны быть тяжелее, чем это соответствует их зарядам. Поэтому они и отдавали лишние нейтроны. И если в этом процессе расщепления образуется достаточно нейтронов, то осуществится и цепная реакция. Все предсказания Г. Дж. Уэллса вдруг показались мне весьма реалистичными». Теперь он непременно должен был поговорить с Ферми.
Тот узнаёт об этом приблизительно в то же время от молодого ученого Уиллиса Ламба, который, в свою очередь, называет в качестве источника разговор с Бором в узком кругу — разумеется, строго секретный. Или то был Джон Уилер? Собственная динамика новости уже неуправляема. Герберт Андерсон, впоследствии сотрудник Ферми, рассказывает, что Бор через пару дней не выдержал в Принстоне, сел в поезд до Нью-Йорка и ворвался в Колумбийский университет, чтобы лично наконец посвятить в эту тайну Ферми. Не подозревая, что Ламб опередил его. Не застав Ферми, он побежал к Андерсону, схватил того за плечи своими вратарскими клешнями и заклинающе обратился к нему: «Послушайте, молодой человек, сейчас я сообщу вам нечто поистине важное...».
Лео Силард, однако, настаивает на своей версии, что Ферми поначалу оказался на удивление устойчив к «бацилле» расщепления ядра. Дескать, он считал результаты Гана и интерпретацию этих результатов не более чем «курьезом». То, что Ферми реагировал поначалу сдержанно, становится понятно, если вспомнить все достижения, связанные с его именем, — теперь они уже не воссияют в столь ярком свете, как прежде. Каких-то пять недель назад он представлял шведскому королю аузоний и гесперий как первые элементы, произведенные человеком. И теперь эти «трансураны» после берлинской находки оказываются всего лишь фрагментами расщепления урана? Нобелевская речь Ферми как раз должна была уйти в печать. Ему следовало отреагировать хотя бы сноской.
Конечно же его гложет досада, что он в своих исторических экспериментах проглядел расщепление ядра. Анализ ошибок не заставил себя долго ждать. Ему и его сотрудникам не дано было сделать это открытие, потому что они вводили тонкую алюминиевую фольгу между препаратом урана и счетчиком. Она должна была не пропустить к счетчику природную радиоактивность урана. Но она же была и виной тому, что фрагменты расщепления не доходили до детектора.
Однако не только Ферми сокрушен, что у него из-под носа увели значительное открытие. Того самого шестнадцатого января, когда Нильс Бор прибывает в Нью-Йорк, Фредерик Жолио впадает в шоковое оцепенение. В его парижскую лабораторию только что поступил экземпляр журнала
Поздним вечером двадцать пятого января 1939 года Герберт Андерсон, «захваченный» Бором, проводит в Институте физики Колумбийского университета в центре Манхэттена эксперимент, который он спланировал вместе с Ферми. В отличие от замысловатого и требующего времени химического анализа с ядами и соляной кислотой, который Ган и Штрассман могли проводить лишь потому, что были одними из лучших в мире специалистов своего дела, в экспериментальной установке Андерсона расщепление ядра без труда считывалось с экрана. Его детектор излучения представляет собой ящичек, в котором находятся две электрически заряженные металлические пластины и пленка, на которую нанесен уран. Источник нейтронов — испытанная радоно-бериллиевая смесь — находится снаружи камеры. Если нейтроны и впрямь расщепляют ядра урана, то заряженные фрагменты расщепления будут электризовать атомы воздуха в детекторе. Тогда они будут собираться на металлических пластинах, которые через усилитель подключены к осциллографу. Андерсон знает, что альфа-частицы, испускаемые ураном при естественном радиоактивном распаде, вызовут в горизонтально бегущем зеленом луче осциллографа вертикальные всплески высотой от двух до четырех миллиметров. Но расщепление ядра урана должно произвести на крошечном экране куда более высокий выброс зеленого луча.
Сам Ферми в этот вечер как нарочно уже в Вашингтоне, где Бор на следующий день откроет Пятый конгресс по теоретической физике и сам же прочитает второй доклад заседания. В тот день двадцать шестого января Нильс Бор — теперь уже официально — представит коллегам, съехавшимся со всей Америки, феномен расщепления ядра, сославшись при этом на первых интерпретаторов Лизу Мейтнер и Отто Фриша. Реакция еще не посвященных сильно различается — от недоверчивого удивления до спонтанного интуитивного одобрения. Не успела утихнуть первая дискуссия, как из Парижа приходит телеграмма, в которой Фредерик Жолио сообщает, что он повторил опыт Гана и Штрассмана и экспериментально подтвердил расщепление ядра. Между тем в Нью-Йорке Герберт Андерсон не договорился толком с руководителем своего отдела о том, кто из них позвонит Ферми в Вашингтон и расскажет о том, что показал накануне вечером осциллограф. Каждый был уверен, что другой наверняка уже бросился к трубке. В итоге не позвонил никто.
Лео Силард, наверное, лишился бы дара речи, если б услышал доклад Ферми в Вашингтоне. Ибо тот недвусмысленно указывает на то, что Фриш и Мейтнер в своей интерпретации проглядели цепную реакцию, которая может начаться с расщеплением ядер. Правда, в отличие от Силарда, Ферми все эти две недели постоянно недооценивает эту возможность. Неужто и впрямь наконец пришло время поработать над цепной реакцией вместе с Ферми — конечно, в условиях строгой секретности?
В то время как отдельные участники конгресса в Вашингтоне уже посреди доклада Ферми вскакивают и бросаются вон из зала, чтобы позвонить своим лаборантам и коллегам и дать указания для собственных опытов, в Нью-Йорке в этот день двадцать шестого января 1939 года один человек влачит свое ослабленное гриппом тело к конторе «Вестерн Юнион» на Бродвее и дает телеграмму. Она адресована в британское Адмиралтейство и гласит — коротко и ясно: «Касательно патента 8142/36 просьба игнорировать мое последнее письмо тчк письмо последует Лео Силард».
К числу участников конференции, не дослушавших в этот вечер четверга доклад Ферми до конца, принадлежат и Лоуренс Хефстед с Ричардом Робертсом. Они спешат в подвал здания факультета земного магнетизма в Институте Карнеги в Вашингтоне и готовят простой эксперимент, схему которого только что набросал на доске Ферми. Это и есть опыт, который накануне вечером должен был реализовать в Нью-Йорке Герберт Андерсон. При этом два физика наталкиваются на технические трудности, с которыми они справятся лишь через два дня. К вечеру двадцать восьмого января они регистрируют нечто необычное. Они звонят Бору, и тем же вечером тот вместе со своим сыном Эриком, с Энрико Ферми, Эдвардом Теллером и еще несколькими коллегами, одетыми по случаю конференции в костюмы в тонкую полоску, спускается по железной лестнице в холодный институтский подвал. Когда Робертс включает осциллограф, сразу становятся заметны альфа-частицы со своими всплесками высотой в два миллиметра. Проходит целая минута, прежде чем по экрану метнулась вверх первая зеленая молния в тридцать пять миллиметров. Господа, собравшиеся в подвале, впечатлены и думают, что стали свидетелями первого непосредственно наблюдаемого расщепления ядра урана в Соединенных Штатах. Однако право на эту привилегию Колумбийский университет зафиксировал за Гербертом Андерсоном, когда он за три дня до этого в Манхэттене за один час насчитал на осциллографе тридцать три сильных всплеска.
В своем воскресном выпуске от двадцать девятого января газета
Пока в этот последний январский выходной осциллографы физических лабораторий по всему Восточному побережью США убеждали последних скептиков в начале новой эры физики, институты Западного побережья, похоже, спали столетним летаргическим сном. Никто из именитых физиков Калифорнии не решился на трехдневную поездку на поезде, чтобы принять участие в вашингтонской конференции, которая официально была посвящена физике низких температур. И поэтому Роберт Оппенгеймер проводил свой выходной, не ведая об удивительном поведении урана.
В понедельник, тридцатого января весть о расщеплении ядра приносит и
Кто опубликует гипотезу первым, тот ее первым и придумал. Таковы правила в научном мире, даже если к этому времени к тем же самым выводам пришла уже дюжина лучших ученых. В своей второй статье от десятого февраля 1939 года Отто Ган и Фриц Штрассман теперь впервые говорят о доказанном расщеплении ядра урана, но в качестве следующего новшества выражают подозрение, что в процессе расщепления ядра высвобождаются дополнительные нейтроны — условие, необходимое для возникновения цепной реакции. Экспериментально доказать это они не могут. Роберте и Хефстед тоже пускают свою атомодробилку в Вашингтоне на поиски избыточных нейтронов. С таким же намерением Энрико Ферми погружает свой источник излучения в бак с водой. Бак стоит в подвале Колумбийского института физики. В это же самое время Лео Силард на седьмом этаже того же здания заарканил канадского стажера Вальтера Цинна для своих целей. Сообща они организовали свой эксперимент настолько тонко, что световые всплески на осциллографе на сей раз показывали не выбросы энергии расщепления ядра, а нейтроны, высвобождающиеся в каждом процессе расщепления.
Вечером третьего марта наконец все готово. Силарду оставалось лишь переключить тумблер и наблюдать за экраном. «Мы видели молнии. Некоторое время мы наблюдали за ними, а потом отключили все и пошли по домам». Вскоре после этого один таинственный телефонный звонок отвлек Эдварда Теллера от музицирования. Он как раз сидит за фортепьяно, его друг играет на скрипке, и вдвоем они стараются «заставить Моцарта звучать, как Моцарт», — вспоминает Теллер. Мужчина по телефону произносит по-венгерски одну-единственную фразу: «Я нашел нейтроны» и кладет трубку. Для одинокого пешехода по пути в отель King's Crown больше нет сомнений, что земля неизбежно пойдет прямиком к катастрофе, если он не сохранит в тайне найденное сегодня доказательство появления избыточных нейтронов как необходимое условие для атомной бомбы.
Силард и в Америке придерживается полюбившейся ему еще в Берлине привычки непрошено слоняться по лабораториям и раздавать получающим зарплату коллегам бесплатные советы вечно безденежного selfmademan'а. Одна из его излюбленных жертв — Исидор Раби. Мучитель Силард всякий раз угощает его новой идеей эксперимента, пока однажды у Раби не лопается терпение: «А не пошел бы ты отсюда, — злится он. — Ведь ты уже всю физику наизнанку вывернул. У тебя просто слишком много идей. Иди домой, прошу тебя» . Сразу после своей находки избыточных нейтронов Силард наносит визит Ферми. Раз уж нобелиат устраивает свои водные шоу в том же здании, почему бы не зайти, не глянуть, все ли там в порядке, и не дать бедняге решающий совет.
Ферми поначалу огорошен советом Силарда, однако все же соглашается с тем, что нейтроны из его радоно-бериллиевого источника слишком быстрые, чтобы успешно коммуницировать с ядром урана. Поэтому Силард предлагает ему свой, более сподручный нейтрономёт, который лучше годится для наблюдений за высвобождением нейтронов, а именно: один грамм чистого радия. Не так давно Силард с восхищением убедился, что в Манхэттене, на этом великолепном острове с штурмующими небо домами, действительно можно купить все. Неподалеку оказалась даже корпорация «Эльдорадо радий», предлагающая радий напрокат. За пару сотен долларов можно пользоваться им три месяца. Деньги для этого Силард, естественно, тоже взял взаймы. С более эффективным источником нейтронов теперь и Ферми открывает «ровно два» освобождающихся нейтрона при каждом расщеплении ядра. И Силард неистово радуется, что ему удалось предложить Ферми, «изобретателю» медленных нейтронов, его же собственное открытие в качестве решения проблемы.
И вот оба иммигранта и молодой Андерсон сообща планируют новый великий эксперимент, который должен привести к более точным результатам. Ведь и находка Силарда была в конце концов не очень точной. Он тоже мог лишь приблизительно оценить число высвобождающихся при каждом расщеплении нейтронов: «около двух». Силарду удается так уболтать двух уроженцев России, которым принадлежит расположенная за углом корпорация «Эльдорадо радий», что они передают ему бесплатно пятьсот фунтов оксида урана. Правда, вольный исследователь, рожденный для независимости, отказывается оттаптывать себе ноги в трудоемком эксперименте в лаборатории у Ферми, выполняя скучную поденную работу — набивая грязный оксид урана в пятьдесят две тонкие трубки, замешивая растворы сульфата магния, а при необходимости еще и беря на себя ночные дежурства для наблюдения за радиоактивностью. В конце концов ведь решающий вклад в успех эксперимента он уже сделал — своей радийной пушкой и возом урана, — так он считает. Грязную работу могут сделать и другие. Тем не менее он соблюдает приличия и нанимает ассистента, который выполняет за него его долю работы, а сам опять оставляет себе время на обдумывание. Но когда наступает пора оценивать результаты, Силард снова тут как тут и радуется вместе со всеми, что при обстреле урана высвобождается нейтронов больше, чем захватывается. Однако в глазах Ферми Силард своим неколлегиальным поведением совершил «смертный грех». В своих будущих экспериментах он отказывается от сотрудничества с этим индивидуалистом. Но тот вовсе не придает этому значения и уже обдумывает новые опыты.
Правда, лавры за это открытие снискали не Силард и Ферми, а Фредерик Жолио-Кюри и его сотрудники Ганс Альбан и Лев Коварски. Спустя всего пять дней после неопубликованного результата опыта Силарда, проведенного третьего марта, они получают экспериментальное доказательство «более одного [высвобождающегося] нейтрона» и публикуют свой результат двадцать второго апреля в журнале
И снова интуиция Нильса Бора опережает всех и приводит к основополагающему открытию. Природный уран состоит из двух изотопов: на тысячу атомов урана-238 приходится семь атомов урана-235. Тут Бор, заручившись ежедневно нарастающими сведениями об опытах по расщеплению ядра, считает возможным выдвинуть гипотезу, что при облучении урана медленными нейтронами расщеплению подвержены лишь эти редкие ядра с 235 частицами. Мнение Бора заметно остудило рассуждения о спонтанно протекающей цепной реакции. Ибо что пользы от 3,5 высвобождающихся, по Жолио, нейтронов на каждый процесс расщепления, если они тут же навсегда поглощаются доминирующей массой ядер урана-238, так и не успев вызвать цепную реакцию?
Этой весной Бор уже вовсю обсуждает со своими принстонскими коллегами возможность создания бомбы. Технические трудности отделения изотопа уран-235 в достаточном количестве от уран-238 кажутся ему в то время все же непреодолимыми. Ведь оба изотопа почти не различаются ни по химическим, ни по физическим свойствам. Надо всю страну превратить в одну колоссальную урановую фабрику, чтобы достичь этой цели, — размышляет Нильс Бор.
Третьего марта 1939 года, в тот самый день, когда Силард оторвал своего земляка Теллера от его моцартовских этюдов, Отто Ган пишет Лизе Мейтнер длинное письмо. Он жалуется, что открытие расщепления ядра — по его ощущению — постепенно уплывает у них со Штрассманом из рук. Мол, по всей видимости, то, что научные журналы забывают упоминать их совместно опубликованные статьи и при этом питают особую благосклонность к Жолио-Кюри, как раз и позволяет сложиться впечатлению, будто французы одновременно вышли на тот же след, что и он со Штрассманом. Мол, Фредерик Жолио-Кюри уже позволяет чествовать себя во Франции как единственного открывателя расщепления ядра, а все дело кроется в его «подлом» трюке намеренно искаженного цитирования. Сенсационные всплески на осциллографах в американских лабораториях, моментально вразумляющие любого журналиста, вызывают куда больше шума, чем с трудом осуществимые химические доказательства расщепления ядра, которые скрупулезно собрали Ган и Штрассман. Физики, похоже, вырвали открытие из рук радиохимиков.
Ган уязвлен и яростно сражается против такой картины, сложившейся в научном сообществе. В конце концов, ведь он еще девятнадцатого декабря 1938 года смело писал в своем письме о «разрыве» ядра урана — тогда это утверждение еще противоречило всякому здравому физическому смыслу. Но и публикация его «дорогой Лизы» в
Старая подруга в Стокгольме утихомиривает его несколькими тычками в бок французов, однако соглашается с тем, что предубежденный против Гана читатель опубликованных до сих пор работ действительно может прийти к заключению, что Ган и Штрассман нуждались в помощи физиков, чтобы понять свое великое деяние. Со схожей бесцеремонностью высказывается позднее и Эйнштейн — что, разумеется, усиливает ярость Гана. Мейтнер сожалеет, что события приняли такой оборот, ведь и в ее с Фришем первой интерпретации находки далемцев оба первооткрывателя расщепления ядра упоминаются лишь вскользь и лишь однажды — и совсем не удостаиваются той оценки, какой Ган вправе был ожидать для открытия такого ранга. Он обижен и разочарован, однако ни в коем случае не сомневается в лояльности Мейтнер.
А когда восьмого марта Гану со всего мира приходят поздравления с шестидесятилетием — Нильс Бор тоже присылает телеграмму из Принстона, — к общему хору примешивается визгливый голос, который основательно портит юбиляру праздничное настроение. Ида Ноддак «на удивление недружелюбно» выступила в
Эта упрямая женщина ему опостылела. И он упускает шанс на примирительный жест и дает ей знать — опосредованно, через примечание редакции журнала, — что у него «нет ни времени, ни желания» отвечать ей. Чтобы затем уже окончательно хлопнуть дверью, ибо, дескать, «возможность распада тяжелых атомов на более мелкие обломки дискутировалась и раньше многими другими». Ган договорился с издателем
Лиза Мейтнер реагирует на Ноддак тоже необычайно резко и пишет Гану: «Я всегда знала, что... фрау Ида... неряшливая недотёпа. Саму ее статью я помню лишь смутно, что доказывает, насколько незначительной она была». Это звучит как самозащита. Мейтнер тоже хотела бы, чтоб публикация ее трактовки расщепления ядра считалась самой первой. И уж меньше всего ей хотелось, чтобы эта фрайбургская «недотёпа» отхлестала ее по ушам той горькой правдой, что все ее трансураны на самом деле были не чем иным, как фрагментами расщепления ядра. Издателю
В это время Ган вместе с двумя инспекторами государственной литературной палаты отсортировывает из личной библиотеки Мейтнер запрещенные и нежелательные книги, чтобы хотя бы этот изрядно пощипанный состав можно было наконец перевезти в Стокгольм. Книги Томаса Манна Ган предусмотрительно изъял оттуда заранее.
«Там снаружи ждет этот итальяшка, который хотел с вами поговорить, сэр». Адъютант адмирала Стэнфорда Хупера говорит так громко, что Энрико Ферми не может не услышать это в приемной. Под влиянием Силарда и Вигнера Джордж Пеграм, декан физического факультета Колумбийского университета подключил свои связи в военно-морском ведомстве и уговорил Ферми поехать в Вашингтон. Там его задача — увлечь военных значимостью нейтронов, высвобождаемых при расщеплении ядра. Мол, пришла пора подключить правительственные органы. Разговор восемнадцатого марта мало что дает. Осторожно взвешивающий слова Ферми явно не тот человек, который способен заполучить военно-морской флот США в качестве спонсора для грандиозных и дорогостоящих экспериментов с цепной реакцией. Он не может им пообещать, что создаст атомное оружие. И зажигательный доклад он им тоже не прочтет, поскольку с ним простились, ограничившись смутным обещанием прислать в его колумбийскую лабораторию своего представителя, чтобы тот смог составить себе мнение на месте. В связке с Лео Силардом он, возможно, добился бы большего. Уж этот известный визионер смог бы, манипулируя нацистской угрозой, втянуть профессиональных параноиков от ВМС США на заговорщицкий уровень гонки вооружений с немецким диктатором. Тем более что войска Гитлера за три дня до этого действительно вошли в Чехословакию. По крайней мере, адмирал Боуэн позднее все же выделил от исследовательской лаборатории ВМС полторы тысячи долларов. Источник энергии, обходящийся без сгорания кислорода, был бы действительно подходящей альтернативой в качестве привода для его субмарин. Это была первая инвестиция американских властей в атомную энергию.
После гёттингенского дуэта Йоос — Ганле в контакт с Управлением вооружений сухопутных войск вступают Пауль Хартек, директор Института физической химии в Гамбурге, и его ассистент Вильгельм Грот. В их письме от двадцать четвертого апреля 1939 года они указывают оружейным экспертам на пригодность урана для запуска цепной реакции. Мол, вполне представимо взрывчатое вещество, которое на много порядков превосходит все традиционные представления об оружии. «Страна, которая применит его первой, — гласит вывод, — будет обладать недостижимым превосходством над остальными». Хартек учился своему ремеслу у Эрнеста Резерфорда, корифея атомной физики. Пять лет он был ассистентом Фрица Габера в Далеме.
В тот же день, когда Хартек и Грот пишут свое письмо, тревожное послание ложится на стол человека, который лучше первоначальных адресатов в Министерстве науки знает, что делать. Абрахам Есау — руководитель Секции физики в Государственном научно-исследовательском совете и убежденный националист — что трудно было бы заподозрить при ветхозаветном звучании его имени. Есау радиотехник, это он в 1925 году установил первую в мире УКВ-связь между Йеной и Калой. Он понимает важность новооткрытой цепной реакции и быстро и неформально организует секретную конференцию, которая состоится в Берлине уже через пять дней, двадцать девятого апреля. Это собрание учреждает одну организацию, столь секретную, что ей даже нельзя дать название, а члены этой организации в шутку окрестили ее «урановым клубом». Отто Ган в это время ездит с докладами по Скандинавии и просит извинить его за отсутствие. Есау с самого начала берется за дело основательно: приглашенные профессора Ганс Гейгер, Йозеф Маттаух, Георг Йоос, Вильгельм Ганле, Вальтер Боте и Герхард Гофман получают задание разобраться с самоподдерживающейся цепной реакцией. Они подписывают обязательство неразглашения тайны. Вступает в силу всеобщий запрет на экспорт урана. «Клуб» получает доступ ко всем запасам урана в Германии, а горным предприятиям «судетско-немецкого» Санкт-Йоахимсталя приказано готовить радий.
Физику Зигфриду Флюгге всего двадцать семь лет. Он учился у Макса Борна и Вернера Гейзенберга, он был «домашним теоретиком» Лизы Мейтнер после Вайцзеккера и весной 1939 года все еще продолжал работать в институте Отто Гана. Вообще-то у него были все основания разочароваться в директоре и Штрассмане. Ибо почему он и его коллеги, лишь читая
Однако Флюгге занимается не только взрывной силой урана. Если бы физикам удалось взять контроль над цепочками реакции, вполне можно было бы представить и машину по производству энергии высочайшей мощности. Исходя из четырех тонн оксида урана в своем воображаемом «кубе», он сравнивает количество энергии, выделившейся «при расщеплении всех ядер урана» с общей мощностью всех электростанций рейха, работающих на буром угле. «Данного количества урана хватило бы на то, чтобы... на одиннадцать лет возместить всю мощность этих электростанций». Пятнадцатого августа популяризированное издание его статьи появляется в газете
Цифры и наглядные примеры Флюгге пробуждают воодушевление и страсти. Физик Николаус Риль, тоже в прошлом ассистент Гана и Мейтнер, прочитав статью Флюгге, первым делом говорит с Ганом, а затем обращается прямо в Управление вооружений сухопутных войск. Он руководит научным отделом берлинской компании «Ауэр», и ему приходится прилагать немалые силы, чтобы скрыть от властей свое неарийское происхождение. Основатель фирмы Карл Ауэр изобрел газовую калильную сетку и в 1906 году зарегистрировал товарный знак «Осрам» для электрических ламп накаливания. Фирма имеет опыт производства радиоактивной зубной пасты и светящихся красок. Теперь Риль предлагает военным обширную совместную работу по техническому применению расщепления ядра.
В начале лета 1939 года Эдвард Теллер приезжает из Вашингтона в Нью-Йорк, чтобы прочесть лекции в Колумбийском университете. Правда, он, по его собственным воспоминаниям, быстро уяснил, что истинная его миссия — быть «миротворцем» между Энрико Ферми и Лео Силардом. Поскольку противники практически не разговаривали друг с другом, им нужен был Теллер в качестве посредника в обостренных коллегиальных отношениях, в которых один без другого явно не мог обойтись. Обида не утихала со времени силардовского подлого отказа от работы при первом и последнем совместном эксперименте. Трудно представить более противоположные темпераменты, чем те, что столкнулись здесь. «Ферми редко говорил то, чего он не мог доказать, — рассказывает Теллер. — Силард же постоянно козырял каким-нибудь удивительным новшеством. Ферми был скромен и сдержан, в то время как Силард в разговоре отдавал приказы направо и налево».
В июне, однако, Ферми берет отпуск от своего мучителя и уезжает в Энн-Арбор, штат Мичиган, чтобы преподавать там в Летней школе, которая уже стала к этому времени легендарной. Своими опытами по расщеплению ядра он давно исчерпал возможности университетского института. Если бы продувной Силард не раздобыл у русских пятьсот фунтов оксида урана, то этот эксперимент, пожалуй, не был бы проведен.
В других американских университетах первоначальное возбуждение по поводу нового ядерного феномена тоже, судя по всему, уже улеглось. Физики еще не наловчились находить спонсоров для своих все более затратных исследований или обращаться в правительственные инстанции.
В США Лео Силард и впрямь был, пожалуй, единственным, кто всерьез ломал голову над подготовкой к производству цепной урановой реакции. Правда, он находит в высшей степени достойным сожаления то обстоятельство, что он не может, как бывало раньше, выскочить из ванны и сломя голову побежать прямиком в лабораторию Ферми, чтобы обсудить с ним свои новейшие идеи. Вместо этого он пишет ускользнувшему коллеге в Энн-Арбор чуть ли не через день по письму, пока до того наконец не доходит, что ему никуда не деться от этого идееносного венгра — даже удалившись от него на тысячу километров. И уж конечно, такая горячая голова, как Силард, не позволит, чтобы американские университеты с ограниченным бюджетом диктовали ему порядок величин, в котором он должен мыслить, чтобы быть успешным. «Для начала я закладываю пятьдесят тонн углерода и пять тонн урана», — извещает он Ферми о задуманном им новом грандиозном опыте. Чуть ли не чистый углерод в форме графита должен в качестве «замедлителя» плотно окружать уран и тормозить нейтроны, высвобождающиеся при расщеплении ядер. Силард знает, что Ферми вообще-то предпочитает для этой цели «тяжелую воду». В ней водород заменен другим изотопом, так называемым дейтерием, который на один дополнительный нейтрон «тяжелее» обычного водорода. Какое влияние оказывают на Ферми идеи Силарда, видно из письма, которое он посылает неделю спустя Герберту Андерсону. На диво откровенно Ферми признается, что не во всех деталях понял предложение Силарда. Но: «Я нахожу эксперимент чрезвычайно важным и считаю, что мы должны его провести».
Роберт Оппенгеймер в эти летние недели размышляет о странном выводе из общей теории относительности. А именно: когда умирающая звезда коллапсирует и в последующем процессе сжатия перешагивает определенный размер, ее гравитационное поле становится настолько сильным, что она больше не может излучать свой собственный свет. Неужто во Вселенной в самом деле есть такие невидимые «черные солнца»? Оппенгеймер как раз пишет со своим студентом Хартлендом Снайдером статью, которая вот-вот будет закончена. В это же время Вернер Гейзенберг находится в четырехнедельной поездке по США с докладами, чтобы представить свою новую теорию космического излучения. При этом речь идет о космических лучах, которые попадают в атмосферу Земли из всей Вселенной, и здесь — на высоте около двадцати километров над уровнем моря — взрываются в ливень вторичных частиц.
О точном количестве и о структуре этих частиц исследователи еще спорят. Аудитории переполнены, дебаты ведутся жаркие. Сам Гейзенберг вспоминает об одной особенно резкой пикировке в Чикаго с Оппенгеймером, который в это время тоже явно направил свой основной интерес в сторону космических процессов. Но к этим теоретическим разногласиям со всей очевидностью примешивается недоумение и критика позиции Гейзенберга по отношению к нацистскому режиму. Чуть ли не каждый разговор с коллегами сводится к дебатам на тему эмиграции.
Вот уже несколько лет новатора квантовой физики заваливают выгодными предложениями из Америки. Он их категорически отклоняет с путаными намеками на то, что его родина нуждается в нем и он несет ответственность за своих студентов. Теперь, когда он прибыл сюда, Чикагский университет возобновляет свой напор, предлагая ему профессуру — и опять безуспешно. Останавливается Гейзенберг и в Энн-Арборе и встречается с Энрико Ферми в доме физика Сэмюэля Гоудсмита. Ферми прилагает все силы, склоняя его к смелому шагу начать все сначала в свободном мире. В том числе предостерегает его от ужасных последствий изучения расщепления ядра в стране, которая неминуемо движется прямиком к новой войне. У Гейзенберга нет рациональных аргументов, которые мог бы понять такой рассудительный человек, как Ферми: «Любой из нас укоренен в определенном пространстве языка и мышления и наилучшим образом развивается, что ни говори, только в этом пространстве, и действовать лучше всего может только здесь... Люди должны учиться препятствовать катастрофам, насколько это возможно, а не убегать от них. Хотелось бы даже, наоборот, требовать от человека, чтобы в момент катастрофы он оставался в своей стране».
В завершение своей американской поездки Гейзенберг снова останавливается в Нью-Йорке. Казначей Колумбийского университета Джордж Пеграм в последний раз пытается прельстить желанного сотрудника жизнью в Колумбийском университете. Тщетно. Вернер Гейзенберг тоскует по родине и мечтает наконец оставить позади «эту влажную жару... расстроенные пианино... и душные номера отелей». Он насладился американским гостеприимством, вдоволь намузицировался, а на одном приеме даже аккомпанировал певичке. Правда, ее «изящным французским песенкам» он, как строгий ценитель классики, дает убийственное определение: «шампанское со сливками». За два дня до отплытия корабля он обедает в ресторане на восемьдесят шестом этаже
Изначально предполагалось, что земляки встретятся и поностальгируют об общем прошлом на бывшей родине, но эта встреча приобретает совсем другой оборот, быстро развивая собственную — взрывную — динамику. Дело было так. Когда в начале июля Юджин Вигнер приезжает из Принстона в Нью-Йорк и хочет встретиться с Лео Силардом, тот приглашает для обмена мыслями и Эдварда Теллера. Помимо их родного города Будапешта, это трио объединяет страх, что готовые к войне немцы смогут использовать потенциал расщепления ядра в военных целях. Все трое учились и работали в Германии. Вигнеру пришлось оставить свою профессуру в Берлине в 1933 году из-за своего еврейского происхождения. Его с распростертыми объятиями приняли в Принстоне. Сейчас ему 37 лет. Эдварду Теллеру 31, он на десять лет младше Силарда. В 1930 году он защитился в Лейпциге у Вернера Гейзенберга и тоже с введением «Арийского параграфа» был вырван из совместной работы с Максом Борном в Гёттингене. Через Копенгаген и Лондон он в конце концов попал в университет Джорджа Вашингтона в американской столице. И вот сидят эти иммигранты и товарищи по судьбе за одним столом и заранее беспокоятся, где будет проходить линия Западного фронта еще не начавшейся войны. Если Бельгия опять окажется под немцами, как это было в мировую войну, то в руки захватчиков попадет, как опасаются три венгра, большое количество урана. Ибо в рудниках бельгийской колонии Конго разрабатываются самые богатые в мире на тот момент месторождения урана.
Силард, Вигнер и Теллер приходят к заключению, что надо вовлечь американское правительство в дела, связанные с опытами над цепной реакцией урана. Перед лицом угрозы войны в Европе и ввиду явного увлечения Германии расщеплением ядра откладывать больше нельзя, тем более что урановые шахты Санкт-Йоахимсталя уже в немецких руках. Первой дипломатической акцией могло бы стать предостережение в адрес бельгийского правительства. Силард вспоминает одного старого друга по берлинским временам, с которым они сообща запатентовали нестерпимо шумный насос для холодильников. Соавтора изобретения зовут Альберт Эйнштейн, и он состоит в дружеской переписке с бельгийской королевой. Может, через эту связь удастся сделать первый шаг в большую политику. Звонок в Принстон — и предположение близко к тому, чтобы стать фактом: Эйнштейн под парусами. В буквальном смысле. Он проводит лето в хижине одного друга на северо-восточном конце Лонг-Айленда. У Силарда нет ни водительских прав, ни машины. Тогда Юджин Вигнер предлагает себя в качестве шофера для стапятидесятикилометровой поездки к месту летнего отдыха Эйнштейна. Ранним утром 12 июля он подъезжает на своем «додже» выпуска 1936 года к отелю King's Crown и забирает Лео Силарда. Оба венгра запутались в индейских названиях селений на Лонг-Айленде и поначалу направились в Петчогу на южном побережье вместо нужного им Катчогу на северо-востоке.
«Хижина» оказалась двухэтажной белой виллой у пляжа с причалом. Эйнштейн как раз возвращается с морской прогулки и ведет себя как обычно раскованно. Шестидесятилетний ученый сердечно приветствует бывших берлинских коллег и радуется возможности поговорить с ними по-немецки. Юджин Вигнер не понаслышке знает принстонскую жизнь, и ему известно, что Эйнштейн как никто другой сполна осуществил мечту о «замке из слоновой кости». Вот уже несколько лет он сосредоточен на разработке всеобъемлющей теории, которая соединила бы в себе электромагнетизм с его общей теорией относительности. Все события на земле и на небе, начиная от электрических сигналов в нервной клетке простейшей нематоды и кончая орбитой вращения планеты Уран, он хочет описать одной-единственной формулой мира. В последние годы, правда, поговаривают, что по этой причине Эйнштейн больше не следит за актуальными ядерными исследованиями. Чему Вигнер и Силард, по правде говоря, никогда не верили, считая преувеличением. Тем удивительнее для обоих гостей, что всемирно знаменитый ученый действительно не имеет ни малейшего понятия о возможности цепной реакции при расщеплении ядер.
За ледяным чаем на веранде два венгра дают этому отшельнику-яхтсмену репетиторский урок на четверть часа в области актуальной ядерной физики. «А я об этом даже не думал», — цитирует Силард первую реакцию Эйнштейна. Как недавно Роберт Оппенгеймер в Беркли, он моментально схватывает всю последовательность. Ведь это человек, чье глубокое проникновение во взаимодействие массы и энергии привели Лизу Мейтнер и Отто Фриша к решающему прорыву в истолковании находки Гана. Маленькая всемирная формула Эйнштейна E=mc2 задает направление: если ядро урана раскалывается на два обломка, часть массы ядра пропадает, высвобождаясь в виде кинетической энергии — в масштабе, не достижимом ни в каком другом физическом процессе. Первой же мыслью Эйнштейна, по словам Силарда, было то удивительное замечание, что впервые в истории получения энергии Солнце не играет никакой роли. Ведь ископаемые горючие вещества — такие, как нефть, природный газ и уголь, — изначально возникли как хвощи и папоротникообразные, превращавшие солнечный свет в высококалорийные соединения углерода, которые затем и накапливались в недрах земли. Энергия же, которую содержат атомы, — не солнечного происхождения.
То, что коллеги в воинственной Германии уже явно сгребают к себе все запасы урана, ничуть не удивляет Эйнштейна. В конце концов берлинский пацифист образца 1914 года сам видел, что в те дни, когда началась мировая война, каждый институт был поставлен на службу эффективной немецкой военной машинерии — начиная от профессора и кончая ассистентом. Он был свидетелем связанного с войной подъема креативности его друга Фрица Габера. Памятуя об этой впечатляющей немецкой основательности, Эйнштейн ни секунды не колеблется перед тем, как откликнуться на просьбу своих гостей. Он диктует Вигнеру по-немецки письмо к бельгийскому послу в Вашингтоне. После обеда трое физиков набрасывают еще одно письмо — американскому госсекретарю.
В начале августа молодой стенографистке Колумбийского университета Жанет Коутсворс звонит незнакомый мужчина с труднопроизносимой фамилией и с неопознанным акцентом спрашивает ее, не интересуется ли она побочным заработком. Он приглашает ее к себе в отель King's Crown. В его комнате всюду — на столе, на кровати, на стульях и на полу — разложены листы бумаги и книги. Ее издерганный заказчик — насколько она успела понять — минувшие три недели только тем и занимался, что без конца менял формулировки и переписывал набело два письма, да так и не справился с тонкостями английского языка. И теперь ему нужен подсказчик, который исправил бы его ошибки в грамматике и правописании, тем более что адресат — чрезвычайно важный человек. И Лео Силард диктует стенографистке в блокнот: «Франклину Д. Рузвельту, президенту Соединенных Штатов. Белый дом. Вашингтон Ди-Си». Возглас удивления молодой женщины позабавил его, и вот он, окрыленный историческим значением своей миссии, уже мечется по комнате, словно тигр в клетке, подкрепляя свой текст театральными жестами. Словно плохой актер, он с патетическим крещендо в голосе декламирует предостережение от нового оружия, способного в руках Гитлера сокрушить мир. И заканчивает диктовку драматической паузой перед словами: «Искреннейше Ваш Альберт Эйнштейн». Уж теперь-то до Жанет Коутсворс доходит наконец, что перед нею — сумасшедший. Кто-кто, а она-то знает, как выглядит Альберт Эйнштейн. А этот человек со странным акцентом, с зачесанными назад темными волосами и каплями пота на лбу уж никак не принстонский ученый с мировым именем.
Лео Силард, перед тем как договориться со стенографисткой, еще раз съездил к Эйнштейну, на сей раз с Эдвардом Теллером в качестве шофера. Дело в том, что за это время он познакомился с Александром Саксом, вице-президентом Инвестиционного банка. Тот хвастался своим личным знакомством с Рузвельтом и вызвался передать трубящее тревогу письмо Эйнштейна президенту в руки. И вот Эйнштейн сидит над новым черновиком, который Силард собирается переработать в две версии письма — короткую и длинную. Они перезваниваются по телефону и обмениваются рукописями по почте, пока Силард наконец не отсылает Эйнштейну перепечатанные Коутсворс без помарок письма, с тем, чтобы тот мог их подписать. В это самое время Вернер Гейзенберг на теплоходе «Европа» неутомимо совершенствует свой теннисный топ-спин слева.
Первого сентября 1939 года в журнале
Вермахт уже окружил польскую столицу, и Вернер Гейзенберг в Лейпциге тоже ждет повестки о призыве на военную службу. Двадцать пятого сентября к нему приходит бывший ассистент Эрих Багге и сообщает, что уже на следующее утро он должен явиться в Управление вооружений сухопутных войск в Берлине. Багге теперь сотрудник Курта Дибнера, эксперта по взрывчатым веществам Управления вооружений. Сразу же после начала войны Дибнер взял урановый проект Государственного совета по научным исследованиям на себя, а инициатора проекта Абрахама Есау отстранил. Горячие протесты того ни к чему не привели. Ядерный физик и оружейный инженер Дибнер считает тему расщепления ядра слишком важной, чтобы доверить руководство «урановым клубом» радиотехнику. Эрих Багге — специалист по ядерному распаду, он и убедил своего нового шефа взять в группу физиков-экспериментаторов и химиков также одного теоретика. Упомянув при этом имя Гейзенберга. Теперь он счастлив лично передать самому, пожалуй, знаменитому немецкому физику радостную весть о том, что тот избавлен от Восточного фронта. Гейзенберг должен будет разрабатывать теоретические основы урановой машины, дающей энергию и оружейные вещества.
В США лишь три венгра да один бывший немец считают осуществимой контролируемую цепную реакцию. Они пока что не уверены, что смогут повлиять на американское правительство, ведь даже президентскому советнику Александру Саксу требуется восемь недель, чтобы добиться аудиенции в Белом доме. А немецкий «урановый клуб» между тем, будучи первой организацией, финансируемой правительством, уже пускается в сомнительную авантюру — освободить энергию, скрепляющую атом.
Отто Ган уже на другой день после начала войны развивает собственную инициативу и добивается для своего института задания по вооружению. Он находится в постоянном контакте с Карлом Квазебартом. Тот заседает в наблюдательном совете Санкт-Йоахимстальской горнодобывающей компании и еще в августе обеспечивал его радием. Будучи председателем правления компании «Ауэр», самой крупной производительницы противогазов Германии, Квазебарт распоряжается провести испытание противогазовых фильтров в Химическом институте кайзера Вильгельма при помощи радиоактивного метода «меченых атомов». Радиохимические познания Гана, приведшие его к открытию расщепления ядра, равно как и его практический опыт в обращении с отравляющими веществами, полученный на мировой войне, предопределили его участие в исследованиях, важных в военном отношении. Тем более что Гитлер уже пятого сентября распорядился о подготовке к ведению газовой войны. В силу этого традиционного военного задания младшие сотрудники Гана тоже были избавлены от прямого пути в окопы. Через две недели после начала войны Ган принимает участие в первой встрече экспертов «уранового клуба» под руководством Дибнера, который выдвигает лозунг: «Даешь атомную бомбу!». В конце дискуссии встает физик-экспериментатор Божьей милостью Вальтер Боте, опытная установка которого с бериллием подвигла Джеймса Чедвика к открытию нейтрона, и говорит: «Господа, надо это сделать». И Ганс Гейгер, который дал возможность слышать радиоактивность, добавляет к этому: «Если есть хоть один шанс... мы должны воспользоваться им во что бы то ни стало». Чтобы привести урановую машину в действие — это Ган понимает с самого начала, — необходимо сотрудничество с компанией «Ауэр». Его друг Квазебарт сможет поставлять уран тоннами — без проблем.
На встрече «уранового клуба» двадцать шестого сентября в Берлине, на которую впервые приехал из Лейпцига и Гейзенберг, Курт Дибнер вынужден пойти на уступки своим профессорам. Раньше он планировал свезти в одно место как исследователей, так и материалы, но ученые пожелали оставаться в своих институтах — в Берлине, Гамбурге, Гейдельберге, Лейпциге, Мюнхене и Вене, — чтобы выполнять каждый свое задание в привычной обстановке. Всего в девяти рабочих группах уранового проекта участвует около семидесяти человек. Отто Ган на этом раннем этапе может представить уже детальные планы первого немецкого опыта, задуманного с большим размахом. Он намерен приступить к максимизации выхода нейтронов, облучив две тонны урановой соли, которые ему гарантировал Квазебарт. Уже на другой день после конференции Дибнер появляется в институте Гана, чтобы прояснить вопросы во всех деталях. С ним вместе Флюгге, преемник Мейтнер Маттаух и специалист по сепарации изотопов Штрассман. «В конечном счете в урановом проекте нет такого теоретического или экспериментального аспекта, над которым не работали бы в Химическом институте кайзера Вильгельма...».
Сам Дибнер экспроприирует, недолго думая, Физический институт кайзера Вильгельма в Далеме для Управления вооружений сухопутных войск и оборудует его в качестве центрального диспетчерского поста секретного уранового проекта. Прежний директор, голландец Петер Дебай, может сохранить за собой этот пост, только если станет гражданином Германии. Но он предпочитает эмиграцию в США. Лауреат Нобелевской премии Макс фон Лауэ, равно как и Карл Фридрих фон Вайцзеккер и двадцатидевятилетний Карл Вирц, остаются в институте под управлением Дибнера. Научным консультантом нового руководителя назван Вернер Гейзенберг, который, правда, поначалу остается в Лейпциге. Кроме того, в распоряжение Дибнера поступает испытательный полигон Готтов к югу от Берлина — несколько квадратных километров песка, бурьяна и смешанного леса для опытов под открытым небом.
Не прошло и двух месяцев с тех пор, как Гейзенберг на встрече с Ферми в Энн-Арборе подчеркивал свою уверенность, что «война закончится раньше, чем дело дойдет до технического применения атомной энергии». Ведь он хорошо знаком с научным трактатом Бора— Уилера и имеет представление об отпугивающих масштабах технических трудностей по добыче большого количества расщепляемого урана-235. Возможно, этот трезвый взгляд и придает ему достаточно хладнокровия, чтобы посвятить себя задаче, которую поставил перед ним Курт Дибнер. Пусть разработка теоретических основ использования атомной энергии станет его особой службой отечеству и убережет его от ужасов сражения на поле боя. А поскольку этот престижный проект вместе с тем является интеллектуальным вызовом самого высокого ранга, Гейзенберг не щадит сил, чтобы еще раз доказать, что он лучший специалист в своем деле. Уже через десять недель, шестого декабря 1939 года, на следующий день после его тридцативосьмилетия он кладет Дибнеру на стол первую часть своего технико-экономического обоснования действующей урановой машины. В нем он приходит к выводу, что производство энергии в больших масштабах возможно, если удастся отделить уран-235 от урана-238 в достаточном количестве: «Чем выше будет степень обогащения, тем меньше по размерам может быть агрегат». При этом Гейзенберг считает возможным обойтись объемом в кубический метр. Кроме того, по его словам, обогащение этого более редкого изотопа урана есть «единственный способ, чтобы произвести взрывчатое вещество, превосходящее все прежние взрывчатые вещества на много порядков». Для производства энергии, правда, достаточно использовать обыкновенный уран-238, «если связать его с другим веществом, которое замедляет нейтроны урана, не поглощая их при этом». Эти заторможенные нейтроны расщепят затем ядра урана-235 и вызовут цепную реакцию.
В конференц-зале Палаты мер и весов в Вашингтоне три венгра сохраняли полную невозмутимость. Лишь в решающий момент они быстро переглянулись — но так и не дали ничего заметить по их спокойным лицам. Но теперь, выйдя из здания Министерства торговли и вновь очутившись на улице, они дали чувствам волю и принялись жестикулировать и оживленно говорить на своем родном венгерском языке. Это приглашение в Палату мер и весов — первый плод встречи Александра Сакса с Франклином Д. Рузвельтом. После того как президент прочитал письмо Эйнштейна, он поручил директору Палаты мер и весов Лайману Бриггсу провести консультативный совет по урану, в который должны были войти физики и офицеры. Силард, Вигнер и Теллер явились в это утро двадцать первого октября 1939 года на обсуждение, даже не надеясь на то, что смогут выторговать у собравшихся там военных финансовую поддержку.
Поначалу ход совещания и не сулил ничего похожего. После выступления Силарда на тему ядерной цепной реакции самодовольный полковник Адамсон не смог удержаться от того, чтобы не рассказать анекдот про козу, которую якобы привязали к колышку на лугу у Министерства обороны, назначив премию тому, кто сможет уничтожить животное смертоносным излучением, управляемым на расстоянии. И вот коза уже постарела и поседела, а премию так пока никто и не заслужил. Эдвард Теллер чуть не провалил свое выступление, нагло введя в игру сумму в пятнадцать тысяч долларов в качестве начального финансирования — вопреки договоренности с друзьями. Хитрая бестия Силард дипломатично свел эту сумму до шести тысяч долларов на закупку графита и на расходы по первому эксперименту. На что Адамсон затянул долгую отповедь. Мол, опыт показывает, что на разработку нового оружия уходит две войны. И мол, наивно полагать, что новое взрывчатое вещество можно запросто вытряхнуть из рукава. Кроме того, войну выигрывают не научные исследования, а боевой дух войска.
Всегда вежливый и сдержанный Юджин Вигнер во время речи полковника начал все беспокойнее ерзать на стуле и предложил решить дело миром. Мол, если действительно войну выигрывает моральный дух, запел он своим фальцетом, то, может, следует пересмотреть
Первое представление Вернера Гейзенберга о цепной реакции в декабре 1939 года имеет примечательное сходство с костром для выжигания угля. Он предлагает слоистую структуру в форме шара или кегли. Каждый слой должен иметь площадь не менее одного квадратного метра. Поверх слоя оксида урана находится слой либо тяжелой воды, либо чистого углерода. «Машина такого рода будет — в силу процесса расщепления — длительное время поддерживать постоянную температуру, высота которой будет зависеть от размеров аппарата». Выделение тепла является предпосылкой для производства электричества. Но сколь угодно высокой температуры урановая машина все равно достичь не сможет, резюмирует Гейзенберг, «поскольку иначе процесс самовозбуждения остановится». Его соображения задают общие направления работы для девяти рабочих групп «уранового клуба». Они должны замерить энергии нейтронов, возникающих в процессе расщепления, и исследовать их воздействие на цепную реакцию. Какое вещество-замедлитель лучше всего подойдет для размножения нейтронов? Кроме того, необходимо выяснить минимальное количество материалов, которое вызовет желаемое «самовозбуждение» реактора без того, чтобы он сам «взорвался к чертям собачьим», как это сформулировал Оппенгеймер.
Когда Курт Дибнер читает отчет Гейзенберга, компания «Ауэр» на своей новой фабрике в Ораниенбурге уже производит из санкт-йоахимстальской урановой руды первый центнер высокочистого оксида урана. Даже в небольших дозах этот измельченный в пыль металл представляет собой «первосортный яд», как утверждает Отто Ган, и при непосредственном контакте в процессе переработки — при вдыхании или заглатывании — вызывает отравление. Его химическое воздействие на легкие или желудочно-кишечный тракт человека опаснее, чем радиоактивное облучение. Для такой опасной работы привлекаются заключенные: две тысячи арестанток из близлежащего концентрационного лагеря Заксенхаузен. Нетерпеливый Гейзенберг требует как минимум тонну ценного материала, в то время как коллега Хартек в Гамбурге ждет обещанных для его опытов трехсот килограммов.
Физический химик Пауль Хартек, родившийся в Вене в 1902 году, усматривает зазнайство в высказываниях и статьях Гейзенберга и Вайцзеккера. Хартек волнуется, что они, будучи чистыми теоретиками, не обладают достаточным практическим опытом и не могут похвастаться тем, что называется чутьем в кончиках пальцев, когда дело доходит до деталей «геометрии реактора». Он-то занимался медленными нейтронами еще задолго до открытия расщепления ядра. Он знает их заветные «ходы», знает, где и как они затормозятся или поглотятся. Хартек изучал нейтронные процессы между делом, догадываясь, что это знание ему однажды пригодится. Свои внеплановые исследования он предпринимал с интуитивным «подспудным чувством» и сравнивает их с фортепьянными этюдами — упражнениями для пальцев, которые рано или поздно дадут результат. И вдруг откуда ни возьмись появляются эти эстеты — Гейзенберг и Вайцзеккер, желающие доминировать в «урановом клубе», и ведут себя так, будто они единственные в мире что-то смыслят в ядерной физике. На взгляд Хартека, оба теоретика переоценивают свои практические способности.
Но установлению здоровой атмосферы в общем деле мешает не только эта личная неприязнь. Участники очень активны, научная любознательность перевешивает моральные колебания перед лицом сверхоружия в руках преступного режима. Каждый рвется вперед, чтобы первым предъявить «самовозбуждающийся реактор» в суровое военное время. А если уж к делу подключается Гейзенберг, то без лишней порции спортивной злости тут не обойтись. Он хочет выигрывать всегда: у доски на кафедре, у теннисного стола, за шахматами, а теперь, естественно, и при разработке уранового котла. Но и конкуренты не дремлют. В мае 1940 года Хартек близок к воплощению блестящей идеи. Она пришла ему в голову — словно в издевку — при изучении гейзенберговской теории реактора, которая требует в качестве замедлителя высокочистый углерод. Чтобы минимизировать загрязнения, Хартек думает использовать в качестве замедлителя твердую углекислоту — сухой лед, — погружая в него оксид урана. Обычный графит, имеющийся в продаже, загрязнен бором и кадмием. Даже высокочистый — по коммерческим масштабам — графит с одной частью бора на пятьсот тысяч частей основного вещества все еще недостаточно чист, чтобы рассматриваться в качестве замедлителя для урановой машины. Пауль Хартек по опыту знает, что можно существенно уменьшить загрязненность, если использовать спрессованный снег из углекислоты.
Он использует свои добрые отношения с компанией «I.G. Farben», которая готова бесплатно предоставить ему пятнадцать тонн сухого льда — целый железнодорожный вагон. Управление вооружений тоже изъявляет готовность оплатить железнодорожную перевозку от углекислотной фабрики Оппау под Людвигсхафеном до Гамбурга. Вот только заявку Хартека на минимально необходимые триста килограммов «препарата 38» Дибнер выполнить не может. Вошедшее в профессиональный обиход маскировочное название указывает на формулу оксида урана: U3O8. Это вожделенное вещество в своей высокочистой форме все еще является на тот момент раритетом в Германии. Дибнер сталкивается с неблагодарным делом: те несколько центнеров вещества, что имеются в его распоряжении, более-менее справедливо разделить между ретивыми и ревнивыми атомщиками в Берлине, Лейпциге и Гамбурге. Он приговаривает Хартека к тому, чтобы тот сам договорился со своим любимым врагом Гейзенбергом о доступе к ядерному топливу. Вдобавок ко всему, теплое время года может стать для Хартека роковым. Время уходит, дает он знать Гейзенбергу, заклиная его ненадолго расстаться с частью уранового запаса. Ибо скоро в Гамбург прибудут блоки углекислоты, но уже через неделю они попросту растают. А на новые поступления, к несчастью, рассчитывать не приходится. Потому что уже в начале июня компания «I.G. Farben» должна направлять все запасы сухого льда на охлаждение продовольствия, что в военное время, естественно, считается первоочередной задачей. Но увы: даже когда Гейзенберг переносит свой эксперимент, Хартеку достается не более одного центнера «препарата 38». Зато Николаус Риль, руководитель научных исследований компании «Ауэр», лично транспортирует в Гамбург еще ровно три центнера свежеизготовленного оксида урана йоахимстальского происхождения. Хартек сообщает Дибнеру, что хочет загрузить первый немецкий урановый котел в «еврейский сундук». Так называют огромные контейнеры для переезда еврейских эмигрантов.
На седьмом этаже Института физики Колумбийского университета царит
У подножия графитового котла находится испытанный радоново-бериллиевый источник, вставленный в парафиновый блок, тогда как зазоры в графите задуманы для фольги из родия, которая внутри котла должна улавливать нейтроны и таким образом отмечать глубину их проникновения. Чем глубже и дальше нейтроны проникают в графит, тем лучше это вещество подходит в качестве замедлителя для будущего реактора. Поскольку родий имеет период полураспада в сорок четыре секунды, каждое действие должно быть идеально отработанным. После одной минуты облучения Андерсон по отмашке удаляет источник нейтронов, а Ферми с секундомером в руке хватает фольгу. У него есть десять секунд на то, чтобы добежать до кабинета, и еще пять секунд на то, чтобы поднести фольгу к счетчику Гейгера и захлопнуть свинцовую крышку до того, как прибор заработает. «Я до сих пор так и вижу, как с первыми щелчками счетчика в его глазах вспыхивают искры, — вспоминает Андерсон. — В такт этому ритму он кивает головой. Феномен радиоактивности всякий раз заново приводит его в восторг».
«Еврейский сундук» Пауля Хартека — это сколоченный из досок контейнер высотой, шириной и глубиной в два метра. Он стоит на виду у любого ротозея между декоративными кустами и клинкерной обшивкой стены Института физической химии на Юнгиусштрассе в Гамбурге. В этом совершенно секретном котле под открытым небом размещаются блоки сухого льда. Порошок оксида урана Хартек и его сотрудники засыпают в пять вертикальных шахт, оставленных среди льда. Стенки шахт облицованы фанерой. Источник нейтронов и измерительные зонды располагаются у средней шахты. В эту последнюю неделю мая сбываются все худшие ожидания Хартека. Измерения разочаровывают. Размножения нейтронов, которое он оценивал по предварительным расчетам в двадцать пять процентов, так и не зафиксировано. Сто восемьдесят пять килограммов «препарата 38» попросту не хватило, чтобы провести полноценный эксперимент и добиться разумного результата. В начале июня его пятнадцать тонн сухого льда растаяли, так что ему пришлось с огорчением прекратить опыт.
В это же время сбывается и кошмар трех венгров в Америке: вермахт в результате блицкрига вступает в Бельгию и действительно захватывает склады фирмы «Union Minière du Haut Katanga», где хранятся три тысячи пятьсот тонн высокоценных соединений урана из Бельгийского Конго. Первый приказ новых господ требует немедленной поставки шестидесяти тонн на заводы «Ауэр» в Берлин. Паулю Хартеку военная добыча из Бельгии уже не пригодится. Пока руда из Конго будет переработана в «препарат 38», пройдет слишком много времени. Кроме того, теперь очередь на получение продукта у Вернера Гейзенберга. В ближайшее время все старые и новые запасы урана будут направляться исключительно его группе в Берлин и Лейпциг. На взгляд Дибнера, Хартек уже имел свой шанс и не смог им воспользоваться. Его идея применения сухого льда в качестве высокочистого замедлителя для уранового котла больше не получает поддержки. Будь этого вожделенного оксида урана в распоряжении Хартека в мае 1940 года на несколько центнеров больше, его измерения, возможно, оказались бы такими обнадеживающими, что он занял бы отличную позицию в гонке за первый самовозбуждающийся урановый реактор — не только внутри «уранового клуба», но даже и в конкуренции с Ферми в Нью-Йорке.
В то время как Энрико Ферми в своей нобелевской речи 1938 года еще украшал предполагаемые трансураны поэтическими названиями, Отто Ган и Фриц Штрассман питали к объектам своей любознательности скорее прозаические чувства. В Берлине трансураны нумеровали просто по ядерному заряду: 93, 94, 95, 96. Правда, оба радиохимика были в те волнующие декабрьские дни на более верном пути, уже провидя существование этих странных элементов как историческое заблуждение. Трансураны оказались всего лишь обломками расщепления ядер. В конце мая 1940 года, когда сухой лед Хартека начинает таять, а в Берлин отправляются первые товарные вагоны с бельгийским ураном, возрождается идея искусственных элементов, которые тяжелее урана. И на сей раз их теория стоит на прочном фундаменте. По иронии судьбы, открытие первого настоящего трансуранового элемента происходит благодаря сомнительному «двадцатитрехминутному телу», тщательно проанализировать которое Лиза Мейтнер просила Гана и Штрассмана еще несколько лет назад, но химики отказались, считая эту проверку лишней тратой времени и средств. Двое американских физиков — Эдвин Макмиллан и Филипп Абельсон — теперь устраняют это упущение и обнаруживают: если атом урана-238 улавливает один нейтрон из источника излучения, то возникает атом урана-239. Он идентичен далемскому «23-минутному телу» и распадается именно с этим периодом полураспада на новый элемент с числом заряда ядра 93. Макмиллан называет его, следуя планетарной традиции, «нептунием». В 1846 году наблюдение за нарушением орбиты Урана вывело на след планеты Нептун. Выбрав это название, Макмиллан устанавливает примечательное соответствие между космическим и субатомарным уровнями. Из нарушения ядра атома урана возникает нептуний. Лиза Мейтнер в Стокгольме реагирует на это с глубоким огорчением. Ее интуиция верно сработала в Далеме несколько лет тому назад, и теперь она воспринимает упущенное открытие как «créve coeur»— удар в самое сердце.
Этот первый настоящий трансуран распадается, в свою очередь, с периодом полураспада в тридцать два часа на следующий новый элемент с числом заряда ядра 94. К счастью, с 1930 года известно о существовании еще одной планеты в Солнечной системе — Плутона, — которая тоже пока что не приведена в связь с каким-нибудь химическим элементом. Второй трансуран, производный от первого, Макмиллан и его коллега Гленн Сиборг два года спустя так и называют — плутоний. Изотоп плутония имеет период полураспада двадцать четыре тысячи лет. Хотя в мае 1940 года для более тщательного изучения плутония еще нет его достаточного количества, из прошлогодней теории Бора—Уилера о расщеплении ядра можно сделать вывод, который приводит немецких и американских исследователей реактора в наэлектризованное состояние: расщеплению поддается не только редкий изотоп урана с 235 ядерными частицами, но и трансурановый элемент 94 под названием плутоний.
Преобладающий в природном уране и до сих пор считавшийся неактивным изотоп с 238 ядерными частицами порождает, таким образом—через свою короткоживущую «дочку» нептуний — в третьем поколении еще один — новый — взрывчатый элемент, который годится в качестве ядерной взрывчатки. Значит, при успешном запуске цепной реакции не позднее чем через двое с половиной суток в совершенно нормальном реакторе возникнет естественным способом расщепляемый плутоний. Этот эксперимент влечет за собой один удивительный вывод: урановая машина, работающая даже исключительно в целях производства электричества, поневоле размножает взрывчатое вещество для бомб — плутоний.
В Германии исследованием трансуранов занимаются в первую очередь Карл Фридрих фон Вайцзеккер и его коллега Фриц Хоутерманс. Статья Макмиллана появляется в журнале
В июле 1940 года Вайцзеккер еще может опереться на эту публикацию и предсказать, что плутоний поддается расщеплению легче, чем уран-235. И что химическое отделение нового элемента от урана не связано с большими трудностями. Поскольку плутоний химически отличается от урана, в то время как уран-235 и уран-238 можно разделить, по-видимому, только приложив неодолимую силу циклотрона. Но во всей Германии пока что не построено ни одного ускорителя частиц, поэтому альтернатива плутония видится более торной дорогой к атомной бомбе. Вайцзеккер сводит все свои знания в один отчет Курту Дибнеру. Независимо от американцев и в то же самое время доказательство существования элемента-93 удается и специалисту в области физической химии Курту Штарке в институте Отто Гана. Что и послужило Гану поводом лишний раз указать в отчете Управлению вооружений на «возможное применение трансуранов в качестве ядерной взрывчатки».
Летом 1939 года Отто Роберт Фриш поехал из Копенгагена в Бирмингем. Его пригласил Марк Олифант, руководитель Физического института Бирмингемского университета, занятый разработкой сверхсекретного радара. После того как началась война, Фриш больше не возвращается в Данию — из страха перед скорым вторжением немецкого вермахта. Олифант дает ему возможность работать в своем институте — для начала руководителем практических занятий студентов. Фришу не дают покоя нерешенные проблемы расщепления ядра. У него есть идея, как отделить уран-235 от урана-238 и без использования циклотрона. Клаус Клузиус, на тот момент профессор физической химии в Мюнхене и член «уранового клуба», в 1938 году разработал простой способ разделения. Длинная, вертикально стоящая трубка наполняется газообразным соединением элемента, изотопы которого нужно отделить друг от друга. Трубка нагревается с одного конца, и более легкие атомы собираются у теплого конца трубки, а более тяжелые — у холодного.
В ту пору Фриш разделяет взгляды Нильса Бора, который хоть и считает атомную бомбу теоретически возможной, однако технические трудности находит непреодолимыми. И все же из чистого любопытства Фриш пытается прикинуть, какое количество урана было бы необходимо для бомбы. Каков среднеарифметический путь нейтрона в шаре из урана-235 до столкновения с первым ядром? Как высока вероятность того, что он расколет это ядро? Каков должен быть минимальный размер шара, чтобы нейтроны не вылетали из него наружу, распыляясь вхолостую? Фриш вставляет уже проверенные значения в известные формулы и приходит к поразительному результату. Чтобы запустить взрывную цепную реакцию, не нужно накапливать тонны урана-235, как предполагало до сих пор большинство теоретиков. Достаточно одного-двух фунтов ценного вещества, чтобы образовалась критическая масса.
Теперь Отто Фриш рассчитывает оптимальный градус действия сепаратора для отделения урана-235. К этому времени он подружился с немецко-еврейским физиком Рудольфом Пайерлсом, который бежал от нацистов и работал в том же институте в Бирмингеме. Сообща они перепроверяют расчеты и приходят к заключению, «что со ста тысячами таких трубок за несколько недель можно получить один фунт достаточно чистого урана-235. Мы уставились друг на друга, и нам стало ясно, что атомную бомбу, пожалуй, все-таки можно построить». Теперь Пайерлс уточняет исходные данные Фриша и выясняет, что цепная реакция должна совершиться за четырехмиллионную долю секунды, иначе два фунта урана только распылятся, а взрыва не произойдет. За этот невообразимо малый промежуток времени восемьдесят предполагаемых поколений нейтронов должны «произвести температуры, сопоставимые с жаром в недрах Солнца, и давление, превосходящее то, что царит в ядре Земли, где железо становится текучим».
В марте 1940 года Марк Олифант понуждает двух своих немецкоязычных
Летом 1940 года на территории Института биологии кайзера Вильгельма в Далеме возводится лабораторный барак. Это простая деревянная конструкция с площадью основания сорок квадратных метров. Стены высотой три метра. Он почти идиллически расположился среди вишневых деревьев, защищенный от любопытных взглядов. Вряд ли кто мог заподозрить, что хозяевами этой неприметной стройки являются Карл Фридрих фон Вайцзеккер и Карл Вирц из расположенного по соседству Физического института. Силовой кабель, трубы водопровода и канализации подключены к оборудованию «дома разведения вирусов», который относится к Институту биологии. Так физики и стали в итоге называть свою запасную атомную лабораторию: «вирусный дом». В этом месте бесспорно концентрируется вирус — пусть и нематериальной природы, но от этого не менее токсичный. Этот вирус — заразная идея размножения нейтронов, которое должно привести к производству энергии и выработке плутония. В задней части «вирусного дома» в земле вырыта яма трехметровой ширины и двухметровой глубины, изнутри она облицована камнем и заполнена водой. Через этот колодец перекинут портальный кран. В октябре стены барака облицуют изолирующим материалом. Печное отопление поможет физикам-атомщикам пережить зиму.
К этому времени они уже располагают шестью тоннами оксида урана из трофейного бельгийского сырья. Под руководством Вернера Гейзенберга ученые укладывают свой «препарат 38» и парафин горизонтальными слоями в герметичную алюминиевую емкость в форме кругового цилиндра. Диаметр и высота составляют по полтора метра. В центре этого «колокола», как называет свой аппарат Гейзенберг, укреплен источник нейтронов. При помощи крана испытательный реактор погружают в колодец. Вода должна абсорбировать и отражать нейтроны, которые вылетают из резервуара. Однако ожидаемого успеха не происходит. В этом слоеном устройстве поглощается больше нейтронов, чем высвобождается для расщепления. Гейзенберг в своем отчете Управлению вооружений приходит к заключению, что нормальная вода не является подходящим замедлителем, а вот тяжелая вода, напротив, могла бы быть многообещающей альтернативой углероду.
Химик сэр Генри Тизард — один из высокопоставленных советников английского правительства. Он оценивает научные разработки с точки зрения их военного использования. Меморандум Отто Роберта Фриша и Рудольфа Пайерлса приводит в возбуждение Тизарда и тех ученых, которых он специально для этого вызвал в комитет. Присутствуют известные физики — такие, как будущий лауреат Нобелевской премии Патрик Блеккет и Джеймс Чедвик, чье открытие нейтрона и привело к расщеплению ядра. В отличие от будапештского трио, которому пришлось продавливать американскую урановую комиссию, урожденному австрийцу Фришу и германскому беженцу Пайерлсу не нужно уговаривать скаредных солдафонов. Физики сами могут проверить все цифры и факты. После начального скепсиса касательно огромной разрушительной силы бомбы ответственным людям достаточно лишь представить, что именно сейчас архивраг Гитлер отдает распоряжение создать такое оружие массового поражения, — и основополагающий эксперимент Фриша по обогащению урана-235 получает поддержку. Когда Фриш в первый раз встречается с Джеймсом Чедвиком, тот оглядывает его, «по-птичьи вертя головой туда-сюда. ...И через полминуты вдруг говорит: «Так сколько гекса вы хотите?».
Гексафторид урана — единственное газообразное соединение урана, которое можно использовать для разделения изотопов в термодиффузионных трубках. Но Фриш не единственный, кто пришел к мысли экспериментировать с «гексом». Пауль Хартек в Гамбурге следует той же стратегии. Правда, вместе со своим ассистентом Вильгельмом Гротом он обнаруживает: едкий гексафторид урана разъедает внутренние стенки термодиффузионной трубы. В поисках устойчивого к коррозии материала компания «I.G. Farben» рекомендует попробовать никель. Даже Курту Дибнеру из Управления вооружений не так просто раздобыть требуемые шестьдесят пять килограммов стратегического металла. Тем не менее в октябре 1940-го Хартек и Грот уже могут приступить к изготовлению трубы длиной в восемь метров. Они уверены, что с этим гигантским приспособлением уже скоро смогут изолировать первое весомое количество пригодного для расщепления урана-235.
Эмилио Сегре, в прошлом сотрудник Ферми в Риме, теперь работает в Беркли. В начале 1941 года он собирается экспериментально подтвердить то, что предсказывает теория Бора—Уилера, а именно расщепляемость плутония и его пригодность в качестве взрывчатки для бомб. В циклотроне, построенном Эрнестом Лоуренсом, ему впервые удается произвести нептуний в достаточном количестве. Метод, специально для этого разработанный Гленном Сиборгом и Артуром Валем, позволяет успешно отделять плутоний от нептуния, так что Сегре может провести решающие измерения на крохотном количестве плутония. Они подтверждают теорию, согласно которой такой изотоп, как плутоний-239, хоть и стабилен, но поддается расщеплению. Сегре не может так просто передать эту новость Энрико Ферми, «потому что оба мы были беглые иностранцы и нам не полагалось общаться между собой напрямую». Поэтому Сиборг в секретном отчете сообщает о результатах председателю консультационной комиссии по урану Лайману Бриггсу. А тот передает новость Ферми.
Руководителям рабочих групп немецкого «уранового клуба» тоже приходится мириться с закрытыми коммуникационными структурами. Они находятся в состоянии конкуренции друг с другом, и им разрешено посылать отчеты только Дибнеру, который затем сам решает, кого информировать о новых сведениях. Боте в Институте медицинских исследований кайзера Вильгельма в Гейдельберге использует углерод в качестве замедлителя для «тридцать восьмой машины», как теперь называют объект всеобщих стремлений. Он, правда, знает, что Вернер Гейзенберг, его главный конкурент на пост директора Физического института кайзера Вильгельма в Берлине, пользуется тяжелой водой. А после неудачи Хартека с сухим льдом — из-за недостатка массы — углерод и без того считается забракованным материалом. Тем не менее осенью 1940 года Боте намерен проверить пригодность углерода в качестве тормозящей субстанции. Для этого он выбирает опытное сооружение, которое является чем-то средним между графитовыми штабелями в Нью-Йорке и гейзенберговским подводным колоколом в «вирусном доме». А именно: Боте погружает шар из графита в емкость с водой. Диаметр шара — сто десять сантиметров. В середине встроены источник нейтронов и детекторы. Однако и его результаты никак не вдохновляют. Графит поглощает нейтроны в таком масштабе, который шокирует Боте. Он повторяет свой опыт с якобы более чистым «электрографитом», который ему поставляет концерн «Сименс». Однако даже этот материал не приносит ожидаемых результатов. Боте не может ориентироваться на цифры Ферми, потому что итальянец в Америке уже уступил натиску венгерского мучителя и не публикует свои опыты с графитом, проведенные весной 1940 года. И вот двадцатого января 1941 года на стол Дибнера ложится отчет Боте с его оценками. Измерения лучших физиков-экспериментаторов Германии не отвечают требованиям чистоты Гейзенберговой теории.
Георг Йоос и Вильгельм Ганле хотя формально и не принадлежат к «урановому клубу», но проводят, независимо от Боте, в Гёттингене собственную серию испытаний. Они сжигают сахар и картофельную муку и получают из них высокочистый углерод. Пусть метод на первый взгляд кажется кустарным, однако он приводит к совсем другим результатам, чем тщательные эксперименты Боте. Из отчета Ганле можно заключить, что Боте в своих расчетах все еще недостаточно учитывал загрязнения используемого графита. По мнению гёттингенцев, в электрографите от «Сименс» все еще присутствует слишком много частиц бора и кадмия, которые так любят заглатывать нейтроны. Йоос и Ганле считают, что высокочистый графит является идеальным замедлителем для «тридцать восьмой машины».
Курт Дибнер читает их отчет, однако не становится на их точку зрения. Поэтому он не считает нужным поставить об этом в известность Боте. Пауль Хартек в Гамбурге тоже ничего об этом не узнаёт. Как знать, может быть, цифры из Гёттингена придали бы ему импульс еще раз провести опыт с сухим льдом зимой, тем более что теперь — благодаря Бельгии — больше нет дефицита «препарата 38». Выступление Йооса и Ганле в пользу углерода не достигло цели. Дибнер категорически отвергает графит в качестве замедлителя. По его мнению, промышленное производство высокочистого углерода слишком затратно. Он явно считает недопустимым предлагать своим физикам, чтобы те сжигали вагонами картофельную муку и сахар, в то время как немецкий народ вынужден подмешивать в свой хлеб опилки. И так он принимает единоличное решение, что в будущем все испытания реакторов «уранового клуба» будут проходить исключительно с тяжелой водой, тем более что этот замедлитель — согласно Гейзенбергу — понижает необходимое количество оксида урана, что должно привести к более благоприятной геометрии «тридцать восьмой машины». Так концепция Гейзенберга одержала верх.
В Нью-Йорке Ферми и Силард столкнулись с теми же проблемами, что и Вальтер Боте в Гейдельберге. Американский графит тоже заражен обилием частичек бора, который так любит ловить нейтроны. С первого ноября 1940 года Лео Силард наконец становится штатным сотрудником Колумбийского университета. И первым делом он сразу пускает в ход свой недюжинный талант действовать людям на нервы до тех пор, пока они не исполнят того, что он хочет. Могущественные боссы компании «Union Carbon» уязвлены, когда Силард с большим самомнением объявляет их якобы высококачественный графит никуда не годным дерьмом. Однако такая придирчивость идет на пользу: качество становится ощутимо лучше. Летом 1941 года Ферми подыскивает место, подходящее для его нового эксперимента. В пупиновской лаборатории ему на голову уже упал потолок. Декан Колумбийского университета Джордж Пеграм предоставляет в его распоряжение зал размерами с кафедральный собор в другом университетском здании.
Здесь он укладывает слоями «плотную, черную, грязную и скользкую массу», состоящую из двадцати семи тонн прессованного графита и семи тонн оксида урана. Он хочет найти критический объем атомного котла или хотя бы приближение к правильному порядку величин. Сырой порошок оксида урана нужно разогреть и тут же герметично запаять в кубические емкости из белой жести с длиной стороны двадцать сантиметров. Эти емкости затем вгоняются впритирку в пазы структуры из графитовых кирпичей. Порошок оксида урана поставляется в мешках весом по центнеру. Для того чтобы ворочать эти мешки и высыпать из них урановый порошок, Пеграм спонтанно нанимает дюжину мускулистых футболистов, чтобы тщедушные экспериментаторы не испустили дух еще до ланча. В сентябре беспримерная битва с материалами заканчивается поражением. Измеренные значения оказываются на 13 процентов ниже минимума, необходимого для цепной реакции.
Ферми и Андерсон ломают голову над тем, что они должны сделать при следующем опыте: набить в котел больше урана или графита. Затем они хотят применить шары урана, которые обещают лучшую геометрию реакции, чем кубики. А Лео Силард приговорен к тому, чтобы со своей неподражаемой смесью из подхалимажа и оскорблений еще раз взять производителей графита за жабры их профессиональной чести.
В то время как Энрико Ферми анализирует свою неудачу, сотрудник Пауля Хартека Вильгельм Грот ужасается, глядя на зеленоватый налет на внутренних стенках восьмиметровой термодиффузионной трубы. Агрессивный гекс разъедает даже никель. Отто Роберт Фриш в Англии тоже вынужден признать, что добыча урана-235 в разогретой трубе была не более чем смелой мечтой.
Выросший в Вене Фриц Хоутерманс еще школьником попал в затруднительное положение из-за мятежного поведения. Исключенного из гимназии за распространение на школьном дворе опасных новых идей с коммунистическим манифестом в руках мать отправила на кушетку к Зигмунду Фрейду. Однако на этом знаменитом предмете мебели, предназначенном для мирской исповеди, Фриц позволил себе непростительную бестактность, признавшись аналитику, что свои рассказанные сны и мечты он всего лишь сочинил. «Когда ваши предки еще жили на деревьях, мои уже подделывали чеки». Это ироничное признание молодого физика в своих еврейских корнях изрядно позабавило в 1927 году в Гёттингене одного американца немецко-еврейского происхождения. Большое впечатление произвели на Роберта Оппенгеймера и революционные представления Хоутерманса о «термоядерных реакциях» в недрах звезд как источнике громадного высвобождения энергии. Правда, Оппенгеймеру совсем не понравилось, что этот блистательный теоретик и убежденный коммунист, как назло, увел женщину в которую Оппенгеймер был безнадежно влюблен.
В 1937 году Хоутерманс добровольно уехал в рай для рабочих, Советский Союз, и быстро стал жертвой сталинских «чисток». В качестве подозрительного иностранца ему пришлось пройти целую одиссею из нескольких тюрем. После пакта между Гитлером и Сталиным в 1939 году он был выдворен в Германию и там, как подозрительный коммунист, немедленно исчез в застенках гестапо, откуда его вызволил нобелевский лауреат Макс фон Лауэ. С лета 1940 года Хоутерманс работает в лаборатории физика и изобретателя Манфреда фон Арденне, который ведет для министерства связи исследования по расщеплению ядра — независимо от «уранового клуба» — в берлинском районе Лихтерфельде. Хоутермансу поручено подробно исследовать условия для запуска ядерной цепной реакции. Поскольку Манфред фон Арденне не подлежит ограничениям в коммуникации, введенным Управлением вооружений, в августе 1941 года он рассылает копии статьи о ядерной цепной реакции ровно сорока немецким физикам, среди которых и его конкурент Курт Дибнер.
В принципе Хоутерманс углубляет и подтверждает еще раз со строгой математической доказательностью первые интуитивно сформулированные заключения, которые Вайцзеккер за год до этого вывел из открытия элементов 93 и 94 — нептуния и плутония. В отличие от Вайцзеккера, Хоутерманс не указывает конкретно на пригодность плутония для вооружения. Но любой ядерный физик, прочтя его отчет, естественно, поймет, что означают эти расчеты: самоподдерживающаяся цепная реакция в действующем урановом котле, вырабатывающем энергию, поневоле производит вещество для бомб в качестве побочного продукта. По некоторым данным, Хоутерманс якобы послал через друзей-эмигрантов предостережение американским ученым. Что они должны усилить свои старания в соревновании за бомбу, потому что немцы уже знают взрывные свойства элемента 94.
В Далеме работа из района Лихтерфельде электризует два самых важных ума Физического института кайзера Вильгельма: Вернера Гейзенберга и Карла Фридриха фон Вайцзеккера. Плутоний, побочный продукт работы реактора, еще год назад лишил покоя Вайцзеккера. Должно быть, работа Хоутерманса подстегнула его сделать еще один шаг. Ибо теперь он подает заявки на пять патентов для получения энергии из плутония, причем заводит речь и о непосредственном воздействии на геометрию реактора, а именно: о меньших и, возможно, мобильных урановых машинах. Шестой патент он хочет получить на плутониевую бомбу, которую описывает так: «Способ взрывного производства энергии и нейтронов из расщепления элемента 94 характеризуется тем, что... элемент 94 собирается в какое-то место, например в бомбу, в таком количестве, что возникающие при расщеплении нейтроны в подавляющем большинстве не покидают вещество, а расходуются на новые расщепления».
Плутониевый патент Вайцзеккера без точных указаний по конструкции и по запальному механизму попадает пальцем в небо. О первых исследованиях крошечного количества плутония, проведенных Сегре и Сиборгом в Калифорнии, в Берлине никто ничего не знает. Если Вернер Гейзенберг говорит, что он «собственно, с сентября 1941 года видел перед собой прямую дорогу к атомной бомбе», то августовская работа Хоутерманса, возможно, тоже внесла свой вклад в это видение. Разделение мирного и военного применения атомной энергии — это иллюзия. Кто строит действующий реактор, имеет и опцион на атомное оружие.
Двадцать второго июня 1941 года немецкие солдаты перешли границы Советского Союза. По «Плану Барбаросса» Гитлер хочет блицкригом победить и своего сообщника Сталина, осуществляя мечту о жизненном пространстве на Востоке. Операции немецких войск в Минске приводят в середине июля — согласно геббельсовской пропаганде — к «величайшей в мировой истории битве на уничтожение». Победы Германии в России непостижимы и грандиозны. Одна превосходная степень вытесняет предыдущую. Иной соотечественник уже мечтает о продвижении за Урал — в Иран и Индию. То, что, с другой стороны, английские воздушные атаки в Аахене, Кёльне и Мюнстере произвели тяжелые разрушения, едва ли способно омрачить уверенность в окончательной победе. Гитлер на вершине своего могущества. Киев дрогнул, и еще до начала зимы он хочет провести в Москве парад победы. В первые дни сентября немецкие войска осаждают Ленинград. Город должен вымереть от голода. Авиация систематически уничтожает склады продовольствия. Три тысячи тонн муки и две тысячи пятьсот тонн сахара сожжены. В рейхе в это же время вводится запрет на чистку картофеля для ресторанов. Производство пива из-за нехватки ячменя сократилось на 50 процентов. В середине сентября Вернер Гейзенберг должен читать доклад в Немецком научном институте пропаганды культуры в Копенгагене, что находится в ведении государственного секретаря Эрнста фон Вайцзеккера из Министерства иностранных дел. Немцы вот уже полтора года как заняли Данию. Карл Фридрих фон Вайцзеккер сопровождает Гейзенберга. Сообща они решают воспользоваться возможностью и спросить совета у Нильса Бора, надо ли, и можно ли, и стоит ли пойти по той открывшейся прямой дороге к атомной бомбе. Датские ученые бойкотируют мероприятия института, который настроен на то, чтобы подогреть интерес датчан к национал-социализму. Бор откровенно приветствует Гейзенберга как друга, а не как высокопоставленного научного представителя ненавистной оккупационной власти, которая ограничивает его свободу передвижения. После ужина с Нильсом и Маргарет Бор в их квартире Гейзенберг настаивает, по его же собственным воспоминаниям, на разговоре с глазу на глаз. Он знает, что датский ученый находится под надзором гестапо. Поэтому прогулка кажется ему самым бесхитростным вариантом, чтобы приступить к обмену мнениями, не опасаясь, что их подслушивают.
Решаясь на разговор со старым другом об атомном оружии и сверхсекретном «урановом клубе», он сильно рискует. Ему должно быть ясно, что он идет на государственную измену и может быть казнен за это преступление. Стоит только этому страстному коммуникатору Бору проронить одно неосторожное слово на эту тему не там, где надо. И Гейзенберг пускается в разговор ощупью, намеками — из боязни, «как бы потом не арестовали за какое-нибудь не то выражение». Мол, после двух лет интенсивных исследований расщепления ядра он пришел к убеждению, что атомная бомба в принципе осуществима. Правда, он считает технические и финансовые затраты чрезмерно высокими, чтобы в обозримое время суметь изготовить пригодную для введения в действие бомбу. Но основной свой вопрос — о моральном праве физиков участвовать в создании атомного оружия, не важно, при демократии или при диктатуре, — Гейзенберг так и не смог задать, потому что Бор, крайне разволновавшись, оборвал разговор. Шанс физиков прийти к взаимопониманию на международном уровне не реализовался.
Сам же гостеприимный хозяин высказывается по поводу этой встречи так он не сомневается в том, что Гейзенберг и Вайцзеккер приехали в Копенгаген также и с намерением осведомиться о благополучии его семьи и подключить все свои связи, чтобы оказать посильное покровительство ему, сыну еврейки. Правда, в нем самом преобладал страх, что он внезапно увидит в лице своего бывшего ученика и любимого друга главного теоретика немецкого проекта атомного оружия. Ибо кому, как не Нильсу Бору, лучше знать, что будет, если за дело возьмется Вернер Гейзенберг?
Еще полгода назад, в марте, Вайцзеккер был в Копенгагене с серией докладов, и та поездка недвусмысленно была связана с заданием разведать «естественно-научную информацию для надобности секретных служб». И немец действительно привез тогда добычу, которую он с гордостью перечисляет в своем отчете: как печатные экземпляры, так и рукописи об исследованиях расщепления ядра в институте Бора, а также фотокопии актуальных статей из
Судя по всему, Гейзенберг сказал ему, что если война продлится достаточно долго, то ее исход, возможно, будет решаться атомным оружием. И при этом не дал Бору ни малейшего намека на собственные усилия воспрепятствовать такому развитию. Но особенную боль Бору причинила та уверенность в победе, которую Гейзенберг, а еще больше Вайцзеккер распространяли во время их недельного пребывания в Копенгагене. Сенсационно успешный поход против России, казалось, воспламенил и их национальную гордость. Гейзенберг сожалеет об оккупации Дании, однако все же читает проповеди о «биологической необходимости войны» и, будучи антикоммунистом, предпочитает советской гегемонии меньшее зло: Европу под властью Гитлера. Не считаясь с чувствами датчан, которые больше всего на свете желали поражения немцев, гости не скрывали своего убеждения в конечной победе Гитлера. Поэтому, подчеркивает Вайцзеккер, отказ датских физиков от сотрудничества с немцами совершенно не имеет смысла. Не по заданию ли своего отца он говорит это? Не вызывают ли у Бора эти и подобные замечания подозрение, что Вайцзеккер мог использовать Гейзенберга в качестве инструмента, чтобы тот уговорил Бора к кооперации с немецкими атомными физиками? А то и вовсе выведал у него что-нибудь об атомном проекте американцев? Это подозрение совпадает с мнением Пауля Хартека о том, что Карл Фридрих фон Вайцзеккер интриган и никогда не погнушался бы вовлечь политически наивного Гейзенберга в свои стратегические игры, мотивированные как личными интересами, так и политически.
Сотрудники института Бора докладывают своему начальнику, что Вайцзеккер мнит немецкую науку окрепшей вследствие войны, тем более что Гейзенберг, как намекал барон, еще внесет в окончательную победу чрезвычайный вклад.
Вернер Гейзенберг и Нильс Бор потрясены столь быстрым распадом их давней прочной дружбы. Ведь из их легендарных разговоров некогда вышли такие творения, как копенгагенская интерпретация квантовой механики. Правда, дипломат-любитель Вернер Гейзенберг и научный шпион Карл Фридрих фон Вайцзеккер очень скоро споткнулись уже при самых первых шагах по открытой прямой дороге к атомной бомбе.
Меморандум Отто Роберта Фриша и Рудольфа Пайерлса между тем достиг желаемого результата. Двадцать седьмого октября 1941 года на стол американского президента ложится отчет Национальной академии наук о реализуемости атомной бомбы. Документ основан где на расчетах, а где и на силе воображения двух работающих в Англии
Шестого декабря 1941 года члены Американского уранового комитета встречаются в Вашингтоне, чтобы под руководством Ванневара Буша заново организовать и ускорить исследовательские действия в Беркли и в Нью-Йорке. В тот же самый день генерал Георгий Жуков отдает сотне советских дивизий приказ о контрнаступлении и начинает впервые оттеснять немецкие войска на запад. На следующий день японская авиация нападает на американскую военно-морскую базу Пёрл-Харбор на Гавайях. Сутки спустя Рузвельт объявляет Японии войну. А с одиннадцатого декабря Германия и США тоже становятся военными противниками.
Насколько велико предубеждение генерала Эмиля Лееба, шефа Управления вооружений, против корифеев Пауля Хартека и Карла Фридриха фон Вайцзеккера, становится до боли ясно, когда они внезапно получают на руки повестки о призыве на войну. Их статус открепленных по брони из-за важных в военном отношении исследований был снят без предупреждения. Благодаря хорошим связям Гейзенберга в высших военных кругах эти повестки снова отозваны. Управление вооружений явно хочет, чтобы тема производства взрывчатого вещества из урана была подвергнута переоценке. При этом постепенно, по шажочку намечается выход управления из проекта. Курт Дибнер знает, что об атомном оружии можно думать лишь тогда, когда уже имеется действующая урановая машина, которая вырабатывает материал для бомб. Но в Германии еще никто в глаза не видел плутоний, не говоря уже о том, чтобы иметь возможность его исследовать. Удельный вес элемента 94 неизвестен, и потому затруднителен предварительный расчет его критической массы. Оценки лежат в пределах от десяти до ста килограммов. Также и порядок величин производства плутония в реакторе остается неизвестен. Тем самым и надежда на скорое боеготовное атомное оружие для войны пока нереалистична. А посему Дибнеру по трезвом размышлении кажется также, что оборонно-техническое внедрение урановой машины в качестве привода для бомбардировщиков, линкоров и подводных лодок — более естественное решение. Конференция всех директоров «уранового клуба» должна прояснить будущее атомной программы. Рузвельт начертал свое «ОК» для Ванневара Буша черными чернилами на неприметной бумажке, датированной девятнадцатым января 1942 года. Верховный главнокомандующий американских вооруженных сил не имел в эти дни времени на длинные письма. Получателю он посоветовал лишь одно: «Я думаю, Вам лучше держать это в сейфе». То есть именно в тот момент, когда в Германии Управление вооружений начинает терять интерес к «урановому клубу», в Америке приводится в движение могучая машинерия, чтобы произвести никогда доселе не виданное оружие массового поражения. На следующий день, двадцатого января 1942 года в Берлине запускается следующий проект уничтожения в промышленном масштабе, не имеющий аналогов в истории. На Ванзейской конференции пятнадцать госсекретарей, высокопоставленные офицеры СС и руководящие лица гестапо санкционируют «окончательное решение еврейского вопроса».
Семья Ферми живет в уютном домике в нью-йоркском предместье Леония. Лаура и Энрико однажды проводят ночную акцию: под полом угольного подвала они прячут свинцовую трубку, в которой упакована часть нобелевских денег. Пока они являются итальянскими гражданами и боятся, что — по законам военного времени — будут проходить по разряду
Макс Планк болтает с Гансом Гейгером. Генерал-фельдмаршал Эрхард Мильх приветствует представителей компании «Ауэр». Среди гостей присутствуют и несколько господ в черной униформе с черепом и костями на фуражке. Отто Ган говорит на тему, которая сделала его знаменитым: «Расщепление ядра урана». И само собой разумеется, в списке докладчиков значится и Вернер Гейзенберг. Съезд для обсуждения будущего «уранового клуба» созван двадцать шестого февраля 1942 года уже не Управлением вооружений, а снова — как в сентябре 1939 года — Государственным советом по науке. Знаменитости из политики, экономики и науки должны составить себе представление о состоянии дел. И Гейзенбергу с его видением «уранового котла» явно удается пробудить новые аппетиты. Он описывает машину высотой приблизительно с дом, которая производит недорогое электричество, а в уменьшенном мобильном формате годится в качестве привода для надводных и подводных кораблей Атлантики. Может быть, с такими «весьма значительным, технически пригодным для использования количеством энергии в относительно небольших количествах вещества» скоро можно будет также увеличить дальность действия немецких бомбардировщиков до самого Нью-Йорка. А в довершение всего этого из реактора можно будет выгребать — так сказать, в качестве золы — еще и взрывчатку фантастической пробивной силы.
С другой стороны, Гейзенберг прилагает весь свой авторитет физика мировой величины, чтобы вызванную с таким трудом эйфорию военных, которые уже готовы поставить его под пресс нехватки времени, тут же снова пригасить ссылкой на большие расходы промышленного масштаба. Шпагат удается. К концу дня, судя по всему, «атомной физикой заинтересовались не только сухопутные войска, но и руководство флота и военно-воздушных сил». Этапная цель достигнута: «урановый клуб» с его двадцатью двумя институтами остается на плаву, а вселяющие ужас военные повестки желтеют в долгом ящике. Опять бронь. По мнению Отто Гана ядерный реактор и вовсе являет собой «философский камень, который всегда искали средневековые алхимики, потому что они видели в нем ключ для превращения элементов».
Гленн Сиборг встречает свой тридцатый день рождения девятнадцатого апреля 1942 года в Чикаго. В «метлабе», металлургической лаборатории Чикагского университета, он и его коллеги должны разработать метод, позволяющий химически отделять плутоний от облученного урана — в промышленном масштабе, разумеется. Но поначалу речь идет лишь о том, чтобы хотя бы раз увидеть в глаза пресловутое вещество. Никто до сих пор не видел его невооруженным глазом. Обращение с ультрамикроскопически малыми количествами в несколько стомиллионных долей грамма требует виброустойчивого рабочего помещения с массивным бетонным столом. Сиборг обретается в отслужившей свое фотолаборатории. Поскольку действующего реактора, который размножал бы плутоний, пока еще нет, он переключается на циклотрон в Сент-Луисе. Там он подвергает уран облучению — круглосуточно, неделями и месяцами, — симулируя таким образом подходящую продолжительность работы реактора. В ста килограммах облученного материала микроскопически распределено 0,25 грамма ценной субстанции. Сиборгу предстоит справиться с нечеловеческим вызовом: высвободить плутоний из урановой массы, которая, помимо всего прочего, еще и заражена всей палитрой высокоактивных продуктов расщепления. Чтобы не причинить никому вреда, еще не изобретенный способ экстракции должен проистекать за бетонной стеной метровой толщины.
В Лейпциге в это же самое время Роберт Дёпель, профессор радиационной физики, готовит новую установку для эксперимента. Когда он очень осторожно засыпает урановый порошок в полые трубки внутри алюминиевого шара, его жена Клара стоит рядом, держа наготове огнетушитель. Металлический уран намного активнее оксида урана. Уже одного трения между металлом и внутренней стенкой трубки достаточно, чтобы порошок урана воспламенился и язык пламени взметнулся вверх. Полгода назад Пашен, механик Дёпеля, не готовый к такому повороту событий, получил тяжелые ожоги кисти. Переход к металлическому урану приносит Вернеру Гейзенбергу и супругам Дёпель долгожданный прорыв. В их четвертом лейпцигском эксперименте впервые получено больше нейтронов, чем абсорбировано. И хотя они не вызвали этим цепной реакции, однако доказали принципиальную возможность действующего уранового котла. Они полны воодушевления — правда, лейпцигский алюминиевый шар диаметром семьдесят сантиметров пока что всего лишь модель — в отличие от объемных реакторов, которые уже строит Ферми. Подводя итоги эксперимента, Дёпель и Гейзенберг на основании своих цифр делают вывод, что для настоящей машины им потребуется пять тонн тяжелой воды и десять тонн металлического урана. Но хотя бы по той причине, что этот особый сорт воды все еще по капле получают на единственной норвежской фабрике, они обречены на ожидание.
Потребность обсуждения проблем атомного оружии в Германии со всей очевидностью велика, ибо четвёртого июня 1942 года уже состоится следующая конференция высших военных чинов и представителей экономики о будущем немецкой атомной программы. В Харнак-хаусе Общества кайзера Вильгельма, где некогда Лео Силард в 1933 году долгие недели сидел на собранных чемоданах, на сей раз просвещаются новый министр вооружения Альберт Шпеер и еще один любимчик фюрера — автомобильный конструктор и «фюрер оборонной экономики» Фердинанд Порше.
Вернер Гейзенберг к этому времени уже набрался опыта в хождении по канату и привычно балансирует под куполом. Ввиду того что военная удача отвернулась от Германии, шансы на финансовую поддержку имеют лишь те военные проекты, которые могут завершиться в обозримом будущем. С одной стороны, ему снова удается пробудить воодушевление по поводу обетованной ядерной машины, которой Отто Ган уже придал мистическое измерение «философского камня». С другой стороны, Гейзенберг переносит конечную цель — создание атомной бомбы — на столь отдаленный срок, что военные вожди могли бы и догадаться, что в эту войну им желанного оружия не применить. Однако в следующее мгновение немецкий патриот Гейзенберг впервые говорит о гонке вооружений между «урановым клубом» и американскими учеными и тем самым приближает тайный страх военных перед превосходящим американским военным противником. Глядя на США, Германия, мол, не может отказаться от разработки уранового котла, предупреждает он. «Если война с Америкой затянется на несколько лет, необходимо считаться с возможностью того, что техническое использование энергии атомного ядра в один прекрасный день вдруг может сыграть решающую роль в исходе войны».
«Ультрамикрохимики» в Чикаго под руководством Гленна Сиборга вынуждены сами мастерить для себя инструменты: крошечные инъекционные иглы, капиллярные трубки и микроманипуляторы. Но самое умопомрачительное — это весы, состоящие из единственной кварцевой фибры. Чтобы защитить волоконце от малейшего дуновения ветерка, оно подвешено в стеклянном домике. Чаша весов сформирована из кусочка платиновой фольги. Она укреплена на конце волоконца и едва различима невооруженным глазом. Вес микромасс определяется косвенно — по градусу поворота волоконца.
Первые фанерные ящики с 270 фунтами облученного урана из циклотрона Сент-Луиса прибывают в Чикаго в июле 1942 года на грузовике. Это желтые блоки, похожие на каменную соль. Чтобы отгородиться от их сильного излучения, груз заслонен свинцовыми кирпичами. Два сотрудника перетаскивают ящики в лабораторию Сиборга на четвертый этаж. Кое-где фанера сломана, и сквозь дыры видны радиоактивные кристаллы урана. Сиборг может предложить рабочим в качестве защиты разве что резиновые перчатки и лабораторные халаты.
Кропотливая работа экстракции — манипуляторами, кислотами и веществами-носителями — за толстыми свинцовыми щитами приводит две недели спустя к тысячной доле литра — это около двадцати капель — препарата, состоящего из плутония, соединений калия и других веществ-носителей. Еще несколько дней спустя, восемнадцатого августа, после дальнейших выпариваний и обогащений, первая проба чистого плутония лежит на платиновой фольге крошечных весов. После нескольких часов на воздухе субстанция «приобретает розовый цвет». И после двух дополнительных недель группа может впервые взвесить взрывное вещество. Кварцево-фибровые весы показывают гордые 2,7 миллионных долей грамма. «Простое» отделение плутония от урана, предсказанное вскользь еще за год до того Карлом Фридрихом фон Вайцзеккером в его патентной заявке, на деле оказалось слишком оптимистическим прогнозом. Лишь с помощью специально разработанной для этой цели микрохимии урана Сиборгу удалось — после многонедельных трудов — выделить крохотную пробу плутония.
Министр вооружений Альберт Шпеер удивляется менталитету своих ученых-атомщиков. Ведь после июньской конференции он отнес работы «уранового клуба» к категории основополагающих исследований и дал согласие на их обильную финансовую поддержку. Однако все, чего они хотят, — это смехотворные сорок тысяч рейхсмарок и немножко военно-стратегических материалов — таких, как никель и сталь в незначительных объемах. Шпеер сам повышает, по его воспоминаниям, «денежную сумму до одного-двух миллионов марок...». Двадцать третьего июня Шпеер задерживается в рейхсканцелярии, чтобы лично доложить Гитлеру свой взгляд на немецкие исследования в области ядерной энергии. Как ни странно, у фюрера, по впечатлению Шпеера, наблюдается почти мистический страх перед атомным оружием: «При случае он шутил, что ученые, оторвавшись от жизни в своем стремлении к разоблачению всех земных тайн, могут в один прекрасный день поджечь земной шар».
В тот же день двадцать третьего июня 1942 года и в те же часы Роберт Дёпель занят в Лейпциге измерениями на своем успешном реакторе. Алюминиевый шар с новой слоистой конструкцией из трехсот килограммов металлического урана и тяжелой воды уже три недели висит в его резервуаре с водой. Внезапно Дёпель видит, что из резервуара поднимаются пузыри. Заподозрив негерметичность шара, он и его сотрудники поднимают из воды «38-ю машину». Едва успел техник Пашен открыть запорный вентиль, как из шара вырвался уже горящий радиоактивный порошок урана, а за ним высокий язык пламени. Мужчины сумели потушить огонь и для охлаждения снова погрузили шар в резервуар с водой. Примчавшийся по вызову Гейзенберг рассматривает повреждения. Дёпель заверяет его, что все под контролем, так что он может спокойно продолжить свои семинарские занятия. Однако реактор, которому полагалось остыть, становится все горячее. Руководитель эксперимента решает продолбить машину под водой. Но уже поздно. Бегом вернувшийся в лабораторию Гейзенберг только и успел увидеть, как шар в воде раздувается, и вместе с остальными пустился из лаборатории наутек. «В следующее мгновение в нескольких местах из-под воды вырвалось обширное пламя, сопровождаемое приглушенным гулом взрыва... Металлический уран огненным фонтаном выбросило до шестиметрового потолка». Верхнее полушарие весом в четыреста килограммов было привинчено к нижней половине больше чем сотней болтов. Один из взрывов разорвал его по этой разделительной линии, откинув в сторону и разнеся на куски. Лаборатория была разрушена, и вызванной пожарной команде стоило больших трудов «погасить бесчисленные языки огня от раскиданного повсюду уранового порошка». Урановые костерки продолжали тлеть еще два дня, пока все реакции не угасли. Металлический уран превратился в грязную массу, и большая часть драгоценной тяжелой воды тоже была уничтожена.
Между тем и Роберт Оппенгеймер привлечен в команду Атомного комитета Буша, в который также входят военный министр Генри Стимсон и вице-президент Генри Уоллес. Оппенгеймер в Беркли должен позаботиться о дизайне бомбы. В свой засекреченный летний семинар он среди прочих призывает Эдварда Теллера и физика немецкого происхождения Ганса Бете. Встречи проходят над кабинетом Оппенгеймера, в мансардном этаже белокаменного, похожего на замок здания университета. Две комнаты через двустворчатые двери выходят на балкон, который из соображений безопасности весь, как вольер, затянут проволочной сеткой. После первых приблизительных расчетов участникам становится ясно, что высвобождение энергии при взрыве атомной бомбы в сто пятьдесят раз превысит значение, рассчитанное Фришем и Пайерлсом. Правда, масса урана-235 должна быть при этом как минимум в шесть раз больше, чем они предсказали. Что неизбежно потребует производства взрывчатого вещества в промышленном масштабе.
Пока избранный кружок Оппенгеймера возбужденно обсуждает эти новые технические и финансовые характеристики бомбы с ядерным расщеплением, Эдвард Теллер явно чувствует себя недооцененным и отваживается на дерзкий шаг, выходящий за пределы собственно цели. И здесь, в офисе Оппенгеймера, где тень от проволочной сетки в послеполуденном солнце ложится на бумаги как разлиновка в клеточку, моделирующие расчеты Теллера позволяют сделать захватывающий вывод. Он представляет себе, что будет, если использовать атомную бомбу как детонатор для ровно двадцати шести фунтов жидкого тяжелого водорода. Взрыв соответствовал бы миллиону тонн в тротиловом эквиваленте. Эта новая перспектива наводит Теллера на далеко идущие мысли. Не только эта неслыханная «водородная бомба», но уже и «традиционная» бомба расщепления ядра расчетной силой в несколько тысяч тонн тротилового эквивалента могла бы поджечь азот в атмосфере Земли и водород в Мировом океане. Ганс Бете считает эти опасения апокалипсическим вздором. Он пересчитывает данные, полученные Теллером, надеясь своими цифрами успокоить коллег, доказав, что даже вдвое более мощное атомное оружие не подожжет атмосферу Земли.
Буш и члены его комитета хотят наконец довести дело до конца. Лабораторных масштабов уже недостаточно. Теперь необходимо сконструировать и построить дорогостоящие фабричные сооружения для производства плутония и урана-235. И они принимают решение поручить организацию атомного проекта военным. Под руководством надлежащего офицерского чина должны координироваться и, кроме того, содержаться в строгой секретности — атомная физика и ультрамикрохимия, проектирование фабрики и промышленное управление, равно как и машиностроение и оружейный дизайн. На восемнадцатом этаже небоскреба в Манхэттене, на Бродвее, на углу Чемберс-стрит, находится штаб-квартира Army Corps of Engineers, организации проектов военного строительства. Здесь одиннадцатого августа 1942 года бюрократически сдержанным актом учреждено новое местное отделение — Манхэттенский инженерный участок. На первый взгляд совершенно нормальный процесс. В конце концов соответствующие инженерные участки есть и в Питтсбурге или в Денвере. Безобидное название должно отвлекать внимание от истинных намерений и в будущем служить маскировочным обозначением для атомного проекта американского правительства.
Недалеко от офиса военных инженеров, совсем рядом со зданием Вулворта на Бродвее, на одиннадцатом, двенадцатом и четырнадцатом этажах высотного дома несколько рабочих групп Колумбийского университета в секретной лаборатории корпят над выделением ура-на-235. Тысяча двести тонн урановых соединений из Бельгийского Конго, которые были отправлены в Нью-Йорк морем еще до ввода в Бельгию немецких войск, хранится на Статен-Айленде, к югу от Манхэтгена. Да и на западе острова Манхэттен на складах хранится несколько тонн урана. Не надо забывать и тех двоих русских, что ведут бойкую торговлю урановой рудой в своей Eldorado Radium Corporation на расстоянии видимости от Колумбийского университета — и вздрагивают всякий раз, заслышав имя Лео Силарда.
Когда семнадцатого сентября 1942 года бригадный генерал Лесли Гровс принимает руководство Манхэттенским инженерным участком, он может прибегнуть к испытанной инфраструктуре строительных инженеров сухопутных войск. Уже на второй его рабочий день один из его посредников входит в кабинет бельгийского бизнесмена Эдгара Сенгера в Кунард-билдинге на Бродвее. Эдвард Сенгер и распоряжается теми тысячью двумястами тоннами сырья для бомб, принадлежащего фирме «Union Minière du Haut Katanga». Гровс хочет купить всю поставку из Бельгийского Конго. Сходятся в цене на двух с половиной миллионах долларов.
Сорокашестилетний Гровс — инженер, и только что сделал себе имя, ведя строительство Пентагона в Вашингтоне. На следующий день после сделки с ураном он покупает гигантский участок земли в Теннесси, на котором должна быть построена фабрика по производству урана-235. В начале октября новый босс наносит ознакомительный визит в Чикаго. Шеф метлаба Артур Комптон, Энрико Ферми, Джеймс Франк, Юджин Вигнер и Лео Силард обсуждают с Гровсом детали конструкции и варианты охлаждения будущего плутониевого реактора. Гровс, строевой служака со своими антисемитскими предубеждениями, считает непочтительного Силарда с его подозрительно-немецким акцентом воображалой — «из тех людей, что вышвырнули бы работодателя вон, чтобы он не путался под ногами». А Силард предпочитает привычно видеть в генерале «просто самого большого дурака». В конце обсуждения один из химиков метлаба, покидая конференц-зал, держится подальше от огромных окон и указывает визитеру, которому сейчас легче было бы воевать на передовой, чем разбираться с учеными, на слабое место в безопасности: «Господин генерал, тут кто угодно может швырнуть в окно ручную гранату, вы не находите?» — «А что, неплохая идея, — буркнул Гровс. — Здесь как раз накаленная атмосфера».
На Роберта Оппенгеймера Лесли Гровс, наоборот, реагирует с энтузиазмом, познакомившись с ним на третий день после встречи в Чикаго. Оппенгеймер источает свое легендарное обаяние и производит на него впечатление блеском интеллекта, так что матерый Гровс после встречи в восторге: «Гений... настоящий гений». Для господ из комитета Буша видный физик-теоретик и без того считается негласно главным кандидатом на руководство центральной лабораторией вооружений, куда должны стекаться все научные познания, необходимые для создания атомной бомбы. Однако былое увлечение Оппенгеймера коммунистическими идеями — явно непреодолимый риск для безопасности. В телефонном разговоре с Комптоном Оппенгеймер дает знать, что он готов прервать всякий контакт со своими коммунистическими друзьями: «Я не хотел бы, чтобы что-то создавало препятствия моей службе народу». Однако Министерство обороны в сомнениях. И тут за него ходатайствует его новый почитатель Гровс, однако и он нарывается на отказ у своего начальства. Даже большинство ученых, посвященных в дело, огорошены выбором Гровса, поскольку они считают теоретика Оппенгеймера неподходящей кандидатурой на роль руководителя столь могущественного предприятия. Один коллега по Беркли даже уверен: «Да он не смог бы руководить ларьком с гамбургерами».
Однако упорный Гровс в конце концов добивается своего. Он хочет только «безмерно честолюбивого» Оппенгеймера и никого другого. В конце октября 1942 года все возражения отметены: на Роберта Оппенгеймера возложено руководство Манхэттенским инженерным участком, который к тому времени уже назван «Манхэттенским проектом». Тогда же антикоммунист и прирожденный секретчик Лео Силард вдруг подвергается неприятным допросам. Как нарочно, именно его способность хранить молчание поставлена под сомнение. Разумеется, за этим стоит Лесли Гровс. Он давит на Комптона, требуя отстранить Лео Силарда от чикагской группы, потому что тот якобы является потенциальным шпионом. А когда руководитель метлаба не торопится исполнять желание начальства и даже, наоборот, начинает выпячивать заслуги Силарда, Гровс не останавливается перед тем, чтобы написать военному министру Стимсону письмо, в котором изображает Силарда как слабое звено в безопасности. Он даже предлагает интернировать этого
С отходом Управления вооружений от дел «уранового клуба» Курт Дибнер тоже вынужден оставить свой пост руководителя Физического института кайзера Вильгельма в Берлине. Новым директором становится Вернер Гейзенберг. Поскольку бывший директор Петер Дебай еще три года назад эмигрировал в США, но официально считается находящимся в отпуске, Гейзенберг по строгим бюрократическим критериям не может быть назван директором
И Абрахам Есау уповает на перемены. Уполномоченный физик Государственного совета по науке, возглавляемого Германом Герингом, с началом войны выдворенный Управлением вооружений, осенью 1942 года снова видит шанс самостоятельно влиять на направление исследований расщепления ядра. Он ведь уже президент Государственного физико-технического управления. Здесь же находит себе прибежище и Курт Дибнер и первое время еще продолжает вести свою координирующую работу. Общество кайзера Вильгельма — из-за хороших отношений между Шпеером и Гейзенбергом — может работать финансово довольно независимо от Есау и Государственного совета по науке. Как Шпеер, так и Геринг поощряют работу физиков, хорошо зная, что при тяжелом военном положении все средства брошены на фронт и поэтому воплощение лейпцигской и берлинской моделей реактора в промышленных масштабах немыслимо. Вот почему развитие атомного оружия, на их взгляд, нереально, однако они возлагают свои надежды на ядерный «тепловой двигатель» как на ценный источник энергии в послевоенное время.
В компании «Goodyear» в Акроне, штат Огайо, сотрудники немало удивлены, когда летом 1942 года в цех является долговязый молодой человек и высказывает необычное пожелание. На самом большом в мире заводе автомобильных шин уже производят дирижабли, резиновые лодки, пожарные рукава и даже жетоны для игры в покер, но вот кубические прорезиненные оболочки аэростата до сих пор еще ни разу никому не понадобились. Какой-то скептик выражает сомнение в том, что такой аэростат вообще полетит. Да он и не должен лететь, отвечает странный заказчик, подписывается именем Герберт Андерсон и в качестве адреса поставки указывает метлаб в Чикагском университете.
Несмотря на свое увольнение, Курт Дибнер видит в новой управленческой структуре шанс — самому наконец проводить активные эксперименты. Как руководитель испытательного полигона Готтов, расположенного к югу от Берлина, он набрасывает с молодой, способной к воодушевлению группой новую геометрию реактора. Из случившейся в Лейпциге неожиданной аварии Гейзенберг сделал вывод, что впредь будет работать с пластинами металлического урана, отливать которые для него должна компания «Ауэр». Пока ему приходится ждать эту новую форму топлива, в распоряжении Дибнера оказываются большие количества отвергнутого порошка оксида урана. План Дибнера звучит так, будто минувшим летом ему удалось заслать своего шпиона, внедрив его в нью-йоркскую группу Ферми. Ибо теперь и в Готтове в дело идут урановые кубики. Для этого Дибнер распоряжается изготовить деревянные кубики с длиной стороны ровно десять сантиметров и установить их на парафиновую пластину с небольшими интервалами так, чтобы возникла структура пчелиных сот. Затем пустоты между кубиками заливаются горячим парафином. Кубики снова извлекаются, после того как парафин застынет. Потом в отверстия из-под кубиков аккуратно, по ложечке, засыпается оксид урана и плотно там утрамбовывается. В дело идут двадцать пять тонн урана и четыре с половиной тонны парафина.
В алюминиевый котел шириной и высотой в два с половиной метра укладывают девятнадцать таких слоев, в которых умещается шесть тысяч восемьсот урановых кубиков, набитых в парафин. Даже один такой кубик должен был бы, по первым прикидочным расчетам Оппенгеймера, сделанным когда-то в 1939 году, «сам по себе взорваться к чертям собачьим». В конструкции Дибнера, однако, маленькие адские машинки не выказывают склонности выламываться из своих парафиновых обойм. Сотрудникам известно, что столь длительное обращение с ядовитым оксидом урана чрезвычайно вредно для здоровья. Они работают в это лето 1942 года, невзирая на палящий зной, «в пыленепроницаемых защитных костюмах, резиновых сапогах, резиновых перчатках и респираторах». На такую защиту не могут рассчитывать две тысячи женщин из концлагеря Заксенхаузен, которые на ораниенбургской фабрике компании «Ауэр» голыми руками добывают оксид урана из захваченного в Бельгии сырья. В конце работы готтовская группа Дибнера выказывает осторожный оптимизм: без применения замедляющего вещества — такого, как тяжелая вода или графит, — можно не бояться размножения нейтронов. Правда, измерения показывают, что в решетчато-кубическом устройстве в дело вступает геометрия реактора, которая обещает гораздо больше, чем методы, испробованные в Берлине и Лейпциге. И у Дибнера уже возникла идея, как оптимизировать эксперимент.
Футбольная команда Чикагского университета некогда значилась в самых верхних строчках Лиги. Однако те славные времена давно миновали. Сейчас бурьяном поросли трибуны стадиона посреди кампуса на Эллис-авеню, между 56-й и 57-й улицами. Когда Герберт Андерсон в первый раз остановился перед огромными западными воротами спортивной арены, ему показалось, что перед ним скорее средневековая крепость. Массивный каменный фасад с зубцами и двумя увитыми плющом башнями тянулся вправо и влево от ворот, ведущих к бывшему залу для игры в сквош под главной трибуной. Зал длиной двадцать метров, шириной и высотой десять метров. Андерсон представляет себе, как сюда встанет будущий реактор.
Как и Гейзенберг в Берлине, Ферми, Силард и Андерсон в середине 1942 года обречены на бездействие. Даже накопленных в Нью-Йорке и отправленных в Чикаго многих тонн урана и графита еще недостаточно для критического реактора. И они терпеливо ждут недостающие материалы в надежде, что рабочие «Goodyear'а» поторопятся, а не только будут упражняться в шутках по поводу нелетучей надувной колоды, которую они мастерят. Однако все же есть одно существенное отличие от ситуации в Германии: у Ферми нет честолюбивых конкурентов в поиске лучшего метода, и он из своих расчетов знает, как надо расположить топливо и замедлитель в будущем опытном устройстве, чтобы действительно вызвать цепную реакцию. Правда, остается последний риск: достаточно ли будет мер предосторожности, принятых Ферми, чтобы удержать цепную реакцию под контролем, или, как опасаются некоторые пессимисты, машина, расположенная в центре миллионного города, взорвется?
Курт Дибнер знает, что в его решетчато-кубической конструкции крепежные распорки и стабилизирующие металлические пластины абсорбируют нейтроны, которые вообще-то должны расщеплять ядра урана. Чтобы повысить выход нейтронов, он хочет вообще отказаться от крепежного материала. Устойчивость решетчато-кубического устройства должна достигаться на сей раз твердым замедлителем, а именно «тяжелым льдом». К этому времени готтовцы уже могут избавить себя от опасной работы заполнения ячеек порошком оксида урана при помощи ложек. Их сто восемь кубиков со стороной в пять сантиметров изготовлены из существенно более калорийного металлического урана. Расположенные с шаровой симметрией, они будут погружены в двести литров тяжелой воды, которая тут же будет заморожена. Для этого эксперимента группа в начале 1943 года временно перебирается в холодильную камеру Химико-технического государственного управления. Если летом они парились в защитной спецодежде, то теперь им приходится работать в условиях постоянных минус десяти градусов Цельсия. Когда измерения завершены, у них есть все основания ликовать: в пересчете на комнатную температуру Дибнер и его группа с их оригинальным экспериментом на 50 процентов превысили показатели четвертого лейпцигского эксперимента по размножению нейтронов. Никто не ожидал, что Дибнер так проворно перегонит своего соперника Вернера Гейзенберга. И прогресс достигнут отнюдь не в престижном столичном Физическом институте кайзера Вильгельма, а на испытательном полигоне Готтов в Куммерсдорфском лесу среди болот и заливных лугов, в скромном деревянном домике на бетонном цоколе, одиноко расположенном среди берез и сосен.
Те, кто в эту последнюю неделю ноября 1942 года действительно имеет разрешение входить в зал для игры в сквош под западными трибунами футбольного стадиона, должны показать пропуск двум солдатам у входных ворот. В зале, несмотря на свет прожекторов, мало что можно увидеть, поскольку свет застит дым открытого огня, горящего в выставленных в ряд бочках из-под нефти. В бочках тлеет высокочистый графит — обрезки подпиленных кирпичей. Это благодушная попытка сделать немного терпимее здешний холод. Наряду с дымом и сажей свет застит и летающая повсюду графитовая пыль. Бетонный пол после обработки почти четырехсот тонн графита покрыт скользким, блестящим черным слоем, превратившим его в каток. Респираторы тут не любят, и сотрудники вдыхают графитовую пыль полной грудью. Поскольку людские ресурсы в военное время — дефицит, здесь зарабатывают свои несколько долларов тридцать подростков, бросивших школу, и бродяг из скотобойного квартала Чикаго. Они прессуют оксид урана в круглые литые формы. Рядом с прессами стоит клетка с мышами в качестве живого сигнализатора тревоги. Если животные, круглые сутки вдыхая оксид урана, выживают и остаются здоровыми, то и люди — по здешнему разумению — с их двенадцатичасовой рабочей сменой у пресса тоже не пострадают.
Немного в сторонке стоит серый кубический баллон от компании «Goodyear», длина его ребра составляет добрых восемь метров. Его нижняя грань касается пола, а верхняя закреплена на потолке зала. Одно из шести резиновых полотнищ закатано вверх, подобно входу в палатку. А внутри громоздится графитовое яйцо, закрепленное на подпорках из сосновых колод: приплющенный шар диаметром восемь метров и высотой шесть метров. До последнего времени группы физиков, плотников, студентов и подсобных рабочих, не понимавших конечного смысла происходящего, круглые сутки подпиливали до унифицированного размера, шлифовали и укладывали штабелями графитовые кирпичи — числом более сорока тысяч. Они просверлили в кирпичах девятнадцать тысяч отверстий, чтобы запрессовать в графит тридцать пять тонн оксида урана и пять тонн металлического урана в форме двадцати двух тысяч шаров и цилиндров. Оболочка аэростата — это джокер эксперимента. Если чистота графита окажется недостаточной, чтобы запустить цепную реакцию, то Ферми заключит реактор в баллон и создаст в нем вакуум, чтобы откачать воздух из крошечных углублений пористой графитовой массы. Ибо он-то и способствует абсорбции нейтронов.
Расположение яйцевидных цилиндров из высококалорийного металлического урана не случайно. Оно точно рассчитано, эти цилиндры сосредоточены в центре реактора вокруг источника нейтронов. Сквозь массивное графитовое образование проходят каналы для контрольных стержней. Они представляют собой плоские рейки четырехметровой длины из древесины бука, обшитые кадмиевой жестью. Кадмий отлично подходит для поглощения нейтронов, и таким образом стержни могут предотвратить опасность неконтролируемой цепной реакции. После каждого вновь положенного слоя контрольные стержни вынимаются, чтобы замерить интенсивность нейтронов. По расчетам Ферми, по достижении пятидесяти шести слоев реактор должен обрести критическую массу. Однако для того, чтобы действовать наверняка, он решается на дополнительный слой.
В ночь с первого на второе декабря 1942 года Герберт Андерсон присматривает за укладкой пятьдесят седьмого слоя графитовых кирпичей. Он распоряжается вынуть все кадмиевые стержни, кроме одного, и обнаруживает, что лишь эта последняя блокада только и сдерживает цепную реакцию в почти критическом котле. Но это ощутимо близкое мгновение триумфа должно, конечно, состояться — как и договаривались — лишь в присутствии Ферми.
На следующее утро термометры показывают минус двадцать градусов Цельсия. Энрико Ферми, Герберт Андерсон и Леона Вудс, единственная женщина в группе метлаба, сообща позавтракав, шагают вдоль Эллис-авеню, по скрипучему снегу к сиротливому и полуразрушенному футбольному стадиону. Бензин вот уже два дня как выдают по карточкам. Поэтому транспорта почти нет. Выгнать сегодня человека из дома в Чикаго может только что-то очень важное. В зале для сквоша под западными трибунами все подготовлено к большому эксперименту. Импульсные счетчики позволят услышать процесс размножения нейтронов. Трое студентов стоят, словно отважная «команда самоубийц», на грузоподъемнике под самым потолком зала. На тот случай, если цепная реакция все-таки выйдет из-под контроля, они должны будут вылить на реактор три канистры сульфата кадмия.
У противоположной стены пристроена небольшая галерея, на ней сейчас стоят дюжины две зрителей в зимней одежде, среди них и Артур Комптон, руководитель метлаба. Он привел с собой Кроуфорда Гринвальта, представлявшего фирму «Дюпон», которой придется как можно скорее воспроизвести в виде промышленной установки это создание Ферми — коль скоро оно окажется дееспособным. Энрико Ферми стоит у своих контрольных приборов и измерительных инструментов. Он в общих чертах объясняет принцип действия реактора, особо подчеркивая, что сейчас главное — довести эксперимент до конца. Что котел не рассчитан на то, чтобы отводить от него энергию расщепления ядра и производить из нее электричество. Что в его намерения входит скорее власть над реактором и возможность управлять им так, чтобы он произвел не более полуватта энергии — ровно столько, чтобы мигнула одна электрическая лампочка.
Георг Вейль, сотрудник Ферми с колумбийских времен, единственный стоит прямо перед реактором. Все кадмиевые стержни, за исключением одного, вынуты. Взглянув на измерительные инструменты, Ферми вооружился логарифмической линейкой, сравнивая значение интенсивности нейтронов с результатами Андерсона, полученными минувшей ночью. Потом он дает сигнал Вейлю вытянуть последний стержень на пятнадцать сантиметров. Инструменты не могут зарегистрировать возросший вдруг поток нейтронов, и их приходится кропотливо настраивать заново. После следующих пятнадцати сантиметров раздается глухой хлопок. Защитное реле автоматически втягивает один из контрольных стержней внутрь котла, потому что заранее установленное значение размножения нейтронов превышено. Уже половина двенадцатого, и Ферми говорит: «Что-то я проголодался. Пойдемте-ка поедим». Все контрольные стержни задвигаются назад в котел и застопориваются там замками.
В два часа пополудни сорок два гостя опять стоят на галерее. И представитель компании «Дюпон», поначалу скептичный, теперь кажется самым взволнованным. В решающее мгновение рядом с Энрико Ферми становится Артур Комптон. Последний кадмиевый стержень уже вылез из черного гигантского яйца на два метра. Прежде чем Георг Вейль вытянет его еще на тридцать сантиметров, Ферми поднимает руку и говорит: «Пора. Сейчас пойдет цепная реакция». Герберт Андерсон описывает это историческое мгновение так: «Вначале послышался шум счетчика нейтронов: кли-кети-клак, кли-кети-клак. Потом это кликанье стало ускоряться, пока не превратилось в сплошной треск. Счетчик уже не поспевал». После чего включается записывающее устройство. Зрители молча следят, как игла самописца выводит кривую круто вверх. Ферми сияет.
Теперь число нейтронов удваивается каждые две минуты. Серому кубическому аэростату уже не придется выполнять предначертанную функцию. Котел стал критическим сам по себе. Юджин Вигнер принес с собой бутылку кьянти, купленную еще до запрета на импорт итальянских вин и припасенную для этого дня. Кто-то раздобыл бумажные стаканчики. Каждому очевидцу этого первого управляемого высвобождения атомной энергии наливают по глотку вина. Однако никто не взрывается спонтанным ликованием. Сам Вигнер улавливает странное настроение: «Мы уже некоторое время сознавали, что присутствуем при укрощении колосса, и все же, когда стало окончательно ясно, что мы это сделали, возникло нехорошее предчувствие».
В это историческое второе декабря 1942 года еврейские организации в двадцати девяти странах известили своих сограждан о планомерном истреблении европейских евреев. В польский Освенцим в этот день прибывает поезд, депортирующий более восьмисот голландских евреев. Отобраны семьдесят семь пленных мужчин, все остальные отправлены прямиком в газовые камеры. Венгерское правительство в своей депеше, датированной тем же днем, отвечает на немецкое предложение «общеевропейского решения еврейского вопроса» и хвастается тем, что у них «принято уже тысяча девятьсот двадцать антиеврейских мер». Правительство претендует на все имущество венгерских евреев. Венгерский еврей Лео Силард, почти десять лет страстно искавший способ запуска цепной реакции, после винной церемонии подходит к Ферми, жмет ему руку и говорит: «Я думаю, этот день войдет в историю человечества как черный день».
Задача Оррина Таккера как землемера состоит в том, чтобы расчерчивать мир как можно более прямыми линиями. Дороги, проселки, вершины церковных башен и ветряки на уединенных хуторах служат ему ориентирами и точками схода. Летом 1942 года он едет по заданию Army Согрs of Engineers в местность Кноксвиль, штат Теннесси, которая известна своими карликовыми дубравами на холмах из песчаника. Здесь он должен получить первое впечатление от участка, на котором в будущем планируется разместить фабрику по обогащению урана. Как жители станут реагировать на уведомление, что их владения будут экспроприированы, а сами они принудительно выселены отсюда? Поначалу Таккер представлял себе ареал площадью в триста пятьдесят квадратных километров в виде трапеции с прямыми боковыми линиями. Но когда он начал обходить это каре пешком, вникать в ландшафт и разговаривать с людьми, представления его изменились. Фермеры тут испокон века меняли русла речушек, запруживали их в случае надобности или для водопоя животных перенаправляли по-другому, что не могло понравиться военным, мыслящим в проекциях на карте. Здесь много чего предстояло осушить, спрямить и подровнять.
Землемер насчитывает тысячу сто семей, живущих на девятистах крестьянских дворах с собственной пашней и в крохотных деревнях. Он разговаривает с фермерами, которые разводят табак и рожь как сырье для виски, фотографирует их на сенокосе и просит показать их родовые склепы — достопримечательность здешних мест. Щекотливую тему переноса праха он предпочитает не затрагивать. Кроме того, он регистрирует сорок восемь небольших кладбищ в обшей сложности на шесть тысяч могил. При посещении фермы «Дедушка Эдвард», которая могла бы украсить идиллическую книжку с картинками о сельской Америке, ему приходится особенно тяжело при мысли, что на этом месте после радикальных преобразований скудный ландшафт превратится в индустриальную область со строго охраняемыми фабричными сооружениями протяженностью в километры. Таккер и сам родом из этих краев, и здесь есть еще несколько Таккеров, дома которых тоже падут жертвой бульдозеров. По завершении проведенной разведки он потрясен готовностью людей к сотрудничеству. Стоило только произнести волшебные слова «для военных нужд», как исчезали все трудности, стоящие упоминания, — описывает местное положение Таккер в отчете Манхэттенскому инженерному управлению. Тем не менее не следует ли, предлагает он, ради укрепления доверия привлечь экспертов для оценки участков и недвижимости Кноксвиля. Будущая урановая фабрика вблизи городка Клинтон приобретает кодовое название «гарнизон X».
Полковник Франклин Маттиас должен еще раз подвергнуть окончательной экспертизе местность, предназначенную для плутониевого реактора Ферми. Лазутчики Манхэттенского инженерного управления уже обозначили ее как безлюдную. Мол, на чахлых выгонах пасутся лишь стада овец. А грунт и вправду наилучшим образом подходит для заливки бетонных фундаментов большой площади. Местность в пятьдесят раз больше, чем та территория в Теннесси, которую Таккер обошел пешком. Опираясь на благоприятные прогнозы предыдущей команды, Маттиас в тот ледяной декабрь 1942 года ограничился одним облетом округа Бентон в Вашингтоне, северо-западном штате США. В застывшей зимней глуши он, естественно, не мог различить ни цветущих плантаций фруктовых деревьев, ни колышущихся злаковых полей на юге или играющих детей в деревнях на широкой реке Колумбии. И он подтверждает приговор своих предшественников и пишет в протоколе, что запланированный ареал является «обширной песчаной степью, лишенной сколько-нибудь заметной растительности... Местные называют ее негодной, паршивой землей».
Расположение Хенфорда отвечает требованиям безопасности, которые генерал Гровс предъявляет к месту будущей фабрики плутония: обособленность, малая заселенность и большая река, которая будет поставлять воду для охлаждения. Военный руководитель Манхэттенского проекта прекрасно информирован об опустошительных последствиях возможной аварии атомного котла с выбросом радиоактивности и требует создать вокруг «гарнизона W» нежилую двадцатикилометровую зону. Он даже намеревается провести исследование, не нанесут ли стоки отработавшей на охлаждении радиоактивной воды урон популяции лосося и радужной форели в реке Колумбии. Руководителю проекта Маттиасу он советует не убегать, в случае если реактор взорвется, а бросаться в гущу событий: это избавит его от гораздо больших неприятностей. Деревни Уайт-Блафс и Хенфорд включены в цену покупки «паршивой земли» — пять миллионов долларов за тысячу пятьсот квадратных километров. Дома, сады и хозяйственные постройки будут сожжены, несколько сотен людей принудительно переселены, а сто семьдесят семь гробов выкопаны с кладбища Уайт-Блафс и перевезены на кладбище в пятидесяти километрах от этого места.
Шестнадцатого ноября 1942 года, когда не пригодившаяся оболочка аэростата под западными трибунами стадиона в Чикаго разобрана и поднята вверх, Роберт Оппенгеймер встречается в Нью-Мексико с Лесли Гровсом и майором Джоном Дадли из Манхэттенского инженерного управления. Генерал торопит с решением по «гарнизону V». На этом гарнизоне должна быть создана оружейная лаборатория, директором которой назван Оппенгеймер. Для конструирования бомбы необходимо найти место — как гласит директива Гровса, — расположенное на таком отшибе от обжитого мира, чтобы пара сотен «талантливых специалистов высочайшего ранга, среди которых будет и несколько светил» могла бы там исчезнуть на все время войны, как сквозь землю провалившись. Дадли уже осмотрел пару дюжин мест на юго-западе США и сегодня хочет показать своему начальству каньон к северу от Санта-Фе, который он облюбовал как самый подходящий. Но Гровс камня на камне не оставляет от выбора Дадли, найдя территорию слишком тесной, а главным образом не видя шанса где-нибудь соорудить железную ограду с тремя рядами колючей проволоки.
Оппенгеймер тоже с сожалением качает головой: ему в этом узком ущелье с обрывистыми красно-коричневыми стенами будет недоставать широкого обзора с видом на окружающие горы. Мол, Дадли слишком уж буквально понял пожелание «как сквозь землю провалиться». Но он, Оппенгеймер, знает здесь одно местечко, совсем недалеко отсюда, которое самым удачным образом сочетает в себе уединенность, красоты дикого ландшафта и неповторимый вид на панораму гор.
Оппенгеймер, Гровс и Дадли трясутся по ухабам неукрепленных горных дорог, пересекают заросли осин и сосен на пути к плоскогорью Валле-Гранде, самому большому в мире кратеру вулкана с двадцатью километрами диаметра, окруженному вершинами по три с половиной тысячи метров. За ним следует крутой подъем к плато Пахарита в горах Хемез. Незадолго до цели открывается широкая равнина, поросшая кактусами, кривоствольными соснами и можжевельником. Равнина изрезана глубокими ущельями. Между ними тянутся высокогорные плато — параллельно, словно пальцы гигантской ладони, указующей на восток, на близкую долину реки Рио-Гранде. На одном из этих плато расположена школа-ранчо «Лос-Аламос», названная так по испанскому имени тополей, окаймляющих ручей на дне каньона. Его стенки круто обрываются и пронизаны красно-золотыми поперечными жилами. Однажды, двадцать лет назад, тинейджер Оппенгеймер во время верховой прогулки впервые попал здесь в элитный интернат, где мальчики из больших городов вели спартанскую жизнь на высоте 2200 метров над уровнем моря.
К вечеру шестнадцатого ноября 1942 года, казалось, и генерал проникся очарованием суровой красоты этих мест. Хоть плато и не вплотную окружено защитными стенами гор, зато само оно представляет собой плоскую вершину горы, скальные красно-коричневые стены которой с трех сторон почти отвесно обрываются вниз на семьсот метров. Здесь можно наслаждаться вольным видом на безлюдную равнину до заснеженных Скалистых гор на севере и до зубчатого горного хребта Сангре-де-Кристо на востоке. А перед ними проторила свое русло Рио-Гранде. Кое-где к этому руслу лепятся жилища индейцев пуэбло, сложенные из охряных глиняных кирпичей. Этажи расположены террасами, и попасть на них можно по лестницам, приставленным к стенам домов. У подножия Сангре-де-Кристо есть и домик Роберта Оппенгеймера и его брата Франка. Хижина сознательно обставлена по-спартански. Самодельный водопровод — ее единственная роскошь.
Школе-ранчо «Лос-Аламос» принадлежат в общей сложности пятьдесят четыре дома, сараи, амбары и конюшни. Ученики, семьи учителей и служащие живут здесь круглый год. Немало успешных лидеров промышленности и политики прошли здесь телесную закалку и научились самодисциплине. Некоторые инженеры Манхэттенского инженерного управления — тоже бывшие воспитанники интерната. Однако явно осложненная трудностями жизнь бойскаутов, которые даже зимой носят короткие штаны, не каждому идет на пользу. В то время как Оппенгеймер в этот день видит обе свои пожизненные страсти — к физике и к нью-мексиканскому ландшафту, — чудесным образом сведенными воедино, другой выпускник этой школы явно провел здешние годы зря. Психически неустойчивый Уильям С. Берроуз в эту осень в свои двадцать восемь лет зарабатывает на жизнь тем, что морит в Чикаго тараканов и клопов, и к тому же пристрастился к гей-барам. Через несколько лет они с Джеком Керуаком и Аленом Гинзбергом создадут новое радикальное литературное течение. В «Лос-Аламосе» он только и делал, что мерз, вспоминает Берроуз о мужском союзе и военизированной муштре на высокогорном плато.
«То, что надо!» — якобы воскликнул Лесли Гровс, тоже, пожалуй, под впечатлением от мальчиков и их воспитателей, которые упражнялись в снежных сугробах на спортплощадке школы. Посетители не вступали в контакт с жителями плато, а лишь осматривались. Наметанным глазом экспроприатора Гровс прикинул, что в главном трехэтажном корпусе без больших затрат можно будет обустроить первые временные лаборатории. О размещении военных инженеров, строительных бригад и их материалов тоже можно было не беспокоиться. В тот же вечер генерал принял решение, и через пять дней уже начались переговоры о продаже. Школьникам было обещано, что они смогут закончить семестр к середине января 1943 года. Так Манхэттенский проект обрел «гарнизон V» — высокогорное плато Лос-Аламос, светло-коричневый туф которого миллион лет назад был выброшен сюда в виде горячего пепла при извержении близкого вулкана Валле-Гранде. Школьная усадьба за триста тридцать пять тысяч долларов переходит в государственную собственность. В цену включены строения, а также убойный скот, шестьдесят верховых лошадей, равно как и трактора, и грузовые малолитражки.
Новости из Нью-Мексико не доставляют радости Лео Силарду в Чикаго. Лишь взглянув на карту местности, этот вечный постоялец отелей ворчит: «Да в таком месте невозможно ясно мыслить. Кто туда поедет, тот свихнется». Тридцать первого декабря 1942 года истекает его договор с метлабом. Новое зачисление на службу зависит и от хода переговоров с Лесли Гровсом о ядерных патентах Силарда. Весной 1943 года Силард делает эскизы нового типа реактора для быстрых нейтронов и называет его «бридер», размножитель. Получение плутония в таком реакторе должно стать эффективнее, чем в прежних моделях. Гансу Бете, прибывшему в Чикаго для консультаций по конструкции реактора, он говорит о своих записях, которые якобы вел по ходу работы в метлабе. Правда, читать эти заметки, по его словам, никому и никогда не доведется. Они, мол, «предназначены исключительно для Бога». — «А тебе не кажется, что Бог и без тебя уже знает факты?» — спросил Бете. «Может, и знает, но уж точно не
Юджин Вигнер возглавляет группу теоретиков в метлабе, в эту группу входят семеро молодых физиков. Они должны спроектировать котел для «гарнизона W». Главный конструктор Вигнер работает на пределе возможностей, подгоняемый страхом, что немцы их опередят. Всего через пять недель после триумфа Ферми в зале для сквоша Вигнер и его сотрудники представляют фирме «Дюпон» свой готовый концепт реактора на двести пятьдесят мегаватт. Даже начальство метлаба не в курсе первостепенной цели: производить на этой первой в мире атомной электростанции взрывчатое вещество невероятной мощи. Официально слово «плутоний» в США теперь больше не существует. Его кодовое название «49», образованное от обратного числа порядкового номера элемента 94.
Сердцевиной хенфордского реактора Вигнера является цилиндр из тысячи ста тонн графита диаметром восемь с половиной метров и длиной одиннадцать метров. В него вставлено больше тысячи алюминиевых трубок, которые служат вместилищем для двухсот тонн урана в форме стержней. Уран омывают в минуту двести восемьдесят тысяч литров охлаждающей воды из реки Колумбии, отводя двести пятьдесят мегаватт теплоты, которую производит вещество-замедлитель. Ровно через три месяца один из каждых четырех тысяч атомов урана превратится в атом плутония. Затем облученные горячие стержни урана извлекают и дают их активности угаснуть в глубоком резервуаре с водой. Еще через два месяца их снова достают и отправляют для химического отделения, очистки и обогащения конечного «продукта 49» в цех, расположенный в шестнадцати километрах.
Когда в середине марта 1943 года первые ученые ступают на промерзшую вулканическую породу «гарнизона Y», плато представляет собой сплошную стройку. Новички спотыкаются о водопроводные трубы на обочине дороги, перелезают через кучи земли и перепрыгивают через канавы, чтобы добраться до своих наспех установленных жилых контейнеров. Они удивляются, когда во время ливня ручей внизу, в каньоне Лемброккен, разливается, а его вода окрашивается в красный цвет. И когда впервые видят полыхающие на закате вершины снежных гор вдали, им становится понятно, почему набожные испанские жители назвали горный хребет Сангре-де-Кристо — Кровь Христова.
Если кто разыскивает руководителя проекта, ему придется войти в продуваемое насквозь, перестраиваемое здание школы, в котором только что выломали старые оконные рамы. Едой приходится довольствоваться тоже холодной. Горячие обеды — редкий случай. На Месу [3], как испаноговорящий персонал называет плато Лос-Аламос, каждый день доставляют из расположенного в пятидесяти километрах Санта-Фе только бутерброды. Те, кто в мудром предвидении привез с собой электрический гриль, вдруг замечают, что окружены множеством добрых друзей.
Итак, пока на нью-мексиканском плоскогорье вырастает, словно из-под земли, город, огороженный колючей проволокой, с единственным телефонным номером, Вернер Гейзенберг в Берлине пишет письмо Генриху Гиммлеру. Он знает, что содействие рейхсфюрера СС в его назначении на должность директора Физического института кайзера Вильгельма, а также в приглашении его на кафедру теоретической физики Берлинского университета было решающим. В своем письме он благодарит его за это и расценивает оба эти титула как «восстановление чести». В 1937 году его обругали «белым евреем» в эсэсовском журнале
Через неделю после получения письма от Гейзенберга Генрих Гиммлер, который считает себя реинкарнацией немецкого короля Генриха I, царствовавшего в X веке, отправляется в Восточную Польшу, чтобы проинспектировать лагеря истребления в Собиборе и Треблинке. Поскольку, как нарочно, в день его приезда в Собибор не прибыл поезд с очередным грузом для фабрики смерти, СС пришлось импровизировать, и они согнали сто еврейских женщин и девушек в близлежащем городе Люблине, чтобы иметь возможность хотя бы на скорую руку продемонстрировать своему высшему военному начальству возросшую в последнее время эффективность удушения газом. С мая 1942 года в газовых камерах уничтожено более ста тысяч евреев. Гиммлер выражает удовлетворенность службой своего здешнего черного воинства и отдает приказ по реорганизации подвозки, чтобы полностью использовать возможности лагеря Собибор.
Вообще-то директору Физического института кайзера Вильгельма и заведующему кафедрой Гейзенбергу, тоже участвующему в соревновании за первую ядерную цепную реакцию на немецкой земле, полагалось бы как-то отреагировать на неожиданно успешную конструкцию Курта Дибнера, составленную из кубиков. Но ему явно не хочется отказываться от своего излюбленного слоистого устройства. Дибнер и его группа, однако, находятся на верном пути. В новом эксперименте с кубиками они еще на шаг приближаются к критической геометрии реактора. Алюминиевый чан из первого эксперимента на сей раз футерован парафином и наполнен тяжелой водой. В него погружают двести сорок кубиков из металлического урана. Они подвешены на шнурах и расположены так, что образуют «самую плотную кубическую укладку». Исследователям из Готтова и на сей раз удалось добиться размножения нейтронов. Однако даже этот относительно удачный эксперимент с котлом диаметром в два с половиной метра все еще проводится в масштабе модели. Для по-строения большого пилотного устройства с самоподдерживающейся цепной реакцией Дибнеру не хватает в первую очередь достаточного количества тяжелой воды — несколько тонн. Поскольку союзные войска в феврале 1943 года разбомбили норвежские производственные сооружения, немцам становится ясно, что при выборе тормозящего вещества они, пожалуй, остановились на слишком уж эксклюзивном материале.
Итак, весной 1943 года центром немецких ядерных исследований является деревянный барак в бранденбургском лесу. Помещение такое тесное, что пятеро собравшихся там людей уже наступают друг другу на ноги. Тогда как по территории будущей урановой обогатительной фабрики неподалеку от городка Клинтон, штат Теннесси, снуют тысячи строителей. Необходимо проложить железнодорожные пути, укрепить подъездные дороги и выровнять холмистую территорию, прежде чем тут вырастут промышленные сооружения. Новый город, рассчитанный на тринадцать тысяч рабочих, у приметной излучины реки Теннесси, назван по характерным для местной природы дубовым лесам: Окридж. Здесь как и в Лос-Аламосе: жилые контейнеры и колючая проволока, куда ни бросишь взгляд. А посередине большая, бело-красно-полосатая палатка в качестве импровизированного кафетерия.
В природном уране на тысячу атомов урана-238 приходится семь атомов расщепляемого урана-235. Еще не вполне ясно, каким методом лучше осуществлять отделение этого редкого изотопа — то ли при помощи электромагнитов, то ли сложным тепловым процессом. Электромагнитный вариант Эрнеста Лоуренса из Беркли действует так: электрически заряженные атомы прогоняют через магнитное поле, при этом они ускоряются, двигаясь по траектории, похожей на большую букву «С». Более легкие атомы урана-235 описывают при этом дугу меньшего радиуса, приземляются на какой-то сантиметр ближе, чем тяжелые 238-е, и поэтому могут быть собраны в отдельный сосуд. Еще полтора года назад Лоуренс на своем пятиметровом циклотроне выделил сто микрограммов урана-235 и тем самым доказал, что электромагнитный способ разделения в принципе работоспособен. Теперь он должен расширить свой метод до промышленных масштабов.
Лоуренс стремится довести дневную продукцию до ста граммов урана-235, чтобы за триста дней накопить тридцать килограммов для начинки бомбы, как того потребовал Оппенгеймер. Чтобы достичь этой цели, он намерен заказать изготовление двух тысяч С-образных резервуаров диаметром по 1,2 метра каждый, в которых и должно происходить разделение. Их выстраивают колонной один за другим. Между ними устанавливают магниты весом в несколько тысяч тонн. «Они были такие мощные, что рабочие и работницы ощущали силу их притяжения на гвоздях в своих подметках и на шпильках в волосах». Вскоре приходится приваривать к полу стальными скобами даже тяжелые резервуары весом по четырнадцать тонн, потому что магниты заставляют их плясать. В начале лета 1943 года Эрнест Лоуренс видит, как его мечта обретает реальные черты. Двадцать тысяч строителей возводят на площади в двадцать футбольных полей двести шестьдесят восемь зданий, включая восемь трансформаторных подстанций и девятнадцать градирен — «и все это ради дневной выработки, которая даже в лучшие времена выражается в нескольких граммах».
Генерал Гровс хотя и дал согласие Эрнесту Лоуренсу лишь на пятьсот резервуаров, однако сам провернул фокус, благодаря которому только и удается осуществить задуманное. Поскольку дефицит меди в военное время не позволяет строить мощные электромагниты, Гровс недолго думая обращается в Министерство финансов и запрашивает из государственных резервов ровно двенадцать тысяч тонн серебряных слитков в качестве заменителя меди. Серебро придется раскатать в тонкие полоски и пустить их на обмотку магнитов. Люди, с которыми он ведет переговоры, возмущены, но из чувства патриотизма и ради военных побед они в конце концов выделяют ему драгоценный металл на сумму триста миллионов долларов.
Тридцатишестилетний Джон Мэнли — эксперт по физике нейтронов. Летом 1942 года Артур Комптон назначил его личным ассистентом Оппенгеймера. В начале апреля 1943 года он сидит в кабине грузовика рядом с частным перевозчиком, который транспортирует его бесценный груз из Санта-Фе в Лос-Аламос. На последнем отрезке пути в двадцать километров от Рио-Гранде вверх до Месы громыхающему грузовику предстоит преодолеть разницу высот в шестьсот метров. Дорога — одно название: слишком узкая, не огороженная ни парапетом, ни барьером, повороты изгибаются под таким острым углом, что транспортное средство всякий раз опасно приближается к обрыву. Грузовик натужно ползет вверх, шофер старается объезжать хотя бы самые жуткие колдобины. В кузове стоят ящики с разобранным ускорителем частиц, изготовленным Мэнли собственноручно. У водителя не нашлось даже простой веревки, чтобы закрепить груз. На каждом повороте самый узкий ящик с трубками из фарфоровых компонентов опасно швыряет из стороны в сторону.
Сам Мэнли еще ни разу не был в Лос-Аламосе. Невзирая на это, все прошедшие недели он по заданию Оппенгеймера пел оды этому таинственному месту. Он уговорил множество лучших физиков страны не только уступить их самые точные измерительные приборы в пользу секретного проекта военной важности, но и самим тут же отправиться в нью-мексиканскую глушь. Их средний возраст двадцать четыре года, что можно считать характерным признаком новой американской мальчишечьей физики. Но кажется, лучшее, что удалось сделать этому оппенгеймеровскому рекрутеру, — это преподнести в виде незабываемого приключения здешнюю работу в лабораториях-бараках под охраной солдат, здешнюю библиотеку, полную бойскаутского чтива, здешний цензурный досмотр почты и ограничение в поездках. Самый большой его успех — это, без сомнения, три ускорителя частиц, которые он выцыганил у университетов Висконсина, Гарварда и Принстона. Но в настоящий момент он готов отдать многое, лишь бы только довезти свой бесценный груз в целости и сохранности. Мэнли дал задание инженерам-строителям подготовить на Месе специальный фундамент для его самодельной машины. Любой университет мира был бы горд иметь хоть один прибор такого калибра.
Хотя Ферми в зале для сквоша и доказал, что медленные нейтроны вызывают расщепление ядер и цепную реакцию, все же минувшим летом эксперты, дискутировавшие в кабинете Оппенгеймера, поняли, что не могут положиться на это, конструируя бомбу. С медленными нейтронами, предположили они, цепная реакция не пойдет достаточно быстро и затухнет, так и не доведя начинку бомбы до детонации. Тут желательно было бы подключить к делу быстрые нейтроны. И вот на основе этой тезы теоретики, экспериментаторы и специалисты по оружию в Лос-Аламосе хотят теперь построить две различные бомбы: одну из урана, другую из плутония. Все еще нет точных цифр для критической массы этих веществ. В Окридже Оппенгеймер объявил своим собеседникам, что минимальное количество расщепляемого материала, достаточное для развития цепной реакции, это тридцать килограммов урана-235. Однако в Лос-Аламосе эта цифра опять обсуждается, и дело выглядит так, будто и этого количества может оказаться недостаточно для начинки бомбы — такое вот разительное расхождение с давней оптимистичной оценкой Отто Роберта Фриша в два фунта, которую он давал летом 1939 года.
С самим взрывчатым веществом эксперименты пока невозможны, поскольку весной 1943 года в распоряжении ученых еще нет расщепляемого материала. Джон Мэнли хоть и работал в Беркли с пробами в области микрограммов, однако столь малые количества не привели к пригодным для использования результатам — во всяком случае, для технологии бомбы. В этой фазе неведения в игру и вступают машины Мэнли. Поскольку циклотроны являются источником быстрых нейтронов, их поведение проще всего изучать при помощи этих аппаратов. Мэнли и его группа надеются, объединив мощность всех ускорителей, выйти на значения, которые скажут им хоть что-то определенное о сведении нескольких субкритических масс в единую критическую массу в одной бомбовой оболочке.
На празднование ввода в действие атомной кузницы на Месе нет времени — во всяком случае, на вечеринку с шампанским, канапе и разрезанием ленточек. Однако все участники запомнят апрельскую конференцию как стартовый выстрел работ в Лос-Аламосе. Все, кто имел в мире физики какое-то положение и имя и был выбран для работы на Манхэттенском проекте, уже присутствуют здесь или появятся в ближайшие недели. Немец Ганс Бете, с 1941 года тоже гражданин США, назначен Оппенгеймером руководителем «теоретического отдела» — самой, пожалуй, чувствительной области проекта. Остальные отделы — экспериментальной физики, химии, металлургии и оружейного дизайна — пока только формируются. Руководителем бескомпьютерного вычислительного центра Лос-Аламоса становится только что достигший своего двадцатипятилетия и сильно подозреваемый в гениальности физик из Принстона Ричард Фейнман. Оппенгеймер держит
Протеже Оппенгеймера Роберт Сербер в своем первом из пяти докладов сводит воедино накопленные к настоящему моменту сведения из различных дисциплин по конструированию бомб. Затем распределяются задания рабочим группам. Так, например, Джон Мэнли и его люди должны найти материал, который окружал бы начинку бомбы оболочкой, фиксирующей ее. Вместе с тем этот материал должен выполнять еще одну задачу: отражать в ядро бомбы те нейтроны, которые летят наружу, и тем самым повышать эффективность цепной реакции. Даже если идеальной оболочкой окажется золото, кричат вдогонку уходящему Мэнли, это не будет препятствием: любой драгоценный металл кажется дешевым по сравнению со стоимостью производства взрывчатки.
Энрико Ферми пока еще не живет на Месе, но он тоже приехал и ошарашил Оппенгеймера одним необычайным предложением. Он явно заразился в Чикаго от Вигнера и Силарда их идеей фикс. Обоих венгров неотступно точит нервозный страх, что немцы смогут опередить американских атомщиков на один год, который и решит исход войны. Скептика Ферми терзают сомнения, успеют ли они вовремя создать бомбу ядерного расщепления. Он предлагает действовать еще до появления бомбы. Как только хенфордский реактор приступит к работе, рассуждает Ферми, начнется выход высокоактивных продуктов распада, которые неизбежно появятся в результате цепной реакции. Они могут пригодиться для нанесения заметного вреда немецкому продовольственному обеспечению, ведь потребитель не сможет ни разглядеть, ни учуять, ни распробовать на вкус радиоактивное заражение пшеницы и картофеля. Радиоактивный продукт расщепления стронций-90 в этом смысле очень перспективное вещество, подтверждает Эдвард Теллер, которого Оппенгеймер посвятил в эту тему. По словам Теллера, человеческий организм ошибочно идентифицирует стронций как кальций и накапливает его в костях, что неотвратимо приводит к раку костей. Оппенгеймер обсуждает эту идею с Лесли Гровсом и в мае пишет Ферми: «Приступить к осуществлению этого плана имеет смысл лишь тогда, когда мы сможем заразить достаточное количество продовольствия, чтобы уничтожить полмиллиона человек, ведь число реально пораженных будет, без сомнения, намного меньше из-за неравномерного распределения».
Летом 1943 года бригадный генерал Лесли Гровс отдает распоряжение об усиленном наблюдении за одним человеком, которого он считает немецким шпионом: «Возраст 35 — 40 лет, рост метр семьдесят, лицо румяное, волосы пышные, каштановые, гладко зачесанные наверх, волнистые, слегка припадает на правую ногу, из-за чего плечо немного опущено, лоб покатый...», — описывает его агент ФБР, у которого сложилось впечатление, будто «субъект знает о том, что за ним ведется слежка». Чему тут удивляться, если однажды утром за его завтраком в отеле наблюдают сразу шестеро агентов ФБР, изображающих совершенное отсутствие интереса. Лео Силарду давно известно и то, что его почта вскрывается. В одном письме к своей подруге австрийского происхождения Труде Вайс он потешается над цензором. Обращаясь к нему напрямую, он обвиняет его в том, что тот выкрал сладости, которые он недавно ей посылал. Иногда даже четверо шпиков не справляются со слежкой за Силардом во время его пеших прогулок и поездок по городу на такси. Только, бывало, им удастся прознать цель его утренней поездки на такси и поджидать его там, как этот «немецкий шпион» спонтанно меняет свое решение посреди дороги и просит шофера высадить его у ближайшей парикмахерской, у магазина деликатесов или у своего любимого ресторана. Объект наблюдения то говорит на чужом языке, то кажется порой рассеянным, то ведет себя эксцентрично, докладывают шпики. Мол, только выйдет на улицу, как тут же снова возвращается в отель и не показывается оттуда три дня. Тем не менее они просят о подкреплении. Мол, действия объекта наблюдения часто бывают непредсказуемы. Если, к примеру, «в здании есть несколько входов-выходов, он с наибольшей вероятностью воспользуется самым неудобным. Поэтому мы считаем целесообразным следить за всеми выходами, чтобы не упускать его из вида».
Будущий нобелевский лауреат по химии Эдвин Макмиллан весной 1940 года выделяет из облученного урана первый настоящий трансуран нептуний, который через два дня распадается в плутоний — открытие, чреватое большими последствиями, оно-то в конце концов приведет и его в Лос-Аламос. Однако есть одна дата, которой Макмиллан придает еще большее значение. Семнадцатого сентября 1943 года наступает, на его взгляд, решающий поворот в истории атомной бомбы. В этот день мирную идиллию Месы нарушает первый большой взрыв. Сет Неддермейер, своеобычный физик и взрывник, оборудовал свой небольшой испытательный полигон на южном конце плато Лос-Аламос, на ранчо Анкор в конфискованной крестьянской усадьбе. Здесь он при поддержке Макмиллана работает над бомбой скорее необычной конструкции. Электричеством к этому времени Месу снабжают четыре последовательно подключенных дизельных генератора. Их привезли сюда с закрывшихся рудников в Колорадо вместе с седоголовым техником, который только и разбирался в коварстве этих машин.
На апрельской конференции, собственно, обсуждалась лишь одна форма концепции бомбы: по так называемому пушечному методу. При этом одна маленькая «пуля» из урана-235 выстреливается в «мишень» из большей массы урана-235. Из двух пространственно разделенных подкритических масс возникает одна критическая масса, которая тут же взрывается. При этом силы стремятся изнутри корпуса бомбы наружу. И теперь Неддермейер предлагает в качестве альтернативы метод сжатия. Здесь ударная волна, созданная взрывом снаружи, устремляется к центру бомбы, и она сильнее, чем внутреннее давление, так что объект сжимается. Коллеги реагируют на эту идею скептически. Оппенгеймер же, напротив, предоставляет Неддермейеру свободу действий. И вот однажды летним днем Эдвин Макмиллан тащит открытый ящик взрывчатки тринитротолуола, также называемого тротилом, в виде порошка сквозь заросли колючек к импровизированному стрельбищу на заброшенном ранчо Анкор, у самого края каньона. И вдруг застывает, сообразив, что в уголке рта у него тлеет сигарета.
В железнодорожной поездке в Вашингтон Отто Роберт Фриш должен делать пересадку в Ричмонде, штат Вирджиния. Когда он выходит на улицу и видит выкладку перед фруктовой лавкой, он разражается истерическим смехом: «Пирамиды апельсинов, подсвеченные ярким ацетиленовым пламенем!». Непостижимая картина после нескольких лет «военной скудости» и предписаний по затемнению окон в Англии. Фриш прибыл в США пароходом «Андес», который держался подальше от обычных морских путей и к тому же шел зигзагообразным курсом, чтобы уклониться от нападения немецких подводных лодок и надежно доставить в Ньюпорт-Ньюс, штат Вирджиния, «возможно, самый большой груз научных мозгов, когда-либо пересекавший океан». Подкрепление для Манхэттенского проекта из Соединенного Королевства под руководством первооткрывателя нейтронов Джеймса Чедвика.
В начале декабря 1943 года Фриша посылают в Лос-Аламос, где его приветствует лично Роберт Оппенгеймер: «Добро пожаловать в Лос-Аламос, только кто вы такой, черт возьми?». Первый интерпретатор расщепления ядра размещен в Биг-хаусе, бывшем главном здании школы. Там ему встречаются одни холостяки, тогда как для женатых сотрудников сооружаются сборные деревянные дома — на четыре семьи каждый. Роберт Оппенгеймер и его жена Кити живут со своим сыном Петером на Bathtub Row, которая так называется, потому что только здесь есть дома, оборудованные ванной. Это бывшие квартиры учителей интерната. Тайная община на холме растет стремительнее, чем было запланировано ее организатором. Если еще весной Оппенгеймер полагал, что организовал вполне боеспособную группу из сотни первоклассных специалистов, то на момент прибытия Фриша на Месе живут уже несколько сот человек. Фриш не был отнесен ни к какой определенной группе. Сам он обозначает себя «бродячим жестянщиком», который кочует из лаборатории в лабораторию, из одного кабинета в другой с одним и тем же вопросом: «А что вы тут делаете?» Вникнув в суть дела, он вносит рационализаторские предложения, оптимизирует установки или подсказывает толковые эксперименты.
Хотелось, чтобы это было нечто особенное. Поэтому Майей Теллер не упустила случая, когда в Чикаго был выставлен на торги отель, и купила для своего Эдварда концертный рояль из имущества несостоятельного должника. Как инструменту удалось добраться до Месы в целости и сохранности, остается для теллеровских гостей загадкой. Steinway занимает почти всю гостиную. Ученик Гейзенберга и закоренелый фанат Моцарта, Эдвард Теллер играет, когда ему заблагорассудится — иной раз и среди ночи, что нередко приводит к конфликтам с соседями. Второе фортепьяно в Лос-Аламосе стоит в квартире семьи Йоргенсен, где регулярно собирается поужинать и помузицировать группа Джона Мэнли. Когда туда заглядывает Отто Фриш, он сопровождает работу поваров сонатами Бетховена. Время от времени он приводит с собой скрипача и виолончелиста. За невольные удары литавр — к сожалению, они редко попадают в такт — отвечают взрывные опыты Сета Неддермейера на ранчо Анкор.
Этот пиротехник, над которым все смеются, теперь приматывает стержни взрывчатки к полой железной трубе, располагая их по диаметру на симметричном расстоянии друг от друга. Он экспериментирует с различными точками взрывателей, чтобы найти их оптимальное расположение. Ибо волны детонации должны сжимать трубу как можно равномернее и сминать ее так, как было наперед рассчитано. Однако то, что потом выковыривается из песка и пыли после взрыва, по большей части оказывается жестоко деформированным. Измученный начальник Неддермейера, капитан Уильям Парсонс, на еженедельных коллоквиумах насмехается над этими опытами: «За ним нужен глаз да глаз: как бы, сплющивая банку с пивом, он не разбрызгал содержимое».
Эдвард Теллер уже давно, в начальной фазе, когда первые сборные дома еще только ставились в весеннюю слякоть, сделал решающий вклад в определение главных направлений работы теоретического отдела. И теперь ему обидно, что руководителем отдела назначен не он, а его друг Ганс Бете. От обиды он отказывается исполнить распоряжение Бете и взять на себя часть трудоемких расчетов по имплозионной технике так называемого взрывного схлопывания. Для подкрепления призывают Фриша и его британских коллег, но вряд ли Фриш знает, что одна из причин этого призыва — строптивость Теллера. Манхэтгенскому проекту остро не хватает математиков-вычислителей. Положение в корне меняется, когда на сцену Лос-Аламоса осенью 1943 года вступает венгерский математик Джон фон Нейман.
Захваченный динамичной деятельностью «Джонни», даже Эдвард Теллер выбирается из паучьих углов своей оскорбленности, возобновляет старинное юношеское знакомство со своим земляком и проявляет заметное рвение к расчетам. В то время как Ганс Бете спрашивает себя, а не является ли прилив интеллектуальных сил известного во всем мире пожарного укротителя очагов математических возгораний симптомом появления новой специальности, которая превзойдет возможности человека.
При множественных взрывателях Неддермейера взаимодействия разнонаправленных ударных волн вызывают неравномерности и не позволяют произвести эффективный «взрыв обжатия», направленный внутрь. Но взрывные эксперименты с цилиндрическим объектом — всего лишь упражнения для разогрева. Конечная геометрия, ради которой эти эксперименты затеваются, — полый шар из плутония. При взрыве он должен плотно спрессоваться. В своих совместных расчетах фон Нейман и Теллер замечательно дополняют друг друга. Они обнаруживают, что точный взрыв схлопывания мог бы невообразимо сжать плутоний. Материя сходной плотности мыслима лишь в недрах звезд. При этом бомбовая начинка, прежде некритическая, с огромной скоростью достигает критической массы.
Имплозионным взрывом предстояло овладеть не просто в виде ответа на военный вызов, но надо было выковать из него математически точный инструмент. Только тогда будут выполнены условия для действующей плутониевой бомбы. Эту точку зрения фон Нейман в последнее время прочно перенял от гарвардского химика Джорджа Кистяковского. Тупая вычислительная сила машины, как гласит вердикт фон Неймана, прекрасно подходит для того, чтобы выдать лучшие параметры для равномерной симметричной имплозии. И вот вычислительная машина с перфокартами фирмы «IBM» — один из последних экземпляров этого вида на пороге к эре электронных компьютеров — доставляется на холм в апреле 1944 года, и там ее кормят данными ударных волн. Через три недели круглосуточного машинного счета появляются первые промежуточные результаты.
В ноябре 1943 года союзники снова бомбят фабрику тяжелой воды в норвежском Феморке и причиняют ей серьезные повреждения. Уцелевшие элементы, правда, демонтируют и перевозят в Германию. Но ввиду ожесточеннейшей войны, которая поглощает все ресурсы, усилия по построению в рейхе опытных установок для производства тяжелой воды застопориваются в начальной стадии. В феврале 1944 года норвежские силы Сопротивления берут на прицел пассажирский паром, который перевозит сорок девять бочек тяжелой воды. Она предназначалась для Германии. В результате бомбовой атаки на паром эти бочки тонут. При этом погибают и четырнадцать штатских. Дело складывается так, что весной 1944 года Курту Дибнеру приходится, несмотря на свой последний весьма успешный эксперимент с кубиками урана, отказаться от своей мечты о «самоподдерживающемся реакторе» из-за нехватки тяжелой воды.
Между тем Вернер Гейзенберг больше не может игнорировать дибнеровскую геометрию реактора. Его собственные опыты с пластинами металлического урана в Берлине так ни разу и не достигли значений лейпцигского эксперимента 1942 года. Гейзенберг перепроверяет цифры из Готтова, но в своем заключении так и не находит для Дибнера ни одного слова признания. Из-за массированных воздушных налетов на Берлин институт Гейзенберга переезжает в Гехинген неподалеку от Тюбингена. С апреля 1944 года он так и курсирует между Берлином и вюртембергской провинцией.
Темпераментный Джордж Кистяковский считается на высокогорном плато стариком. Он родился на Украине в 1900 году, в 1917 году после русской революции воевал против большевиков добровольцем Белой армии. Был захвачен Красной армией в плен и год провел в турецких тюрьмах, пока ему не удалось бежать в Германию. По всем признакам, он был избавлен от малейших подозрений в симпатии к коммунистическим идеям. Диссертацию он защищал в Берлинском университете, был стипендиатом Принстона, а с 1938 года — профессором химии в Гарварде и считается экспертом по взрывчатым веществам Национальной научно-исследовательской комиссии по обороне. Он внес немалый вклад в то, чтобы убедить президента Рузвельта в осуществимости проекта атомной бомбы. В Лос-Аламосе Кистяковский с конца января 1944 года и живет один в маленькой каменной будке — бывшей насосной станции бывшего интерната. Перебираться в молодежное общежитие холостяков этот разведенный не хочет. Такая привилегия была ему предоставлена, ведь в конце концов он не рвался быть принятым в тайное общество ядерщиков. Наоборот, Оппенгеймер на коленях упрашивал его поддержать Сета Неддермейера. Правда, условия работы он находит неприемлемыми. Каждый день ему приходится быть свидетелем психологической войны между Неддермейером и Парсонсом, которые терпеть друг друга не могут.
Джим Такк, один из «научных мозгов», прибывших сюда вместе с Отто Фришем из Англии, придал новый импульс теоретикам-взрывникам, выступив с концепцией «взрывных линз». Как световые волны распространяются в стекле с другой скоростью, чем в воздухе, точно так же и ударные волны в различных взрывчатых веществах — таких, как динамит и тротил, например — продвигаются не одинаково быстро. И как оптические линзы могут фокусировать свет в пучок, так же и ударные волны при правильной комбинации разных взрывчатых веществ должны сбегаться и оказывать на сердцевину бомбы равномерное давление.
Роберт Оппенгеймер закрывает глаза и подвергает себя довольно странной процедуре. Чьи-то пальцы макают кисть вместо пудры в миску с мукой и выбеливают ею характерное лицо Первого лица Лос-Аламоса. Он согласился сыграть роль покойника в театральной постановке «Мышьяк и островерхий колпачок». Когда публика узнаёт, кого это выносят на сцену в виде мертвеца, раздаются аплодисменты. Почти каждый субботний вечер в каком-нибудь из жилых особнячков устраиваются вечеринки, спонтанные концерты или небольшие театральные представления. С особым жаром здесь приветствуют людей из технического отдела, потому что они приносят с собой пшеничный самогон, который гонят у себя в лаборатории, что, разумеется, строжайше запрещено генералом Гровсом.
Встреченное бурными аплодисментами выступление Оппенгеймера — примета популярности шефа. Будучи «привратницей Лос-Аламоса», Дороти Маккиббин в своей связующей конторе в Санта-Фе знакомится лично с каждым новоприбывшим. Она уверяет, что на Месе едва ли сыщется женщина, которая хотя бы чуточку не влюблена в Роберта Оппенгеймера и втайне не грезит о его голубых глазах. Когда его жена Кити в декабре 1944 года родила в Лос-Аламосе их дочь Кэтрин, женщины стояли в очереди у отделения для грудных детей, чтобы взглянуть на беби. Мужчины же прежде всего восхищаются острым умом, позволяющим этому физику-теоретику мгновенно схватывать новые знания, добытые в машинных залах инженерами и в лабораториях химиками, металлургами и взрывотехниками, чтобы тут же выковывать из них стратегию для дальнейших действий. Ганс Бете подчеркивает, что в долос-аламосские времена Оппенгеймер был крайне сдержанным человеком. Сама мысль о том, что он окажется пригодным в качестве руководителя крупного промышленного предприятия, показалась бы ему тогда совершенно нелепой. За минувшее с той поры время он, по словам Бете, удивительно преобразился и блестяще приспособился к этой роли. Оппенгеймеру редко приходится отдавать приказы. Юджин Вигнер удивляется его способности передавать свои желания «с легкостью и естественностью, одними только глазами, мановением руки да полузатухшей трубкой».
К началу мая 1944 года в Лос-Аламосе работают тысяча двести человек. Эдвард Теллер хотя и числится номинально сотрудником теоретического отдела Ганса Бете, но со всей очевидностью уже окончательно потерял интерес к актуальной разработке бомбы ядерного расщепления. Куда интереснее ему было бы заглянуть в будущее и выведать, осуществима ли фантастическая идея — использовать бомбу лишь в качестве взрывателя для некоего обозримого количества тяжелого водорода. После того как два его расчета имплозивного взрыва оказались неудачными, он просит об увольнении, чтобы иметь возможность целиком сосредоточиться на супербомбе. Оппенгеймеру хватает ума, чтобы исполнить заветное желание Теллера. У Бете уже есть кандидат на место Теллера — Рудольф Пайерлс, вице-шеф британской делегации. Оба знают друг друга с конца 1920-х годов, когда они учились в Мюнхене у Арнольда Зоммерфельда. Так два уроженца Германии занимают весьма ответственные позиции в Манхэттенском проекте. На одном не столь заметном месте в технической части работает еще один бывший немецкий гражданин. Старательный и многим пришедшийся по нраву молодой человек прибыл сюда прошлой осенью с английскими учеными и занят исследованиями ожидаемых ударных волн бомбового взрыва. Неприметного коллегу зовут Клаус Фукс, и даже шпики из британских секретных служб не смогли обнаружить в нем симпатий к советскому коммунизму.
Бывший активный борец против молодой советской власти ставит Роберта Оппенгеймера в начале лета 1944 года перед необходимостью снова вмешиваться в отношения между людьми. Новоприбывший Джордж Кистяковский попал на линию огня вражды между Неддермейером и Парсонсом. Эти с самого начала не сложившиеся отношения ставят под угрозу успех работы. По прошествии трех месяцев Кистяковский настолько измочален в этом конфликте сторон, что больше не видит возможности доверительной общей работы. Он просит Оппенгеймера об увольнении. Тот решает иначе и объявляет эксперта по взрывчатым веществам руководителем отдела имплозионной техники. Вооруженный новыми полномочиями в решении вопросов, Кистяковский прилагает все силы к тому, чтобы научиться подчинять себе хаотичные волны детонации в экспериментах с эксплозией, формировать их и фокусировать по своему усмотрению. Для этого он экспериментирует со специальной взрывной смесью под названием баратол.
Когда лорд Червелл, научный советник английского премьер-министра Уинстона Черчилля, посещает Лос-Аламос, Кистяковский ведет его по своему отделу и рассказывает о многообещающих данных, которые предоставляет ему эта специальная смесь. Однако лорд, родившийся в Германии как Фредерик Александр Линдеман, отмахивается. Он считает, что баратол не годится в качестве составной части системы взрывных линз, и рекомендует ему прибегнуть к старому доброму динамиту. Кистяковский ведет себя вежливее, чем ему хотелось бы в присутствии чванливого всезнайки, и спокойно перечисляет аргументы, по которым взрывчатка Нобеля не может рассматриваться для этой задачи. Несколько дней спустя Оппенгеймер вызывает его к себе в кабинет. Оказывается, Черчилль лично прислал телеграмму президенту Франклину Рузвельту с указанием на то, что люди в Лос-Аламосе находятся на ложном пути. И не угодно ли будет Рузвельту распорядиться, чтобы Кистяковский применял динамит, поскольку баратол определенно не будет функционировать. Ученый, вызванный «на ковер», предлагает своему шефу послать Черчилля ко всем чертям. Но в конце концов соглашается провести опыты с динамитом. Взглянув на список сотрудников, он составляет группу по динамиту из самых нерадивых, чтобы при этом не пострадали эксперименты с баратолом.
Для плутониевой бомбы группа Парсонса разработала две модели: удлиненного пушечного дизайна, предусмотренного и для урановой бомбы, и округлую конструкцию для взрыва обжатием, хотя позади этого имплозивного метода пока еще стоял большой знак вопроса. Будучи почитателем Дэшила Хэммета, Роберт Сервер как-то в приподнятом настроении назвал их
Пока в Хенфорде, штат Вашингтон, в напряженных трудах возводится атомный реактор, в Окридже маленький пилотный котел с воздушным охлаждением с марта 1944 года производит первые пробы плутония для Лос-Аламоса в масштабе граммов. Туда слетаются на горяченькое металлурги и химики, чтобы изучить свойства взрывчатого вещества, по большей части пока неизвестные. Молодые металлурги Тед Магель и Ник Даллес из чикагского метлаба только что перевербованы сюда лично Робертом Оппенгеймером, поскольку добрая слава бежит впереди них. Они примкнули к ста шестнадцати сотрудникам металлургической группы Лос-Аламоса как раз вовремя, чтобы первый реакторный плутоний из Теннесси превратить в металлический плутоний. Этот фокус — произвести грамм высокочистого плутония в форме пуговки — удается им при помощи обыкновенной центрифуги. Теперь люди впервые могут разглядывать вожделенное вещество невооруженным глазом. В следующие недели Магель и Даллес производят еще семь таких плутониевых пуговок. При этом они постоянно находятся под наблюдением врачей. Медики стараются выяснить, какое количество плутониевой пыли попадает через дыхательные пути в легкие и как она распределяется в организме. Вскоре оба причисляют себя к клубу избранных, этот клуб называется UPPU — You Pee Pu. Ты писаешь плутонием. Молодые сорвиголовы понимают свою зараженную мочу как дело чести и патриотизма. В конце концов, ведь идет война и каждый отдает лучшее, что у него есть. Они даже составляют еженедельные списки лучших UPPU, и Тед Магель однажды добирается со своими мочевыми показателями до шестого места самых зараженных Pu среди двадцати шести членов клуба. К концу сентября, когда осины снова окрашиваются в золотистый цвет, а дорогу к взрывному полигону окаймляют дикие красные астры, ученые из Лос-Аламоса могут похвастаться уже более чем двумя тысячами экспериментов, проведенных с плутонием.
Эмилио Сегре, сотрудник Энрико Ферми в Риме довоенных времен, продолжает сохранять за собой неприятную обязанность вестника плохих новостей. Он подтверждает прежние опасения Гленна Сиборга, что при облучении урана в реакторе наряду с желанным плутонием-239 неизбежно образуются и изотопы, состоящие из двухсот сорока ядерных кирпичиков. Они нежелательны, потому что квота их спонтанного расщепления так высока, что в пушечной модели бомбы существенно возрастает опасность преждевременной детонации. Сегре исследует плутоний из Окриджа. Результаты исследования убийственны. Загрязнение плутония-240, по его словам, настолько велико, что из-за множества спонтанно высвобождающихся нейтронов запускается цепная реакция. «Пуля» и «мишень» расплавятся еще до того, как встретятся, чтобы образовать критическую массу.
А ведь будущий хенфордский реактор рассчитан так, что доля 240-го изотопа в выходе плутония окажется еще выше, чем в имеющихся пробах из маленького окриджского реактора. На том же гарнизоне построены сложные высокотехничные установки для отделения урана-235 от урана-238. Чтобы уловить различие в три единицы массы между двумя химически идентичными изотопами, потребовались огромные затраты. Тогда как различие между плутония-239 и плутония-240 составляет всего-навсего одну единицу массы. Таким образом, удаление нежелательного изотопа становится почти безысходным делом. Для такой задачи атомный парк у дубрав штата Теннесси следовало бы еще раз расширить. Кризисный штаб, в состав которого входят Гровс, Оппенгеймер, Комптон и Ферми, приходит к заключению, что такое оборудование при нынешнем состоянии дел нереалистично.
Так Оппенгеймер семнадцатого июля 1944 года принимает решение отказаться от «Худого» — от пушечной модели плутониевой бомбы. Теперь на первый план событий выдвигается рабочая группа Джорджа Кистяковского. Она должна добиться успеха «Толстяка», имплозионной модели плутониевой бомбы, иначе окажутся напрасными все труды Ферми и все гигантские издержки и старания, которые сейчас прилагают сорок две тысячи работников в Хенфорде, чтобы претворить в жизнь его планы. Перед лицом практических проблем, которые подбрасывает еще и техника взрыва обжатия, даже уверенный в себе Оппенгеймер впадает в депрессию и думает о том, чтобы подать в отставку. Если бы не убеждение, что они бегут наперегонки с немцами, очень может быть, что даже такой непоколебимый руководитель, как генерал Лесли Гровс, поставил бы крест на плутониевой бомбе в этой точке спада Манхэттенского проекта.
При этом положение в Германии самое бедственное. События войны буквально разметали «урановый клуб». Так, во время одного воздушного налета в феврале 1944 года институт Отто Гана сгорел дотла. Первооткрыватель расщепления ядра переезжает в вюртембергский городок Тайльфинген — он в двух шагах от гейзенберговского Гехингена — и вынужден импровизировать с уцелевшим оборудованием в опустевшей трикотажной фабрике. Проведенные институтом Гана за последние пять лет исследования продуктов расщепления, загрязнений препарата-38 и поведения быстрых нейтронов были важным вкладом в теорию немецкой урановой машины. Но и для создания атомной бомбы без этих фундаментальных исследований не обойтись.
К этому времени немецкий атомный проект возглавляет Вальтер Герлах, профессор экспериментальной физики в Мюнхене. Пауль Хартек, Эрих Багге и еще горстка одиночек в Берлине, Киле, Гейдельберге и Вене со скромными результатами работают над получением слабо обогащенного урана-235. С этим топливом для реактора можно сократить применение дефицитной тяжелой воды. В марте 1944 года, когда Тед Магель и Ник Даллес демонстрируют как нечто само собой разумеющееся свою первую плутониевую пуговку, Герлах силится по-новому скоординировать работу «уранового клуба» и созывает для этого конференцию. Ведь немецкие деятели все еще видят друг в друге противников и конкурентов, воюя между собой за каждый кубик урана и за каждый литр тяжелой воды.
Гейзенберг проявляет мало интереса к обогащению урана. Правда, к этому времени он уже перенял дибнеровскую геометрию реактора с кубиками, однако претендует, как обычно, на львиную долю всех имеющихся в наличии материалов. Хотя Гейзенберг посвящает «урановому клубу» и не все свое внимание и силы — как-никак, он даже в конце тотальной войны регулярно читает доклады за границей, работает над своей теорией элементарных частиц и даже пишет пространный философский трактат, — он не хочет, чтобы Курт Дибнер обошел его. Как только условия для крупного эксперимента в Гехингене будут выполнены, он намерен доставить сюда из Берлина кубики урана и тяжелую воду и наконец произвести цепную реакцию.
Будь на то воля генерала Гровса, он бы всех ученых одел в униформу и интернировал в казармы, чтобы избавить их и себя от хаоса, который, по его мнению, неизбежно учиняют их жены и дети. Однако Роберт Оппенгеймер хочет, чтобы его коллеги чувствовали себя хорошо. Он распорядился возвести новые семейные дома вдоль старых, разбитых дорог Лос-Аламоса, воспротивившись при этом плоско-квадратному подходу военных архитекторов. Майси Теллер даже организует маленькое народное восстание, когда однажды к ней заявляется солдат и пытается пройти на ее участок. Мол, ему приказано выкорчевать деревья и все сровнять, чтобы можно было потом посадить новые растения. Но Майси вполне устраивают дикие заросли позади ее дома. Она не допускает выкорчевывания деревьев и отсылает солдата прочь. На следующий день он снова является с тем же приказом. Однако под деревьями уже сидят дамы из соседних домов с детьми и вязаньем, они пьют чай и, судя по всему, настроены остаться здесь надолго. Больше солдат не приходит.
Семья Ферми прибывает на Месу в августе 1944 года. Лауру раздирают противоречивые чувства. Красивые окрестности напоминают ей родной Южный Тироль и действительно похожи на климатический курорт, однако ограждение с колючей проволокой вызывают у нее ассоциации с немецкими концлагерями. Женам ученых здесь предлагается работа с неполной занятостью, и она устраивается офисной помощницей. Она носит синий отличительный значок, который не дает ей доступа в определенные отделы технической части. Не может она войти и в отсек Р, где ее муж с группой «бродячих жестянщиков» решает проблемы других отделов. Доступ сюда имеют только лица с белым значком, насквозь проверенные секретной службой и признанные благонадежными. Все вещи в квартире Ферми проштампованы «военным клеймом — начиная от электрической лампочки под потолком и кончая веником в углу». На армейских койках выцарапаны имена солдат, которые когда-то на них спали. Кухни стандартно оборудованы двумя мойками. Одна из них такая глубокая, что молодые матери купают в них младенцев.
Каждый новоприбывший получает памятку с цензурными правилами переписки. Первым в перечне запрещенных к употреблению слов стоит «физик». Запрещены также имена собственные, названия поселений и какие бы то ни было географические наводки. Бернис Броди, жена физика Ричарда Броди, устроившаяся в Лос-Аламосе, по ее собственным данным, «as computer», то есть вычислителем, вынуждена отказаться даже от привычки украшать свои письма улыбчивыми тыковками, поскольку они не нравятся цензору. Знаменитости тоже не избавлены от цензуры переписки. Роберт Оппенгеймер и Энрико Ферми имеют, сверх того, личных охранников. Частная сфера в Лос-Аламосе — привилегия скорее людей неименитых. Кити Оппенгеймер все больше и все чаще топит в виски и джине свое лютое раздражение неотступным надзором, и это хорошо известно всякому на Месе.
Военные любят взрывчатку за то, что она хорошо умеет пробиться сквозь любые завалы материи в любой ее комбинации — внятно и действенно. Но только Джорджу Кистяковскому приходит в голову поточнее исследовать ее свойства, чтобы применить ее в качестве точного инструмента. При помощи взрывных линз он хочет получить контроль над имплозией — взрывом обжатия. Такая линза составлена из быстрогорящей взрывчатой оболочки и горящей более медленно «сердцевины взрывчатки» — по форме это усеченная пирамида размером с автомобильный аккумулятор. Ровно сто таких отливок для линз, необходимых плутониевой бомбе, должны быть подогнаны друг к другу с высокой точностью, что ставит непомерно высокие требования к литейным формам. Как только волны детонации от взорвавшейся оболочки достигают сердцевины линзы, процесс замедляется — так, что последняя волна может догнать первую, пока не сформируется единая сферическая волна, которая и понесется к центру бомбы. Отражающий слой из урана выравнивает последние неравномерности волны перед тем, как она наконец достигнет плутониевого ядра. Так гласит теория. И поскольку Джон фон Нейман подстраховал ее математическими расчетами, ей дают шанс.
С того момента как судьба «Толстяка» попадает в руки Кистяковского, жители Месы больше не знают покоя, ибо его сотрудники ежедневно поднимают в воздух ровно тонну взрывчатки высокой мощности, чтобы вырвать у реальности ответы на все вопросы. Тот самый баратол, на который лорд Червелл некогда сделал донос в самой высокой инстанции, показывает в экспериментах наилучший результат в качестве медленного компонента. Правда, много беспокойства Кистяковскому доставляют формы для литья взрывных линз. Они все еще недостаточно точны, и их приходится механически обрабатывать дополнительно.
Холодная вода реки Колумбии с температурой десять градусов Цельсия прогоняется под высоким давлением через ядро атомного котла. Омывая при этом тысячу пятьсот алюминиевых трубок, наполненных урановыми топливными стержнями. Всего в нескольких сотнях метров отсюда, среди «паршивого» ландшафта Хенфорда, штат Вашингтон, стоят жилые бараки для сорока двух тысяч рабочих. Здесь тоже есть отсек, огороженный и дополнительно обнесенный колючей проволокой. Это бараки для женщин, которых приходится ограждать от назойливости рабочих-мужчин. 26 сентября 1944 года первый из трех мощных реакторных блоков готов приступить к производству плутония. В полночь Энрико Ферми стоит в пультовой, то и дело сверяясь с логарифмической линейкой, и дает отмашку обслуживающему персоналу. Измерительный прибор показывает, что искусственное ответвление реки Колумбии теперь нагрелось до температуры 60 градусов, и бульон, обогащенный продуктами расщепления, снова покидает здание и устремляется назад в привычное русло. Цепная реакция держится в течение часа, затем мощность внезапно падает, и к вечеру следующего дня реактор совсем отключается.
К счастью, в Хенфорде присутствует и Джон Арчибальд Уилер. Он вслушивается в «тяжелое дыхание» реактора и ставит диагноз: пациент страдает от отравления ксеноном-135. Этот до сих пор оставленный без внимания продукт расщепления жадно поглощает нейтроны, и от голода ему приходится красть пищу у цепной реакции. Самая обнадеживающая терапия этого досадного недуга — добавочное количество урана. Только эта добавка может противодействовать эффекту отравления и восстановить равновесие. И вот в лишние пятьсот алюминиевых трубок, предусмотрительно встроенные в реактор про запас, тоже забивают урановые топливные стержни. И за пару дней до смены года уже два реакторных блока на западном берегу реки Колумбии размножают плутоний для «Толстяка». В шестнадцати километрах отсюда из бесплодной земли выросли три импозантных здания, каждое из которых двести шестьдесят шесть метров длиной, двадцать два метра шириной и двадцать шесть метров высотой. Здесь будут отделять плутоний из облученных топливных стержней. Рабочие называют эти заводские корпуса «Королевами Мэри», потому что они почти такой же длины, как самый большой в мире корабль.
Сорокадвухлетний Мое Берг из Нью-Йорка — ученый-лингвист с дипломом Принстона. Однако карьеру он сделал как бейсбольный кетчер в команде Boston Red Sox. Теперь перед ним поставлена совершенно непривычная задача. Генерал Гровс приохотил его к профессии атомного шпиона. Берг владеет японским и основными европейскими языками. Он непринужденно чувствует себя в международном светском обществе и разбирается в современной физике. В качестве дебютного задания он должен разузнать, чем занимается исчезнувший из Берлина Гейзенберг. Мое Берг сводит знакомство с Паулем Шеррером, профессором физики Высшей технической школы в Цюрихе, а тот лично знаком с Гейзенбергом. В его доме Бергу удается под каким-то предлогом заглянуть в недавнее письмо Гейзенберга к Шерреру. Почтовый штемпель выдает Гехинген в Швабской Юре как новое местопребывание важнейшего немецкого атомщика — это информация высшего качества, и Берг передает ее американскому профессору физики Сэмюелю Гоудсмиту, родители которого были уничтожены нацистами. Гоудсмит ищет — тоже по заданию Гровса — указания на то, что немцы работают над атомной бомбой. Берг узнаёт от Шеррера, что Гейзенберг в декабре 1944 года будет читать в Цюрихе доклад о космическом излучении. Задание Берга таково: прослушать весь доклад, держа наготове заряженный пистолет, и «при малейшем подозрении, что Гейзенберг работает над конструированием атомной бомбы... убить ученого». Гейзенберг и сам знает, что в своих зарубежных поездках он окружен гестаповскими сыщиками и шпионами, поэтому остерегается говорить в Цюрихе о чем бы то ни было, кроме космического излучения. И во время ужина в доме Шеррера присутствующий здесь Мое Берг не слышит ничего, что могло бы дать ему повод выхватить пистолет.
Когда Мария Кюри открыла новый радиоактивный элемент, она назвала его полонием в честь страны своего рождения. Чтобы выделить десятую долю миллиграмма этого вещества, ей пришлось переработать тонну смоляной обманки из Рудных гор. Сорок шесть лет спустя химики в Лос-Аламосе сталкиваются с одним необъяснимым удивительным свойством полония. Добытый из окриджского опытного реактора с воздушным охлаждением металл с серебристым отливом аккуратно наносится на платиновую фольгу и в специальных надежных футлярах отправляется в Нью-Мексико. И очень редко бывает так, чтобы количество вещества, указанное в накладной, совпало с тем, что обнаруживается на фольге по прибытии груза на место. В конце концов ученые заметили, что полоний расползается по стенкам футляра, и собрать его снова удается с большим трудом. Этот редкий элемент с альфа-излучением, в пять тысяч раз превышающим излучение радия, должен служить в качестве источника нейтронов для «Толстяка» и запускать в нем цепную реакцию. Завернутый в фольгу из бериллия, этот «инициатор» размером с лесной орех должен размещаться в центре плутониевого заряда.
Между тем сотрудники Кистяковского так и продолжают биться над проблемами при литье взрывчатых линз. Воздушные включения и эффект кристаллизации грозят помехами при имплозии. «Расплав взрывчатки заливается в форму, а затем люди сидят у этих проклятых штук и стерегут их, будто яйца высиживают; постоянно приходится заново приспосабливать температуру охлаждающей воды», — комментирует Кистяковский. Постоянное — изо дня в день — обращение с взрывчаткой наводит его зимой 1944 — 1945 годов на одну блестящую идею, встреченную ликованием любителей лыж на Месе. Все хотят, чтобы здесь был лыжный спуск. Однако ближний склон неудобно порос хвойным лесом. Для взрывника Кистяковского и его специального метода это не проблема: «Если приставить к комлю дерева пол-ожерелья [из пластиковой взрывчатки], оно в этом месте подламывается так, будто его подпилили цепочной пилой. Разве что дело продвигается куда быстрее. Ну да, немного шумновато». Кто-то удачно «увел» откуда-то материалы для примитивного лыжного подъемника, и вот уж и гость Оппенгеймера Николас Бакер — в свои пятьдесят девять лет он в этом молодежном городе настоящий Мафусаил — счастлив продемонстрировать молодым, динамичным любителям скоростного спуска, как выглядит спортивный слалом, когда им по-настоящему владеешь.
Никто в Лос-Аламосе отродясь не слыхал этого имени, однако кто ни встретит этого кряжистого мужчину с массивным черепом и вратарскими лапами по его прибытии на Месу, тут же узнаёт его и уважительно приветствует, а иной и бросается к нему на шею — как Отто Фриш — с диким воплем радости. Николас Бакер — это псевдоним для прикрытия Нильса Бора. После своего авантюрного бегства из Дании он одержим идеей убедить сильных мира сего, что знанием о расщеплении ядра надо поделиться с правительствами всех наций. Бор настаивает на международном соглашении по контролю над вооружением, чтобы воспрепятствовать катастрофе атомной гонки вооружений после войны. Уже теперь, по его мнению, должны быть созданы основные положения в атомной политике послевоенного времени. В каждой поездке к Бору и его сыну Оге приставляют новых телохранителей. И всякий раз их забавляет та серьезность, с какой новые охранники расписываются в получении своих подопечных.
Непривычная идея Бора — использовать уничтожительную силу атомного оружия в качестве устрашения, чтобы обеспечить на земле продолжительный мир, — дает большое облегчение тем молодым ученым в Лос-Аламосе, которые задумываются о смысле своей работы: это было бы желанным решением тяжелого конфликта совести, терзающего многих сотрудников. Виктор Вайскопф, ученик Борна и Гейзенберга, говорит о целебном воздействии Бора на Месе: «Всякая большая и глубокая проблема содержит решение в себе самой, потому и награда должна быть тем большей, чем больше была беда. Этому мы учились у него... Он дал ход политическому движению в науке». Летом 1944 года Бору удалось поговорить о своих планах с двумя самыми могущественными в мире людьми. Но если Рузвельт выказал хотя бы видимость согласия с международным контролем за силой атома, то Черчилль реагировал на идеи Бора с возмущением и даже подумывал, не ограничить ли ему свободу передвижения. Лорду Червеллу он говорил, что следует «хотя бы объяснить Бору, насколько близко он подошел к границе чудовищного преступления». Глядя на разбушевавшегося Черчилля, американский президент тоже надломился. Британо-американское лидирование в области атомного оружия не будет сдано добровольно ни сейчас, ни после войны.
Химическая фабрика в Окридже поставляет уран-235 с сентября 1944 года — правда, лишь в небольших количествах, однако они регулярно передаются в Нью-Мексико по железной дороге с вооруженными курьерами, поездка длится двадцать шесть часов. Усовершенствование процесса фильтрации позволяет в январе 1945 года увеличить ежедневное производство до половины фунта. Вещество обогащено до восьмидесяти процентов и тем самым пригодно для бомбы. Теперь, если ничто не помешает, к началу июля должно накопиться достаточно материала для критической массы, рассчитанной для пушечной модели бомбы. В то время как Джордж Кистяковский так и не решил пока проблемы плутониевой бомбы и предается ожесточенной борьбе за эффективность взрывных линз с Уильямом Парсонсом, в лагере конструкторов урановой бомбы царит сдержанный оптимизм по поводу удачного исхода.
Чтобы экспериментально подтвердить расчетные значения для критической массы урановой бомбы, Отто Фриш предлагает не вполне безопасный опыт. Изобретатель понятия «расщепление ядра» придумал складывать штабелем небольшие комочки бомбового вещества и таким образом, постоянно измеряя активность нейтронов, постепенно приближаться к критическим величинам, не доводя дело до детонации. Для этого опыта взят богатый водородом гидрид урана, который реагирует более инертно, чем чистый уран-235. Ричард Фейнман, загоревшись идеей Фриша, говорит, что это все равно «что щекотать хвост спящего дракона». На всякий случай автомобили перед лабораторией припаркованы так, чтобы они — с вставленными ключами зажигания — были готовы для бегства в пустыню. Фриш и дюжина его людей, укладывая кусочек за кусочком урана в штабель, прекрасно отдают себе отчет в том, что орудуют с материалами, которые не только безмерно дороже золота, но и таят в себе смертельную опасность. Камень на камень, кирпич на кирпич — так они на ощупь подбираются к «голому устройству». Это порог, подошедший вплотную к критической массе. Фриш любовно называет ее «леди Годива» — по имени английской графини XI века, которая, если верить легенде, голая верхом на коне проехала по городу Ковентри, чтобы избавить подданных своего мужа от непосильных налогов. Кто осмеливался взглянуть на прекрасную леди, на месте карался слепотой. И теперь, при этом бризантном возведении лос-аламосской башни, чтобы не рискнуть чем-то и более ценным, чем зрение, нельзя было ни на миг упускать из виду контрольные лампочки измерительных приборов.
В какой-то момент Отто Фриш по неосторожности слишком приближается к мифической леди. Чтобы взглянуть на счетчик нейтронов, он на пару секунд наклоняется над голым устройством и вдруг замечает, «что лампочки... горят непрерывно», как ему показалось. На самом деле они мигают так быстро, что частота уже не воспринимается глазом. Он отпрянул, быстрым движением смахнув со штабеля пару комочков урана. Лампочки тут же замигали нормально. До Фриша доходит, в чем состояла его фатальная ошибка: когда он наклонился вперед, атомы водорода в его теле отразили несколько лишних нейтронов, вылетевших из «леди Годивы» — как раз достаточно, чтобы привести ее в критическое состояние и стремительно повысить скорость ее реакции. «Помедли я еще две секунды, — комментирует Фриш, — и доза облучения была бы смертельной».
Замковая церковь курорта Хайгерлох на краю Швабской Юры стоит на двадцатиметровой скале, возвышаясь над соседней общиной Гехинген. Под церковью в скале вырублена пещера, которая служила пивовару из Хайгерлоха в качестве пивной, пока в феврале 1945 года сюда не явились физики и не конфисковали пещеру для нового, защищенного от бомбежек помещения Берлинского Физического института кайзера Вильгельма. Здесь предполагается заново построить секретную урановую машину. В марте Гейзенберг, Вайцзеккер и Вирц погружают дибнеровскую модель — 664 кубика металлического урана, подвешенные на 17 цепях, — в емкость с полутора тоннами тяжелой воды. Показания счетчика нейтронов настраивают команду на оптимистический лад. Не принимая мер безопасности — таких, как встраивание кадмиевых стержней, — они приближаются к критической массе. Они хотят ее знать наконец. Участники догадываются, что это, скорее всего, будет последний опыт. К концу эксперимента в скальном подвале Хайгерлоха достигнуто доселе небывалое размножение нейтронов. Но для самоподдерживающегося реактора группе Гейзенберга необходимо раза в полтора больше урана и тяжелой воды. Надо разыскать Дибнера, который проводит неясные опыты где-то в Тюрингии. Пусть он предоставит недостающий материал.
В каньоне Омега, вдали от жилых зданий и лабораторий Лос-Аламоса, Отто Фриш и его люди продолжают работать над своей имитацией урановой бомбы. Теперь комочки располагаются в форме кольца на верстаке под открытым небом и осторожно возводятся штабелем до высоты «леди Годивы». Недостающий до критической массы кусок — чека гидрида урана размером пятнадцать на пять сантиметров. Она висит прямо над кольцом из урана на железной раме трехметровой высоты, которую какой-то шутник окрестил «гильотиной». По команде Фриша чека будет отпущена. Чтобы она не застряла в тесном отверстии кольца и не вызвала катастрофы, ее сбрасывают вниз по направляющим, и она пролетает насквозь, приведя «леди Годиву» в возбуждение. На долю секунды в кольце воспроизведены условия для «мягкого» ядерного взрыва. Сильный поток нейтронов и большой скачок температуры сигнализируют испытателям «цепную реакцию в виде прерванного взрыва». В начале апреля 1945 года Фришу предоставлена возможность манипулировать с серебристыми комочками урана, которые уже не содержат гидрида, а представляют собой чистый металл. В каньоне Омега, на открытом воздухе бомбовое вещество быстро окисляется до «насыщенной сливовой синевы» — необычный оттенок, который в 1789 году еще отсутствовал в ярком спектре урановых красок берлинского аптекаря Мартина Генриха Клапрота. С этими опытами Фриш и его сотрудники все ближе подходят к точному определению критической массы урана-235 для атомного взрывного сердечника.
Полковник Борис Паш и профессор Сэмюэль Гоудсмит устраивают охоту на немецких ученых-атомщиков. Они служат в американском спецподразделении
Как физик и былой друг Гейзенберга, Гоудсмит из всего найденного и из допросов может извлечь лишь один вывод: собранные в Швабской Юре высококлассные ученые — несомненно, авангард немецкой атомной науки. В этом пивном подвале Хайгерлоха немцы стояли уже вплотную к цепной реакции. Но о программе атомной бомбы все же не могло быть и речи. Паш передает эту информацию, имеющую большое значение, генералу Гровсу. Тем самым важная разведывательная миссия подразделения «Алсос» выполнена. Ни полковник, ни профессор не посвящены в существование Манхэттенского проекта. Однако искомой персоны номер один и след простыл. Вернер Гейзенберг не только самый важный, но и — судя по всему — по-прежнему самый спортивный из немецких физиков. Он в это самое время едет на велосипеде, потому что перед своим неминуемым арестом хотел бы еще раз повидаться с женой и детьми. Он крутит педали лишь с наступлением темноты, чтобы уклониться от самолетов на бреющем полете и разрозненных групп СС, которые в эти последние дни войны устраивали смертельную охоту на дезертиров и пораженцев. На поездку длиной в двести пятьдесят километров до Урфельда ему потребовалось три ночи.
Одиннадцатого апреля 1945 года Роберт Оппенгеймер сообщает генералу Лесли Гровсу важную новость. Наконец-то Джорджу Кистяковскому удались именно те симметричные взрывы обжатия, которые предсказал в своей теории Джон фон Нейман. Поскольку в Лос-Аламосе он мог использовать лишь макет из алюминия, имплозионную бомбу нового типа с настоящим плутониевым ядром еще только предстояло испытать в пустыне Нью-Мексико, прежде чем можно будет вести речь об ее военном применении. На другой день, двенадцатого апреля, от кровоизлияния в мозг умирает американский президент Франклин Делано Рузвельт. В тот же день Отто Фриш завершает свои опыты со сливово-синим ураном-235. Его практические сведения о критической массе будут использованы в конструировании урановой бомбы пушечного типа. Все эксперты на Месе едины во мнении: функционировать она будет, поэтому можно отказаться от испытательного взрыва. Да испытание и невозможно было бы осуществить, потому что до лета не накопится достаточно взрывчатки, чтобы хватило на вторую бомбу. Сооружения в Окридже хоть и работают с полной нагрузкой, но выход урана остается очень мал в сравнении с техническими затратами.
Совсем другое дело в Хенфорде. Здесь процент выхода продукции благоприятный и обещает к середине года две плутониевые бомбы. Правда, Джон Арчибальд Уилер сообщает об одном курьезном эпизоде, о котором шеф Хенфорда Маттиас предпочитает помалкивать. Японская армия запускает через Тихий океан в огромном количестве бумажные воздушные шары с зажигательными бомбами, надеясь, что одна-другая долетит до Западного побережья Америки и вызовет там пожар. Один из таких воздушных шаров, как назло, запутался в линии электропередачи, которая снабжала током водяные насосы хенфордского реактора, и котел пришлось на некоторое время отключить.
Плотники были немало удивлены, когда наутро после законного выходного дня опять явились на свое необычное рабочее место посреди пустыни, на триста двадцать километров южнее Лос-Аламоса. Импозантного деревянного сооружения, которое они с таким старанием возвели, больше не было. А ведь платформа на высоте в шесть метров была сколочена из массивных дубовых балок и вполне могла бы — как с укоризной заметил один из рабочих — отлично служить хотя бы в качестве танцплощадки. Но вот поди ж ты, руководитель испытаний Кеннет Бейнбридж, электроинженер Массачусетского технологического института и физик из Принстона, с самого начала и не думал ни о чем другом, кроме как загрузить на этот дубовый подиум сто тонн тротила в деревянных ящиках и пустить эту кучу высотой с дом на распыл. Надо же было в конце концов откалибровать инструменты для предстоящего испытания «Толстяка». Размещенная в центре взрывчатки канистра с растворами плутония из Хенфорда должна была имитировать продукты радиоактивного распада, ожидаемые при подлинном испытании. Бейнбридж в высокопарных тонах распространяется об этом величайшем химическом взрыве всех времен и о впечатляющем огненном шаре оранжевого свечения. Даже на отдалении в сто километров специально поставленный там наблюдатель отмечает световую вспышку и негромкий громовой раскат. Бейнбридж и его группа пересчитывают полученные данные по этому взрыву — ударную волну и выпадение радиоактивных осадков — на ожидаемую взрывную силу плутониевой бомбы. Таким образом возникают указания на необходимые меры предосторожности для людей, измерительных приборов и камер, которым предстоит пережить и записать первое и предположительно несравнимо более мощное выступление «Толстяка».
Мощный удар ранним утром седьмого мая можно было принять и за орудийный салют в честь победы союзных войск над Германией, ибо всего за несколько часов до того немецкий генерал-полковник Альфред Йодль во французском Реймсе подписал акт, которым была подтверждена безусловная капитуляция вермахта. Арестованные в Гехингене немецкие физики-атомщики тоже вот уже несколько дней содержатся в Реймсе. Они размещены на вилле, которую охраняют военные полицейские с автоматами. Во второй половине дня седьмого мая их отправят самолетом в Париж.
Поздним вечером восьмого мая генерал-фельдмаршал Вильгельм Кейтель прибыл в Инженерно-саперное училище вермахта в берлинском Карлсхорсте и занял место за столом в офицерском казино. Маршальский жезл, фуражка и правая перчатка лежат подле него на столе. Левую перчатку он не снял. Начальник Верховного командования вермахта должен здесь, в штаб-квартире Красной армии, еще раз подписать акт о капитуляции, ибо Сталин настаивает на собственном сценарии. Часы показывают ноль часов шестнадцать минут девятого мая, когда Кейтель ставит под документом свою подпись. Покидая казино, он еще раз салютует, подняв вверх свой маршальский жезл.
Вильгельм Кейтель короткое время был помолвлен со своей кузиной Кэте Виссеринг. Но она в итоге вышла замуж за инженера Франца Пюнинга, родила в 1910 году в Реклингхаузене девочку по имени Катарина и затем эмигрировала с мужем и дочерью в США. Катарина приобретает себе известную славу ветреницы, невесты коммуниста и светской тусовщицы Кити. На свою четвертую брачную попытку она отважилась с Робертом Оппенгеймером. Будучи кузеном ее матери, самый высокопоставленный солдат Германии Вильгельм Кейтель приходится Кити двоюродным дядей, то есть является кровным родственником миссис Оппенгеймер.
Роберт Оппенгеймер и его группа в этот день лишились своего смертельного врага. Немецкая атомная бомба оказалась не более чем призраком. Вообще-то теперь люди из Лос-Аламоса могли бы перейти на более размеренный ритм работы. Но политики и военные давно решили, что первое атомное оружие будет введено в действие против Японии. Они сразу поняли, какое могущество связано с обладанием атомной бомбой.
Сотрудники Кистяковского, контролируя качество отлитых взрывных линз, используют рентгеновский аппарат, чтобы отследить мельчайшие микротрещины в материале. Пока что соотношение между браком и качественной продукцией никак не сдвигается в пользу удачных отливок. Техническое задание таково: для «Толстяка» требуется 96 прецизионных линз, которые должны взорваться одновременно в продолжение одной пятидесятимиллионной доли секунды, чтобы оказать равномерное обжимающее давление на все точки плутониевого ядра.
В других отделах тоже производится много брака, а некоторые идеи, поначалу казавшиеся грандиозными, в итоге были отброшены как несостоятельные — хотя и стоили немалых денег. Так, Эдвард Теллер и Роберт Оппенгеймер хотели воспрепятствовать тому, чтобы при выбросе «Толстяка» из недр стратегического бомбардировщика В-29 какой-нибудь случайный нейтрон в воздухе проник в плутониевое ядро и привел его к преждевременному взрыву. И вот они конструируют фольгу из бора, которая должна впитывать нейтроны, как губка. Разработка этого шаблона стоит десять миллионов долларов. Фольга в итоге так и затерялась на какой-то полке, оказавшись ненужной.
Вот и металлурги с поистине широким размахом обращаются с высокоценными ресурсами, которые в Лос-Аламосе в сравнении с абсолютными сокровищами уран-235 и плутоний-239 девальвируются в хлам. Члены Клуба писающих плутонием однажды изготавливают две полусферы из чистого золота, чтобы измерить, насколько сильно благородный металл отражает нейтроны. Вскоре уже никто не вспоминал про золото, пока Ричард Фейнман, сопровождая по лабораториям одного посетителя, не привел его в помещение, в котором хранилось бомбовое вещество: «На цоколе лежал маленький, поблескивающий серебром шар. Можно было положить на него ладонь. Он был теплый. Он был радиоактивный. То был плутоний». Когда Фейнман и его гость покидали святая святых, они обнаружили, что коллеги из 11РР1Л все-таки нашли достойное применение для одной из двух золотых полусфер. Она служила стопором для двери плутониевой кладовой.
Иногда Ричард Фейнман кается, что его страсть решать проблемы и взламывать сложные коды приобретает болезненные черты. Однако это раскаяние, конечно, чистое кокетство. Он прямо-таки одержим взломом сейфовых комбинаций. И чем более неразрешимой кажется задача, тем неотступнее она его держит. Самое большое притяжение на него оказывает сейф, в котором хранятся все документы по атомной бомбе: расчеты, формулы, нормы высвобождения нейтронов и указания по конструкции. За два года, которые он провел в Лос-Аламосе, он разработал метод, с помощью которого можно взломать любой сейф в городе за три минуты, если знать последние две цифры комбинации. И он систематически овладевает ими, когда — будто бы случайно — заходит в кабинеты и начинает болтать, непринужденно привалившись спиной к сейфу, а сам в это время одной рукой покручивает колесико. Чудачества взломщика брони Фейнмана демонстрируют его перепуганным коллегам, насколько слабо защищена государственная тайна номер один.
Лео Силард в эти последние недели перед запланированным испытанием плутониевой бомбы без передышки разъезжает по стране. Движущие мотивы его поездок доводят генерала Гровса до белого каления, ибо он прекрасно информирован о его маршрутах. Похоже, Силард разделяет точку зрения Нильса Бора — теперь, когда гонка за атомную бомбу считай что выиграна, а города злейшего врага лежат в руинах, — больше нет причин продолжать работу над ядерным оружием. Он тоже опасается «вооруженного мира» после войны. Он пытается связаться с влиятельными политиками — такими, как Джеймс Бирнс. Как нарочно, именно тот человек, который так давно и с таким упорством как никто другой пытался сдвинуть с места работу над бомбой, теперь считает применение бомбы против японских городов тяжкой ошибкой. Он считает, что после этой необъявленной демонстрации силы начнется гонка вооружений между Советским Союзом и США, которая может закончиться крахом обеих стран. Бирнс выслушивает Силарда, однако выказывает непреклонность и торопит Трумэна отдать приказ о применении бомбы.
К этому времени так называемый «Комитет по выбору целей», в который входит и Роберт Оппенгеймер, уже выбрал из семнадцати японских городов те, которые до сих пор были не тронуты обычными бомбежками. По расчетам физиков взрывной силы «Малыша» и «Толстяка» достаточно, чтобы сровнять с землей большой город. Бомбардировка невредимого города обещает впечатляющий разрушительный эффект.
Атомщики метлаба в Чикаго — в отличие от лос-аламосских коллег — настроены критически против бомбы. Нобелевский лауреат Артур Комптон, шеф метлаба, когда-то в 1942 году смог уговорить своего нобелевского коллегу Джеймса Франка на сотрудничество в Манхэттенском проекте только одной уступкой: в случае если к моменту изготовления бомбы никакое другое государство не достигнет сопоставимого технического уровня, то Франку можно будет, согласно договоренности, представить ведущим политикам свои критические мысли по поводу обращения с атомным оружием.
Роберт Оппенгеймер поддерживает решение Комитета по выбору целей. Он слишком хорошо знает, что его «беби» истребит многие тысячи мирных людей. Однако сомнения в том, что он делает, этот теоретик, некогда столь задумчивый, давно вытеснил на задний план. Оппенгеймер, деятель, хочет бомбу без всяких «Но» и «Если». И он хочет видеть своими глазами, сможет ли она совершить то, что обещают расчеты. Вооружившись самодисциплиной и искусством мотивации, он умело правит навстречу успешному завершению проекта. В последние четыре недели перед испытанием напряжение в Лос-Аламосе среди сотрудников настолько велико, что его можно потрогать руками. Шеф доводит себя — ввиду множества еще не решенных проблем — до предела своих физических возможностей и того же требует от каждого.
У Джеймса Франка еще двадцать лет назад в Гёттингене произошла одна достопамятная встреча с молодым Оппенгеймером. Он присутствовал в качестве экзаменатора на устном докторском экзамене Оппенгеймера и потом рассказывал, что вовремя успел сбежать, потому что Оппенгеймер переменил тактику защиты и начал задавать вопросы своим экзаменаторам. Теперь Франк, изгнанный в Новый Свет гитлеровским «Арийским параграфом», снова конфронтирует с Оппенгеймером по некоторым щекотливым вопросам. На сей раз речь идет не о чем ином, как о правдивости и ответственности международного сообщества физиков, умнейшие представители которого в Окридже, Хенфорде и Лос-Аламосе как раз создают монстра, способного поглотить мир. Ученые метлаба под руководством Франка, Вигнера и Силарда теперь, когда Германия разбита, больше не хотят отворачиваться от моральных вопросов, связанных с перспективой создания бомбы. Они убеждены: после того как бомба будет сброшена на японский город, мировая общественность примется обсуждать ответственность и вину физиков. «Отчет Франка» в июне 1945 года рекомендует собрать представителей всех наций и провести для них демонстрацию атомного оружия где-нибудь в пустыне или на необитаемом острове. Он настойчиво советует отказаться от его применения в Японии без предварительного оповещения населения.
Неприхотливые серо-зеленые кусты мескито с колючками длиной в палец, редкие виды кактусов и поросль юкки, которая топорщит в небо листья, словно связки острых клинков, — вот характерные приметы степи между Рио-Гранде и горами Сан-Андре. Земля в этой глуши измучена ветрами-суховеями. Плодородный слой давно выдуло, пашни иссохли, и без того немногие источники воды иссякли, а люди разъехались кто куда. Веками эта безрадостная полоса в ста километрах к северо-западу от нью-мексиканского городка Аламогордо называется
Почти три с половиной века спустя сидит современный пионер на заброшенном ранчо посреди этой степи и не может припомнить, чтобы когда-нибудь в своей жизни чего-нибудь так страстно ждал, как ждет сейчас свои три километра садового шланга. Они пропали во время забастовки портовых рабочих, и пришлось заказывать их заново. Правда, на участке, который Кеннет Бейнбридж облюбовал для испытания плутониевой бомбы, никто ничего не собирается поливать. Его группа из двухсот пятидесяти человек проложила уже почти восемьсот километров кабеля. Но на некоторых чувствительных местах придется дополнительно упрятать электропроводку, телефонный и запальный кабели в садовый шланг и зарыть в землю. После теста со ста тоннами тринитротолуола Бейнбридж смог убедить генерала Гровса срочно проложить тридцать километров новой асфальтовой дороги и не допустить того, чтобы сломалась ось транспорта, перевозящего «Толстяка» по ухабистой пустыне. Кроме того, песок и глинистая пыль, вздымаемая армейскими джипами, проникает в сейсмографы и счетчики Гейгера и повышает опасность того, что испытание пройдет неудачно. Руководитель испытания привел в действие все рычаги, чтобы пилоты Air Force опять не спутали освещенный лагерь из палаток и бараков с тренировочными мишенями для сброса их бомб. Вообще-то тренировочные мишени представляют собой деревянные трехсторонние пирамиды, оснащенные лампочками накаливания на всех ребрах, чтобы можно было тренировать и ночные вылеты. Бейнбриджу хоть и известно, что территория испытания принадлежит военной закрытой зоне бомбового полигона Аламогордо, однако он не рассчитывал на «дружественный огонь» экзаменующихся летчиков, полных избыточного рвения. В мае во время выпускного экзамена пилотов бомбардировщиков случился такой непредвиденный обстрел. Бомба угодила в мастерскую плотников, в которой на тот момент, к счастью, никого не оказалось. Вторая бомба подожгла сарай.
В трех километрах к северо-западу от ранчо Дэвида Макдоналда Бейнбридж назначил нулевую точку взрыва. Теперь монтеры возводят здесь стальную тридцатиметровую башню. Бетонный фундамент для четырех ее опор уходит в землю на глубину шесть метров. На вершине башни должна быть построена платформа из таких же тяжелых дубовых брусьев, какие при тротиловом испытании столь убедительно перешли в менее компактное состояние. Электрическая тяжелогрузная лебедка предназначена для того, чтобы поднять «Толстяка» на его танцплощадку.
В трех местах — к северу, к западу и к югу от башни
Осенью 1944 года, когда выбор территории для взрыва бомбы пал на Хорнаду, Роберт Оппенгеймер придумал кодовое название для испытания: «Trinity», что означает «Троица». В то время он часто вспоминал сонет Джона Донна, рассказывает генерал Гровс, этот сонет начинается с просьбы поэта к триединому Богу, чтобы испепелил его и создал заново.
Нельзя не заметить и созвучие «Trinity» с «тринитротолуолом». Взрывная сила тротила служит единицей измерения энергии, высвобожденной при взрывах всех прочих веществ. В Лос-Аламосе тротил вездесущ. Оппенгеймер постоянно имел дело с тротилом. Теперь физикам не терпится наконец соизмерить с тротилом «Толстяка».
Жизнь в лагере Тринити, на триста двадцать километров южнее Лос-Аламоса, отмечена долгими рабочими днями — с тех пор, как стал известен срок испытания. В обсуждении срока участвовал сам президент Трумэн. Он намеренно перенес важную конференцию на пятнадцатое июля, чтобы дать Оппенгеймеру достаточно времени для подготовки взрыва первой атомной бомбы. Генерал Гровс на основании этого назначил испытание на шестнадцатое июля 1945 года. Значит, в этот поворотный пункт истории Трумэн в Потсдаме будет обсуждать с Черчиллем и Сталиным будущее Германии и Европы; это будет встреча трех могущественнейших мужчин Земли, «Большая тройка», как ее назовут; короче, мировая троица. Американский президент хочет, чтобы в Потсдаме его проинформировали по телефону о результатах испытания «Тринити». Он заручился возможностью ошеломить своего бывшего союзника и нового противника Сталина сообщением о взрыве нового могучего оружия.
Двести пятьдесят солдат и военных инженеров строили на испытательном полигоне бараки и подземные бункеры, протягивали обширную сеть связи, устанавливали генераторы, рыли колодцы, подключали насосы — и все это ради одного большого хлопка. Старший лейтенант Дж. С. Буш, военный комендант лагеря, хвалит образцовую дисциплину и якобы превосходный боевой дух своих подчиненных. Джордж Кистяковский при посещении лагеря получает совсем другое впечатление. Ранним утром военные, громко ругаясь, выбивают свои униформы цвета хаки и вытряхивают сапоги, чтобы проверить их на наличие заблудившихся ядовитых скорпионов и тарантулов. Штаб-квартиру Кеннета Бейнбриджа один взрывник описывает как пару полусгнивших сараев. Но и новые бараки ни в коей мере не сулят удобств. Вместо окон в стенах только дыры, через которые свищет никогда не стихающий ветер. «Иной раз залетит ворона, усядется у твоей кровати и таращится на тебя».
Мужчинам нельзя покидать лагерь по причинам засекреченности, и они недовольны, что Лесли Гровс ни разу не отпустил их в увольнение развлечься в барах Сан-Антонио и Карризозо. Но здесь, на point zero, «генерал не терпит ничего, что слишком приближается к его представлению о роскоши». Единственные развлечения команды Тринити — это вечерняя игра в покер и уход за «домашними животными». Один из солдат приручил ворону и гордо носит ее по лагерю на своем плече. Некоторые приводят из пустыни бродячих собак, других охватила страсть к собирательству: объединившись, они ловят гремучих змей и строят для них клетки. На некоторых животных, однако, любовь не распространяется: уж слишком хороши они на вкус. Стадо антилоп в степи регулярно подвергается преследованию со стороны мужчин, вооруженных автоматами, на армейских джипах, чтобы их меню обогатилось свежими стейками.
Отто Ган с облегчением вздыхает, когда английский командир обещает раздобыть для него ноты моцартовских сонат. Вернер Гейзенберг в настоящее время настолько увлекся Пятым фортепьянным концертом Людвига ван Бетховена, что девять его товарищей по участи лишь бессильно разводят руками, когда он каждый вечер садится к пианино и открывает культурный час виртуозной каденцией аллегро. Вместе с ним в этом старинном имении Фарм Холл вблизи Кембриджа интернированы Пауль Хартек, Макс фон Лауэ, Карл Фридрих фон Вайцзеккер, Вальтер Герлах, Курт Дибнер, Эрих Багге, Карл Вирц, Хорст Коршинг и Отто Ган. Они здесь с третьего июля. В стремительном броске офицеры «Алсоса» вовремя успели вежливо выкрасть их из деревень на краю Швабской Юры, пока они не попали в руки французских оккупационных войск. Англичане обращаются с атомщиками хорошо, поскольку те дали им честное слово не предпринимать попыток к бегству. Здесь, в укрытии Фарм Холла, их знания надежно спрятаны и от советских войск. Договоренность между Черчиллем и Рузвельтом об англо-американской монополии на атомную бомбу непременно должна оставаться в силе.
Курт Дибнер подозревает, что в доме есть скрытые микрофоны. Гейзенберг смеясь относит это к «гестаповским методам», на которые у англичан, по его словам, не хватит «хитрости». День высокопоставленных арестантов, которых здесь содержат по-царски, начинается в девять часов с
Само собой разумеется, все комнаты оборудованы «жучками». Из одного подслушанного разговора между Ганом и Багге девятого июля следует, что немцы еще не представляют себе свойств элемента 94, который в Америке можно называть просто «49». Отто Ган уверяет, что при распаде элемента 93 с периодом полураспада тридцать два часа возникает слишком мало 94-го материала, чтобы его можно было как-то использовать. Таково международное состояние знания на лето 1940 года, незадолго до того как Гленн Сиборг разработал свой изобретательный способ сепарации нептуния и плутония.
Пауль Хартек решил, что жизнь продолжается. На вечер десятого июля он объявляет доклад: «Образование электронно-позитронных пар при столкновении квантов света и электронов». В этих солидных вечерних беседах под арестом немецкие ученые продолжают обращаться друг к другу со словами «господин профессор».
В Лос-Аламосе в это же самое время все проходит гораздо непринужденнее. Здесь нобелевские лауреаты и армейские слесари называют друг друга по имени. За несколько дней до
Понедельник, девятое июля: капитан Шаффер жмет на газ. Его грузовик с опасным грузом пересекает караульные посты на выезде из Лос-Аламоса и резво поднимает пыль. Именно таков и есть приказ. Неустрашимый солдат должен подтвердить заявление Джорджа Кистяковского, что его высоковзрывчатые линзы можно без опаски трясти и на проселочных дорогах, и на степных ухабах. Теперь Шафферу предстоит в течение восьми часов подтверждать эту самонадеянную тезу. В кузове грузовика прочно закреплен контейнер. В нем среди бутафорских муляжей находятся четыре настоящие взрывные линзы. В собранном виде они примыкают к модели Тринити с точностью до миллиметра. После трех часов быстрой езды Шаффер в первый раз открывает крышку бункера и заглядывает внутрь. Он находит четыре линзы в лучшем виде.
За два дня до запланированной перевозки бомбы к испытательному полигону давление на Кистяковского и его группу усиливается неимоверно. Литейное производство взрывных линз хоть и разрослось за последнее время в настоящую фабрику с более чем двумястами сотрудниками, однако все равно в распоряжении Кистяковского пока еще мало качественных отливок. А тут Оппенгеймер требует еще и второй комплект линзового устройства в две тонны весом. Перед собственно испытанием в пустыне Аламогордо точная копия «Толстяка» — но без плутониевого ядра — должна пройти тест на испытательном стенде «магнитного наблюдения», чтобы получить однозначную информацию о возможных несовершенствах имплозионной волны. Кистяковский резко возражает против этой идеи, однако Оппенгеймер осторожничает, хочет сперва провести генеральную репетицию. Неужто Кистяковскому суждено под конец войти в историю Лос-Аламоса неудачником, который производит больше брака, чем качественного продукта? В этом отчаянном положении ему в голову приходит спасительная идея. Он раздобыл себе зубоврачебную бор-машину и одинокой ночью еще раз делает рентгеновские снимки отбракованных отливок и рассверливает дефектные места. Он замешивает пасту из расплава взрывчатки, заполняет ею пустоты, и ему остается лишь надеяться, что этот родившийся от нужды и еще никогда не практиковавшийся способ починки решит его проблему. Что касается опасности такой работы для собственной жизни, то он не питает в эту ночь никаких иллюзий: «Я думал, если у меня в руках рванет двадцать три килограмма взрывчатки, я вряд ли это почувствую».
После продолжительной засухи в Хорнада-дель-Муерто, как нарочно, именно теперь над испытательным полигоном потянулись тропические воздушные массы со стороны Мексиканского залива, возвещая сильные грозы. Если шестнадцатого июля пойдет дождь, испытание придется отложить, потому что дождь и ветер разнесут ожидаемые радиоактивные осадки в безответственно высокой концентрации в ближайшие города и вымоют их в почву. Бейнбридж приводит в боевую готовность военных полицейских и транспортные средства — для эвакуации жилых районов и единоличных хозяйств в случае реальной опасности. В четверг, двенадцатого июля, в семь часов утра из Лос-Аламоса трогается охраняемый конвой и привозит в пустыню Аламогордо легкий и неприметный груз. Шар размером с апельсин лежит в противоударном, выстланном резиновыми амортизаторами черном чемоданчике на заднем сиденье армейского лимузина. За последнее время его покрыли еще одним слоем никеля для защиты от коррозии. Сирил Смит, отвечавший за металлургию, очень неохотно выпускал сокровище из рук, потому что под слоем никеля образовались пузырьки и Смит не мог гарантировать точность подгонки полушарий. Эта непредвиденная неприятность могла привести при имплозии к преждевременной вспышке источника нейтронов. Смит подготавливает все, чтобы на полигоне Тринити провести последние пассы над плутониевым шаром. В одном из лимузинов конвоя сидят физики Филипп Моррисон, Бойс Макдэниел и еще один коллега. Моррисон имеет при себе источник нейтронов для испытания Тринити, равно как и муляж, который не отличишь от оригинала.
Чтобы скоротать долгую поездку, он играет со своими коллегами на заднем сиденье в наперстки, ловкими пальцами перепутывая оба шара и заставляя игроков отгадывать, какой из них «боевой». У Макдэниела гора с плеч падает, когда он понимает, что Моррисон может определить их на ощупь, ибо полоний испускает быстрые альфа-частицы, отчего шар становится теплым, тогда как муляж остается холодным. И можно не опасаться, что пустышка по недосмотру угодит в бомбу Тринити.
Старший лейтенант Ричардсон точно так же, как и другие солдаты, откомандированные для охраны конвоя, понятия не имеет, что за груз они тут сопровождают. Ему велено только одно: глаз не спускать с ящиков, вручить их Кеннету Бейнбриджу и взять с него расписку в получении. Моррисон, как видно, боится не столько излучения полония, сколько женщины за рулем. Его водительница слывет в Лос-Аламосе самой лихой шоферкой по здешнему бездорожью.
Пока сердцевина «Толстяка» мягко покачивается на кочках пустыни, Норрис Брэдбери как руководитель сборки бомбы и его ассистенты встраивают в корпус Тринити 96 взрывных линз. Изначальная конструкция имплозионной бомбы, которая скоро должна упасть из бомбового люка бомбардировщика В-29 на один из японских городов, имеет добрых три метра в длину и похожа на куриное яйцо с квадратным хвостовым стабилизатором. Этот же стоящий перед ними аппарат — наоборот, почти шарообразный. Ему не нужна аэродинамическая форма, потому что ему не придется лететь по воздуху. Отливки располагаются так, что сначала возникает полушарие в полтора метра диаметром с отверстием в середине. Шар из природного урана спускается вниз на лебедке и вкладывается в отверстие. Когда поздним вечером двенадцатого июля собраны и остальные блоки взрывчатки в виде верхнего полушария, Джордж Кистяковский и Норрис Брэдбери все еще стоят перед бомбой и заклеивают отверстия для капсюлей-детонаторов самым кустарным способом — липкой лентой, потому что на пластическую операцию с отрывной оболочкой из искусственного материала уже нет времени. Упакованный в водонепроницаемый чехол и в транспортировочный ящик из сосновой древесины, прототип атомной бомбы погружается на армейский грузовик, крепко там привязывается и накрывается брезентом. Вторая группа из отдела Кистяковского в это же время монтирует точную копию — так называемую «Chinese copy». Ей предстоит выдержать магнитную генеральную репетицию.
Сообща с другим техническим отделом сотрудники Кистяковского разработали детонаторы нового типа с не виданной доселе точностью по времени. Чтобы синхронизировать их, что совершенно необходимо для процесса имплозии, они построили новый электронный прибор — так называемый X-элемент. Один из его разработчиков — двадцатипятилетний физический химик д-р Доналд Хорниг из Гарвардского университета. Один такой прибор он привез на испытательный полигон и поднял его на башню над нулевым пунктом. Теперь инженеры могут разобраться с новым прибором и настроить на него свои инструменты. После обеда собирается гроза, и все торопятся покинуть башню. Неожиданно X-элемент начинает искрить. Каждому ясно, что бы сейчас было, если бы этот кое-как опробованный прибор оказался уже связан с детонаторами бомбы. На Хорнига вешают тяжкую ответственность за сбой. Однако вскоре причина обнаруживается: кто-то, должно быть в спешке, выдернул из X-элемента провод заземления, и молнии, судя по всему, зарядили аппарат статическим электричеством.
Кеннет Бейнбридж не верит своим ушам. Что за детский сад тут в его ведомстве? Только что Дон Хорниг со своей адской машиной поставил на уши весь здешний лагерь, а теперь этот молодой, долговязый солдат сует ему в руки черный чемоданчик и требует за него — что? Расписку в получении? Да-да, он не ослышался. Хотя старший лейтенант Ричардсон понятия не имеет, что за чемоданчик он, собственно, держит в руках, но ему от этой ноши явно не по себе, и он хочет поскорее снять с себя ответственность за нее. Что за глупости там выдумывают эти бюрократы, ругается Бейнбридж себе под нос и отсылает лимузин, прибывший из Лос-Аламоса, на несколько километров дальше, на ранчо Макдоналд, где будут собирать ядро бомбы. Туда же и Филипп Моррисон отправляет свой источник нейтронов. Бравый солдат Ричардсон наконец-то избавляется от своего чемоданчика и получает свою расписку. В получении расписывается бригадный генерал Томас Фаррелл.
Утром пятницы, тринадцатого июля, в фермерском доме за простым столом собирается группа монтажа. На столе расстелена коричневая упаковочная бумага. Окна оклеены черной изолентой, чтобы пыль внешнего мира не проникла в сердцевину бомбы. На столе лежат два поблескивающих в никелевой оболочке полушария из плутония, серебристо-серый шарик полония и отдельные части из сливово-синего металлического урана. Мужчины не спешат, они отвели себе на тщательную сборку всю первую половину дня и еще половину второй. Фаррелл не упускает случая еще раз взвесить в ладонях оба полушария: «Они были теплые на ощупь, как живые кролики». Тут и металлург Сирил Смит добирается наконец до своих злосчастных пузырьков в никелевой оболочке и закрывает сложенной золотой фольгой крошечные зазоры между полусферами. Заготовки из металлического урана составляются в единый цилиндрический палец. Теперь Смит вдвигает плутониевый шар с заключенным внутрь него источником нейтронов в предназначенную для него полость внутри пальца: «Я был последним, кто притрагивался к этому роковому теплому металлу». Бомбовое ядро весом тридцать шесть килограммов готово.
Джордж Кистяковский в Лос-Аламосе поздним вечером четверга терпеливо ждет наступления полуночи. Лишь после этого он дает сигнал к отправлению. Именно в этот день, совсем нехороший — пятница, тринадцатое — он хотел бы, назло суевериям, провезти по раздолбанным дорогам пустыни две с половиной тонны взрывчатой смеси собственного изготовления. Он больше верит в свое «бесстыжее везенье». Охраняемый конвой пробыл в пути почти двенадцать часов, когда грузовик со своим тяжким грузом произвел последний маневр прямо у стальной башни над нулевой точкой детонации. После того как чудище наконец надежно установили на деревянном помосте, Норрис Брэдбери и его группа разбили над ним легкую, прозрачную палатку, чтобы можно было — защитившись от пыли пустыни — снять верхнюю крышку корпуса. Роберт Оппенгеймер ведет наблюдение, время от времени склоняя голову, на которой, как всегда, красуется шляпа, над взрывным устройством в форме футбольного мяча полутораметрового диаметра. Время дорого, а список операций по проверке длинный, однако Бейнбридж, к всеобщему удивлению, запланировал после каждого существенного этапа сборки бомбы пятнадцатиминутную паузу, которой мог воспользоваться всякий заинтересованный на полигоне, чтобы полюбоваться продвижением работы и получить разъяснения от экспертов.
Вскоре после пятнадцати часов в палатку входят с бомбовым ядром коллеги с ранчо Макдоналд. Одна из взрывчатых линз была удалена, так что Бойс Макдэниел из группы сборки бомбы мог увидеть помещенный в середину урановый шар. В нем пустовало цилиндрическое отверстие, предназначенное для пальца с плутониевым ядром. Допуск зазора между двумя подогнанными узлами готовых частей этого паззла составляет лишь несколько сотых долей миллиметра. Но, к замешательству всех присутствующих в палатке, палец застревает в предназначенном ему гнезде на половине пути. Никто не понимает, в чем причина такой неожиданной загвоздки. Макдэниел не выдерживает нервного напряжения и выбегает вон из палатки. Горячий сухой ветер вздымает в этот момент песчаную бурю. И вдали, над горным хребтом на востоке, вспыхивают первые молнии ежедневной вечерней грозы. Одинокая башня посреди равнинного ландшафта видится ему на фоне этой грозовой кулисы гигантским громоотводом. Когда он, немного походив вокруг и поостыв, возвращается в палатку, возбужденные умы уже успокоились. Палец за это время уже просунулся немного глубже в свое гнездо внутри уранового шара. При таком обилии собравшихся физиков не пришлось долго ждать подходящего к случаю закона природы: «Продолжительное пребывание на жаре в доме на ранчо и последовавшая затем перевозка под палящим солнцем настолько разогрели палец, что он расширился и лишь тогда подошел к своему гнезду внутри более холодного шара, когда температуры обеих частей сравнялись».
В субботу утром, сразу после восьми часов палатку убирают, и бомбу Тринити при помощи электрической лебедки поднимают на дубовый помост башни. Бойс Макдэниел созерцает все происходящее. Ему становится не по себе при мысли о том, что эту фантастическую лебедку стоимостью в двадцать тысяч долларов уже скоро будет не отличить от песка пустыни. Заплатки, в спешке наклеенные на корпус бомбы и похожие на пластырь, сияют в беспощадном свете пустыни яркой белизной. Это клейкая лента, которой Брэдбери залепил отверстия для капсюлей-детонаторов. Сегодня детонаторы уже будут вставлены, как только бомбу прочно закрепят на вершине башни.
На верхней площадке башни для защиты от непогоды сооружен короб из гофрированной жести с тремя стенками. Открытая сторона направлена в сторону северного железобетонного бункера, и оттуда видно бомбу. Там, за окнами из бронированного стекла, дюжины фото- и кинокамер ориентированы на лампочку над кровлей из гофрированной жести. Людям Кистяковского придется в это утро подниматься наверх с капсюлями-детонаторами и всевозможными кабелями без своего руководителя. Ибо их руководитель только что брошен на съедение крупным хищникам Ванневару Бушу и Роберту Оппенгеймеру.
Причиной боевой тревоги послужил звонок из Лос-Аламоса. Ранним утром в каньоне взорвали «китайца». И взорвался он совсем не так, как хотелось. Имплозия этой копии бомбы Тринити без плутониевого ядра, как показала обработка замеров магнитного поля, оказалась недостаточно равномерной и была сочтена грандиозным провалом. Это убийственное известие могло означать крах испытания Тринити, а в конечном счете могло оказаться и верным знаком невозможности плутониевой бомбы. И вот все напустились на Кистяковского, на этого бедного лузера. Козла отпущения подвергли многочасовому допросу, ему пришлось претерпеть канонаду ругани, обрушенную на него. А не он ли собственной персоной был участником коммунистической революции?
Роберт Оппенгеймер сейчас бледен не меньше, чем при своем выступлении в роли мертвеца в пьесе «Мышьяк и островерхий колпачок», весит он не больше пятидесяти кило и борется с последствиями инфекционной ветрянки. Он — как почти все сотрудники — измотан до предела своих нервных и физических сил. В отчаянии от дурного известия из Лос-Аламоса он возлагает на Кистяковского личную ответственность в случае, если испытание на башне Тринити потерпит такую же неудачу, как и dry run на Месе. Кистяковский самоуверенно ставит под сомнение результаты замеров магнитного поля, которые он с самого начала рассматривал как пустую трату времени. В ответ на это его укоряют, что он ставит под сомнение уравнения Максвелла — научную основу всех магнитных и электрических явлений во Вселенной. Теперь он считается уже и еретиком. Однако Джордж Кистяковский верит в свою концепцию имплозии и в свою конструкцию линз. Он хладнокровно предлагает Оппенгеймеру пари — ставит свой месячный оклад против десяти долларов, что успешно взорвет Тринити. Оппенгеймер принимает пари.
В воскресное утро следует спасительный звонок от Ганса Бете, руководителя теоретического отдела. Он еще раз основательно проанализировал испытание «китайца» и пришел к выводу, что магнитные записи и в самом деле не имели смысла. Эксперимент проводился, по его словам, с неумелой расстановкой инструментов. Результаты измерений с таким же успехом могут быть истолкованы и как идеально симметричная имплозия. Кистяковский реабилитирован. Он с облегчением поднимается на башню и осматривает работу своей группы. Все тридцать два капсюля-детонатора привинчены к своим обоймам на поверхности бомбы. Дону Хорнигу еще осталось подключить новый X-элемент. Путаница кабелей покрывает выпуклый бок, которым бомба повернута к камерам северного бункера. Во второй половине воскресного дня Гровс, Оппенгеймер и Бейнбридж просят метеоролога из Калифорнийского технологического института Джека Хаббарда доложить метеообстановку. Обсуждение заканчивается уведомлением, что бомба будет взорвана в понедельник, шестнадцатого июля, в четыре часа утра.
Пари Кистяковского, которое тот заключил с Оппенгеймером, будучи загнанным в угол, явно подогрело и других ученых, и теперь они заключают свои «пари последней минуты» на взрывную силу «Толстяка». Оппенгеймер делает ставку на скромные триста тонн тротила, Бете — на восемь тысяч. Эдвард Теллер предсказывает сорок пять тысяч тонн тротила и тем самым взрывает масштаб ставок. Кистяковский лишь качает головой, забавляясь четырех-, а то и пятизначными числами, которые витают в воздухе. Он считает предсказания физиков об ожидаемой мощи ядерной цепной реакции преувеличенными. Его бы устроил и тот роскошный взрыв, который он наблюдал седьмого мая при испытательном подрыве ста тонн тротила. Последнюю ставку делает Исидор Раби. Для него возможна лишь опция в 18000 тонн тротила.
Энрико Ферми, кажется, недоволен простой формулировкой спора о тротиловом эквиваленте. В эти последние часы перед подрывом он снова вводит в игру вытесненные страхи лета 1942 года, когда Эдвард Теллер при его изобретении водородной бомбы выразил опасения, что новое оружие, быть может, окажется способно поджечь атмосферу Земли. И хотя вычисления Ганса Бете опровергли это допущение, сомнения все-таки догнали Ферми на финишной прямой. А не воспламенит ли бомба — так звучит его предложение для пари — земную атмосферу? И если да, то сгорит при этом только американский штат Нью-Мексико или вся планета? Может ли взрыв запустить процессы, которые основаны на доселе неизвестных законах природы? Бейнбридж приходит в ярость, а Гровс в негодование, когда они узнают о параллельном пари Ферми. Его серьезные опасения перед лицом предстоящего высвобождения атомной энергии они считают бездумной болтовней фрондера, который еще больше взвинчивает и без того напряженное состояние на испытательном полигоне. Тем не менее Гровс считает своим долгом в этот вечер позвонить губернатору штата Нью-Мексико Джону Демпсею и попросить его, чтобы он был готов объявить чрезвычайное положение на случай катастрофы.
Когда Роберт Оппенгеймер к концу воскресного дня поднимается на башню, чтобы в последний раз осмотреть свое произведение, ветер заметно крепчает. В двадцать три часа Кен Бейнбридж, Джордж Кистяковский и менеджер «обратного отсчета времени» Джозеф Маккиббен едут под моросящим дождем к нулевой точке, чтобы привести бомбу в боевую готовность. Дон Хорниг уже на башне и настраивает новый генератор, который можно будет включить через кабельные соединения из южного бункера. Этот генератор подожжет капсюли-детонаторы бомбы. Метеорологи еще заняты своими инструментами под башней. Кистяковский наверху должен в случае чего обшаривать местность поисковым прожектором. Военный полицейский с автоматом стоит начеку, поскольку генерал Гровс боится саботажа. По телефону, проведенному на башню, и по рации в джипе Бейнбридж поддерживает связь с Оппенгеймером и главным метеорологом Хаббардом.
Органы безопасности выделили Бейнбриджу собственную полосу радиочастот для связи на испытательном полигоне, но теперь руководитель испытания с ужасом обнаруживает, что коротковолновые приборы ловят тот же диапазон, который занимает товарная железнодорожная станция, расположенная в тысяче километрах отсюда, в Сан-Антонио, штат Техас: «Мы могли слышать, как они командуют маневрами своих поездов, и вполне допускали, что и железнодорожники могли нас слышать точно так же». На наблюдательном пункте Compacia Hill, удаленном от нулевой точки детонации на тридцать два километра, куда, начиная с двух часов ночи, прибывают автобусы и личные автомобили с приглашенными гостями, установлены радиоприемники, которые должны передавать обратный отсчет времени. Эта частота тоже отнюдь не эксклюзивная. Местная радиостанция всю ночь напролет передает на этой радиоволне легкую музыку.
На южный бункер и на лагерь при нем обрушилась гроза. Дождь льет как из ведра, сильные порывы ветра свищут между бараками и треплют палатки приезжих гостей. Эмилио Сегре пытается отвлечься чтением «Фальшивомонетчиков» Андре Жида, «однако меня словно пригвоздило к месту зловещим шумом, происхождение которого было для меня неясно. Поскольку шум не прекращался, я схватил карманный фонарик и вышел за дверь с Сэмом Эллисоном. Каково же было наше изумление, когда мы увидели, как многие сотни лягушек спариваются в лощине, наполнившейся дождевой водой».
Бойс Макдэниел на нулевой точке детонации видит, как вдали над лагерем вспыхивают молнии. Здесь же дождик лишь моросит, мягко шелестя по жестяной гофрированной кровле над бомбой, тем не менее Хаббард рекомендует немного отложить испытание, намеченное на четыре часа. Местность усеяна лужами. В четыре часа сорок пять минут небо над башней проясняется, кое-где становятся видны звезды, и ветер разворачивается к юго-востоку. Хаббард звонит Бейнбриджу, дает ему подробную сводку погоды и предлагает новый срок для взрыва — 5 часов 30 минут — при «сносной, хоть и не идеальной» погоде. Бейнбридж и сам бы отказался от инверсионного слоя на высоте 5700 метров, «но не такой ценой, чтобы пришлось ждать больше полусуток». Оппенгеймер, Фаррелл и Бейнбридж следуют рекомендации метеоролога. Чтобы привести бомбу в боевую готовность, Маккиббен и Бейнбридж должны переключить рубильники на двух разных щитках у нулевой точки. В самую последнюю очередь Бейнбридж включает ряд прожекторов на земле перед башней и уезжает с Маккиббеном и Кистяковским обратно, к южному бункеру. Прибыв туда, Маккиббен в пять часов девять минут и сорок пять секунд ставит реле времени на двадцать минут.
На наблюдательном пункте Compacia Hill собрались знаменитости из Лос-Аламоса: Ганс Бете, Джеймс Чедвик, Эдвард Теллер, Эрнест Лоуренс, Эдвин Макмиллан и Роберт Сербер. Ричард Фейнман уже опять предается своему любимому занятию: решает проблемы. За полчаса до взрыва выходит из строя коротковолновый передатчик. Фейнман снова приводит его в чувство. Эдвард Теллер в превосходном настроении. Судя по всему, он живет уже в новой эре. В последние полтора года он был занят главным образом теорией водородной бомбы. Поэтому во время «тротилового пари» он отпускал столько шуточек по поводу осторожных оценок коллег. Он-то догадывается, до каких масштабов дойдет взрывная сила последующих моделей. Однако в этот исторический час он являет собой образец примерного поведения и без всяких иронических замечаний втирает в лицо солнцезащитный крем, чтобы избежать ожога при взгляде на огненный шар. Некоторые из
В южном бункере Джозеф Маккиббен произносит минуты обратного отсчета, а Сэм Эллисон передает их по радио. В лагере у радиоприемника сидит Фил Моррисон и повторяет эти цифры по громкоговорителю для Гровса, Буша, Вайскопфа и безымянных солдат. За минуту до нуля небо озаряет сигнальная ракета. Приказ гласит всем лечь на живот, ногами в сторону нулевой точки, уткнувшись лицом в замкнутые по локтям руки. В лагере всем подает пример генерал Гровс. Однако Эдвард Теллер и не думает следовать этому приказу и призывает цвет науки, собравшийся в Compacia Hill, вместе с ним «взглянуть чудовищу в лицо». Он натягивает толстые рукавицы, надевает солнечные очки и берет респиратор. Такие респираторы были вручены всем гостям и дежурному персоналу.
За сорок пять секунд до взрыва Джо Маккиббен в контрольном центре южного бункера совершает сорок девятое и последнее действие из своего списка: он включает более точный таймер. Он будет автоматически передавать электронные сигналы времени на камеры и записывающие инструменты и по достижении нуля разбудит «Толстяка» на башне. Маккиббен сам сконструировал временной механизм. Колесико делает один оборот в секунду и замыкается на гонг. И вот в южном бункере звучат сорок четыре удара гонга. Рядом с Маккиббеном сидит Дон Хорниг, сосредоточив взгляд на пульте, держа пальцы на выключателе, который еще может остановить взрыв в последнее мгновение. Роберт Оппенгеймер вцепился в опору бункера, устремив напряженный взгляд вперед. Все остальные уже снаружи и лежат в предписанной позиции лицом в песок.
Знаменитые гости Compacia Hill слушают голос Сэма Эллисона из коротковолнового приемника, а до Сэма в этот момент доходит, что он, наверное, первый ученый, которому при физическом эксперименте приходится вслух считать задом наперед. В эти последние секунды до нуля местная музыкальная радиостанция передает сюиту из «Щелкунчика» Петра Чайковского.
При восклицании Эллисона «Now!» таймер Маккиббена замыкает электрическую цепь запала. И вот огромное количество электронов устремляется привычным путем по кабелю, упрятанному в садовый шланг под землей. Он соединяет контрольный пункт в южном бункере с X-генератором Дона Хорнига на башне. Тот передает свой электрический заряд на 32 капсюля-детонатора, закрепленные на стальном кожухе «Толстяка». Они взрываются синхронно в пятнадцатимиллионную долю секунды. Детонационные волны несутся через быстро реагирующую наружную оболочку взрывчатки. Это «композиция В» из расплава тротила, суспензии парафина и высокобризантного кристаллического порошка. Затем они натыкаются на «взрывную сердцевину» Джорджа Кистяковского из некогда униженного Черчиллем баратола. Она затормаживает первую волну, пока все последующие волны не догонят ее. И вот единая шарообразная ударная волна проникает во второй блок с «композицией В», умножая при этом свою силу. Урановый шар сглаживает последние неровности ударной волны на ее пути к плутониевому ядру. Ядро сжимает со всех сторон так, что оно коллабирует и уплотняется до размеров камешка.
Под звуки сюиты из «Щелкунчика» Чайковского детонационная волна захлестывает источник нейтронов размером с лесной орех. Полоний, открытый Марией Кюри, испускает альфа-частицы, которые, в свою очередь, высвобождают из атомов бериллия пригоршню нейтронов. Те мчатся в плутониевый шарик — в сверхплотный комочек материи, плотнее не бывает на земле — и вызывают цепную реакцию. Расщепление ядер продолжают более восьмидесяти поколений нейтронов. Выделяющаяся при этом энергия разжигает чудовищный жар. За миллионную долю секунды температура в центре «Толстяка» вырастает до десяти миллионов градусов Цельсия — как внутри Солнца.
При взрыве Джо Маккиббен так и сидит, уставившись на свой счетчик времени. Он освещен софитом, поскольку кинокамера записывает и то, что происходит за пультом управления. Но во внезапной тишине, наступившей за последним ударом гонга в пять часов, двадцать девять минут и сорок пять секунд, что-то не так, как раньше. Это через открытую заднюю дверь бункера ворвался другой свет, если только эту невиданно ослепительную яркость вообще можно назвать светом. Она затопляет бункер и заливает инструменты перед глазами Маккиббена доселе не виданной белизной, которая просто заглатывает контуры всех предметов в поле его зрения. В молнии нового света испарилась и дубовая платформа, и стальная башня вместе с ней. Молния, собственно, является целой чередой молний, следующих одна за другой слишком быстро, чтобы можно было их различить.
Ричард Фейнман в Compacia Hill знает, что расчеты Ганса Бете допускают силу света этой молнии в десять солнц. Взглянув на этот свет незащищенным глазом, можно временно ослепнуть. И все же он пренебрегает темными очками сварщика. Он считает эти меры предосторожности избыточными. Его не страшит световая сила молнии, вспыхнувшей в тридцати километрах отсюда. Куда больше он опасается перспективы «ни черта не увидеть сквозь эти стекла». Фейнман достаточно упрям, чтобы рискнуть и глянуть на происходящее незащищенным глазом — в отличие от Эдварда Теллера, который всем навязывал свой солнцезащитный крем. Фейнман подумал и пришел к заключению, что его глазам может повредить только ультрафиолетовый свет. Поскольку бронированное стекло окон экранирует ультрафиолетовые лучи, он занимает место в кабине грузовика: «Когда грянул взрыв, эта дурацкая молния оказалась такой слепяще-яркой, что я инстинктивно пригнулся и увидел на полу машины фиолетовое пятно. Я подумал: должно быть, это остаточное изображение на сетчатке. И вот я снова выпрямляюсь и вижу этот белый свет, который превращается в желтый и потом в оранжевый... Наверное, я единственный, кто видел эту проклятую штуку невооруженным глазом». Инструменты в южном бункере фиксируют силу света в двадцать солнц, которая держится две секунды.
Свет «свирепо набрасывается на тебя; он проницает тебя насквозь. Это была не та картина, которую просто видишь, нет, она выжигалась в тебе навечно. Хотелось, чтобы это скорее кончилось...», — описывает Исидор Айзек Раби свои ощущения в лагере, удаленном от нулевой точки на шестнадцать километров. Неподалеку от Раби в песке лежит Фил Моррисон, косясь сквозь черные очки в сторону нулевого пункта, и чувствует «слепящий жар» на лице, «как будто открыл раскаленную печь». Как и Фейнман, он тоже поначалу видит лучистое фиолетовое свечение, которое объясняет себе как рефлексы взрыва от земли и всего окружающего. Только потом он наблюдает через сварочные очки светящийся яркой белизной круг там, где только что стояла башня. Кен Бейнбридж напуган «неожиданной силой жара на моем затылке». Благодаря горизонтальной трещине в защитном стекле Джек Эби, ассистент Эмилио Сегре, поневоле видит молнию невооруженным глазом. Резкая белая линия в поле его зрения на мгновение сводит его с ума.
В Compacia Hill одна родственная душа Фейнмана тоже исполнена отваги наблюдать взрыв бомбы без защитной маски. Роберт Сербер, изобретатель прозвища «Толстяк» для имплозионной бомбы, видит еще до грандиозной белой вспышки «желтый жар». Его глазам потребовалось полминуты, чтобы оправиться от этого шока. Это световое шоу разворачивается в полной тишине.
На крыше северного бункера стоит Берлин Брикснер. Тридцатичетырехлетний фотолаборант сделал в Лос-Аламосе беспримерную карьеру. Для сегодняшнего события он разработал специальную бронированную высокоскоростную камеру, которая в секунду протягивает тридцать метров пленки. Он официальный фотограф и оператор испытания Тринити, и в его распоряжении пятьдесят пять кинокамер и фотоаппаратов. Они стоят за круглыми бронированными иллюминаторами северного бункера. А здесь, наверху, на крыше бункера он установил свой «Митчелл», большую 35-миллиметровую кинокамеру, с какими работают и знаменитые режиссеры в Голливуде. «Митчелл» водружен на пулеметную подставку вместо штатива. Эта камера — как и все остальные — включается от таймера Джо Маккиббена. Физики теоретического отдела предупреждали его, что в такой опасной близости к башне радиоактивное излучение может затуманить его пленки, а то и вовсе засветить. Поэтому группа Брикснера оснастила два необитаемых железобетонных бункера всего в восьмистах метрах от башни свинцовым стеклом толщиной тридцать сантиметров. Камеры, установленные за тем стеклом, тоже получают сигналы от таймера Маккиббена из южного бункера. Все аппараты рассчитаны на свет в десять солнц.
Брикснер — единственный наблюдатель, получивший разрешение смотреть прямо на вспышку сквозь сварочное стекло. «Митчелл» включился за тридцать секунд до нуля. Брикснер держит руку на поворотной рукояти. Но тут же цепенеет, ошеломленный: «Весь фильтр светится как солнце, и я ослеп. Я отвернулся в сторону. Горы Оскара сияли, словно ясный день. Завороженный, я смотрел, как поднимается этот невероятный огненный шар... пока до меня не дошло: ты же фотограф. Ты должен это зафиксировать». Брикснер дергает поворотную рукоять «Митчелла» вверх и еще успевает с легким опозданием захватить этот спектакль в цветном изображении «текниколор». Черно-белые же камеры за свинцовым стеклом зафиксировали на пленке каждую миллисекунду.
Вспышка превращается в ослепительное желтое полушарие прямо над поверхностью пустыни — «как взошедшее наполовину солнце, разве что раза в два больше». Достигнув максимального диаметра в восемьсот метров, это солнце оставляет позади себя кратер. Змеи, суслики, ящерицы, лягушки — все живое стерто с лица земли. Земля кипит так, что вокруг светящегося полушария вздымается темная корона из сокрушенной в прах материи. Полушарие угрожающе отрывается от земли и превращается в огненный шар. Несколько сотен тонн песка испаряется. Материя всасывается внутрь шара, бурно перемешивается с радиоактивными частицами и затем снова изрыгается комьями никогда доселе не виданного зеленоватого и слегка лучистого стекла.
Эмилио Сегре и его ассистент Джек Эби должны зафиксировать излучение продуктов ядерного расщепления. К потере двух приборов Сегре был готов еще тогда, когда закреплял их на аэростате заграждения всего в полукилометре от нулевого пункта. В течение одной миллисекунды они еще успевают передать некоторые данные на главный пульт в южный бункер по проводу с двойной экранировкой, прежде чем испарятся в атомной вспышке.
Через полминуты после взрыва огненный шар все еще слишком ярок, чтобы наблюдать его подъем невооруженным глазом, сообщает Эдвин Макмиллан, находившийся в Compacia Hill. Сооткрыватель плутония оценивает размеры шара, зависшего на высоте около шести тысяч метров, в полтора километра. Задымление усиливается, и от этого черно-красный шар постепенно бледнеет, зато в игру вступает «чрезвычайно примечательный эффект»: вся поверхность шара секунд пять светится в синих и фиолетовых тонах. Виктор Вайскопф, находящийся в лагере, объясняет это явление тем, что «облако отдает в воздух гамма-излучение». Процесс расщепления ядер высвобождает, по приблизительным расчетам, триста шестьдесят радиоактивных изотопов, которые борются в облаке за свое краткосрочное существование. Вайскопф оценивает величину радиоактивности на этот момент «в тысячу миллиардов кюри». Эта чудовищная активность распада, должно быть, и вызвала явления синего свечения. Один кюри — это излучение, которое дает один грамм радия. В утренних сумерках этого летнего дня в пустынном воздухе Нью-Мексико мечутся в ураганном вихре продукты расщепления, которые соответствуют активности миллиона тонн чистого радия.
Между тем огненный шар становится облаком чада, которое с землей соединяет толстый темно-коричневый столб дыма. Макмиллану эта фигура напоминает бокал. Луис Альварес, ответственный за высокоточные капсюли-детонаторы бомбы Тринити, смотрит на весь этот спектакль сверху. Он стоит на коленях в кабине бомбардировщика В-29 между первым и вторым пилотами. Бомбардировщик пролетает на высоте в восемь тысяч метров. Из его перспективы шар вновь приобретает полукруглую форму и становится похож на «надутый ветром парашют». Когда Альваресу удается заглянуть в дыру в его куполе, он видит могучий ствол из коричневого дыма и пыли, который соединяет «парашют» с землей. По всему его куполу расходятся темные линии. Вначале они напоминают Альваресу «меридианы, которые сбегают от полюса к экватору». Однако их можно было трактовать и как пластины под шляпкой гриба. Так он и написал: «Эта фигура уж очень походила на гигантский гриб».
Джорджа Кистяковского обратный отсчет времени застает в утренних сумерках на крыше южного бункера. Профессор химии хоть и уверен, что его взрывные линзы сработают безукоризненно, но он никак не ожидает эффекта, намного превышающего тот, что был седьмого мая при взрыве ста тонн тротила. Тем больше он захвачен масштабом происходящего и не может оторваться от зрелища света «ста солнц» над пустыней. Он настолько поглощен созерцанием облака-гриба, что воздушная ударная волна, налетевшая через тридцать секунд после вспышки, застала его врасплох и сбила с ног.
Всего в нескольких метрах от него стоит Франк Оппенгеймер рядом со своим братом Робертом. Первые слова брата после взрыва Франк не запомнил. Но ему кажется, что они наперебой заверяли друг друга: «Сработало! Сработало!».
Теперь в дело вступает грохот взрыва: «Он налетел на скалы и продолжал раскатываться дальше — уж не знаю, на что он там еще натыкался. Но казалось, это никогда не прекратится... Это был очень устрашающий момент...».
После минуты немого удивления некоторые наблюдатели южного бункера на радостях пускаются в пляс. Напряжение сменяется облегчением. Оппенгеймера осыпают поздравлениями. Сбитый с ног Кистяковский уже снова поднялся, подошел к Роберту Оппенгеймеру, похлопал его по плечу и напомнил: «Оппи, вы должны мне десять долларов».
Энрико Ферми в лагере подготовился к ударной волне и ждал ее с нарезанной бумагой в кармане и с неизменной логарифмической линейкой в руках. Кеннет Грейсен, который закреплял на бомбе капсюли-детонаторы, видит, как над землей скользят, расходясь концентрическими кругами, желтые светящиеся облака. Они медленно надвигаются на лагерь. С двухметровой высоты Ферми бросает в воздух свои бумажные обрезки — до, во время и после прохождения ударных волн. Поскольку ветра в это время нет, то по дистанции между захваченными ударной волной бумажками и теми, что были брошены раньше, можно будет заключить о взрывной силе бомбы. Однако этот кустарный метод, похоже, следовало проработать лучше. Полученный результат в десять тысяч тонн тротила заметно отличается от полученных позднее, уточненных 18 600 тонн. Бомба оказалась намного сильнее, чем ожидало большинство физиков. Исидор Айзек Раби срывает джекпот своей последней ставкой в пари в восемнадцать тысяч тонн. Через восемь минут атомный гриб дорос уже до высоты тринадцать километров, и ветер постепенно разрушает его симметричную структуру. Фил Моррисон наблюдает распад гриба на три отдельных облака. Среднее поворачивает в сторону севера и движется к бункеру, в котором установлены камеры Брикснера. Официальный фотограф Тринити первым замечает новую угрозу, которая исходит из развязанной атомной энергии, а именно выпадение радиоактивных осадков: «Я глянул вверх и заметил красноватую пелену; похоже, она опускалась на нас». Генри Барнетт, военный врач медсанчасти и ответственный северного бункера за контроль над излучением, регистрирует рост значений на своем измерительном приборе и отдает распоряжение на всякий случай тут же всем эвакуироваться. На Брикснера тревога Барнетта не произвела впечатления. Он садится в джип лишь после того, как в него погружены все камеры. На других пунктах наблюдения тревогу не поднимали. Благоприятное направление ветра гонит облака с их невероятно высокой активностью распада дальше в тропосферу, при этом излучение убывает пропорционально квадрату расстояния. Дрейф облаков обеспечивает довольно тонкое распределение осадка радиоактивных частиц, приставших к пылинкам, по территории в несколько тысяч квадратных километров. Контролеры излучения Джон Маги и Джозеф Хиршфельдер едут на своем джипе вслед за радиоактивным облаком и в придорожном магазинчике в двадцати пяти километрах севернее нулевой точки получают первый отклик на случившееся от ни о чем не ведающего населения: «Ну что, ребята, провернули нынче дельце, а? — сказали им вместо приветствия. — Солнце взошло на западе, но что-то быстро закатилось». Тем, кто живет в этой малонаселенной местности — в городках Сан-Антонио и Сокорро, в Кафф-Карризозо или на уединенной ферме, — хорошо известно, что в закрытой военной зоне Хорнады в последнее время царило бурное оживление. Один фермер даже работал сварщиком в зоне на строительстве башни Тринити и неплохо заработал. Но смысла его работы ему так никто и не объяснил. Тяжелогрузный транспорт и заметный наплыв армейских лимузинов в выходные стали темой обсуждений в магазинах, барах и у садовых оград. Но, несмотря на любопытство, вопросов здесь никто не задает. Американские войска еще воюют. Япония пока что не побеждена.
Деревенский дурачок из Карризозо шел по улице, увидел в утренних сумерках небесное явление и принялся вопить о нападении японцев с воздуха. Другие жители подумали кто про землетрясение, кто про падение метеорита или про рухнувший бомбардировщик В-29, когда со столов падала посуда и лопались стекла в окнах. Что бы там ни взорвали сегодня ребята, а те, кто в эту рань уже был на ногах или внезапно проснулся от сильного свечения, уже никогда не забудут этот момент. Фермеры-скотоводы рассказывали о том, как лошади пускались наутек. То чабан, то работник фермы, то отец, собравшийся со своим сыном с утра пораньше ехать в Санта-Фе, то несколько путников, ехавших по ближнему шоссе, подтверждают историю, которую Эд Лэйн рассказал репортеру из местной газеты. Эд — машинист тепловоза железнодорожной компании Санта-Фе, и в половине шестого он вел свой товарный поезд из Альбукерка, штат Нью-Мексико, в Эль-Пасо, штат Техас, «и тут мне показалось, что солнце ни с того ни с сего вдруг вырвалось из темноты. Я увидел мощную вспышку. За ней последовал яркий красный свет, а в это время в небе клубились три гигантских кольца дыма, как будто их закрутила могучая сила».
В первых лучах солнца экскурсия Энрико Ферми в облученную зону закончилась после первого же километра. Его танк просто встал. Пришлось ему и его водителю возвращаться в лагерь пешком. Герберту Андерсону повезло больше. Ближайший сотрудник Ферми и руководитель эксперимента по первой цепной реакции на американской земле, добрался до самого центра взрыва. Его танк «шерман» дополнительно заэкранирован листами свинца, что оказалось дальновидной мерой, ибо излучение здесь существенно выше, чем ожидалось по прогнозам. Измерительные приборы зашкаливают. Они не могут показать фактическое значение излучения. Для того чтобы взять пробы почвы, Андерсону не надо покидать его свинцовую крепость. Он может сделать это при помощи манипулятора, установленного на танке. После этого он велит водителю подъехать к краю кратера. Глубина кратера от трех до восьми метров, диаметр четыреста метров, и он весь покрыт коркой из зеленого стекла. Лишь кое-где из бетонного фундамента торчат искореженные остатки стальной арматуры — единственное напоминание об испарившейся башне Тринити.
Уильям Лоуренс — репортер газеты
Кеннет Бейнбридж говорит об «ужасном и подавляющем зрелище». Между тем и он пожал руку Роберту Оппенгеймеру, поздравляя его. Бессчетное число раз за последнее время руководитель испытания Бейнбридж думал о слабых местах, за которые он в случае неудачи эксперимента понес бы ответственность. Какую еще недокрученную гайку он мог проглядеть? Где в случае ливня могло бы случиться короткое замыкание? Какую электронную схему он забыл включить? И что сказал бы на это Трумэн в Потсдаме? Все эти мучительные вопросы стали теперь беспредметными. Огромный груз свалился у Бейнбриджа с плеч. Правда, к радости и облегчению от удачного испытания примешиваются недобрые предчувствия, когда он смотрит Оппенгеймеру в глаза и говорит: «Все мы после этого сукины дети».
В первую очередь я хотел бы сердечно поблагодарить моих первых читателей. Их энтузиазм и инициатива сопровождали возникновение этой книги. Альфред Мюллер, д-р Фалько Кунке, Фолькер Печик, Гизела Оттмер и Эрвин Оттмер критически просматривали черновую рукопись — главу за главой — и открывали для меня новый угол зрения. Если в моем рассказе и встретятся ошибки, то все они на моей совести.
Я благодарен также сотрудникам издательства «Ровольт», прежде всего Уве Науманну, который помог мне найти интонацию рассказа об этой особой главе научной истории. Мне было нетрудно исполнить его пожелание лить как можно меньше «тяжелой воды».
Когда мой редактор Хайнер Хёфенер начал работать над текстом, его остроумные комментарии и толковые подсказки напомнили мне об одном высказывании физика Фримена Дайсона, который, пожалуй, имел сходный с Робертом Оппенгеймером опыт: «Оппенгеймер всегда умел продемонстрировать человеку, что бы тот сказал, будь он так же находчив, как сам Оппенгеймер».
Моя особенная благодарность относится к спутнице моей жизни Анне Пфайфер. Ее совет и ободрение сопровождали работу над книгой и подгоняли вперед. Они давали мне силы для ее завершения.