Михаил Лобанов
Аксаков
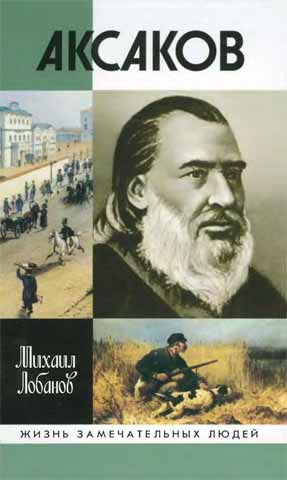
Перед автором, взявшимся писать о С. Т. Аксакове, существует ряд объективных трудностей. Во-первых, Сергей Тимофеевич сам рассказал о событиях своей жизни, о знакомстве с известными современниками, прежде всего с Гоголем, в своих книгах, и биограф не может здесь соревноваться с ним. Во-вторых, творец образа своей семьи в книгах, Сергей Тимофеевич сам был в жизни создателем семьи, производившей неизгладимое впечатление на всех, кому доводилось знать ее, оставившей яркий след в идейной жизни эпохи.
Собственно, и жизнь его была сосредоточена вокруг двух начал: семьи (созидание ее) и его преимущественно автобиографических книг. Сам факт создания такой семьи понуждает биографа как бы продолжить «семейную хронику»: не соревнуясь, конечно, с великим образцом, — и эта книга есть посильное продолжение ее на примере Аксаковых-младших, прежде всего братьев Константина и Ивана. Поскольку Сергея Тимофеевича невозможно представить вне семьи, то все происходившее в ней, необычайно широкий круг интересов, которым жили младшие Аксаковы, отзвуки общественных споров в их разговорах касались прямым образом и старика Аксакова, и его участие в этом чувствуется постоянно, хотя он вроде бы и не всегда присутствует. Таким образом, жизнь младших Аксаковых (чему, по понятным причинам, не мог уделить подробного внимания автор «Семейной хроники») необходимо дополняет и обогащает жизнь их отца.
Деревня Аксаково — в двадцати пяти верстах от уездного города Бугуруслана Оренбургской губернии. Здесь, на этой «прекрасной родине», как называл Аксаково сам Сергей Тимофеевич, прошли его детские и отроческие годы, сюда приезжал он на вакации, когда учился в Казанской гимназии, а затем в Казанском университете. И сюда же после двадцатилетнего перерыва приехал в 1816 году двадцатипятилетним, уже женатым человеком, вступившим в новую полосу жизни. И минуло с тех пор пять лет. Это было счастливое для него время, дарившее ему ту полноту наслаждения земными благами, которую можно пожелать любому смертному. О литературе не было еще и тени помышлений. Пройдет три с лишним десятка лет, прежде чем он отведает вкус запоздалого, возбуждающего, глубоко примирительного писательства и неожиданных всеобщих похвал, хотя и приятных, но не тешивших его особенно, ибо не для молодого вина славы ветхий сосуд.
Все это в далеком будущем, а в настоящем была мирная, безмятежная, казалось, жизнь.
Да, если и есть блаженство на земле, то его переживал Сергей Тимофеевич, семейный человек, в своем родном Аксакове. Сколько раз уезжал, возвращался он в Аксаково, и каждый раз это была почти безумная радость встречи. И так с самого детства, с тех пор, как родители впервые привезли его в деревню из Уфы, где он родился (20 сентября 1791 года). Особенно памятно ему то волнение, с каким въезжал в Аксаково вместе с матерью, забравшей его, больного, из Казанской гимназии. Беспрестанно спрашивал кучера, скоро ли будет видно деревню. И вот наконец тот сказал, наклонясь к переднему окошку: «Вот наше Аксаково, как на ладонке». Мальчика точно сорвало с места, но из окошка мало что можно было увидеть, и он так горячо стал просить мать, чтобы она позволила ему сесть рядом с кучером, что отказать было невозможно. Сердце его так и забилось, когда сверху увидел лежащее в долине Аксаково с огромным прудом, заросшим по краям камышом, мельницей, длинным рядом изб, домом, высокими березовыми рощами, — все это открылось с крутой горы действительно как на ладони, в четких подробностях. Дыхание его захватило, ему на миг показалось, что он упадет, и он крепче уцепился за ручку козел. Карета, притормозив на крутом спуске, покатилась по длинной пологой дороге, прогремела по мостку через Бугуруслан, сбавила вдруг ход, увязая в топи, но вырвалась единым порывом сильных коней и понеслась мимо камышового берега пруда, травянистой плотины, изб и вскоре остановилась около дома.
С крыльца сходил отец, улыбаясь своей мягкой, доброй улыбкой; бежала сестрица, звонко крича: «Братец Сереженька на козлах!» Другая, крохотная, сестрица была на руках кормилицы, а маленького братца вывела девка, взбудораженная приездом. Сколько было радости, объятий, поцелуев, ведь в сборе была вся семья, и каждый сознательно или бессознательно был счастлив ее полнотою! К крыльцу подходили крестьяне, приветливо здоровались, сбились в кучу ребятишки. Снова он в деревне. А сколько радостей ждало его впереди! Начались дни, полные самозабвения и страстной детской деятельности. Прежде всего его ждали любимые места. Ему не терпелось поскорее побывать на острове, окруженном с двух сторон старицей Бугуруслана, для этого надо было перейти по жердочкам через старицу, — и вот он на острове. Это совсем недалеко от дома, менее версты, но какая здесь глушь, какая прохлада, как хорошо здесь летним полднем! Кругом вода, можно часами смотреть, как гуляют или неподвижно стоят в старице голавли, язи. Ему любо постоять у каждого дерева, оглядеть его, он знает, что все это посажено его дедушкой — березы на берегу реки, липовая аллея посредине острова.
Наглядевшись и налюбовавшись вволю всем, что было на острове, он, как всегда, побежал на пруд. И когда взбежал на плотину, то оцепенел от восторга, увидя все ему знакомое и родное: широкую водную гладь пруда с кустами, зелеными камышами и лопухами у берега, с притаившейся в них крупной рыбой; вешняк (тотчас вспомнилось, как через эти ворота в плотине спускали вешнюю воду); мельницу с амбаром. Отовсюду неслись птичий свист, писк, чириканье, щебетанье, даже над самым ухом с молодой ольхи, росшей здесь, на плотине. Вдали, за водным простором, виднелась Челяевская гора, как будто глядевшая на него своими красноватыми выпуклыми утесами.
А потом он забежал в кузницу, где любил смотреть, как старый кузнец, вынув из печи раскаленное железо, начинал бить по нему молотом, из-под которого во все стороны летели, сыпались искры. Ну как было не забежать на Антошкины мостки, где он часто лавливал удочкой пескарей! И вся местность вокруг была не просто землей с реками, а что ни на есть родственная, поименованная на каждом шагу, как дети в большой семье. Через два дня с ним поехал отец в Антошкин враг (овраг). Отец страстно любил природу и сам не менее сына желал этого путешествия. Они поднялись со дна оврага на самую вершину горы и с одинаковым наслаждением оба долго смотрели на сильный родник, падавший вниз пенистой пылью. Потом ездили в Колоду — по названию тех липовых колод, по которым бежал родник; чьи-то разумные крестьянские руки оставили по себе память и этими колодами, и самим названием места, которое переживет их. В Морозовском враге не надо было подниматься на гору, чтобы увидеть ключ: он выбивался из каменной трещины у самой подошвы горы. Съездили они и в Липовый колок — так назывался лесок, маленькая рощица, оттуда в Потаенный колок, от которого недалеко было и до пчельника. Старый пчеляк, которого они застали в землянке, где он жил, повел их к ульям, угостил вырезанными прямо из рам душистыми сотами. Но еще до этого, на другой день по приезде, они ходили удить в Малую и Большую Урему. Он готов был днями пропадать на Бугуруслане, протекавшем «углом» по всему саду, сразу же за домом, знал «золотые местечки» на реке, которые ему показал дядька Евсеич, щучьи места в травах на пруду, где они с мельником закидывали жерлицы, а потом вынимали их. Первой же мыслью, как только он просыпался, была мысль об уженье. Скоро он уже бежал с удочкой на реку. Он терпеливо следил за камышовым поплавком, забывая себя и все на свете, но боже! что с ним было, когда поплавок, шевельнувшись и привстав, вдруг нырял, исчезал в воде; он подсекал, чувствуя, как тяжело заходила, сгибая удилище, упираясь в воде, крупная рыба, — и вот, вытащенный на берег, запрыгал на траве горбоватый, с остроиглистым гребнем, большим раскрытым ртом окунь. Маленький рыбак дрожал как в лихорадке. Сколько было дома рассказов о пойманных и сорвавшихся с крючка рыбах, какие из них как клюют и в какое время, в каких местах лучше, на какую наживу он поймал язя. Мать, не любившая уженье, слушала равнодушно, даже с неудовольствием, видя в этом азартном занятии вредность для здоровья сына, отец же понимал вполне начинающего рыбака.
Скоро пришел черед и другой страсти Сережи Аксакова — ружейной охоты. Однажды отец взял сына с собою на охоту, ружья ему он и в руки не дал, а заставил его бегать за убитой дичью, но и эта роль — легавой собаки — пришлась по душе мальчику, которого захватила стрельба по летящим и сидящим птицам. Позднее, спустя три года, когда он приехал на летние вакации, сделанный им первый ружейный выстрел в ворону решил его судьбу, как он сам впоследствии говорил: он сделался страстным ружейным охотником. Теперь уже не с удочкой, а с ружьем (легоньким, приготовленным отцом) пропадал он на реке и в поле, подкрадываясь из-за кустов к какому-нибудь овражку, куда опустилась кряква, к камышу, за которым по воде плавала утка; стреляя влет на летевшего навстречу речного кулика. Как-то незамеченным подошел он близко к стайке куличков-воробьев, прозванных так по сходству с обыкновенными воробьями; крохотные эти миловидные птички так беззаботно бегали по берегу пруда, доставая из грязи корм, а потом, скучившись, мирно отдыхали, что наш охотник при всей своей горячности не мог стрелять и ушел, оставив их в покое.
В таких увлечениях проходило лето. И к великой радости матери и отца, всего дома мало-помалу исчезли опасения за его здоровье. А причины для такого опасения были накануне серьезны. В Казани, где он учился, в гимназии, с ним начались болезненные приступы, обычно происходившие от внезапно возникавшего воспоминания о чем-либо из прошедшей его жизни. Достаточно было ему увидеть и услышать воркующего голубя, как в памяти его в одно мгновение представлялась деревенская голубятня, на которую любил лазить, и потрясенные его нервы не выдерживали, он впадал в беспамятство. А болезнь до того напугала его мать, что она быстро добилась увольнения сына на год из гимназии и вместе с ним приехала в деревню, где, надеялась, он только и может выздороветь. Но и здесь, в деревне, приступы стали повторяться, к ужасу родителей, особенно матери; не помогало никакое лекарство, пока не обратились к «росным каплям», облегчившим болезнь, а вскоре и положившим ей конец. Но кто знает, может быть, не последнюю роль в его выздоровлении сыграла и природа, в которую самозабвенно окунулся мальчик, забыв свои хвори и детские неприятности. Сам же Сергей Тимофеевич на склоне лет назовет природу «целителем» телесных и душевных недугов человека, не забыв, видимо, при этом и своего выздоровления в детстве. Но и, конечно, семья; само возвращение в семейство казалось мальчику «блаженством недостижимым».
Между тем выздоровевший маленький рыбак и стрелок не довольствовался только охотой, а завел две тетрадки из толстой синей бумаги, где детским слогом описывал тех зверьков, птичек и рыбок, с которыми он познакомился: зайчика, белку, болотного кулика, куличка-зуйка, неизвестного куличка, плотичку, пескаря. То, что он наблюдал, ему казалось никому не известным открытием, которое должны знать другие. В этих описаниях мальчика-наблюдателя как бы уже готовился будущий автор «Записок об ужении рыбы» и «Записок ружейного охотника Оренбургской губернии».
Так было когда-то в детстве, но с тех пор прошло много времени, и в памяти его, уже семейного человека, теснятся не только впечатления детских лет, картины природы, но и петербургские встречи со знаменитыми людьми. Пока литература для него — хранящееся «благоговейно в памяти знакомство» с некоторыми ее тогдашними корифеями. Да и знакомство это было довольно своеобразным. Дело в том, что с юности он был страстным декламатором, любил читать стихи, монологи, сцены из пьес. Еще в Казани все, как он полагал, были в восхищении от его декламации.
И, переехав после окончания Казанского университета в Петербург, поступив в 1808 году служить переводчиком (с французского) в Комиссию составления законов, он, казалось, только и ждал случая, чтобы дать волю своему пылкому словоизвержению. Повод для этого скоро представился. На службе Аксаков сошелся с племянником Александра Семеновича Шишкова, который и представил его знаменитому дяде. Имя достопочтенного адмирала, известного писателя по ученой морской части, было не ново для восемнадцатилетнего юноши и даже имело к нему прямое отношение: студентом Аксаков прочитал шишковскую книгу «Рассуждение о старом и новом слоге», которая совершенно свела его с ума и рассорила как «старовера» с товарищами, считавшими себя противниками Шишкова.
Первая же встреча с Шишковым в его домашнем кабинете началась с того, что хозяин с ходу, не разглядев как следует гостя, открыл книгу современного стихотворца и начал читать, сначала тихо, с каким-то бормотанием, но потом все более явственно, чисто, одушевляясь, с внутренней силою и теплотою, жестикулируя иногда коротко правой рукой. Нередко он прерывал чтение и восклицал: «Какое великолепие! Какая красота! Какое знание языка славянского, то есть русского!» Он останавливался на понравившемся ему стихе, описании, спорил с воображаемыми хулителями читаемой им поэмы, которые не способны оценить красот выражения стихов («и немудрено: они не смыслят корня русского языка, то есть славянского»). Два часа читал поэму увлекшийся хозяин вперемежку со своими замечаниями и рассуждениями, пока жена не напомнила резко, что ему давно пора в Адмиралтейство, где его ждут.
Скоро молодой человек стал желанным гостем в доме Шишкова. После обеда обычно хозяин просил своего внимательного слушателя пожаловать в кабинет и отводил душу в любимых рассуждениях о языке, русском как славянском, и наоборот, о языке славянском как русском, о красотах Священного писания, о русских народных песнях; доставалось и карамзинской школе за порчу ею русского языка…
Здесь-то и нелишне будет сказать о знаменитом «корнесловии» Шишкова, о его редкой по энергии и трудолюбию этимологической деятельности. Этимология, другими словами и есть корнесловие, учение об образовании из одного слова другого. О, это был тот клад для Александра Семеновича, который в его глазах не сравним ни с какими сокровищами на земле. И в разыскании древа, родословной слов было для него большее удовлетворение, нежели в его ученых, всеми признанных заслугах по морской части. Это был для него, адмирала, океан более безбрежный, чем морские просторы. Всю жизнь был верен Шишков своему «корнесловию» и в описываемое время, и в последующее, когда он станет государственным секретарем, составителем царских манифестов и обращений к народу во время войны с Наполеоном, а затем президентом Российской академии, министром народного просвещения. Рассказывали, что он мог толковать то или иное слово и на поле брани, и на заседании Государственного совета. А Российская академия при нем вся «окорнесловится» в своих ученых изданиях — «Известиях», как бы потонет в этимологии, главным производителем которой и будет сам Александр Семенович. Впоследствии в своих «Воспоминаниях об Александре Семеновиче Шишкове» С. Т. Аксаков с удивлением заметит, что исписанных Шишковым книг и бумаг, находившихся в его кабинете, «нельзя было увезти на одном возу». Сыном Сергея Тимофеевича после смерти Шишкова случайно будут куплены на рынке две его рукописи по «корнесловию» — малая часть оставленных им этимологических сочинений.
Критики Александра Семеновича называли его изыскания ненаучными домыслами, фантазией. Надо признать, что повод к этому подавал сам Шишков; практически знавший многие европейские языки, он твердил всегда и повсюду, что все языки мира связаны между собою тем, что идут от общего прародителя — языка славянского, то есть русского. Такой размах вряд ли мог оправдать себя даже и с учетом любви к отечественному слову. Были основания, чтобы сделать притчей во языцех «корнесловие», словопроизводство Шишкова. Вместе с тем были положительные отзывы о его трудах, например, известных ученых славянских стран, а великий русский языковед А. X. Востоков писал Шишкову: «Я с удовольствием и пользою для себя читаю в Известиях Академии глубокие исследования вашего превосходительства по части словопроизводства».
Отвлекаясь от непосредственных аксаковских воспоминаний, уместно заметить, что и современные советские языковеды, отмечая крайности «корнесловия» Шишкова, воздают должное его этимологическим исследованиям, в том числе в известном «Словаре Академии Российской». История происхождения многих слов, предложенная Шишковым, была таким же образом определена и в последующих этимологических словарях. Те же советские авторы как бы даже с удивлением обнаруживали, что больше всего литературных примеров (более ста) приводится в «Словаре Академии Российской» из произведений Пушкина. И это в то время, когда литературные староверы считали дерзостью ставить Пушкина в один ряд с Херасковым и другими тогдашними классиками. Да и сам Шишков говорил, как бы уточняя свое отношение к «новому»: «Хотя я не против хорошего нового, однако же не всякое новое, ставшее недавно употребительным, почитаю хорошим».
В доме Шишкова Сергей Аксаков блеснул своим сценическим талантом, который в нем проявился, как уже говорилось, еще в Казани, где он учился в гимназии и университете. Спектакли в шишковском доме навсегда остались в памяти Аксакова. Да и как можно было их забыть, когда на них бывал почетный гость Шишковых — Михаил Илларионович Кутузов, будущий светлейший князь Смоленский, победитель Наполеона. Кутузов заметил юного Аксакова как актера. А жена его, женщина умная и образованная, страстная любительница театра, осыпала похвалами молодого человека и изъявила искреннее сожаление, что как дворянину ему невозможно будет развивать свой талант на публичной сцене, чем несколько утешила его самолюбие.
Поначалу безмолвный слушатель, ловивший каждое слово хозяина, не спускавший с него глаз, гость постепенно стал осваиваться со своим положением, входить в роль собеседника, позволяя себе порою вставлять замечания в стариковские рассуждения, а иногда даже возражать, так что Александр Семенович, ничтоже сумняшеся, принял это как бы в поощрение своего полемического опекунства. Выслушав возражение, он милостиво признавал нередко правду его, хотя и одностороннюю, тут же начинал оспаривать его и в заключение брал тетрадь и записывал: «Такое-то возражение нужно хорошенько объяснить и опровергнуть». Все эти разговоры и записи не остались втуне. Впоследствии Шишков напечатал свои «Разговоры о словесности», которые ведут между собой два лица: Аз и Буки. Читая их, Аксаков узнавал себя под буквою Аз, и «весьма часто с невыгодной стороны», как он сам признавался.
Настало время Сергею Тимофеевичу блеснуть и своей декламацией, как тогда называлось чтение. Прослышав, что он большой мастер читать, его стали просить в доме Шишкова, в том числе и сам Александр Семенович, прочитать что-нибудь. Аксаков начал с «Размышления о Божием величии» Ломоносова, затем прочитал другую пиесу, потом третью, четвертую, из Державина, Капниста… Успех был замечательный, с тех пор он сделался постоянным чтецом в гостиной. При имени Державина в воображении Аксакова как живой вставал патриарх русской поэзии на закате своей жизни. И свела его с Гаврилой Романовичем страсть к декламации. Наслышавшись о чтеце, Державин пожелал послушать чтение. Дело происходило уже в 1815 году, в декабре, семидесятитрехлетнему старцу оставалось жить каких-нибудь полгода, и вот большая часть этого остатка земных дней прошла во встречах с Аксаковым, в чтении и слушании. Как можно догадаться, читались стихи самого Державина, он желал «послушать себя», по его собственному выражению. После первой же декламации — оды «Перфильеву на смерть князя Мещерского» растроганный Державин сказал: «Я услышал себя в первый раз», чему чтец, хотя и беспредельно счастливый от похвалы, опьяненный от восторга, не до конца поверил. Но сам-то Гаврила Романович вполне искренне нахваливал молодого декламатора (даже озадачив его несколько неприятно сравнением с известным актером: «Вы его, батюшка, за пояс заткнете»). Слушая, он не мог спокойно сидеть, беспрестанно и как бы непроизвольно делал руками жесты, на лице его отражалась смена тех чувств, которыми дышали читаемые стихи, все в нем было в движении, в возбуждении, иногда он вскакивал и бросался обнимать декламатора. Большей восторженности исполнения, кажется, и не могло быть. Сам Сергей Тимофеевич, поражавшийся тогдашней своей воспламененности, говорил впоследствии: «Это чтение было единственным явлением в продолжение тридцатипятилетнего моего поприща в качестве чтеца».
Так начались их ежедневные встречи. По словам самого Аксакова, хозяин готов был слушать с утра до вечера, а гость — читать и день и ночь. Чего только не читал и не перечитывал по нескольку раз молодой гость: трагедии Державина, два огромных тома его сочинений в стихах и прозе, басни, эпиграммы, нравственные изречения, даже эпитафии, наконец, по настоянию Гаврилы Романовича, «эротическую поэзию» и т. д. Декламируя с одинаковым рвением все подряд, Аксаков прекрасно понимал, что в большинстве стихов, особенно в новейших, прежде всего драматических сочинениях, в трагедиях Державина, нет уже того огня, поэтических красот, которыми сильны лучшие его лирические произведения, знаменитые оды. «Волкан потухал», и молодой чтец налегал на прежние державинские стихи, дававшие ему больше пищи для одушевления. Однако старику эти стихи казались пустяками, которые скоро забудут, а вот его трагедии потомство оценит, и они будут жить, поэтому он только их и хотел слушать. Поскольку от самих державинских трагедий мудрено было заразиться искренним пылом, то чтец пускался на хитрость, на поддельный жар и пышность декламации, что, однако, не ускользало от вещего стариковского слуха и огорчало Гаврилу Романовича.
Уже целый месяц продолжалась эта блаженная для обоих жизнь, пока не нарушилась одним обстоятельством. Однажды жена Державина, встречая Аксакова, вежливо предупредила, чтобы он не беспокоил Гаврилу Романовича декламацией, которая так раздражающе и вредно действует на него, что он заболел. К слову сказать, доведенный чтением до болезненного состояния, Гаврила Романович, в свою очередь, своим бурным слушанием усиливал в декламаторе его взвинченную страстность, по-своему мучил его. В кругу знакомых заговорили, что Аксаков
Знакомство с Державиным на всю жизнь сохранилось в памяти и в сердце Аксакова, как благословенный дар судьбы, путь его жизни оказался озаренным последними днями великого поэта, и благодаря чему же? Единственно, как он считал, благодаря его чтению.
Об одном мог бы жалеть Сергей Тимофеевич… Он проводил время с Гаврилой Романовичем за декламацией его стихов, не обратив внимания на его автобиографические «Записки», которые он, по собственным словам, «видел, перелистывал, но не читал». Эти «Записки известных всем происшествиев и подлинных дел, заключающие в себе жизнь Гаврилы Романовича Державина» были закончены Державиным еще в 1812 году и впервые увидели свет только в 1859 году (будут напечатаны в журнале «Русская беседа» в год смерти Аксакова). Кто знает, прочитай он эту державинскую прозу, удивительно сильную, резко образную, близкую по языку к народной разговорной речи, не открыл ли бы он для себя еще до знакомства с Гоголем (который перевернул, как ниже увидим, его представления об искусстве) неприкрашенную действительность в литературе, реалистическую мощь характеров? И не освободился ли бы он раньше от ложно классицистического влияния, которому был подвержен до того, как узнал Гоголя, художника и человека? (Кстати, сам язык державинских «Записок», иногда грамматически неправильный, но глубоко русский по духу в своей самобытной неправильности, напоминает гоголевский язык.) И еще. Державин казался молодому Аксакову поглощенным только одним — слушанием своих стихов. И сам хозяин виделся гостю сугубо бытовым, домашним. Но этот старец, в колпаке, в шелковом шлафроке, подпоясанном шнурком с кистями, в домашних туфлях, познал самые высоты государственной службы: был статс-секретарем Екатерины II, финанс-министром при Павле, юстиц-министром при Александре I. И бремя этой государственной ответственности, касавшейся России, продолжало жить в нем, судя по его «Запискам», и домашняя его жизнь была действительно только поверхностью айсберга. Вместе с тем, в сокровенных глубинах его духа неотступной была мысль о тщете земной, о всепоглощающей, всепожирающей реке времени. На той же аспидной (грифельной) доске, на которой Державин написал стихи на чтение Аксаковым его произведений, он вскоре, за три дня до смерти, напишет знаменитые строки:
Река времен в своем стремленьи
Уносит все дела людей
И топит в пропасти забвенья
Народы, царства и царей.
А если что и остается
Чрез звуки лиры и трубы —
То вечности жерлом пожрется
И общей не уйдет судьбы!
Впоследствии, спустя десятилетия Сергей Тимофеевич вспоминал, как «содрогнулся» Державин, слушая свою оду «На смерть князя Мещерского», — стихи о смерти, которая «точит лезвие косы» на все живое, сущее в мире.
Сам Аксаков отводил чтению большую роль в своей жизни. Чтение было его страстью с самых детских лет, оно доставило ему много сердечных наслаждений в кругу родных, близких людей, открыло лестный для самолюбия успех в домашних спектаклях, в обществе. Не помышляя еще ни о каком писательстве, он если и мог почитать себя мастером, то конечно же только в декламации да в «игре на театре», как тогда говорили. У него было даже намерение написать если не руководство, то нечто вроде рассуждения об умении, искусстве читать (в чем он видел основание сценического искусства). Намерение осталось неисполненным, но известно, о чем хотел писать Аксаков: о глубоком усвоении того, что читаешь; о полном овладении «своими средствами», как-то: чистотою произношения, управлением (что особенно важно) собственными чувствами, мерою теплоты и одушевления и прочее. Зная об этом декламаторском мастерстве Сергея Тимофеевича, оттачиваемом им в течение десятков лет, нам легче представить звучание его речи, на которой, конечно, сказалась, особенно в молодых и зрелых летах, страсть чтеца. Один из современников, вспоминая московскую жизнь семейного Аксакова, отмечает, что Сергей Тимофеевич «говорил всегда звучно и сильно, но голос его превращался в голос Стентора, когда он декламировал стихи, а декламировать он был величайший охотник». Напомним, что Стентор — имя одного из героев Гомера, бойца с необычайно могучим голосом.
Самым трудным на длительном, многолетнем поприще чтеца, судя по всему, было для Аксакова «управление собственными чувствами, мерою теплоты и одушевления». Эта мера долгое время не давалась ему, он долго не мог освободиться от «слишком громкой и напыщенной декламации», по его словам; и для него важным было преодолеть все поддельное, неестественное в чтении, а может быть, и в себе. Это был путь к той простоте, правдивости, истинности, который завершится в конце концов созданием «Семейной хроники» и «Детских годов Багрова-внука».
Уже в Казани под влиянием игры выступавшего там актера Плавильщикова Аксакову открылось, какая сила, выразительность может быть заключена в исполнении естественном, безыскусном. В самой охоте Аксакова к чтению, оказывается, хранилось «зерно страсти к театру». Вспыхнувшую страсть к театру Сергей Тимофеевич сравнивает с ружейной охотой, которой он тогда предавался с безумным увлечением. В университете затеяны были спектакли, и неизменный успех выпадал на долю Аксакова, игравшего в них, по его словам, как «настоящий актер» и с «упоением» принимавшего гром рукоплесканий. В своих воспоминаниях «Университет» Сергей Тимофеевич не скрывает, как уязвлен он был театральным успехом своего соперника, тоже студента, и как мучила его «проклятая зависть», отчего ему приходилось, видимо, так же, как и от напыщенной декламации, освобождаться не без труда.
С переездом в 1808 году в Петербург для Аксакова началась вскоре «настоящая театральная школа». Восемнадцатилетний юноша познакомился с выдающимся русским актером Яковом Емельяновичем Шушериным. Маститый актер (которому было под шестьдесят), убедившись в искренней привязанности молодого человека к театру, по-отечески полюбил его и охотно стал заниматься с ним. Сколько же надо было иметь терпения и любви к искусству, чтобы изо дня в день (и это продолжалось два с половиной года) так подробно проходить с молодым актером (а таковым считал себя Аксаков) роли, как это делал Шушерин. Он объяснял характер каждого лица, которое предстояло играть его молодому другу, отношение этого лица к другим лицам, к своему времени; по ходу сцены сам включался в чтение и игру вместе с Аксаковым. Так, проходя с ним роли, он постоянно требовал от него больше простоты и естественности, указывал ему на пагубность эффектной «проклятой декламации». Чтобы Аксаков смог увидеть, как надо играть роль, его наставник шел с ним в театр, где эта роль игралась превосходно и именно в отношении простоты и правды чувства. Шушерин знакомил своего молодого приятеля с тогдашними театральными знаменитостями (которым он представил его как «дилетанта театрального искусства»).
Как-то вечером у Шушерина сошлись трагический актер Яковлев и ветеран русской сцены Дмитревский. Молодой Яковлев, из купеческого звания, талант замечательный и натура с благородными, прекрасными задатками, сбивался, как казалось Аксакову, с пути, поддался чаду похвал и вина, перестал серьезно проходить роли; чтобы добиться благосклонности у невзыскательной публики, не брезговал на сцене самыми вульгарными эффектами. И вот этот избалованный успехом молодой актер обратился к актеру престарелому, мнение которого для него было очень дорого, с вопросом, видел ли он его, Яковлева, в роли Отелло и доволен ли его игрой. Яковлев настаивал на ответе, и Дмитревскому не оставалось ничего иного, как сказать то, что он думает, а именно: что тот играет эту роль как сапожник. И тут уж старик дал волю своей горячности: «Что ты, например, сделал из превосходной сцены, когда призывают Отелло в сенат, по жалобе Браманцио? Где этот благородный почтительный воин, этот скромный победитель, так искренно, так простодушно говорящий о том, чем понравился он Дездемоне? Кого ты играешь? Буяна, сорванца, который, махая кулаками, того и гляди что хватит в зубы кого-нибудь из сенаторов», — и с этими словами Дмитревский с живостью поднялся с кресел, стал посреди комнаты и проговорил наизусть почти до половины монолог Отелло с совершенной простотой, истиной и благородством. «Все мы, — вспоминает Аксаков, — были поражены изумлением, смешанным с каким-то страхом. Перед нами стоял не дряхлый старик, а бодрый, хотя и немолодой Отелло; жеста не было ни одного; почтительный голос его был тверд, произношение чисто, и голова не тряслась». Таким запомнился Сергею Тимофеевичу навсегда этот «один из самых интереснейших вечеров» во всей петербургской его жизни[1].
Как ни много значили для Аксакова советы его наставника, но не со всеми он соглашался. Сам игравший в молодости да и в летах зрелых любовников, Шушерин и в Аксакове хотел видеть подходящее лицо для этих героев. Почему молодого человека все тянет на роли благородных отцов и стариков? Ведь такой молодец, такой рост, такая выгодная наружность, да еще пылкость, страстность в характере — только бы и играть любовников. Сергей Тимофеевич не соглашался: никогда он не играл любовников, но, не имея до конца сил противиться, согласился все-таки сыграть молодого влюбленного человека, но любовный огонь так и не подал о себе вести. Тогда наставник решил, что пусть не влюбленного, пусть просто молодого человека, но и из этого ничего не вышло: не было должной пылкости, бешенства в чувствах. Вот Эдип совсем другое дело, это его роль, да и сам Шушерин доволен его игрой. Попробуй пойми, почему ему близки роли благородных отцов, как будто он сам готовил себя к этой роли — не «на театре», а в самой жизни. Шушерин навсегда оставил след в душе молодого друга — не только своей «театральной школой», научившей Аксакова быть подозрительным к любой утрировке, крикливости в искусстве, но и — что особенно дорого — тем, что в нем жил хороший человек с живой, отзывчивой душой. Как горько плакал Шушерин, всю ночь ходил по комнате, когда до него дошла весть (по счастью, ложная) о том, что Сергей Тимофеевич на охоте убил себя. Иногда какой-нибудь поступок как луч высвечивает всю суть человека. Когда шестидесятилетний Шушерин незадолго до смерти вернулся в освобожденную от Наполеона Москву, он надеялся увидеть целым свой домик, купленный совсем недавно на деньги, нажитые многолетними актерскими трудами, но одни обгорелые печи ждали хозяина. И что же? Никаких жалоб, никаких сетований, а одна радость, что французы изгнаны из священной Москвы и Москва свободна.
Но в петербургской жизни молодого Аксакова были и такие встречи, которые могли худо кончиться для него. Некий Рубановский, сам масон, вознамерился завербовать в масоны и восемнадцатилетнего Аксакова. С этой целью он решил приобщить его к чтению «мистических книг»[2] и журнала «Сионский вестник», издававшегося А. Ф. Лабзиным. Событие это оказалось для юноши настолько немаловажным, что здесь необходимо будет остановиться на предмете и рассмотреть его с достаточной — для целей нашей биографии — подробностью. Новый расцвет масонства в России приходится на самое начало XIX века, как раз на те годы, к которым относится аксаковская история. Екатерина II преследовала масонов, видя в них угрозу для государства. Ее сын Павел оказался втянутым в тайную масонскую ложу, с ним, как с будущим императором, были связаны далеко идущие расчеты. Известно, что под личиною мистического учения масонства скрываются его вполне земные планы мирового господства. Это глубоко законспирированная так называемыми степенями посвящения международная тайная организация, разветвленная во множестве стран, ставящая своей целью подрыв в этих странах основ государственной, религиозной, национальной жизни, духовное подчинение и порабощение народов. Со вступлением Павла на престол после смерти Екатерины II начинает меняться его отношение к масонам. Император дорого заплатил за это «клятвопреступление»: масоны организовали убийство Павла. Александр I, также в государственных интересах, со временем запретит масонские ложи, но в начале его царствования, в первом десятилетии XIX века, они действовали весьма активно, особенно мартинисты — одно из течений в масонстве, возглавляемое Лабзиным, одним из ближайших учеников Шварца, так называемого диктатора, орденского Настоятеля всего русского масонства (Россия была возведена международным масонским конвентом в восьмую по счету масонскую провинцию). Лабзин при поддержке министра народного просвещения масона А. Н. Голицына устраивал гонения на авторов книг, преданных православной вере (история с книгой Станевича), участвовал в сектантских оргиях «скакунов» в обществе «Верховной жрицы» Татариновой (где бывал и сам Голицын). В «Сионском вестнике» печатались «мистические статьи» Лабзина, всегда подписанные двумя буквами: У. М. (то есть «Ученик Масонства»).
Вот этими статьями и подобными им книгами и хотел названный выше Рубановский «просветить» молодого Аксакова, готовясь завербовать его в масоны. Любившему «все ясное, прозрачное, легко и свободно понимаемое», по его собственным словам, Аксакову претила сама тарабарщина мистической масонской премудрости, ее умственная казуистика. Молодой человек вступал в спор с Рубановским, задавал вопросы, на которые так и не получал вразумительных ответов, разбирая строку за строкой, доказывал просто отсутствие смысла в них. Мартинист в ответ только злобно и иронично улыбался и совсем вышел из себя, когда его молодой собеседник посмел назвать верхом бессмыслицы прочитанное им место из статьи самого Лабзина: «Премудрость божия обрела единственный способ к разрешению трудности в поднятии павшего. Явилась существовавшая всегда умственно между сими двумя линиями ипотенуза, произвела свой квадрат и заключила в оном полное действие и правосудия, и любви божеской». Любопытная черта масонского «стиля»: используются широко распространенные в богословии определения: «премудрость божия», «правосудия и любви божеской», хотя суть рассуждения — совершенно механическая, даже не духовно-нравственная (но только не религиозная). Такая наукообразность рассчитана на одурачивание, на гипнотическое действие «новизны». И эта «новизна», как чума, способна стать заразительной, повреждая даже и сильные умы. Противоядием здесь может быть только умение «смотреть в корень». Это, кстати, и спасло молодого Аксакова, увидевшего ясно, прямо и просто, что прочитанные им масонские «темные книги» — вовсе не «душеспасительные, а вредные».
Наконец произошла встреча и с самим «великим братом». За любезностью и остроумием чувствовались в Лабзине властолюбие, привычка повелевать людьми. Но юноша не был обольщен ни его обходительностью, ни умом, ни орлиным взглядом черных глаз, велась игра по заманиванию в ловушку нового прозелита, и это было ясно Аксакову. Как это не похоже на те знакомства, о которых говорилось выше: там при всей значительности лиц молодому человеку было легко и свободно, его покоряла их искренняя приветливость, добродушие, прямой и честный смысл был в их словах. А здесь какая-то кабалистика ума, двусмысленность даже в бытовых разговорах. И совсем поразило гостя то, что он увидел на устроенном Лабзиным домашнем спектакле. Лабзин предупредил его, что лучший молодой актер будет невыгоден в роли, ибо сегодня он получил письмо, что у него умер отец. Говорил все это «великий брат» со спокойным и даже веселым видом. Аксаков был потрясен: как! У человека такое горе, умер отец, а его как ни в чем не бывало заставляют играть на театре! Значит, велика власть Лабзина, если этот несчастный не смеет ослушаться его приказания и должен играть роль любовника в то время, как на душе у него камень.
После спектакля, когда все собрались в гостиной, Лабзин велел тому же молодому человеку, подавленному смертью отца, прочитать монолог из пьесы: «Да прочти на славу!» Тот попытался было сказать, что он не в состоянии теперь читать, что он «не в духе», но его хозяин с таким выразительным презрением произнес: «Ну что тут за духи! Прочтите!» — что тут же и началось чтение, В заключение «великий брат» назвал чтеца, которому с трудом давалась декламация, мокрой курицей. Он не отпустил его с ужина, когда тот хотел отпроситься; когда запели гимн — грозно заставлял его громче петь, стуча рукояткой столового ножа по столу. Аксакову стало не только тяжело, но и страшно на этом сборище, напомнившем ему тайные ритуальные судилища. В Лабзине, этом «великом брате», было столько бесчеловечности, садизма, что невольно мог возникнуть повод для раздумья: что же сулит возможное торжество масонского учения, какое «всемирное братство»? И вместе с тем до какого же духовного рабства может дойти человек, подчиняя себя воле лабзиных?
Близилась развязка этой истории. Рубановский, видимо, наговорил Лабзину столько дурного об Аксакове, о его негодности для их братства, что «великий брат и начальник» оставил мысль сделать его своим прозелитом. Так думал сам Сергей Тимофеевич и, пожалуй, ошибался. Не так просто было выйти из-под опеки «начальника», коль он оказал кому-то доверие, хотя бы самим фактом знакомства. Поэтому нечего удивляться, что охладев, казалось бы, к Аксакову, Лабзин вскоре же пригласил его на спектакль, отказ же молодого человека произвел, по его словам, «большой эффект», надо догадываться — недозволенной дерзостью. По молодости и незнанию такого рода людей Аксаков наивно мог думать, что он участвует чуть ли не в спектакле и в любое время может выйти из него, и все забудется. Но такие, как Лабзин, ничего не забывают и не прощают, особенно тех, кто понял их, — к тем они беспощадны. Но молодой человек многого не понимал, и тем самым был не опасен, поэтому с ним обходились пока как с несмышленышем.
Вскоре события приняли неожиданный оборот, вроде бы к посрамлению мартинистов. Аксакову, казалось бы, оставленному ими в покое, приходит на ум дерзкая выходка. Один из его сослуживцев по фамилии Вольф покончил жизнь самоубийством. Оказалось, что он был близок к мартинистам и оставил после себя какие-то письменные сочинения. Узнав об этом, Рубановский стал усиленно просить Сергея Тимофеевича, чтобы он достал сочинения покойного и передал ему. Отвязаться от этих просьб было невозможно, так же, как и добраться до бумаг покойного, и Аксаков задумал пойти на мистификацию. От одного из чиновников он узнал, под великим секретом, что тот видел бумаги Вольфа и что все написанное в них — совершенная галиматья, которую немыслимо понять. И вот Аксаков решил написать «какой-нибудь вздор» и выдать его за сочинения Вольфа. Написанное представляло собою набор фраз без всякого смысла, но с некоей внешней мистической многозначительностью, выдержанной в приемах масонских книг и «Сионского вестника». Рубановский и братия пришли в восторг, найдя в этом сочинении глубочайшие откровения. Вроде бы и сам Лабзин поддался обману и даже выразил желание напечатать несчастную пародию в «Сионском вестнике», как только он возобновится.
Только со временем Сергей Тимофеевич поймет, с каким огнем он играл и чем чревата была его шутка. По своей природной откровенности он не мог долго тяготиться тайной и впоследствии рассказал обо всем своему другу, человеку пожилому и умеющему держать секреты. Тот не только не посмеялся, на что рассчитывал рассказчик, а пришел в ужас. «Не сказывал ли ты кому-нибудь об этом?» — спросил он Аксакова. И когда услышал, что нет, продолжал: «Ну, так и не сказывай. Сохрани тебя Бог, если ты проболтаешься! Я сам в молодости моей был масоном. Мартинисты — те же масоны. Если они узнают твой обман — ты пропал. Даже мы с тобой никогда уже говорить об этом не будем». Ужас пожилого, обычно молчаливого человека невольно передался Сергею Тимофеевичу, и больше он об этом уже никому не рассказывал, «пока время сделало открытие моей тайны уже безопасным», как он писал в своих «Встречах с мартинистами», опубликованных за четыре месяца до смерти. Натура Аксакова, впитанные им с молоком матери родные предания уберегли его от влияния масонов, слишком он «выталкивался» из этой враждебной ему среды. И в дальнейшем это нравственное здоровье отвращало его от всякой идейной и духовной отравы под видом новизны.
Аксакову был двадцать один год, когда произошло такое величайшее событие, потрясшее мир, как Отечественная война 1812 года. Как же встретил он эту грозную годину, как отразилась она на его жизни? Еще учась в Казанском университете во время войны с Наполеоном в 1807 году, он стал свидетелем порыва своих товарищей, которые подавали просьбы об увольнении их из университета и поступали в действующую армию. Что же касается его самого, Сергея Тимофеевича, то он простодушно говорил на склоне лет: «Краснея, признаюсь, что мне тогда и в голову не приходило „лететь с мечом на поле брани“». Он уехал тогда, после окончания университета, весной 1807 года, в свое Аксаково, где ждали его охота, прилет птиц, рыбалка. И — «вылетела из головы моей в ту пору война с Наполеоном».
Отечественная война 1812 года не докатывалась своим громом до оренбургской глуши, если и слышались здесь какие выстрелы, то только охотничьи. Ружейная страсть не сделала из Аксакова воина. Но это не значит, что 1812 год не оставил следа в его душе и сознании. Живя в далекой деревне, он не мог не разделять всем сердцем того, чем жил весь народ в страшное время наполеоновского нашествия. Из обеих столиц доходили к нему вести о событиях. Шушерин писал (в конце июля 1812 года, еще находясь в Москве) о патриотическом воодушевлении, царившем в Белокаменной. «И как на все это посмотришь, то сердце радуется, глядя на готовность, с коею вступают в службу». Из этого же письма он узнал, что С. Н. Глинка «записался во внутреннее вооружение и ни о чем больше не говорит и не думает, как о поражении и истреблении врагов России». С Сергеем Николаевичем Глинкой Аксакова познакомил Шушерин в начале 1812 года.
Глинка говорил тогда о возникающей военной угрозе и страшных силах Наполеона, о том, что России предстоит сражаться с сильнейшим врагом. И он, Глинка, не надеялся на то, что можно было отразить военную силу — военною же силою, он надеялся на народную войну. Аксакову казались преувеличением эти опасения, ведь и другие, люди постарше и поопытнее его, знавшие, казалось, толк в военных и политических делах, также считали готовящееся нашествие, а тем более угрозы взять Москву, пустой мечтой Наполеона, намерением его запугать нас, чтобы добиться заключения выгодного для себя мира. События показали, чего стоят и чем могут обернуться благодушие и самонадеянность (увы, не раз повторявшиеся в истории России). И тем более надо отдать должное Глинке, провидевшему всю смертельную опасность для России наполеоновского вторжения.
Спустя несколько лет Сергей Тимофеевич снова встретится с Глинкой, в той же Москве, но уже не прежней, а послевоенной, с живыми следами исполинского пожара, обгорелыми каменными домами, пустырями, на которых виднелись почерневшие фундаменты и печи да в зарослях дикой травы глаз невольно схватывал пробивавшуюся тропинку как знак начавшегося обживания этого обезлюдевшего места. Но уже выросло и множество новых деревянных домов, радовавших взор своей свежестью, прекрасной архитектурой, возобновленностью жизни. Москва была завалена строительными припасами, повсюду стучали топоры, визжали пилы. И глядя на эту шумно строящуюся, возникающую на глазах Москву, Аксаков думал не грустно, а весело: Москва сгорела, но пал великий завоеватель, имя русского народа стоит на высшей ступени славы… Эти же мысли владели им и в разговоре с Глинкой. Глинка был уже не тот, не прежний: сразу же бросалось в глаза какое-то особенное выражение в его лице, какого не было в нем раньше. Все прожитое за это необычайное время, которое он предвидел, как бы оставило свой след в этом выражении, оно осталось навсегда.
Как в писателе Аксаков видел в Глинке и слабые стороны, излишество в его приемах, когда горячие слова, выразительные поначалу, повторяясь к месту и не к месту, становятся банальными, казенными фразами. Гораздо замечательнее его многотомных сочинений казались ему сама оригинальная личность Глинки, его патриотическое участие в московских событиях 1812 года, принесшее ему славу и большой авторитет среди современников. С захватывающим интересом слушал Аксаков рассказы участника великих событий, упрашивал его рассказать «еще что-нибудь». Позднее, читая вышедшую в 1836 году книгу С. Н. Глинки «Записки о 1812 годе», Сергей Тимофеевич много узнавал в ней из рассказанного ему ранее автором, но многих рассказов здесь и не было.
Но и общение с Сергеем Николаевичем Глинкой не придало, надо полагать, особого боевого духа его младшему тезке. Сергей Тимофеевич писал уже в старости об освобожденной Москве: «Стали собираться понемногу распуганные жители столицы» — как охотник сказал бы о распуганных выстрелом птицах. Да, не мог он похвалиться воинственностью. Что ж поделаешь, видно, такой уж мирный нрав был у Сергея Тимофеевича.
Не имея непосредственного опыта участника войны, Аксаков и не мог писать о том, чего он не видел и не пережил (и чего он никогда не делал в дальнейшем, в течение всей свой творческой жизни), но он по-своему отозвался на событие стихотворением «А. И. Казначееву», обращенным к другу и написанным в духе витийственной оды XVIII века. Стихотворение написано в 1814 году, по горячим следам «ужасной годины», когда в памяти современников еще не остыли страшные картины «сожженья городов», «пепел святых церквей», а душа скорбит о смерти «собратий наших», о сиротах, о разорении земли русской. Казалось бы, война должна научить трезво судить о враге, хотевшем «народ российский низложить», осознать глубже свое отношение к Отчизне. Можно было ожидать,
Что подражания слепого устыдимся.
К обычьям, к языку родному обратимся.
Но на деле произошло другое — и об этом с негодованием и сарказмом пишет автор:
Рукою победя, мы рабствуем умами,
Клянем французов мы французскими словами,
Толпы сих пленников, грабителей, убийц,
В Россию вторгшихся, как станы хищных птиц,
Гораздо более вдыхают сожаленья,
Чем русски воины, изранены в сраженьях!
Забыто все. Зови французов к нам на бал!
Все скачут, все бегут к тому, кто их позвал!
Сквозь витийственность, некоторую архаичность выражений вырывается живое, пылкое чувство молодого автора, возмущенного раболепием светской черни (перед иностранным — лишь потому, что оно иностранное, даже и когда откровенно враждебное), одушевленного «огнем любви к отчизне». В этом стихотворении со всей честной прямотой выразились те чувства и убеждения Аксакова, которые сам он называл в себе «русским направлением» и которым был верен всю жизнь.
Все это в прошлом, в прошлом, уже пять лет, как он жил теперь безвыездно в Аксакове со своей женой Ольгой и детьми Костей, Верой, Гришей. Жили в доме и родители Сергея Тимофеевича, мать Марья Николаевна и отец Тимофей Степанович, но что-то безвозвратно изменилось в отношениях с ними и выходило так, что была семья в семье. Сергей Тимофеевич был счастлив как муж и отец. Женился он по страстной любви. Его возлюбленная Оленька Заплатина, или Оллина, как он ее называл, моложе его на год, жила вместе с отцом, суворовским генералом, на окраине Москвы, близ Донского монастыря. Мать ее была турчанка, красавица Игель-Сюма, взятая в плен при осаде Очакова. Став женой Семена Григорьевича Заплатана, она разделяла его походную жизнь, и во время похода в Польшу в 1792 году родилась у нее дочь Ольга. После смерти матери дочь, поселившись с отцом в Москве, стала его другом и помощником. Старый воин не мог заменить дочери ее умершую мать, но по-своему воспитывал ее тем особым своим духом доблести, который потом оказал ей такую великую поддержку в воспитании детей. Ольга читала отцу исторические сочинения, книги о военных походах, сражениях. Постоянно читались газеты. Так текла их жизнь и в Москве, пока не взбудоражил ее, эту мирную жизнь, молодой человек, Сергей Аксаков, зачастивший в их дом.
Какое это было чудное время! Какая пылкость чувства, какое нетерпеливое желание видеть свою милую Оллину! Он и теперь, спустя шесть лет после этого, чувствовал как будто что-то прежнее, когда брал в руки маленький, продолговатого формата, в зеленом сафьяновом переплете альбом с надписью на первой странице: «Моей возлюбленной невесте. 1816 года апреля 24-го дня. Москва». Тогда, приходя домой после встречи с невестой, молодой человек изливал свои чувства к возлюбленной в стихах, в сентиментальной прозе с «ахами», с «замиранием сердца», с мечтами о завтрашнем блаженстве свидания, сетованиями на медленно текущие часы без любимой, пожеланием «беспрестанно тебя видеть, слышать» — все в карамзинском стиле (и это писал поклонник Шишкова!). Но было не до стиля, чувства изливались, как того желали. И вот 2 июня 1816 года в церкви Симеона Столпника на Поварской молодых повенчали.
В семейной жизни поубавились, конечно, и «ахи», и мечты о блаженстве, но зато явились свои радости, открытие в себе чувства отцовства. Рождение 29 марта 1817 года первенца, названного Константином, заставило молодого отца забросить и забыть и рыбалку, и охоту, и все другие увлечения. Со смешанным чувством благоговения и вместе с острым кровным любопытством — ведь аксаковский род! — вглядывался он в широкое личико крохотного пришельца из другого, таинственного мира, глядевшего перед собою голубыми, упорными, уже осмысленными глазками — будто уж и узревавшими отца, как тому казалось. Отец часто сам был и нянькой, и хранителем колыбели младенца, вскакивая по ночам, когда тот начинал плакать, и баюкая его на руках. Когда Костя подрос и стал ходить, пригодился и сценический талант отца: напевал ему песенки, разыгрывал уморительные сценки с коверканьем лица (в чем был большой искусник) и голосовыми руладами, приводя в восторг ребенка. Пришел свой срок и для рыбалки, а потом и для первой охоты, поблизости, за прудом, кончившейся выговором сыну от отца за убитого куличка. Одним словом, как когда-то отец вводил маленького Сережу в мир природы, так ставший отцом Сергей Тимофеевич передавал сыну как бы по наследству свою любовь к природе и всякой твари в ней.
Но Костя и сам уже к пяти годам довольно привольно чувствовал себя в родном Аксакове. Бегал на мельницу, прислушиваясь, как «засыпка» — веселый старик, засыпавший зерно на жернов, — разговаривал с мужиками, как те рассказывали интересные истории, что с ними случались в дороге. Как они живут дома с сыновьями, невестками. Говорили об урожае, называли землю «матушкой», «кормилицей», и маленький Костя забывал обо всем, слушая их спокойный, рассудительный разговор, нередко с такими словами, которых он не слышал дома и которых не понимал. Но говорили они ему о чем-то родном, близком, как и эти, видневшиеся отсюда с плотины избы и стелившиеся с холмов огромные зеленые скатерти пологих склонов, и Бугуруслан, и пасущиеся на его берегу коровы, и гурьба деревенских ребятишек, бегущих к мельнице. С ними у него особые отношения: для них он Костик, не Костя, вместе бегали купаться, «перегоняли» Бугуруслан. Быстро течет, шумит, воркует о чем-то своем речка, поворачивает вдруг, виляет, скрывается где-то в стороне, а берег рядом, и ребятишки бежали к этому берегу, ожидая, когда речка притечет, кричали вразнобой, что обогнали ее, что она еще не притекла с бумажным корабликом и, завидя его, плывущего на боку, из-за полуостровка, прыгали от радости.
Однажды ребятишки отправились на Челяевскую гору, и Костя увязался за ними. С плотины Челяевская гора казалась дремавшей, похожей на длинный ларец, а когда перешли через мосток на другой берег Бугуруслана и пошли к ней — Челяевская гора словно ожила, повернулась во все стороны своими красноватыми лбами, как будто вот сейчас поднимутся богатыри. И чего только не рассказывали по дороге ребятишки о Челяевской горе, слышанное от отцов и дедов, и очень даже страшное. Но ничего страшного не произошло: долго взбирались наверх, редко по травянистой, а больше по глинистой дорожке. Около Кости шел самый старший из детворы и поддерживал его, когда тот поскальзывался и мог поползти вниз. Ничего не было видно, кроме красноватой глины под ногами, но зато дух захватило, когда поднялись на самый верх, на небольшую, в кустиках, площадку: вдруг открылись, встали холмы со всех сторон, а за ними синь леса, дымка горизонта, и эти холмы показались огромными шлемами великанов, которые могут встать и пойти к горе. Долго не мог мальчик оторвать глаз от увиденного и только потом заметил обрыв под ногами, не испугавший его, а прибавивший ему восхищения, что он оказался на такой высоте.
Не случайно Косте грезились богатыри, о них ему много рассказывал отец. Тогда в большой известности были изданные в начале столетия «Древние российские стихотворения, собранные Киршей Даниловым», где были помещены и песни (позднее они стали называться былинами) о русских богатырях. Сборник явился открытием сокровищ народной поэзии, понуждавшим знать как можно больше о ней. И Сергей Тимофеевич мог рассказывать сыну истории не только из этого сборника: передавались они и в устных рассказах народа, в сказках с лубочными картинками. Самым любимым из богатырей был для Кости Илья Муромец, крестьянский сын, оберегатель земли русской, могучий, спокойный, справедливый и скромный, который никогда не хвастает своей силой и подвигом. Сошелся Илья Муромец во чистом поле, в бою с козарином (хазаром). Наводивший страх на своих противников козарин ринулся на русского богатыря. Долго длился страшный поединок, уже изломались у обоих палицы и копья, начался рукопашный бой. Поскользнулся Илья и упал на землю, тут вскочил козарин на его грудь, вынул чингалище (кинжал), чтобы убить богатыря, и нагло злорадствует. Но и в эту минуту помнит Илья, что не бывать ему в чистом поле побитому.
Почувствовал он, как земля прибавляет ему силы, сбросил он с себя козарина и отсек ему голову. На богатырской заставе встречает его Добрыня и другие богатыри, видят голову на копье, а Илья говорит только:
Ездил во поле тридцать лет,
Экова чуда не наезживал.
Никакого тщеславия, крикливости о своей победе, одно только недоумение: тридцать лет не наезживал экова чуда. Какая же это спокойная сила, не только физическая, материальная, но и нравственная, духовная. Недаром свою силу Илья Муромец получил от калик перехожих. Удивительно, что еще в малом возрасте первенец Сергея Тимофеевича задумался о чем-то важном, без чего нет богатыря. Поразило его услышанное тогда, в детстве, предание. Дошло до Ильи Муромца, что есть на свете чудовищно огромный богатырь, которого не держит земля, одна только гора на земле может выдержать его тяжесть, и он лежит на ней, в бездействии, как другая гора. Подъезжает Илья к невиданной громаде и, не смущаясь, вступает в бой, вонзая меч в ногу богатыря. «Никак я задел за камушек», — говорит тот, даже и не пошевелившись. Илья со всей силой поражает его в бедро, на что богатырь замечает: «Никак я зацепился за куст, — и, оборотившись, прибавляет: — А, это ты, Илья Муромец, я слыхал о тебе. Зачем ты хочешь мериться со мною силой? Ты всех сильнее среди людей и будь там силен и славен, а меня оставь. Видишь, какой я урод. Меня и земля не держит. Я и сам не рад своей силе»[3].
Необъятна сила лежащего недвижно на горе богатыря, но эта сила внешняя, бездейственная, лишенная воли и цели, и как выигрывает в сравнении с этим великаном Илья Муромец, который могуч не только телом, физически, но и духовно. Ведь сила далась ему чудом, через старцев святых. Смысл этого уже доходил до пытливого Кости, на которого произвело сильное впечатление сказание о чудовищном великане.
Как-то раз во время святок, тайком от матери, тетка, завернув его в шубу, отправилась с мальчиком в избу, где собрались молодые девицы и парни, переряженные в медведей, журавлей, стариков и старух. Какое было веселье в этой просторной избе, освещавшейся дымной лучиной: неслись чудные звуки святочных песен, все пело и плясало, звонкий дружный смех врывался вдруг и в пение и в речи, все было в движении, опьяненное общей радостью, и уже унесенный завернутым в ту же шубу из этого сказочного мира мальчик долго еще был во власти волшебного игрища, не расставаясь с ним и в сновидениях.
Сергей Тимофеевич поощрял и дружбу своего первенца с крестьянскими ребятишками, и детское любопытство к тому, что происходило на мельнице, к разговору крестьян, и даже брал его с собою в поле в страдные дни, так что Костя действительно был «вспеленут русской деревней», как скажет впоследствии его младший брат Иван.
Костя радовал отца своей пытливостью, какой-то поразительной целеустремленностью даже в играх, в которых он хотел как бы на деле немедленно воплотить то, что его заинтересовало, взволновало. Первою книгою мальчика, выучившегося читать у матери с четырех лет, была «История Трои», переложение «Илиады» на русский язык. Имена Гектора, Диомеда, Ахилла бодро разносились по дому. Но этого ему было мало: он вырезал из карт фигуры с копьями и щитами и заставил воевать греков и троянцев, участвуя и сам в сражении на стороне своих любимых героев.
Между тем в доме было не все благополучно. Мария Николаевна, мать Сергея Тимофеевича, была уже не та прежняя маменька, которая так страстно любила своего Сереженьку и не чаяла в нем души. Она переменилась к женатому сыну, видя, что у него уже свои семейные интересы, охладела к нему, и даже внук и внучка ее не радовали. К этому прибавилось еще уязвлявшее ее сознание, что муж только боится ее, но уже не подвластен ей сердцем, что чувства его к ней уже не прежние. Мария Николаевна считала свою судьбу загубленной. Она, дочь товарища наместника Уфимского края, «чудо красоты и ума», и замуж вышла не по любви, и всегда считала мужа бесконечно ниже себя по образованию и «нравственным понятиям». Да и сам Тимофей Степанович был вполне согласен в этом со своей красавицей-женой: человек смирный, застенчивый, как девушка, молчаливый и неловкий в обществе, он добровольно уступал во всем первенство жене, разве только в одном не мог уступить ей — отказаться от любви к деревенской жизни, к природе, что очень раздражало ее в муже (сама она непременно подстилала кожаные подушки, прежде чем присесть на траве). Такое же надменно-пренебрежительное отношение было у нее ко всему крестьянскому быту, труду, песням (хотя дед ее был простой уральский казак, а мать из купеческого звания). И своего Сережу она старалась держать подальше от крестьян, от их «грубых шуток и брани».
Правда, мать привила любовь к книге; сама большая охотница до чтения, она развивала эту наклонность и в сыне, руководила его чтением. Первыми книгами, попавшими в его руки, были «Зерцало добродетели», «Домашний лечебник», «Детское чтение» Новикова. Не любя мужа, Мария Николаевна в молодости всю пылкость своих чувств перенесла на родившегося сына Сережу, привязавшись к нему до экзальтации, до болезненного обожания, вызвав и в сыне ответное, такое же страстное, напряженное чувство. Их разлуки, даже короткие, превращались для обоих в приступы тоски, душевного самоистязания. Не по годам развитое воображение мальчика, растравляя память мельчайшими подробностями, связанными с матерью, ее образом, напрягало до предела природу ребенка и было причиной его психических потрясений. Это еще более привязывало к нему мать, самоотверженность ее не знала границ. Узнав о болезни сына, учившегося в Казанской гимназии, она в тот же день отправляется в путь в простых крестьянских санях: не думая об опасности, переезжает через Каму в такое время, когда и не всякий привычный к риску человек решится на это; а приехав в Казань, энергично добивается вопреки сопротивлению начальства годового отпуска для сына и вместе с ним уезжает обратно в деревню для поправки его здоровья. Что только не сделает материнская любовь, но эта же любовь, когда она слепа и эгоистична, может стать своей противоположностью, как это и случилось у Марии Николаевны, с годами сделавшейся раздражительной, мнительной и ревнивой женщиной, ничем не похожей на прежнюю самозабвенно любящую мать.
Семейные, хозяйственные заботы не мешали Сергею Тимофеевичу предаваться по-прежнему страстно уженью и охоте. Сколько у него связано всего с уженьем, сколько пережито волнующего, восторженного, светлого, глубоко созерцательного! И какое непонимание, какое презрение вызывает зачастую это тихое, невинное занятие. Многие считают, что это дело пустое, праздное, недостойное серьезных людей, затея бездельников и чудаков, чуть ли не слабоумных. Но ведь сколько примеров, опровергающих это несправедливое обвинение. Многие великие люди не чужды были этому увлечению. Удил, говорят, на берегу Днепра Ярослав Мудрый. До страсти любил уженье знаменитый полководец Румянцев. Известно, как на один важный дипломатический вопрос он ответил с притворным смирением: это дело не нашего ума; наше дело рыбку удить да городки пленить.
Нет, рыбалка, по мнению Сергея Тимофеевича, страсть благородная, погружающая человека в природу, очищающая его душу от всего житейски мелкого, суетного, вносящая в нее ясность и простор. Найдется немало любителей красот природы: великолепного, живописного местоположения, прекрасного восхода или захода солнца, лунной ночи и т. д. Но это еще не любовь к природе, а увлечение, да и то чаще всего ненадолго, ее картинами. Посадите этих людей под навесом осокоря или кудрявой ольхи, оставьте их наедине с рекой и удочкой, и им будет скучно, и они поскорей поспешат домой… Но не то с настоящим рыбаком: в этой тиши, глядя на поплавок, неподвижно лежащий или вдруг уткнувшийся в воду, он как бы сливается с окружающим миром природы, с самой речкой, завораживающей взгляд и все его существо; что-то спокойное, мирное, от вечности самой природы войдет в его душу, и утихнут никчемные страсти, мнимые бури, и уже больше снисхождения к людям, уверенности в своих силах, блаженное ощущение духовного оздоровления обнимает человека.
Вот наш рыбак, чуть забрезжило утро, вооружился рыболовным снарядом и отправился в путь. На плотине он разложил весь свой снаряд: три удочки, мешочек с пшеницей, ящичек с червями, краюху хлеба, десяток линючих раков (взятых у деревенских ребятишек по грошу за штуку), сачок для язей; в запасе крючья, грузила, лесы. В тумане, по колени в воде, он перешел разлив, пробрался на стрелку (на место, не залитое водою), набросал прикормку и закинул все три удочки — одну с линючим раком, другую с мякишем, третью с червем. Не спеша набил трубку, закурил и присел на дощечке. Было холодно от туманной сырости, поплавки с трудом можно было увидеть. Перелетный ветерок пробежал в камыше и затих; изредка плескалась крупная рыба, волнуя дымящуюся от тумана воду кругами. Дума одна за другой пробегали в голове и тут же забывались. Стали виднее поплавки, чуть переводя дух, рыбак жадным взглядом следил за ними, каждый миг ожидая, что вот-вот потащит… Но напрасно. И снова закурил забытую трубку, набираясь терпения, которого, впрочем, ему не занимать. И вдруг сердце его бешено забилось. Поплавок внезапно повернуло и повело в камыши. Быстро подсек и почувствовал в руке живую тяжесть, упорствующую, тянущую ко дну, гнущую в кольцо удилище. Вскочил рыбак и повел попавшую, слышится, огромную, идущую тяжело рыбину около стрелки, на чистое место. Только бы не сорвалась: ведь и крючок небольшой, и леса всего в шесть волосков! Водить ее, пока не присмиреет; и только когда уже утихомирилась, разглядел, подводя ее к берегу, — голавль громадный! Дрожащей рукой схватил сачок — и лишь подвел его к рыбине, как та стремительно махнула из воды и опять потянула удилище. Вверх реки пятился рыбак, может быть, удастся на первой же узкой заливке, на мелкой воде схватить руками добычу. Но лишь стал подводить к берегу — голавль из воды метнулся прямо на берег и запрыгал серебристой громадиной. Надо бы поскорее вцепиться в него руками или пасть на него, но обезумевший рыбак, забыв об этом, схватил за лесу, леса оборвалась, и голавль, как будто ждал этого, взметнулся — и в воду. Окаменевший, стоял рыбак, держа в руках кончик оторванной лесы, глядя неподвижно на место, где только что лежал пойманный голавль.
Такая неудача постигла самого Сергея Тимофеевича, и он поведал об этом в стихотворении «Рыбачье горе». Так правдивы, искренни переживания рыбака, что не замечается вовсе и стихотворная форма, изливается с простодушной досадой рассказ о случае, составившем чуть ли не эпоху в жизни рыбака.
Со страстью к удочке соперничала у Сергея Тимофеевича страсть к ружью, которая даже вытесняла первую и многие годы владычествовала полновластно. Сколько верст исхожено по полям, болотинам, лесам, буеракам, оврагам, берегом Бугуруслана! И казалось бы, все вокруг вроде бы знакомо и пригляделось, но, оказывается, только до поры до времени. Когда темнеет лесной овраг в тяжелой настороженности, то каждый звук зверя или птицы, отраженный и разносимый эхом, звучит не похоже на себя, неслыханно и дико, и каждое движение, каждый шелест кажется таинственным и жутким. У страха глаза велики, и какие только самые устрашающие образы не теснятся в обостренном воображении, в большом ночном лесу, навсегда оставаясь достоянием сладостных воспоминаний охотника, да когда к тому же он еще и художник. И сам мир вокруг — в любое время года, в любое время дня — открывается в приметах родных и близких: в оттепель широкая и длинная дорога, манящая в прозрачную весеннюю даль, почерневшие крыши и стены строений, голые сучья дерев, проталины около родникового озера; гумно на высокой горе и множество сурчин по ней — бугорков, насыпанных сурками; зимнее поле, сверкающее снежной белизной; роскошное зеленое лесное царство с целым морем птичьих голосов — с токованием, писком, хрипом, воркованием, взвизгиванием и чоканием, заунывно-мелодическим перекликом, стоном, постукиванием, треском — все это и радует взгляд, и печалит, обдает созвучным птичьему хору ликованием душу, и уже уголок земли становится сокровенным уголком Вселенной, началом начал бытия.
В азарте охотничьей страсти выстрелы гремят немилосердно, сам добродушнейший Сергей Тимофеевич, следуя девизу «стрелять как можно больше — и будешь стрелять хорошо», в своих дневниковых записях аккуратно вел подсчет выстрелов и убитых птиц. Стрелок есть стрелок, и все же Аксаков считал, что настоящий охотник — это не истребитель, а тот, для которого охота требует ловкости и труда, наблюдательности и преодоления препятствий. Охотник не просто выискивает живую мишень для стрельбы, чтобы стать добытчиком, нет, он вступает в богатый, сложный мир зверей и птиц, вызывающий пытливый к себе интерес, желание проникнуть в его секреты и тайны. Можно так засмотреться, залюбоваться повадками, «нравами» какого-нибудь зверька или птицы, что забудется всякая охота, и эту радость познания живой твари не захочется прервать выстрелом, пусть самым удачным. Аксаков признавался, что у него рука не поднималась, было совестно стрелять в токующих, опьяненных от весенней любви птиц, в своем самозабвенном упоении даже и не подозревающих об опасности.
Не только рыб, птиц, зверей, но и более существенного был ловцом Сергей Тимофеевич, живя в Аксакове, — и самих «человеков», народных характеров, крестьянского языка во всем его богатстве и выразительности. Еще в детстве через своего дядьку Евсеича и ключницу Пелагею, «великую мастерицу сказывать сказки», будущий писатель породнился с крестьянским бытом, с той живой народной речью, от которой, как от плодоносной прививки, разовьется впоследствии язык аксаковских произведений с его свежестью выражений и ловкостью оборотов, меткостью словечек и образностью. Да и вкус к жизненной правде во всякого рода историях привил Аксакову Евсеич. Однажды, выслушав прочитанную Сережей в «Детском чтении» «Повесть о несчастной семье, жившей под снегом», Евсеич сказал: «Не знаю, соколик мой (так он звал всегда мальчика), все ли правда тут написано, а вот здесь, в деревне, прошлой зимой доподлинно случилось…» И рассказал, как мужик Арефий поехал за дровами в лес, как поднялся буран, Арефий сбился с пути, пошел в глубоком снегу отыскивать дорогу, обессилел, и его занесло снегом; лошадь вернулась в деревню одна, и, почуяв беду, мужики поехали отыскивать Арефия. Буран был страшный, только на третий день мужик-охотник случайно наткнулся на подозрительное место: увидев, как его собака, отбежав в сторону, начала лапами разгребать снег, охотник подошел к выкопанной ею норе, откуда шел пар: он принялся разгребать, и добрался ровно до берлоги, и видит, в ней человек лежит и кругом него все обтаяло. Мужик скорей в деревню, приехали с лопатами, откопали Арефия и в санях, прикрытого шубой, привезли домой. «Дома его в избу не вдруг внесли, а сначала долго оттирали снегом, а он весь был талый. Арефий от стужи и снегу ровно проснулся: тогда внесли его в избу, но он все был без памяти. Уж на другой день пришел в себя и есть попросил. Теперь здоров». И, закончив свой рассказ, Евсеич добавил: «Вот это, мой соколик, уж настоящая правда. Коли хочешь, то я тебе покажу его, когда он придет на барский двор». Через несколько дней Сережа увидел Арефия, приходившего к дедушке чего-то просить. Мальчику хотелось знать, как это все произошло в буран, но Арефий толком так ничего и не рассказал. И это тоже была «настоящая правда»: таков уж характер мужика, не способного расписывать ужасы.
Как-то шестилетний Сережа, приехав вместе с отцом в поле, увидел, как бороновали землю его крестьянские сверстники, и захотел сам попробовать. Но ничего у него не выходило: лошадь не слушалась его, он путался ногами по вспаханной земле, и крестьянский мальчик, шедший рядом с неумельцем, от души смеялся. И в сознании Сережи Аксакова, насмотревшегося на жнитвы, на другие тяжкие крестьянские работы, пробивалась мысль, как много умеют делать эти люди (которых в доме называли мужиками) и их дети, чего не могут ни мать, ни отец, никто другой в его семье. А сколько заботы и добра узнал он от Евсеича, всегда ласкового с ним, правдивого, с которым можно говорить обо всем и который поведал ему столько интересного о деревенской жизни. И эта с детства возникшая привязанность к деревне, ее людям с годами обратилась у Аксакова в сознательное поклонение крестьянскому быту, крестьянскому характеру. И уж семейным человеком, живя в Аксакове, глубже осознавая впечатления детских лет, Сергей Тимофеевич полнее постигал и свою связь с народом, нравственное значение ее для себя, как понял он однажды открывшийся ему «высокий смысл простых слов», сказанных «суровым жнецом», тех мудрых слов о несуетности труда на земле, которые «успокаивают всякое волнение», вносят ясность и тишину в душу человека и «под благодатною силою которых» живет народ. Не в этих ли «простых словах» сурового жнеца и зачатки будущей эпичности аксаковского слога?
…Однако шли своим чередом житейские дела, важные для семьи. В 1821 году Тимофей Степанович выделил сыну Сергею, у которого было уже четверо детей, село Надеждино, поблизости от городишка Белебея той же Оренбургской губернии, в ста верстах от Аксакова. Но не сразу отправился туда Сергей Тимофеевич. Решил сначала с семейством поехать в Москву, где и провел почти год, затем только вернулся в Оренбургский край, летом 1822 года, и поселился в нелюбимом Надеждине. Да, после Аксакова с его чудесным местоположением, роскошной природой Надеждино казалось местом скучным, почти голым, без лесной прохлады, без реки: не та тут охота, не говоря уже о рыбалке! Не принесла радости, а наоборот, повергла в уныние и попытка Сергея Тимофеевича заняться хозяйством. Два неурожайных из-за несвоевременных морозов года отбили у него всякую охоту к хозяйству, не в последнюю очередь причиной этому был, говоря словами самого Сергея Тимофеевича, «недостаток твердого постоянства», свойственный «моей впечатлительной натуре». Так или иначе, но хозяина из Сергея Тимофеевича не вышло. Не вдохновил его и пример соседей, заводивших к выгоде своей винокуренные заводы.
Прибывало полку Аксаковых: 26 сентября 1823 года родился пятый ребенок — это был Иван, будущая, наравне с первенцем Константином, слава Аксаковых. Константин же, казалось, не замечал никаких перемен с переездом в Надеждино, по-прежнему его тянуло к крестьянским ребятишкам, в доме раздавался его боевой голосок, доносились стихи о Москве. Однажды произошел разговор, имевший важные последствия.
— Костя, ты идешь с папашей гулять? — в присутствии Сергея Тимофеевича спросила сына Ольга Семеновна.
— Не папаша, а отесенька, — сказал сын.
— Как-как? — удивился Сергей Тимофеевич.
— Вы не папаша, вы отесенька, — повторил Костя.
Вот так открытие: отец — отеценька — отесенька! Устами младенца глаголет само таинство слова. Быть Константину филологом! И полоснула нежность к сыну, а «филолог» подошел к «отесеньке» и начал ластиться.
В августе 1826 года кончилась деревенская жизнь Аксаковых: они переехали в Москву.
Москва и прежде была для него мила и желанна, а теперь, с переездом, вернее, с возвращением, она стала для него и его семьи любимым городом, без которого они не мыслили своей жизни. Еще шесть лет тому назад, в 1820 году, проведя с семейством год в Москве, Сергей Тимофеевич вошел уже во вкус московской жизни, обзавелся друзьями, о которых здесь следует рассказать.
Из всех знакомств Сергея Тимофеевича с замечательными людьми это знакомство было, пожалуй, самое оригинальное. Произошло оно в 1816 году, в Петербурге, когда молодой Аксаков упивался своими декламациями и беседами в доме Державина. Все другое для него, казалось, не существовало в литературе. Жил он тогда у полковника Мартынова, оказавшегося близким родственником Михаила Николаевича Загоскина, которого Аксаков в глаза не видел, но знал как автора комедии. И вот однажды в литературном споре, задетый за живое тем, что гости в опровержение его мнения ссылались на комедию Загоскина, Аксаков рассердился, взял пьесу и стал вслух читать ее. Читал он с явным предубеждением, придирался к каждому слову и, выведенный из себя противниками, вспылил, бросил комедию под стол и объявил, что сочинитель глуп. Мартынов от души хохотал, довольный этим потешным зрелищем.
Прошло несколько дней. Аксаков сидел один дома, когда за дверью вдруг послышался шум и в комнату почти вбежал Мартынов, ведя за руку незнакомца — плотного молодого человека с румяным лицом, с прекрасными вьющимися каштановыми волосами и золотыми очками на носу. Веселый и как будто в предвкушении еще большего веселья, Мартынов подвел гостя к Аксакову и сказал: «Это моя роденька, Михаил Николаич Загоскин, — и, повернувшись к Загоскину, продолжал: — А это мой оренбургский земляк Сергей Тимофеевич Аксаков, который на днях, читая нам твою комедию, плюнул на нее, бросил под стол и сказал, что автор глуп». Мартынов залился смехом, видя произведенный эффект. Сцена была в самом деле презабавная: протянувшие было руки для знакомства молодые люди словно вдруг окаменели, стоя неподвижно друг против друга. Оба, вспыльчивые от природы, покраснели, особенно конфузливый Загоскин, смотревший совершенно растерянно. Первым опомнился Аксаков и нашелся сказать: «Ваша родня, а мой приятель Павел Петрович заранее придумал эту неприличную шутку, чтобы поссорить нас при первом свидании и чтобы позабавиться нашей литературной схваткой». — «Нет, все это правда», — с неудержимой веселостью уверял Мартынов, глядя, как немного пришедшие в себя «роденька» и «земляк» пожали друг другу руки. Надо было унять неугомонного забавника, и Аксаков сердитым голосом заявил, что если почтенный Павел Петрович не прекратит своих шуток, то он, Аксаков, вынужден будет оставить его общество. С Мартынова как рукой сняло веселье. Извинившись, он стал уверять, что пошутил и, как видит теперь, действительно неловко, но он очень желает, чтобы они были приятелями.
Всего несколько минут и пробыл Загоскин, вытянув из себя несколько незначащих фраз, и тут же поспешно ушел по своим делам. Сергей Тимофеевич, хотя и пресекший шутника и тем самым в какой-то мере оправдавший себя в глазах Михаила Николаевича, не находил в себе духу продолжить странное знакомство и уехал из Петербурга, так и не увидясь более с Загоскиным. С тех пор прошло четыре года, и вот приехавшему осенью 1820 года из деревни в Москву Аксакову стало известно, что Загоскин, уже женатый, отец двух сыновей, поселился в Белокаменной. В разговоре с одним из знакомых Сергей Тимофеевич рассказал о своем неудачном первом свидании с Загоскиным и признался, что ему совестно перед ним и он хотел бы съездить к нему, чтобы истребить недоразумение между ними. Знакомый только рассмеялся в ответ на опасения Сергея Тимофеевича. «Вы не имеете понятия о добродушии Загоскина, — сказал он. — Если вам что и будет угрожать при встрече с ним, так это его объятия». И действительно, предупрежденный приятелями о том, что к нему хочет приехать Аксаков, которому совестно перед ним, Загоскин встретил Сергея Тимофеевича как давнего друга, бросился к нему на шею, расцеловал и так стиснул в своих сильных объятиях, что гостю стало трудно дышать. «Ну как вам не стыдно помнить о таком вздоре! — говорил он, ясными глазами глядя на Аксакова. — Как я рад, что мы с вами встретились и будем жить вместе в Москве. Ну давайте же руку и подружимтесь». Столько было простоты, искренности, добродушия в этих словах, что нельзя было не отозваться на них всем сердцем, и Сергей Тимофеевич почувствовал, что полюбил этого человека. Так началась эта дружба, продолжавшаяся до самой кончины Загоскина.
Сергей Тимофеевич сам был порой откровенен до излишества, но до Загоскина ему было далеко! Михаил Николаевич не способен был ничего таить в душе, был весь как на ладони, простодушен по-детски. Со своей доверчивостью к людям, даже легковерием он зачастую попадал впросак, ничего не стоило его надуть, что охотно и делали многие, но это нисколько не меняло Загоскина. В каждом новом знакомом по-прежнему видел он прекрасного человека, для которого готов был сделать все. Сергея Тимофеевича, знавшего истинные достоинства своего друга, возмущало, когда он видел, как в светском обществе какой-нибудь невежда с лакейской наглостью смотрел на Загоскина как на простака, со значительной улыбкой слушал его одушевленную громкую речь, далекую от холодной учтивости этикета. Впрочем, справедливости ради надо сказать, что простота, непосредственность Загоскина иногда выходили из берегов, и последствия этого могли быть самые неожиданные, что не раз испытывал на себе и Сергей Тимофеевич. То вдруг, встречая Аксакова у себя дома, на пороге, обрадованный Михайла Николаич вместе с поцелуями тут же наддает гостю-другу тумаков в спину или в бок (а кулаки — что гири), приговаривая: «Ах ты хомяк, суслик эдакой!» То вдруг взбредет ему в голову показывать какие-нибудь табакерки или шкатулки, секреты в своих вещах или же хвастаться своей силой, в самом деле недюжинной, и тогда уж только остерегайся! Без улыбки не мог вспоминать Сергей Тимофеевич, как привел к Загоскину молодого Гоголя, и восторженный хозяин, крайне польщенный визитом восходящей литературной звезды, кроме всего прочего решил показать ему свои раскидные кресла. Аксаков, видимо, проявил излишнее любопытство к их устройству или же слишком быстро действовал Загоскин, но вдруг Сергей Тимофеевич вскрикнул и очутился в положении растянутого для пытки человека: руки его были прицеплены пружинами, и оторопевший Михаил Николаевич не сразу вызволил из беды своего приятеля. У пострадавшего после этого долго болели руки. Гоголю тоже, казалось, было не до юмора, но впоследствии, вспоминая эту сцену, он, сам даже не улыбнувшись, с таким оригинальным комизмом рассказал о ней, что все хохотали до слез.
На каком-нибудь вечере Загоскин мог вдруг кликнуть клич потягаться с кем угодно, кто кого поборет, кто выше перепрыгнет, подымет большую тяжесть, и тут же на ком-нибудь начинал пробовать свою силу.
И все ведь от добродушия, бесхитростности, душевной распахнутости, где бы, среди каких бы людей он ни был. Да, этот человек, безгранично доброжелательный, доверчивый к людям, красневший при малейшем смущении, мужественно сражался с французами в Отечественной войне, был ранен, получил орден за храбрость. По словам Сергея Тимофеевича, оба они с Михаилом Николаевичем были «большие и горячие крикуны» и говорили, кричали в пору первого знакомства, да и в дальнейшем больше всего о театре, ведь и Загоскин, писавший комедии, был страстным театралом и даже пытался участвовать в спектаклях. Но если Сергей Тимофеевич на сцене чувствовал себя превосходно, забывая о своей обычной смолоду застенчивости в светском обществе, полностью отдаваясь роли, то для бедного Михаила Николаевича актерство было сплошным терзаньем. Долго присматривался он к своим приятелям, которым все было нипочем на сцене, как рыбе в воде, и вот однажды решился сам сыграть в домашнем спектакле. Больше, чем кому-либо другому, ему хлопали, и никто другой не вызывал такого хохота, но, увы, относилось это не к представляемому лицу, а к самому Загоскину, являвшему собою весьма комическую фигуру… Выйдя на сцену, он начал конфузиться, перепутывать слова, не слушал суфлера, хлопанье же и смех публики только еще более вгоняли его в краску и смущение. Его герой должен был очаровать публику веселой, любезной, беспрестанной болтовней, а этого и в помине не было в Загоскине, из головы его вылетел этот проклятый шаркун, и одна мысль бесила его: зачем ввязался в эту игру? С лицом красным, как бурак, мямлил Загоскин долженствующие сыпаться светскими любезностями фразы, глядя за кулисы, откуда Аксаков (видевший не раз готовность друга уйти, не доиграв, со сцены) делал ему отчаянные жесты, упрашивая продолжать. Когда наконец спектакль кончился, то за опущенным занавесом раздались крик и хохот: то шумел и ругался приходивший в себя Михаил Николаевич под неудержимый хохот его друзей. После этого Загоскин дал зарок: более никогда не выходить на сцену, но каким-то образом опять подвергся искушению и еще раза два попробовал блеснуть в спектакле все с тем же плачевным результатом.
В 1820 году Аксаков узнал и, по его словам, горячо полюбил Александра Ивановича Писарева, совсем еще молодого, восемнадцатилетнего литератора, подававшего, по мнению Сергея Тимофеевича, большие надежды.
Общим другом Аксакова и Загоскина был Федор Федорович Кокошкин, значительно старше их возрастом, но еще более, пожалуй, чем они, пылкий в своей любви к театру. Он писал и переводил пьесы, был известным декламатором и даровитым актером. С ним Аксаков близко сошелся еще в 1816 году в Петербурге и впоследствии встречался в Москве.
Такова была хотя не богатая, но милая сердцу Аксакова летопись его московских знакомств, когда он в 1826 году вернулся в Москву. На другой же день по приезде он отправился в Большой Петровский театр. Издали его изумило и восхитило господствовавшее над площадью огромное величественное здание театра, возникшее на месте когда-то неприятно поражавших взор обгорелых развалин. Два года как был построен театр, и почти два года в нем шли спектакли. Теперь директором театра был Кокошкин, а Загоскин в конторе дирекции состоял членом по хозяйственной части. К ним-то, к своим приятелям, и спешил Аксаков, заранее предчувствуя, каким сюрпризом будет для них его неожиданное появление.
Он вошел в контору, спросил о Кокошкине и Загоскине. Узнав, что они в «присутственной комнате», Аксаков направился туда, но у двери был остановлен: капельдинер в придворной ливрее, выслушав просителя, важно отвечал: «Без доклада директору и без его дозволения никто туда войти не может».
«Директор мне приятель, и я хочу нечаянно его обрадовать», — говорил Сергей Тимофеевич, видя, как неприступный служитель недоверчиво оглядывает его поношенный немодный сюртук. Пришлось назвать свои имя и фамилию. Как только растворивший дверь капельдинер произнес: «Сергей Тимофеевич Аксаков», — то стоявший посреди комнаты рядом с каким-то значительным господином Кокошкин, забыв своего собеседника и заодно свою великолепную важность, бросился навстречу, и вот неожиданный гость уже был в его крепких объятиях. Тут же налетела целая буря: то Загоскин, услыхав имя друга, сорвался с места, разбрасывая бумаги на столе, опрокидывая кресла, натыкаясь на людей, ринулся в канцелярию, вырвал Аксакова у Кокошкина и с такой силой стиснул его, что Сергей Тимофеевич не на шутку мог в эту минуту опасаться за свою жизнь.
Со словами неподдельной радости ввели они друга в свою «присутственную комнату», и здесь снова начались объятия. Аксаков был растроган сердечностью друзей. Кокошкин, маленького роста, с большой головой, нарумяненный, в рыжем парике, в длинных чулках, в башмаках с пряжками, забыл свою важность и напыщенность и, довольный, а не как обычно — самодовольный, заходил по комнате. Значительный господин со звездою, видя, что не ко времени попал, вынужден был раскланяться и удалиться, и, оставшись без посторонних, они могли дать волю расспросам и восклицаниям.
За время отсутствия Аксакова на московской сцене произошло немало перемен. Кокошкин вкладывал всю душу в московский театр, заботился о пополнении его новыми талантами, которых он называл «нашим капиталом»; прослышав об игравшем в губернских театрах Щепкине, он переманил его в Москву. Из Рязани он выписал Львову-Синецкую. В театральной школе он заметил Живокини, помог артисту развить свой удивительный комический талант. Недаром восьмилетнее его заведование Московским театром сами артисты будут называть «незабвенной и самой блестящей эпохой». В момент описываемой встречи прошла только половина этого срока, деятельность директора была в самом расцвете, и своей энергией, одушевлением он невольно заражал окружающих.
— Так если Верстовский и Щепкин здесь, то я хотел бы лично познакомиться с ними, — пожелал Аксаков, узнав, что композитор и актер, которые ему хорошо были известны заочно, по письмам друзей, находились сейчас на сцене, где репетировалась комедия.
За ними тотчас же послали, и вскоре они явились, обрадованные, как казалось Сергею Тимофеевичу, не менее, чем он сам. Встретились они как давние приятели, и немудрено: как один хорошо уже знал обоих, так оба столько же наслышались от Кокошкина и Загоскина об их друге. Верстовский, еще молодой человек, который, пока Аксаков жил в деревне, определился директором музыки в Московский театр, при всей своей светской любезности был прост и искренне приветлив. Щепкин, почти ровесник Аксакова, небольшого роста, полный, круглолицый, сиял, поглядывая на Сергея Тимофеевича со своей мягкой улыбкой, сразу же весь превращаясь в слух, когда начинал говорить Кокошкин. Три года прошло, как он поступил на московскую сцену, и за это время прославился не только своим талантом, но и беспримерной среди актеров добросовестностью, театральной дисциплиной. Всем было известно, что он не только не пропустил ни одной репетиции, но даже ни разу не опоздал. Так будет и в дальнейшем, до конца его поприща, о чем с восхищением впоследствии напишет Аксаков, видя в Щепкине пример «взыскательного художника». И теперь, вызванный неожиданно к директору, обрадованный знакомством с Аксаковым, Щепкин пуще засиял, когда Кокошкин, обращаясь к Загоскину, сказал: «Да зачем же, милый, мы отвлекаем Михаила Семеновича от репетиции? Лучше мы поведем на сцену Сергея Тимофеевича: он увидит там почти всю нашу труппу и наши будущие надежды».
Аксаков и сам не мог бы объяснить себе, почему такое волнующее впечатление всегда производили на него репетиции, далекие еще от достоинств настоящего, слаженного представления. Была какая-то особая жизнь на сцене во время репетиции, магнетически действовавшая на него. И как никогда прежде испытывал он это теперь. Взволнованный всем пережитым за этот какой-нибудь час встречи с приятелями, а всего более вспыхнувшей с новой силой — после пяти лет безвыездно прожитой жизни в деревне — страстью к искусству, взошел он на огромную, великолепную сцену Большого театра, и его пронзило восторгом. Все кругом было полно движения и неизъяснимой жизни: мелькали тени людей, гремела музыка, пели хоры, разгорались пляски на празднике Вакха — разыгрывалась комедия на греческий сюжет с главным героем Аристофаном. Сначала он не мог ничего различить в полумраке, и только постепенно, приглядевшись к темноте, стал узнавать людей; музыка и голоса начали вдруг как бы затухать, толпы танцевавших и плясавших, медлительно удаляясь в стороны, исчезали. Громадная сцена опустела, и в воцарившейся тишине раздался мелодический, звучный, страстный голос Аристофана, заставивший вздрогнуть Аксакова, не сразу узнавшего в нем молодого Павла Мочалова. Этим довершилось очарование зрелища, показавшегося Сергею Тимофеевичу волшебным.
В перерыве актеры и актрисы окружили директора театра и гостя; Кокошкин, представляя Аксакову всю труппу, не поскупился на самые лестные слова, какие только можно было сказать о приятеле. Мочалов тихим голосом, так странно непохожим на его только что звучавший на сцене чудный тенор, мягкий и звучный, нежный и сильный, отвечал на расспросы стоявшего рядом с ним возбужденного Аксакова. Сергей Тимофеевич был хорошо знаком с отцом Павла, недавно умершим Степаном Федоровичем, талантливым актером и добрым человеком. Десять лет тому назад, уезжая из Москвы, Аксаков встретился со стариком Мочаловым у него дома, и тот попросил его послушать, как вместе с сыном и дочерью они исполнят сцены из пьесы, взятой им себе в бенефис. «Паша, Маша! — закричал он. — Ступайте сюда». И, указывая на явившихся Пашу и Машу, он сказал: «Это мой сын Полиник, а это моя дочь Антигона, а сам я Эдип». И тут же втроем, всей семьей, они разыграли несколько сцен из пьесы «Эдип в Афинах». Аксаков когда-то был в восхищении от игры старика Мочалова в лучших ролях, но талант актера не получил развития из-за недостаточного трудолюбия, понимания и изучения искусства. И уже банальными приемами становились некогда заразительные сценические порывы. Аксаков, оказавшись единственным зрителем будущего бенефисного представления, досадовал на молодящегося старика Мочалова в роли Эдипа, но тут же и забыл о нем, захваченный целиком Мочаловым-сыном в роли Полиника. Уже тогда в шестнадцатилетнем артисте проступал талант необыкновенный. И вот спустя десять лет Сергей Тимофеевич увидел Павла Мочалова в расцвете его изумительного таланта, его игра показалась ему самим совершенством. Поговорив с ним, Аксаков подошел к Щепкину, поглядывавшему на него с мягкой улыбкой, и они вступили в разговор словно были уже давно знакомы.
Сергей Тимофеевич не мог в тот раз до конца быть на репетиции, он должен был увидеться со знакомыми, которые ждали его, но на другой день он опять приехал в Большой театр, теперь уже на спектакль все того же «Аристофана». Более чем вчера кинулась в глаза огромность и высота зрительного зала, ярко освещенного, с наполненными блестящей, нарядной публикой партером и пятью ярусами, пленяющего великолепным убранством, соразмерностью архитектуры, легкостью лож, галерей и балконов, которые, казалось, держались в воздухе без всяких опор. Но сердце театрала взыграло еще ретивее, когда открылась видимая хорошо отовсюду, с самых дальних и верхних мест, огромная сцена с превосходными декорациями, представляющими площадь в Афинах, и когда в действие вступила масса театрального народа, изображающая греков, жрецов и вакханок. Он как бы попал на площадь в Афинах и сам участвовал (на то он и сам актер!) в происходящем. Щепкина он видел на сцене в первый раз и, уже зная по отзывам, что это первоклассный артист, удивился ничтожной роли, в которой он был занят. Тот вышел на сцену, чтобы произнести несколько ничего не значащих строк. Правда, актер и здесь сумел найти какую-то изюминку, произнеся ничем не примечательный стих: «Гермес! Петух твой улетел» таким образом, что публика ответила громким смехом и рукоплесканием. Сидевший рядом с Аксаковым его приятель объяснил ему, что Щепкин, появляясь перед публикой на такое короткое время и всего с несколькими стихами, только исполнял с охотою пожелание сочинителя, хотевшего видеть его именно в этой роли.
Но от Мочалова в роли Аристофана Аксаков был в полном восхищении. Сколько силы чувства, огня было в его упоительно-страстном голосе! Как он прекрасен был собою и какое живое, выразительное было у него лицо! «Это талант необыкновенный, из него выйдет один из величайших артистов», — говорил он мысленно самому себе и по невоздержанности своей то же самое тихо повторяя соседу — директору театра Кокошкину, кивавшему в ответ согласно головой. И об этом же не переставал говорить Аксаков и во время антракта, разгуливая с приятелями по афинской площади среди греков, ставших, впрочем, опять театральным людом. Узнав, что Мочалов дик в обществе, никогда не бывает в литературном кругу, Сергей Тимофеевич загорелся желанием подружиться с ним, поделиться знаниями об искусстве, которых ему, по мнению Аксакова, явно недоставало. Аксаков так горячо был увлечен планом просвещения Мочалова, что не мог тут же, в антракте, не рассказать об этом приятелю, который отвечал ему такой речью: «Дай бог тебе удачи больше, чем нам; ты скорее нас можешь это сделать; ты ему не начальник, и твоя бескорыстная любовь к театральному искусству придаст убедительности твоим советам, которые подействуют на него гораздо лучше директорских наставлений. Я уверен, что Мочалов тебя полюбит, — а это самое важное».
Эти слова много говорят об Аксакове, об отношении к нему знакомых, вообще современников. В то время ему было 35 лет, он ничего еще, собственно, не сделал ни в литературе, ни даже в театральной критике, все еще впереди, а между тем с его мнением очень считались как в литературе, так и в театральном искусстве. И причиной тому была действительно его бескорыстная любовь к искусству (при сильно развитом, разумеется, чувстве поэзии) и те человеческие качества, которые располагали к нему людей, заставляли их полюбить его, а это оказывалось «самым важным» в их отношении к нему, к его мнениям об искусстве. Но в случае с Мочаловым все было непросто.
Не желая откладывать доброе, полезное дело, Сергей Тимофеевич сразу же по окончании пьесы, выждав, пока прекратятся шумные вызовы Мочалова, подошел к нему, пылко высказал восхищение его несравненной игрой, надежды, свое желание ближе сойтись с ним. Мочалов в жизни — в отличие от сцены — не был актером, а скорее даже делался неловким в выражении чувства, и сейчас, осыпанный горячими похвалами и уверениями Аксакова, смешался и мог только пробормотать, что он сочтет за особенное счастье воспользоваться расположением Сергея Тимофеевича и что очень помнит, как любил и уважал его отец. Несмотря на свои тридцать пять лет, Аксаков был, по собственному его признанию, очень молод, но сильно волновался, наступал тот избыток чувства, когда требовалось побыть одному, и, простившись с Мочаловым, Сергей Тимофеевич, совершенно счастливый и от этого разговора, и от спектакля, от встреч с приятелями и от самого переезда в Москву, пустился в путь, в направлении отдаленной тихой Таганки, где он остановился со своей семьей…
Мочалов как бы открывал Аксакову те сокровища в сценическом искусстве, какие ему были прежде неведомы и которые делали его самого богачом. Он не находил слов от восхищения: какая бесподобная игра! Какая натура, какая правда, простота в малейших изгибах, в малейших оттенках человеческой речи, человеческих ощущений! Его просто поражало совершенство этой игры. Но иногда, даже зачастую, все выходило слабо, дурно. Мочалов был неподражаемо хорош, играя «спустя рукава», не думая о производимом впечатлении. Когда же старался, зная, что его смотрит начальство, какие-то значительные лица, заранее ожидающие от него блестящей игры, то выходило из рук вон плохо. Не узнать было актера, еще вчера в этой же роли приводившего в восторг знатоков.
Но и что-то другое, более глубокое, не поддающееся простому объяснению, задевало Аксакова в особенностях мочаловского таланта. Со Щепкиным все было ясно: он работал над собою буквально и день и ночь, с каждой репетицией и с каждым спектаклем улучшал, усовершенствовал свою игру, и можно было, не ошибаясь, ждать от него и завтра нового успеха и даже предсказать, в каком именно качестве. Не то с Мочаловым. Игра его могла привести поклонников то в восторг, то в отчаянье! Изумляясь тому, что талант Мочалова развивался как бы без ведома самого актера, всегда неожиданно, Сергей Тимофеевич считал это признаком гения по инстинкту. И в этом определении было столько же признания, сколько и оговорки: ведь «инстинкт», как ни чудесно его мгновенное озарение, постигающее предмет, не может собою восполнить необходимое актеру знание того же сценического искусства.
Позднее те, кто займется обстоятельным исследованием творчества Мочалова, найдут, что это был актер не только «инстинкта», но и глубокого понимания актерского художества, прекрасно осознававший свое довольно одинокое положение в современном ему театре, искавший правды на сцене в то время, когда на ней господствовала условность, и вынужденный полагаться в этом единственно только на самого себя за отсутствием образца, чем и были в немалой степени вызваны его срывы. Но Аксаков, как современник Мочалова, смотрел на дело проще (не через историческую даль, когда явление как бы очищается от всего второстепенного и видится выпуклее в своей существенности) и видел то, что было, скажем, у Щепкина и чего недоставало Мочалову.
Но о том же Щепкине, который был для него в известном смысле идеалом актера, некоей «золотой серединой», гармоническим единством таланта и труда, Аксаков говорил, что он «никогда не мог отделаться вполне от искусственности, которая была слышна в самой естественной игре его». Ведь тот же Щепкин считал высшим образцом искусства не кого иного, как Рашель, знаменитую в то время французскую актрису, в холодной рассудочной декламации которой он усматривал мастерство изображать страсти на сцене «очищенными» от жизненной правды, «просветленными», «облагороженными».
Мочалову чужда была такая «очищенность» страстей, когда он жил на сцене чувствами своих героев, особенно шекспировских, и прежде всего Гамлета, и недаром сам Аксаков не раз говорил об «истине и простоте» его игры. Но была и правда в некотором предубеждении Аксакова в отношении Мочалова. Игра по вдохновению, по страстному душевному порыву, по правде чувства создала особый, русский тип трагического искусства в театре XIX века, который резко отличался от французской декламационной школы. Начало этому положил А. С. Яковлев. Глубоко отдаваясь чувству, он своей игрой потрясал зрителей, например в роли Димитрия Донского. Но тот же Яковлев, особенно в последний период своей жизни, не выдерживал иногда роли как чего-то целого, воплощающего идею (что обычно достигается постоянным совершенствованием таланта в сценическом искусстве), и впадал в грубые эффекты. Недаром Пушкин писал: «Яковлев имел часто восхитительные порывы гения, иногда порывы лубочного Тальма». Об игре С. Ф. Мочалова (отца Павла Мочалова) в лучших ролях Аксаков говорил, что его можно было бы счесть «за одного из первоклассных великих артистов» по силе, искренности, правдивости чувства. И вслед за тем Аксаков заключает, что тот же С. Ф. Мочалов являлся во множестве других трагедий «весьма плохим актером; у него бывали одушевленные места. Но по большей части одушевление приходило некстати, не к месту, одним словом: талант был заметен, но отсутствие всякого искусства, непонимание представляемого лица убивали его талант». Павел Мочалов был велик на сцене, когда «без его ведома находило на него вдохновение свыше», по словам Аксакова. Но, часто увлекая публику «своим огнем и верным чувством», Мочалов другой раз в той же роли играл слабо, безжизненно, «сценический порыв, не подвластный актеру, улетал навсегда!». И дело не в небрежении актера к игре, сам Аксаков отмечал, что Мочалов в таких случаях «старался» играть хорошо (не угождая дурному вкусу публики, что тоже, впрочем, бывало, а желая понравиться знатокам), что свои роли-монологи (даже необычайно большие, на семи и больше страницах) он всегда знал наизусть.
В природе таланта Мочалова было то, что, однажды познав восторг обретенной высоты искусства, он уже томился сценической «обыденностью», «прозой», профессиональной игрой как таковой. И это не просто романтическая черта романтического искусства Мочалова. Есть здесь нечто от глубокой особенности русского творческого гения, его предельной требовательности к самому себе, к наивысшему проявлению своего бытия, к наивысшей цели. Это дало русской культуре, особенно литературе, ту духовную силу движения к идеалу, которая сделала ее феноменальной в мировой культуре. Но в этом «максимализме» можно усмотреть и момент катастрофический — на острие должного и сущего, идеального и реально осуществимого, жажды истины как вечной ценности и жгучего неудовлетворения всем временным, относительным. Более того, великие художники, сами носившие в себе неудовлетворенную жажду истины, видели в этом характерную черту вообще русского человека. Так, Толстой в «Войне и мире» говорит о неотразимо овладевшем Пьером Безуховым «неопределенном, исключительно-русском чувстве презрения ко всему условному, искусственному, человеческому, ко всему тому, что считается большинством людей высшим благом». Это «странное и обаятельное чувство Пьер Безухов испытал, когда он вдруг почувствовал, что и богатство, и власть, и жизнь, — все то, что с таким старанием устраивают и берегут люди, все это ежели и стоит чего-нибудь, то только по тому наслаждению, с которым все это можно бросить». И далее писатель обобщает это удивительное свойство русского человека: «Это было то чувство, вследствие которого охотник-рекрут пропивает последнюю копейку, запивший человек перебивает зеркала и стекла без всякой видимой причины и зная, что это будет стоить ему его последних денег; то чувство, вследствие которого человек, совершая (в пошлом смысле) безумные дела, как бы пробует свою личную власть и силу, заявляя присутствие высшего вне человеческих условий суда над жизнью». То, что здесь затронул гениальный художник — проблема глубокая и важная в отношении не только культуры, но и самой истории народа, его исторических судеб.
В игре Мочалова была эта жажда идеала (хотя бы в искусстве) и эти вытекающие — из невозможности полного его осуществления — последствия, попросту срывы. Взлеты и падения на сцене (или гениальное озарение, или провал, — середины нет) как бы отражались и в жизни актера — с периодами духовных интересов (писание стихов, статей о театре) и пьяными загулами. И здесь уже начиналось то губительное для творчества, что в применении к Яковлеву Пушкин называл «болезнями». Хотя Пушкин и отдавал предпочтение страстному Яковлеву перед другим трагическим актером, добросовестным и холодным Брянским, он не мог согласиться, что художник может творить только «нутром». Знавший, пожалуй, как никто, что такое вдохновение, он говорил между тем, что некоторые места в художественном произведении должны быть написаны на вдохновении, а все другие — на рассуждении. (Любопытно, что и С. Т. Аксаков, приступая в 1856 году к писанию своих «Литературных и театральных воспоминаний», говорил: «Вдохновения для этой статьи не нужно…») Пушкинское «чувство меры», единственное в своем роде в русской литературе, заключает в себе не только эстетический смысл. Оно может быть воспринято и как предупреждение против стихии безмерности (и не только в творчестве) с ее возможными катастрофическими последствиями. В великом искусстве Мочалова были и великие противоречия, в той же «безмерности» его. Восхищавшийся необыкновенным талантом актера Аксаков видел и то, что, по его мнению, могло стать причиною кризиса, и хотел помешать этому.
Что же вышло из его плана употребить все средства для образования актера? Сначала все шло хорошо. Мочалов приходил, чаще по утрам, домой к Аксакову, они читали друг другу то Пушкина, то Баратынского, то других поэтов; много говорили о театре, о сценических условиях, об игре знаменитых актеров. Как ни был Сергей Тимофеевич внимателен, вежлив, мягок в разговоре и обращении с актером, он, вероятно, не мог скрыть от него своего мнения о нем: что он, Мочалов, «не довольно умен, не получил никакого образования, никогда не был в хорошем обществе». Чуткая артистическая душа Мочалова не могла не почувствовать этого скрытого снисходительного отношения к нему гостеприимного хозяина, и это не помогало, конечно, их сближению.
Но и тогда, в двадцатых годах, к которым относится рассказ о встречах его с Мочаловым, истинность сценической игры Аксаковым была уже найдена — в ее естественности, простоте, в отсутствии эффектных приемов. В разговоре с Мочаловым он и наставлял его следовать этой «мере огня и чувства», которой владели «славные актеры» и которой, по его убеждению, недоставало Мочалову. И в этом своем наставлении Сергей Тимофеевич сам не знал «чувства меры», как и тогда, когда он отказывал великому актеру в уме и знании сценического искусства. Но ведь ученик-то был не из слепых (сам же Аксаков признавал в потрясавшей зрителей игре Мочалова «истину и простоту»). И было еще одно щекотливое обстоятельство. Искусство — это не та сфера, где можно учить художника теоретическими рассуждениями. Желателен для художника художнический же и пример. Современник Аксакова известный композитор А. Е. Варламов, размышляя о «школе пения», находил, что «лучшая метода… состоит в преподавании живым голосом», а для этого «необходимо учителю пения самому быть певцом». Сам Аксаков вспоминал, как, желая преподнести своему ученику-актеру урок правдивой игры, выдающийся русский актер И. А. Дмитревский проговорил монолог Отелло с такой «совершенной простотой, истиной и благородством», что все присутствовавшие при этом, в том числе и ученик, были поражены и изумлены. Хотя Сергей Тимофеевич и считал себя актером и видел в этом даже свое призвание, но, надо полагать, действовал на Мочалова не сценическим примером, а скорее всего именно советами, поучениями, а этого было недостаточно для влияния на гениального актера. Аксакову бросались в глаза «дурные привычки» Мочалова на сцене, о которых он и говорил и писал, обыкновение «ходить раскачиваясь, сгибаться, пожимать часто плечами. Не удерживаться на одном месте в порывах страстей и хлопать ладонями по бедрам». Великому ли дарованию «не победить таких ничтожных недостатков»! Сергей Тимофеевич готов был, не жалея сил, делиться с актером своими знаниями об искусстве, но что-то не загорался тот от его речей. Широкоплечий, с большой красивой головой, с черными вьющимися волосами, Мочалов как бы съеживался временами, отвечая на рассуждения хозяина кратко: «да-с, точно так-с, совершенно справедливо-с», но слова эти не воодушевляли Аксакова, видевшего, что остаются втуне его советы.
Курс домашнего образования закончился самым неожиданным и печальным образом. Раз как-то Мочалов заявился в дом Аксакова в таком подпитии, что хозяин, рассердившись на подобное неприличие и непотребство, насильно вывел актера, и с тех пор прекратились эти встречи, хотя, разумеется, интерес Сергея Тимофеевича к Мочалову, его игре не мог прекратиться, о чем еще будет сказано ниже.
Радовался Сергей Тимофеевич развитию таланта Щепкина. Подкупало уже необычайное трудолюбие этого актера. Вскоре же после переезда из провинции в Москву он удивил всех знавших его своей метаморфозой. До этого у него, проведшего детство и молодость на Украине, игравшего там и на юге, был южный выговор. Чтобы играть в Москве, ему надо было, уже тридцатипятилетнему, переучиваться, и вот спустя некоторое время он заговорил чисто по-московски. Не мог похвалиться Михаил Семенович и красотой своего голоса, сам он называл его «козлетоном». С таким голосом мудрено было блеснуть в роли городничего в «Ревизоре». Много терпения и упорства потребовалось актеру для того, чтобы поставить голос. Разве лишь для водевилей годилась и его малорослая, по его же словам, «квадратная фигура» (некоторые письма приятелям он шутливо подписывал: «твоя толстая Щепка»). Сколько же надо было повозиться с собой, пообмять себя да повертеться, чтобы из малоподвижного толстяка вдруг образовывался то развязный светский господин, то ловкий волокита, то галантный француз. Но не только в этом обуздании своей невыгодной для актерства «толстощепкинской» природы, не только в технологии актерского мастерства делал успехи Щепкин. И до переезда в Москву, еще в Полтаве, где он выступал в местном вольном театре, Щепкин дивил зрителей умением придать персонажу большое сходство с реальным лицом. Так, играя в одной комедии роль предприимчивого и ловкого корчмаря Израиля, Щепкин до того был похож на всем известного полтавского голову А. М. Зелинского, что многие из публики ахали: «Смотрите, смотрите, это Абрам Моисеевич. Это точно он». — «Да, он самый и есть».
Преуспевал Михаил Семенович в Москве и на поприще самообразования. В отличие от «дичившегося хорошего общества» Мочалова Щепкин не был робок в этом обществе, а напротив, видя расположение к себе знаменитых, образованных людей, прилаживался без особого затруднения к их кругу и по переимчивости своей актерской натуры впитывал как губка все то разнообразное и многоликое, что он видел и слышал. Помогала общению комическая живость его характера, готовность в любую минуту разыграть перед почтенной компанией, перед хозяином дома кого-либо из отсутствующих общих знакомых. За обедом у Аксакова он так забавно представлял своего благодетеля Кокошкина и драматургического своего кормильца Шаховского, что бывший при этом Погодин занес в свой дневник запись о полученном по сему случаю «большом удовольствии». Переехав в Москву, Щепкин попал точно в родной дом, вызывая всеобщее сочувствие своим происхождением (из крепостных), окруженный вниманием Пушкина, Гоголя, поддерживаемый и поощряемый Герценом, Белинским, Грановским, Тургеневым и другими. Но, пожалуй, заманчивее всего было для Михаила Семеновича такое святилище образования, как Московский университет, точнее, некоторые преподаватели его вроде Грановского. Не искушенный в книжных знаниях Щепкин с благоговением взирал на Грановского, учившего его «мыслить». Уроки профессора так сильно подействовали на Михаила Семеновича, что впоследствии, после смерти Грановского, он почувствовал себя как бы без провожатого и завещал похоронить себя рядом с могилой своего наставника. Внимал Щепкин и Герцену, но это не помешало ему (уже в пятидесятых годах), приехав к Герцену в Лондон, отговаривать его от революционной пропаганды. Так или иначе вращение в образованном кругу оттачивало умственные интересы Щепкина, пополняло его память всякого рода сведениями, расширяло представление об искусстве.
Но важнее будет сказать о непосредственных сценических успехах Щепкина. А они могли только радовать поклонников его таланта, к каковым принадлежал и Аксаков. Актер не пренебрегал ни одной ролью, какой бы ничтожной она ни была; как говорил о нем Сергей Тимофеевич, «выезжая на сцену Бабой Ягой на ступе с помелом, являясь Еремеевной в «Недоросле», он старался быть тою личностью, которую представлял». Аксаков видел заслуги актера и в том, что «Щепкин перенес на русскую сцену настоящую малороссийскую народность, со всем ее юмором и комизмом. До него мы видели на театре только грубые фарсы, карикатуру на певучую, поэтическую Малороссию, которая дала нам Гоголя! Щепкин потому мог это сделать, что провел детство и молодость свою на Украине, сроднился с ее обычаями и языком. Можно ли забыть Щепкина в „Москале-Чаривнике“ и „Наталке-Полтавке“?»
Любимым драматургом, на котором он воспитался, был для Щепкина Мольер. По словам Аксакова, Щепкин «тосковал по Мольеру» и со вступлением на московскую сцену, в первые же годы и в дальнейшем, переиграл многие роли мольеровских героев, добившись особой сатирической выразительности в образе Гарпагона в «Скупом».
Но верхом его сатирической игры, по мнению многих современников, было исполнение ролей Фамусова в «Горе от ума» и городничего в «Ревизоре». В туфлях, в коротких заправленных в чулки шелковых штанах, во фраке, Фамусов — Щепкин на сцене был не довольно барствен, но характерен в движениях, всякий раз меняя отношение к гостю и тон разговора с ним в зависимости от положения каждого в обществе. Это встречалось публикой как обличение его тщеславного, заискивающего и вместе с тем надменного характера, как некоего порождения самой социальной среды. Менее удобства для наружности актера представляла роль городничего. Маленькая, круглая фигура в мундире и ботфортах, каким появлялся Щепкин на сцене, не отвечала представлению о внушительности гоголевского Сквозник-Дмухановского. Но, как писал очевидец, несмотря на почти комическую наружность актера, публика смеялась не над его фигурой, а над положением героя, энергичность которого сталкивалась с ничтожеством его помыслов. Две последние роли дали повод критикам говорить о Щепкине как об актере, соединяющем внешнее правдоподобие, естественность, характерность частностей с обобщением, созданием типических характеров, или, говоря словами самого Щепкина, согласующем «актерство» и «художество».
Вскоре же по приезде в Москву Аксаков приятельски сблизился и с князем А. А. Шаховским, который только что переселился из Петербурга в Белокаменную. Позади у этого энергичного человека осталась целая эпоха бурной театральной деятельности. Как драматург Шаховской был на редкость плодовит и разнообразен: писал комедии, трагедии, водевили, бытовые пьесы, тексты комических и волшебных опер, переделки, вольные переводы и прочее (всего им был о написано более ста произведений для театра). Комедии и водевили его лишены, как правило, естественности действия и цельности, обобщенности характеров, но занимали публику внешними своими достоинствами: увлекательностью сюжета, идущей от отличного знания сцены, яркостью постановки и вообще игры артистов, к которым приноравливал свои роли драматург, давая каждому возможность повернуться к зрителям выгодными сторонами своего таланта. Нравилась зрителям в этих пьесах и непритворная веселость, остроумие (свойственные самому автору), та «колкость», которую Пушкин в «Евгении Онегине» подметит как главную черту комедий Шаховского. По душе было зрителям видеть на сцене в комическом виде известных современников, выведенных драматургом. Но были в лучших комедиях Шаховского достоинства и не только внешние. Чуткий к общественным влияниям, он умел почувствовать, по выражению Пушкина, те «счастливые слова», которые отвечали настроению зрительного зала, вызывали в нем ответные волнующие чувства, патриотический отклик (например на события Отечественной войны 1812 года, в которой сам Шаховской участвовал в качестве командира ополчения).
Когда французы оставили Москву, первым, кто в нее вошел во главе своего отряда ополченцев, был Шаховской. Он стал очевидцем бесчинств французов в Кремле, о чем рассказал в 1836 году в своих воспоминаниях о раззорении Москвы. Покидая Москву, Наполеон приказал взорвать Кремль, с его соборами, дворцами, башнями, стенами. Были взорваны царский дворец, арсенал, несколько башен, часть кремлевской стены; уцелели, к счастью, соборы, где «квартировали» недавно некоторые маршалы Наполеона, превратившие престолы в обеденные столы, алтари в спальни. Шаховской был поражен увиденным в Кремле после ухода завоевателей. В соборах все было «ограблено и разрушено, раки Святого Петра не существовало, и мы, собрав обнаженные от одежды и самого тела останки его, положили на голый престол придела. Гробница над бывшими еще под спудом мощами митрополита Филиппа была совершенно ободрана, крышка сорвана, могила раскопана. В Успенском соборе от самого купола до пола… не осталось ни лоскутка металла или ткани. Дощатые надгробия могил были обнажены, но одна из них разрублена, а именно патриарха Гермогена… В алтарь Казанского собора втащена была мертвая лошадь и положена на место выброшенного престола». Мародерами были расхищены церковные сокровища, десятки пудов золота, сотни пудов серебра.
Так «передовая» Европа показала «варварской» России образцы своей «культуры», на что последняя (то есть Россия) отвечала «варварским» великодушием, когда, войдя в Париж, ее воины не тронули ни одного здания, можно сказать, не дышали на «священные камни Европы», даже пресекли расправу местной черни над статуей еще вчера обожаемого Наполеона. Тогда же по приказанию Александра I при бесчисленных толпах парижан на месте казни Людовика XVI было совершено православное богослужение с поразившим французов «русским пением», тем самым состоялась как бы тризна по королю французскому. А возвратясь на родину, многие из этих воинов-освободителей, забыв о злодеяниях захватчиков на русской земле, бредили той же «передовой» Европой с блестящими Елисейскими полями в Париже и красивыми домиками под черепицей в деревнях и хотели бы, вроде будущих декабристов, по заграничному образцу переделать свою страну.
Лучшим произведением Шаховского стала комедия «Урок кокеткам, или Липецкие воды», написанная в 1815 году, возбудившая такое обилие споров, эпиграмм, что современники в шутку называли эту перебранку «липецким потопом». Больше спорили вокруг литературных пристрастий автора (высмеивавшего чувствительность, сентиментальный романтизм), но важнее в комедии другое. Автор выводит, с одной стороны, тех русских дворян, истинных, по его убеждению, патриотов, которые верны заветам отцов и дедов, нравственным устоям; с другой стороны — дворян, побывавших в Европе и вернувшихся оттуда с «вольнолюбивым вздором», «обезьянами» чужеземного, «в фабриках ума» которых «знание во всем поверхности одной», «к всему чужому страсть и к своему презренье». Это не случайные отдельные фразы (которые, впрочем, и сами по себе заразительно действовали на зрителей), а выстраданное после 1812 года патриотическое чувство, одушевляющее как героев, так и самого драматурга. Шаховской один из тех первых русских писателей начала XIX века, кто ополчился против «чужебесия», против умаления русского, и это не осталось бесследным.
Зоркий в своих наблюдениях, наделенный чувством современности, Шаховской нарисовал живые сцены и картины общественной жизни своего времени. Знаток народного языка, он вслед за Крыловым вводил в свои пьесы просторечие, редкие коренные русские слова, не боясь «грубых» выражений; впервые в русской комедии употребил вольные стихи, разностопный ямб, добиваясь этим самым еще большей живости разговорной речи: всем этим он предварял появление «Горе от ума» Грибоедова. Забегая вперед, можно отметить и то, что любовь Шаховского к русской старине, к народному творчеству, песенно-фольклорной стихии, интерес, в частности, к купеческому быту не пройдет бесследно для А. Н. Островского.
Итак, Шаховской переселился в Москву почти одновременно с Аксаковым, и, как выяснится вскоре, к большой радости Сергея Тимофеевича. Правда, обоим предстояло преодолеть некоторые затруднения на пути к дружбе. Дело в том, что Аксаков не забыл первую свою встречу с Шаховским в Петербурге, десять лет тому назад, в 1816 году, когда тот состоял, как тогда говорили, репертуарным членом при театральном управлении. Встреча эта была очень неприятна для Сергея Тимофеевича: приехав в Петербург по просьбе своего друга Кокошкина, чтобы поставить там на сцене его перевод французской комедии, он услышал от Шаховского самый дурной отзыв об этом переводе и уехал обратно ни с чем. И вот теперь, спустя десять лет, в Москве, вовсе не из злопамятности (к которой он, по его словам, «не был способен»), а вследствие предубеждений и слухов о невыгодных сторонах личности Шаховского, Аксаков не спешил с ним короче знакомиться вопреки желанию приятелей, в том числе и Кокошкина. Встреча все же состоялась, Аксаков после откровенного разговора протянул руку дружбы, в чем никогда не имел причины раскаиваться.
Самым замечательным, однако, в Шаховском была его страсть к театру. Он до самозабвения, до фанатизма любил сцену, посвятив ей всю свою жизнь. Сергей Тимофеевич, сам страстно увлекавшийся в ту пору драматическим искусством, поражался тому, до какого исступления может доходить человек в своей преданности театральному делу. Сблизившись с Шаховским, он мог постоянно видеть, как тот ставил на сцене пьесы — безразлично, свои или чужие, но всегда с одинаковым жаром самоотдачи, не замечая окружающих людей, не помня и не зная ничего и никого, кроме репетируемой пьесы и представляемого лица, и при этом устраивая такие выходки и впадая в такие неистовства, что нельзя было не хохотать до упаду, видя все это, и вместе с тем невозможно было не восхищаться им, целиком поглощенным любовью к искусству. Во время репетиции, недовольный вялым ходом ее, он вскакивал с места, подбегал к актеру или актрисе, стараясь то лаской, то шуткой, то даже собственным исполнением оживить, одушевить их игру. Одному актеру, не прислушивавшемуся к партнеру, он говорил (не выговаривая, на свой манер, букву «р»): «Василий Петлович, ты, кажется, устал, велно, позавтлакал и хочешь уснуть. Ведь ты не слыхал, что тебе сказал Федол Антоныч. Ведь он тебя обидел, а ты не селдишься». Молодая актриса, не проявлявшая должной пылкости чувств в объяснении с любовником, удостаивалась такого совета: «Дусенька, ну как же тебе не стыдно, как же тебе не глешно, ведь тебе совсем не жаль человека, котолый тебя так любит, ты, велно, забыла о нем, а ты вооблази, что это H. H.», — и Шаховской назвал имя человека, к которому, как думали, актриса была неравнодушна.
Однажды вывело из себя Шаховского пение хора. Он бросился в толпу хористов, называя их сапожниками, блинниками, передразнивая и показывая, как в пении надо выражать живое чувство, и это было так смешно, что присутствовавший при этом Аксаков вместе с приятелем убежал за кулисы, чтобы там предаться вволю хохоту. Он мог восторгаться, умиляться до слез, обнимать, целовать удивленного актера, игрой которого был доволен. Но когда начинал бормотать никем не понимаемые слова, это предвещало бурю бешенства. Однажды, доведенный до отчаяния ошибками актрисы на репетиции, Шаховской так расстроился, что Аксакову стало страшно за него. Все были по-зимнему одеты, один только Шаховской, не замечавший никакого холода, в одном фраке и с открытой головой, лицо его горело, слезы и пот катились по щекам, и пар стоял над его лысиной — таким врезался он тогда в память Сергея Тимофеевича. Все бросились к Шаховскому, уговаривая, умоляя его не волноваться, успокоиться, — и вот бешенства его как не бывало, он улыбался виновато и сам же смеялся над своими выходками.
Хорош, трогателен, даже великолепен Шаховской на репетициях, в своем театральном учительстве, да не всегда, при всем своем уме и зоркости, мудр. Такой знаток сцены не мог, конечно, не преклоняться перед гением Мочалова. Он бурно выражал свои чувства, когда актер находился в ударе. В таких случаях Шаховской по окончании пьесы обнимал, бросался перед ним на колени, целовал его в голову, умилялся до слез. В своем восторге от игры актера он не находил тогда сравнения: сам знаменитый французский трагик, бывший на устах у всех, уже не имел цены: «Тальма? Какой Тальма! — дрожащим от радости голосом говорил Шаховской. — Тальма в слуги тебе не годится: ты был сегодня бог!»
Но дело принимало совсем иной оборот: иногда актер срывался, когда Шаховской, желая похвастаться его игрой, виденной накануне, приглашал на пьесу какую-нибудь значительную особу, и узнававший об этом Мочалов терял на сцене свободу игры, чувствовал себя скованным, становился неузнаваемым, приводя в отчаяние вчерашнего своего восторженного ценителя. Тем более странны были подобные смотрины таланту Мочалова, что сам Шаховской прекрасно понимал это, как и вообще неуместность своих советов, излишне наставительных, о чем он говорил так: «Беда, если Павел Степаныч начнет рассуждать: он только тогда и хорош, когда не рассуждает, а я всегда прошу его только об одном, чтобы он
Аксаков знал цену Мочалову, но в оценке его сказывалось, видимо, и мнение Шаховского, в котором Сергей Тимофеевич видел «первого драматического писателя, первого знатока в сценическом деле», даже «единственного знатока сцены». И вообще дружеская приязнь много значила для Аксакова. Недруги приятелей становились его, Аксакова, недругами. А в самих приятелях он как бы и не хотел замечать того, что могло бы бросить на них тень. О Кокошкине в своих воспоминаниях он говорит как о рыцаре театра, в числе его заслуг называет и то, что тот перевел из Рязани в Москву Львову-Синецкую, ставшую гордостью русской сцены. Но ни словом при этом не обмолвился о некоторых деликатных сторонах взаимоотношений директора театра с этой юной актрисой, его фавориткой (как бы подчеркивавшей своей прелестью и обаянием безобразие «орангутанга», как называли Кокошкина современники). У Сергея Тимофеевича и не поднялась бы рука писать об этом — настолько он был предан дружбе. Так и в отношении Шаховского, слабости которого под пером Аксакова становятся даже симпатичными. Так и в отношении А. Писарева, молодого литератора, автора водевилей, скончавшегося в 1828 году в возрасте неполных двадцати пяти лет. Тщедушный Писарев, страдавший туберкулезом легких, считал своим литературным врагом Н. Полевого, язвительного критика его водевилей, воздавая обидчику сторицей: осыпая его острыми и злыми куплетами. Были и такие нападки, которые спустя десятилетия заставляли принимавшего участие в этих схватках с Полевым Аксакова сожалеть о крайностях полемики. Но при всех обстоятельствах личность Писарева в глазах Аксакова нисколько и ничего не теряла, не говоря уже о его литературном таланте, который буквально превозносился Сергеем Тимофеевичем. Справедливо то, что Писарев был действительно блестящим водевилистом, любимцем московской публики. Хотя, как и подобает этому легкому жанру, водевили Писарева не были обременены общественным смыслом и сводились чаще всего к занимательной интриге, сценическому эффекту, все же были в них помимо живости действия и какие-то жизненные, социальные отзвуки, и пунктиром обозначенные характеры. Опьяненный успехом своих пьес, Писарев, по словам Аксакова, «утонул в закулисном мире», и эта закулисная жизнь так же, как и мелкие литературные распри, сплетни, мельчили творческие его интересы. И все же как мастер занимательного, сценичного, остроумного водевиля он сделал свое дело, недаром Белинский, говоря об авторах-ремесленниках пошлых водевилей, наводнивших сцену в 30-е годы, писал: «Все наши теперешние водевилисты, вместе взятые, не стоят одного Писарева». Надо было иметь дружескую благожелательность Сергея Тимофеевича, чтобы видеть в водевилях Писарева выдающиеся художественные произведения, а в нем самом «великие надежды». Но, может быть, и оттого так безмерен был Сергей Тимофеевич в похвалах своему молодому другу, что уже чувствовал обреченность его так и не развернувшейся жизни, а в воспоминаниях о нем образ его прояснится, как и многое другое в прошлом, очистительной любовью. Писарев угасал, приближаясь к той черте, за которой печать трогательной детской незащищенности ложится на искаженный прежде страстями, всем мелким и наносным облик. Оставались позади литературные драки, водевили, в том числе жизненные, и драма жизни являлась уже не на сцене, а в собственной душе, и справляться с нею предстояло без зрителей.
Таковы были литературные друзья Аксакова. Впоследствии знакомство, а затем сближение с Гоголем, перевернувшее представление Аксакова о литературе, внесло существенную поправку в литературные отношения Сергея Тимофеевича к своим друзьям. Сын Аксакова Иван скажет позднее так: «Это был рубеж, перейдя через который Сергей Тимофеевич растерял всех своих литературных друзей прежнего псевдоклассического нашего литературного периода. Они остались по
Без ложной скромности, а самым искренним образом, уже став автором «Семейной хроники» и «Детских годов Багрова-внука», Сергей Тимофеевич будет считать и себя «второстепенным писателем», оставаясь, может быть, и в этом верным памяти своих давних литературных друзей.
По деревне ходила колотушка, ее мерные «ту-ку, ту-ку» то приближались, останавливаясь, видно, где-то около церкви, то медленно удалялись на край деревни, замолкая на некоторое время, чтобы опять размеренно застучать. В детстве для него было волнующей загадкой, что кто-то ходит по деревне и стучит колотушкой, и теперь ему было как когда-то, давным-давно, так хорошо от этого монотонного, усыплявшего в конце концов туканья.
Проснулся он от петушиного пения. Пронзительному петьке отвечали крикуны из ближних и дальних концов деревни, подзадоривая друг друга; в наступавшей глубокой тишине угадывался едва различимый, смутный клик их заброшенного где-то далеко собрата.
Вскоре он с удочками в руках шагал по улице деревни, к мельнице, где любил рыбачить на утренней зорьке. Деревня просыпалась. Слышалось мычание коров, скрип ворот, стук калиток, со двора доносились голоса, обращенные к скотине. Кто-то отбивал косу, и бодрый стук молоточка по железу гулко отдавался в рани. Над избами вились сизые дымки, с легкостью поднимавшиеся вверх и там таявшие. Сергею Тимофеевичу представилось, как в каждом доме хозяйка, затопив печь, возится с чугунами у загнетки или же разливает в горшки из ведра парное, только что надоенное молоко, как вслушивается в шепот восходящего в деже теста, прежде чем отправить его в печь. Таким обжитым был этот мир, и особенно это чувствовалось теперь, в ранний час, когда он шел мимо живших своей невидимой, издревле трудовой жизнью крестьянских изб.
На плотине он остановился, вслушиваясь в доносившиеся из деревни звуки, смягченные расстоянием и сливавшиеся друг с другом на поверхности пруда. В туманной проседи, где-то за рекой Бугуруслан, ближе к Челяевской горе, раздавались лошадиное ржание, отрывочные голоса, гиканье ребятишек, воротившихся из ночного. Поднявшееся солнце озаряло все вокруг; справа расстилались коврами скаты холмов, дымящиеся росой в потоках света. Впереди курился паром невидимый отсюда в берегах Бугуруслан. С куста ольхи, стряхивая росу с листьев, вылетела какая-то птичка, из травы выскочил жаворонок, спиралью устремился вверх, повис в воздухе и залился, захлебываясь в восторге. На середине пруда, у берегов играла рыба, плескалась, пускала пузыри. Волнение рыбака пересиливало все другие чувства, и как ни радостно было на душе Сергея Тимофеевича при виде пробудившейся природы, его брало нетерпение скорее забросить удочки и следить за поплавком.
Так он и просидел на берегу пруда незаметно для себя четыре часа, испытав, как всегда, и удачи и горькие неудачи (две большие рыбы сорвались). Клев ухудшился, надо было собираться домой. У мельничного амбара стояла не замеченная им ранее телега, на которой сидел, привалившись к мешку, старик. Увидя, что Сергей Тимофеевич направился к нему, старик бодро для своих семидесяти лет спрыгнул на землю, оставив на телеге свой зипун.
— Никак вы, батюшка Сергей Тимофеевич? То-то глаза мои плохо стали видеть, а признал, как не признать!
— Здравствуй, здравствуй, Федот! — обрадовался Сергей Тимофеевич, вспомнив, как не раз встречался с этим стариком из соседней деревни на этой же мельнице и полюбил разговор с ним, когда жил в Аксакове с семьей много лет тому назад. Федот, казалось, мало изменился с тех пор, только сгорбился, но был такой же живой, ясный лицом.
— Как живешь, как здоровье?
— Все слава богу, жаловаться грех в мои-то годы. Вот ржицу привез помолоть, и будем опять с хлебушком. Я каждый раз приезжаю и все вспоминаю, царство ему небесное, вашего дедушку Степана Михалыча. Без него ездить бы нам молоть хлеб за сорок верст, а ныне эко вон, рукой подать. Я-то ровесник вашего батюшки, не помню, а старики постарее меня сказывают, как мельницу Степан Михалыч строил. Сделал помочь, позвал соседей — всем миром понаехали, с лошадьми, с телегами, лопатами, вилами, топорами. Два дня все огнем горело, тут и мужики, и бабы, и ребятня, кричат, орут, песни поют. Дубовые сваи забили в дно реки, пропасть всего полетело в Бугуруслан — пучки хворосту, копны соломы с камнями, дерну, назему, рубленого мелкого лесу, кустов. У реки не стало сил уносить такую пропасть, сваи-то держут, ну и поднялась стена. Бросились парни, мужики наверх запруды и давай ее утаптывать да уминать. Заперли Бугуруслан, разлился он по лугам, народился пруд, и мельница замолола. И доныне все мелет и толчет. Крепко душевное дело! Прошлым летом у нас в деревне погорелец делал помочь, так ему дом сообча поставили краше прежнего!
Словоохотливость старика нравилась Аксакову, она не была навязчивой, многое вспоминалось из прошлого в этом разговоре. Федот не только говорил, но и расспрашивал Сергея Тимофеевича о житье-бытье.
— Детки-то здоровы? Вона сколько их у тебя, как у хорошего мужика!.. Ребят бы побольше. Без детей какая жисть? Сказано: негоже человеку единому быть, и верно! Един человек — обсевок какой-то, без семьи, без людей. Живет у нас в деревне Тихон, молодой, здоровый мужик, жена красавица, кровь с молоком, живут в достатке, справное хозяйство, а детишек Господь не дал. Так и зовут Тихона в деревне: нещастный. Дому бы гудеть от ребят, а в ем тишина, как при покойнике. Разнещастный тот человек, у кого нет детишек!
В глазах старика выразилось неподдельное сочувствие к бездетному мужику. Долго еще стояли они и разговаривали у телеги.
— А скажи мне, батюшка, Сергей Тимофеич, — как-то необычайно оживился старик, — правду ли сказывают, стоит така земля, Беловодь. Далеко туды добираться, скорым ходом семьдесят ден, скрозь город Отуль. Дак, говорят, не жисть там, а рай. Все довольны, фрухты заморские кушают и вином запивают. Не жисть, одно загляденье. Мужики наши завидуют. А по мне, все это пустое. Какая там Беловодь — вилами по воде писано, а тут, глянь, диво какое! Зачем бегать неведомо куда, коль рядом такая благодать? Все родственное, наше. И люди свои, поговорить с ними любо. Нет, лучше родных мест нет нигде. Где родился, там и пригодился.
В это время к амбару подошел помольщик, старику надо было молоть свою рожь, и, попрощавшись с ним, Сергей Тимофеевич тронулся домой. Шел он, и в ушах его звучали слова: «Где родился, там и пригодился».
В самом деле, это так. Хотя он и не здесь родился, а в Уфе, но родиной стало для него Аксаково, где жил его дед, отец, мать, где в детстве впитал он столько незабываемых впечатлений. Не был здесь тринадцать лет, вот приехал, и всколыхнулось все в душе, все ожило в памяти и заговорило. И эта родная земля, все знакомое на ней, каждый кустик, каждая кочка, эта дорога, набитая ногами его предков, тысячами крестьянских лаптей, лошадиных, коровьих, овечьих копыт, лапками всякой птицы и живности; дорога, укатанная телегами, колясками, санями, обвеянная ветрами, метелями, напитанная дождями, прокаленная зноем и морозами… И сколько песен она слышала в праздники, и сколько плача при похоронах. Всего-то какая-нибудь верста, а нет на земле иной версты, которая бы для него, как эта, всего так много впитала.
Деревенская улица, знакомая каждым бугорком, канавкой на обочине, каждым своим затравевшим островком, была в этот утренний час пустынной; лишь встретилась у колодца с журавлем пожилая женщина, набиравшая воду (и поклонившаяся ему, когда он проходил мимо), да за изгородями в огородах кое-где копались старики. Ребятишки, как и взрослые, уже были в поле. Сергею Тимофеевичу и самому надо было быть сегодня в поле, он ведь и приехал в Аксакове из Москвы (было лето 1839 года) по хозяйственным делам, чтобы собрать урожай ржи и продать ее: нужны были деньги, чтобы семья могла жить в Москве.
Вскоре он был в поле. С тропинки вошел в самую рожь, по грудь. Шли волны по желтеющему пространству, нагибались, никли тяжелые колосья, высокие стебли шелестели, как тростник. Он сорвал колос, полновесный, крепкий, с усиками-остьями на конце, мелко-мелко дрожавшими, издававшими, казалось, неслыханный звук еще не оборванной трепетной связи с полем, с землей. Отделил самое верхнее зернышко, обкатал его на подушечках пальцев, ногтем разломал пополам и долго рассматривал мучнисто-серый слой на обеих половинках: потом положил несколько зерен в рот, размалывая их зубами, рассасывая языком, ощущая вкус муки, непеченого хлеба.
За недалеким колком, маленькой березовой рощицей, была, видно, в разгаре начатая вчера жатва, и Сергей Тимофеевич направился туда, не переставая вслушиваться в шелест волнующейся нивы. На сжатой полосе стояло много снопов, и за ними он не сразу заметил работников. «Бог в помощь», — сказал он, подойдя к ним. Косившие рожь отец и сын остановились, в ответ поблагодарствовали. Старший, отирая пот со лба, прерывисто дыша, проговорил: «Ишь, как припекает… ну да грех жаловаться… в самую пору ведро». Младший взялся было за косу, приготовившись сделать взмах, но отец сказал: «Погодь, передохнем чуток», и тот, уложив на стерню косу, уселся около нее с блаженным видом. Две молодые женщины, дочь и невестка хозяина, сгребавшие ряды скошенной ржи и вязавшие снопы, тоже перестали работать, опершись на грабли, они со смущением смотрели на Сергея Тимофеевича. Прилив смущения ощутил и Сергей Тимофеевич, как было с ним всегда, когда стоял среди людей, только что прервавших, ради беседы с ним, свою тяжелую работу, от которой они еще тяжело дышали и отирали с воспаленных красных лиц струи пота. Казалось, он мог расслышать, как гулко и тяжело стучат у них сердца, с каким напором проталкивается кровь по вспухшим жилам, оплетающим эти большие, темные от солнца руки.
«Сколько навязали снопов, да еще успевают и жать», — подумал он, увидев два лежавших на разостланном рядке серпа. Старший, глядя на стеной стоявшую рожь, сказал: «Сильна, матушка, рукам, спине тяжело, зато на душе легко. Шутейное ли дело — два пуда чиста зерна в снопе. Не укоришь, вязальщицы старательные, — посмотрел он в сторону снохи и дочери. — Да и Степан, мой мужик — погонять не надо, как возьмется за дело — не оторвешь. Только больно веселый, петь любит.
Бывало, парнем весь светлый день в поле, вечером придет домой, умоется, поужинает, и на улицу песни петь. Оженился, остепенится, думаю, нет, такой же весельник, хоша уж и дети у малого. Намедни послал его на двор посмотреть скотину. Жду — час, другой, нет его. Уж не случилось ли чего. Вышел сам — а посреди двора мой Степка отплясывает. Валяется рядом зипун, ведро пустое, лунища во все небо, а он ногами крендели выделывает. Больно поплясать, говорит, захотелось, обо всем забыл. А уж полночь на дворе, хоша и светло от луны. Непутевый парень».
При этих словах отца Степан захохотал, запрокинув голову.
Степану доставлял явное удовольствие рассказ отца, да и жене Степана тоже, она звонко смеялась, словно и не было усталости.
Больше все говорил старший, вспоминая прошлые урожаи, наставления хлеборобов-стариков, ныне уж отошедших в вечность. Вдруг со стороны колка раздался детский голос, и подбежавшая к ним девочка лет шести с кувшином в руках быстро затараторила, подражая, видно, материнскому языку: «Маманя, Пашка с Манькой проснулись, орут, как оглашенные, сладу нет». Мать тотчас же побежала к краю рощицы, где, видно, находились в тени проснувшиеся малолетки.
«Папаня, дедушка, водицы попейте», — протянула девочка кувшин с водой. Старший предложил первому попить Сергею Тимофеевичу, тот не отказался. Отец и сын пили без передыху, утоляя жажду в начавшийся жаркий страдный день.
Как-то внезапно накатили упругие волны теплого ветра, заливая уши, приятно обдавая под пузырящейся рубашкой тело. Зашумела рожь, рванулась с места, охваченная кипенью, рощица. Старший посмотрел на небо, в безбрежной еще недавно голубизне его медлительно плыли темноватые по бокам облачка.
«Как бы дождь не пошел, избави и сохрани, — сказал он. — Успеть бы управиться до вечеру с окрайкой (так называлась полоса, прилегавшая к роще), а там и скопнить. Поляжет ржица — глядеть-то на нее ровно на дите при смерти».
Сергей Тимофеевич пожелал им всего доброго и отправился дальше. Он шел, и мысли его были все о поле. Какие события пережил мир… Наполеоновские войны потрясали Европу, пронесся ураган Отечественной войны, сколько перемен даже в малом — в его жизни, а здесь все то же, что было и много лет тому назад — поле, и на нем рожь, и рядки, мужик, убирающий то, что он же сеял осенью прошлого года, а весной все начнет сначала, и на этом вечном — сеять и собирать — стоит мир. И что бы ни произошло на земле, какие бы события — теперь ли, в будущем — не обрушивались на нее — останется на все времена это поле, отдыхающее под парами, принимающее в себя семена, всходящее зелеными ростками и засыпающее под снегом, чтобы подняться с наступлением весеннего тепла и зашуметь летом колосящимся раздольем.
Прошли страдные дни, самая горячая пора хозяйственных забот, когда Сергею Тимофеевичу приходилось много ездить по полям не только в Аксакове, но и в Надеждине, где урожай менее радовал, ибо земля здесь была «стара и камениста», как писал он семье, проводившей без него лето 1839 года под Москвой, в Аксиньине. Да и не все было так благополучно в делах, как, впрочем, не были безмятежными и отношения с крестьянами. Сергею Тимофеевичу казалось (и он писал об этом жене), что никакой управитель не заменит личного всегдашнего присутствия помещика, и выходило вроде бы, что живи он сам постоянно в деревне — больше было бы ладу с мужиками, больше было бы телег с рожью. Словно и не было прежних неудач, заставивших его в 1826 году переехать в Москву… Но и теперь, приехав в деревню по хозяйственным делам, Сергей Тимофеевич мог бы сказать: не хлебом единым жив человек. Впечатлений было много. И от посещения родственников, и от совместных поездок по деревням с братом Николаем Тимофеевичем, и от общения с крестьянами. Он любил заходить в крестьянские избы, разговаривал со стариками и старухами, помнившими то время, когда в расцвете сил был его дед Степан Михайлович. Дивились, как все это было совсем недавно. «Кажись, жись долгая, а оглянусь — все годы в горстке», — говорила худенькая старушка, показывая ладонь и складывая пальцы в маленькую горсть. В каждой избе гостя сажали поближе к красному углу, и все в доме было на виду, от нехитрого скарба, лавок и стола собственноручной работы до смышленых рожиц ребятишек, выглядывавших сверху, с полатей, и прислушивавшихся к разговору взрослых. От них в доме ничего не таили, у старых и малых было все общее, как и в их аксаковской семье, с той разницей, что в крестьянской семье уже с малолетства дети трудились вместе со взрослыми.
Издревле труд земледельца назывался праведным. И этим тоже освящался в глазах Аксакова быт крестьян, так же, как их многовековой народной моралью. Говорили просто: это грех — и этим было все сказано. Дикостью считалось встретить на улице человека и не поздороваться с ним. И что особенно было дорого для Сергея Тимофеевича в крестьянах — это цельность характера, которая всегда давала знать о себе в самом их языке.
После артистической, писательской среды это бросалось в глаза. Там между сутью человека и его речью была иногда целая пропасть, и вообще вместо человека — слова, слова, слова, за которыми самого-то его и не видно. А тут — за каждым словом практический, житейский смысл, действие, характер. Сергею Тимофеевичу любопытно было представить, как воспринимал бы его земляк-крестьянин ту речь, которая слышалась в московском кругу его приятелей и знакомых — литераторов, артистов, любителей красно поговорить. Конечно, мужик многое бы не понял в этой речи, но и не запутался бы в ней, его не сбила бы с толку вся эта ученость и нарядность разговора, он вышелушил бы из этой словесной половы самые зерна, суть дела, и вполне возможно, что оказалось бы это не к выгоде говорящих. Он только и сказал бы: «Говорит направо, а глядит налево» — и все ясно, и с ног до головы виден человек, как он не исхитряйся казаться иным, как не блистай словами. В народном языке сама существенность. И так во всем. В отношении к людям, к природе, к миру. Кажется, крестьянская жизнь однообразна и узка. Из года в год, из поколения в поколение — тот же цикл работы, та же бытовая устойчивость. Но ведь и в природе такое же повторение времен года, и земля однообразно вращается вокруг солнца, и во Вселенной свой постоянный ритм. За кажущимся однообразием крестьянского мира стоит полнота, которая объемлет все ступени бытия. Здесь человек и философия, мир вещественный и духовный, общественные и бытовые порядки, исторические предания и осмысление нового в жизни, вечное и современное. Иные думают, что крестьянин вроде бы и не выходит за тесный круг помышлений о хозяйстве, и дивится, когда вдруг услышат от него: «Все мы люди, все человеки». Да еще помудренее: «Что ни человек, то и я». Понимание этого главного и составляет истинную мудрость, которою могут быть наделены неученые и могут быть обойдены те, кто кичится своей ученостью. В народе говорят: премудрость одно, а мудростей (то есть хитростей) много; умен, да неразумен; ум доводит до безумья, разум до раздумья. Что ни пословица, то целое откровение: «Человек не для себя родится», «Телу простор, душе теснота», «Всяк человек ложь — и я тож». Откуда, казалось бы, у этого живущего миром крестьянина такое понимание особости каждого лица: в лесу лес не ровен, в миру — люди. То и удивительно, что эта жизнь миром уживается в крестьянине с сознанием своего несходства с другими, вообще неровности людей, невозможности подвести всех под одну колодку, и этим нисколько не нарушается цельность его характера.
Но отношения Сергея Тимофеевича с крестьянами не были умилительными, было событие, которое потрясло всю Оренбургскую губернию и от которого не остался в стороне и его дед Степан Михайлович. От стариков, помнивших мальчиками то грозное время более чем шестидесятилетней давности, Аксаков слышал о пугачевщине, как ходили по деревне слухи об Оренбурге, у стен которого полгода стоял Пугачев, и в городе был ужасный голод. Перешли на сторону самозванца жители Бугурусланской слободы, в тридцати верстах от села Аксаково. Дворяне, помещики, которым угрожала виселица, пустились в бегство, Степан Михайлович со своим семейством тоже бежал — сначала в Самару, потом вниз по Волге, в Саратов и Астрахань. После подавления восстания и возвращения в усадьбу деду могло казаться, что все прошло, все успокоилось, все забылось, но в жизни не все так быстро забывалось. Памятна была Сергею Тимофеевичу и история с Николаем Калмыком, любимым дворецким его деда по матери, Зубина. Он бежал к бунтовщикам, сделался любимцем Чики, бывшего, в свою очередь, любимцем Пугачева. Схваченный, был приговорен судом к виселице, но его помиловали по просьбе Зубина. И вот, спасенный своим господином, он притворился преданным ему, хитростью вошел в доверие, интриговал, клеветал на его дочь, еще более, чем прежде ненавидел своего барина. Всегда можно было ждать ненависти, порожденной крепостным правом, противоестественность которого хорошо понимал Сергей Тимофеевич.
И здесь, в деревне, он мыслями, воспоминаниями был с семьей, с Оллиной, с детьми. Вспоминался часто Костя, с которым он жил одно лето здесь, в Аксакове, четыре года тому назад, и который подробно рассказывал в письмах матери об их житье-бытье, о крестьянах, их трудах, жалобах на старосту, которому ничего не стоило их надуть и оскорбить. Прежде чем сделать приписку, написать немного от себя, Сергей Тимофеевич прочитывал письмо сына, останавливая свое внимание на фразах вроде следующей: «Вчера, когда в лютый жар приехали мы на сенокос и увидели косцов, теряющихся в пространстве на горизонте, одолевающих необъятную степь; когда потом, покрытые потом, подошли они к нам, с радостью здороваясь с нами, живые источники наших доходов, задумаешься, нечего сказать».
Не было для Кости на свете мест более дорогих и прекрасных, чем эти родные аксаковские места, где он родился. Не было слов более благозвучных, чем названия здешних урочищ: Максютовский исток, Мележский исток, Липовый, Сосновый, Малиновый, Мокрый, Каменный. Дикая гора, Белые ключи. Много тут родников сильных, но не раскопанных, и Костя любил «копаться» в родниках, ходить по берегу Бугуруслана, по урочищам, искать родники, расчищать их. Сам он называл это своей страстию к родникам и считал, что она может годиться здесь с большой пользой. По-детски чисто радовался он каждому найденному новому роднику. Матери писал он, как ходил по полям, по дорогам между хлебов: «…иногда дорога укатана, как пол, иногда идут правильные три колеи, но это совсем не колеи, которые у нас под Москвой, это просто прелесть: ровные, не глубокие и поросшие на разделении травою; трава бьет по ногам, когда идешь, что невыразимо приятно». И вслед за этим уже совсем об ином: «Но я не писал вам о другой стороне деревни, которая занимает нас всех постоянно, стороне серьезной, нерадостной, заставляющей много думать: это о трудах крестьянина…» Не таков Костя, чтобы умиляться деревенской идиллии, не видеть главного — крестьянской жизни.
В этот свой приезд в деревню Сергей Тимофеевич навещал уже обе родительские могилы: шесть лет, как умерла мать, в 1833 году, два года, как не стало отца, в 1837 году. Грустно думать, сколь чужими стали родители друг другу в конце своей жизни. Не узнать было матери, когда-то гордой, властной, командовавшей мужем, тихим, покорным; в последний при ее жизни свой приезд в Аксаково Сергей Тимофеевич наслушался от нее жалоб на отца, который благоволил к крепостной женщине Авдотье, наводившей страх на хозяйку. Сергей Тимофеевич решил вмешаться в эту историю, чтобы удалить Авдотью, но мать не соглашалась, боясь неудовольствия мужа, и говорила: «Хорошо тебе, ты уедешь, а я останусь на руках отца вашего! Я слепа и во всем от него завишу». Отец как бы платил ей этим за многолетнее свое послушание и зависимость, и теперь уже мать была в положении униженной. Тяжело было видеть все это.
После смерти матери Сергей Тимофеевич написал письмо отцу, где горячо сетовал, по откровенности своей натуры, на поведение родителя, приблизившего к себе, вскоре же после кончины жены, Авдотью, тем самым, как писал сын, оскорбляя память покойной и оскорбляя детей. Каким же гневным было ответное письмо отца, чуть ли не проклятием! Но не о сыновнем заступничестве за память покойной матери шла речь в письме отца, а совсем о другом. Гнев отца вызвало то, что старший сын продал своему брату Аркадию Тимофеевичу часть наследства, следовавшую ему после смерти матери. Тимофей Степанович считал, однако, эту часть принадлежащей ему самому, обвиняя сына в «сокровенных изгибах», в ношении «личин» и т. д. Огорченный, изумленный сын отвечал отцу: «Мог ли я когда-нибудь вообразить, чтобы я, сын любящий и почтительный, можно сказать примерный (молю Бога, чтобы дети мои были такими в отношении ко мне), чтобы я получил от вас, милостивый государь батюшка,
Раз под вечер он зашел в крестьянскую избу, стоявшую на краю деревни. Жить с краю незавидное дело в глазах крестьян, выходит, где-то на отшибе, в стороне от добрых людей, да и городьбы сколько. Но здесь и не казалось, что на отшибе, так было людно и столько людей торили сюда дорожку. Старик хозяин с женой жили вместе с тремя женатыми сыновьями, невестками, внуками в просторной, на две больших половины, избе, с комнатками по углам. Замужние дочери часто наведывались в родной дом. Да и каких только сродников тут не бывало: зятья, свояки, свояченицы, тещи, шурины, кумы, кумовья — негоже русскому человеку не родниться.
Любой разговор с крестьянином был интересен для Сергея Тимофеевича, а здесь заговорили о любезной его сердцу охоте. Мужику не до охоты, разве лишь к ней нужда понудит. Матвей (так звали хозяина) рассказывал, как прошлой осенью его сын Митрий подстерегал серого гостя, который зарезал у них двух овец. Вот и устроили приваду — разбросали на коноплянике падаль, сын сел в баньке и стал выжидать. Долго так сидел, уж темнота наступила, видит — идет. Волк ли, собака — не разглядеть, у волка-то торчком уши, прижатый хвост, да поди угляди их! Подошел, остановился — задом к полю, мордой к деревне, так и застыл. Волк! Собака-то глядит все в поле, в лес, чуя оттуда, с той стороны опасность, а волк чутье держит на селенье, жилое место, ожидая оттуда врага. Как признал Митрий в ночном госте волка, так скорее вон из баньки, приладился ружьем да и уложил его на месте.
Вспоминал хозяин и другие слышанные им истории о волках, о загнанной ими в овраг лошади и там растерзанной, как они промышляют голодной стаей — видно было, что в понимании старика одна только и есть путевая охота — на этих разбойников, режущих домашний скот. Сергей Тимофеевич уж помалкивал, не выдавая своего охотничьего азарта до более миролюбивой живности. Но и старик, словно забыв о своих волках, поведал, что доселе скворцы не отлетают — значит, быть осени протяжной и сухой. Был день Симеона Летопроводца. Сергей Тимофеевич подумал, что наступил и первый праздник псарных охотников, пора выезда в отъезжее поле, старик же начал говорить о скором Воздвиженье, — хлеб с поля двинется, свезут последнюю копну, и если в эту пору журавли полетят, то на Покров будет мороз, а если нет, то зима припозднеет. Да вот хомяк ноне начал рано таскать большие запасы — чай, к долгой, холодной зиме. Сергей Тимофеевич поделился и своими охотничьими приметами: беляк-заяц уже белеет, набрал жиру — готовится долго зимовать, косой.
Было начало сентября, до Покрова у крестьян много дел и забот. На Симеона Столпника солить огурцы, потом — собирать лук; стричь овец, бить гусей; на Сергия — капусту рубить; на Савватия — убирать улья в омшаники, много других мужицких и бабьих работ, но у старика на уме был недавно законченный последний посев озимой ржи, все другое меркло перед ржицей. Он повеселевшим голосом вещал: «Коли рожь убрана к Ильину, кончай посев к Фролу, а поспеет поздней — кончай к Семену».
Долго еще говорили хозяин и гость, и выходило, что в этом разговоре ничего не было пустого: все было по делу, толково в речи старика. Когда гость спросил, не балуются ли мужики вином, хозяин отвечал: «Отродясь не знали этого сраму. Завелся один мокрый (так он называл пьяницу), да скоро и за ум взялся. Душа дороже ковша».
Из другой половины избы через приоткрытую дверь давно слышались мужской и детский голоса, а теперь явственно доносилось оттуда:
— Придет Маслена — будет и блин: одиножды один — один. Ну-ка, повтори!
Ребячий голос без запинки отчеканил хитроумный стишок.
— Молодец. Ну-ка: хлеб жнем, а сено косим: дважды четыре — восемь. Отлежал бока — оттого и болят: пятью десять… сколько? — спрашивал мужской голос, а детский выкрикивал:
— Пятьдесят!
— Чего не знаешь — того не ври: семью девять шестьдесят…
— Три! — торопился досказать мальчик.
— Живи, поколь на плечах голова: восемью девять… — Наступило затишье, видно, не по плечу пришлась без подсказки задача дотоле бойкому юному математику.
— Митрий сказывает долбицу свому Петруше, — молвил старик, прислушиваясь к голосам сына и внука за дверью. — Без муки нет и науки. Митрий мой дошлый. Намедни картинку привез с ярманки, говорит, на ней атаман написан, казаков водил на французов.
Сергей Тимофеевич и до этого видел висевшую на стене картину и теперь еще раз полюбовался графом Платовым, изображенным верхом на коне.
Хозяин стал потчевать гостя чем бог послал, и Сергей Тимофеевич, чтобы не обидеть старика (от хлеба-соли не отказываются), выпил парного молока.
— Поколе был в поре, никакой работы не боялся, — пожаловался хозяин, — а с годами-то уж и никуды. Рази лапотки сплесть да лучину вон нащепать.
И он, встав с лавки, подновил в светце лучину, которая, загоревшись, тут же затрещала, метнула искры над корытцем с водой.
— К ненастью, — сказал он и, вслушиваясь во что-то, продолжал: — Корова даве тяжко мычала — быть дождю аль буре. То-то меня всего ломит.
Лучина-то, видно, не зря трещит, воздух сырой, отсырела, вот и выдает ненастье, думал Сергей Тимофеевич, следя за ее неровным горением, любуясь невольно кованой узорной рогулькой-светцом, видно, изделием местного кузнеца. Все так и должно быть. Корова перед бурей глухо мычит; человек предчувствует непогоду, когда у него начинают болеть суставы. И это уже верные приметы. Немало и суеверия в поверьях, обычаях, но и нередко то, что с первого взгляда кажется необъяснимым, имеет свой глубокий смысл. На пороге не здороваются — это значит: милости просим, входи в избу, чувствуй себя как дома, а не как чужой на пороге. Если вы пришли в гости и ушли домой сразу же после еды, то от этого пострадают хозяйские невесты: от них женихи откажутся. Сколько деликатности в намеке на невежливость таких гостей: не по-людски это, а надо посидеть, поблагодарить хозяйку, поговорить, а не показывать, что вы пришли затем только, чтобы поесть и попить, и больше вас ничто не интересует. Не роняй ни крохи хлеба, иначе будет неурожай, голод. Если ты, не доев кусок хлеба, взялся за другой, то кто-нибудь из близких голодает или будет голодать. Ясно, что это означает: надо уважать, ценить, беречь хлеб, который нелегко достается и который всему голова.
Вот заглянул в крестьянскую избу, посидел, поговорил с хозяином, и сколько останется памятного от этого осеннего вечера! Слышно было, как за окном завывал ветер, бился порывами в стекла. Не зря потрескивала горящая лучина, разыгралась непогода. Хозяин вышел проводить гостя, но Сергей Тимофеевич не пустил его дальше калитки, попрощался и пошел. Здесь, на краю деревни, было как в поле, темно и тревожно, носился на просторе пронизывающий мокрый ветер, рвал неразличимые в свисте не то лаянье, не то вой. На улице не было ни души, в избах тускло светились окна, кое-где уже гасли огни. Дышало бурей, когда он подходил к своему дому. Далекие сполохи прорезывали небо, тут же поглощаемое тьмой, прибоем шумел парк. Наступала воробьиная ночь, падавшая на осеннее равноденствие, с непроглядной темнотой, бурей, частыми молниями.
Холоден сентябрь, да сыт — знали проходившие деревнями странники, которым всегда подавали по совести. И эти странники — слепые певцы, и отношение к ним народа, неизменно сочувственное, — все это было для Аксакова явлением и обыденно бытовым, и глубоко поэтическим. У завалинки избы, в окружении группы людей (среди них был и Сергей Тимофеевич) стояли слепой старик с палкой в руке и мальчик с холщовой сумой через плечо. Старик, уставясь невидящим взглядом перед собою, поверх голов слушателей, тянул забирающий за душу стих о том, как и отчего зачался белый большой свет, солнце красное, звезды частые, ночи темные, зори утренние; пел о Егории Храбром, который пошел «по святой Руси, по сырой земле», сокрушался, что люди правду не творят, доброго не делают и мрачен конец неправедных дел.
Слепец жалобился и предавался веселию, тон его становился то суровым, то умиленным, безмятежно-отрешенное лицо вдруг оживлялось какой-то пристальной улыбкой, делаясь на миг как будто зрячим — так вживался он в свои никому не ведомые видения. И представлялось, что в напеве его изливалось то, что он сам испытал, пробираясь с вожаком по полям и непроезжим в дождь дорогам, укрываясь в непогоду ветхим зипуном, слыша от таких же, как он, странников сказы о напастях и страданиях, копя в памяти все услышанное в крестьянских избах, где находил приют и ночлег, гам и крик на ярмарках, плачи на похоронах, краем уха схваченное свадебное веселье, — кажется, носил он в своей душе всю слышанную им Русь.
В пятнадцати верстах от села Аксакова находилось Бахметьево (или, как его называли по имени помещиков, — Осаргино), где дважды в год устраивалась ярмарка. Летняя ярмарка, длившаяся с конца мая до конца июня, закончилась накануне приезда Сергея Тимофеевича в деревню, поэтому он решил поехать в более отдаленное место, уездный городок Бугульму, где только что, в середине сентября, открылась осенняя ярмарка, знаменитая Воздвиженская. Площадь кипела от многолюдия, гудела от хаоса голосов, звуков. Ржание, пофыркивание лошадей, привязанных к коновязи, мычание коров, блеяние овец, гоготание гусей, крики торгующихся, спорящих, пронзительно-вонзающее «ути-ути-ути» свистулек, веселый визг гармоник, вопли, шум, в котором все тонет и ничего не разобрать, — все это охватило его, втянуло в свой круговорот, в сплошной гул. Местный Оренбургский край славился торговлей ржаной мукой, гречихой, гречневой крупой, сотни телег были набиты мешками с этим добром, тысячи пудов ждали покупателей. Но и в этом шумном таборе были какие-то свои обжитые уголки, замечавшиеся Сергеем Тимофеевичем. Стоявшие около своих телег с мешками ржи два мужика из разных деревень, не видавшие друг друга с прошлогодней ярмарки, рассказывали о нынешнем урожае, о последнем посеве ржи, называли цену, по какой продавали хлеб. Рядом двое с размаху били друг друга по рукам — сторговались. Другие щупали мешки, стучали по ним кулаками. Сидевшая на телеге с детьми баба обняла мешки да так и застыла. За телегами, на другой стороне площади, шла торговля скотом, всякой живностью. В глазах мелькали то разгоряченные чернобородые лица около лошади, то баба, нагнувшаяся и разглядывавшая вымя коровы, как будто собиралась доить; то гогочущие гуси, высунувшие длинные шеи из корзины; то рвавшийся в завязанном мешке, визжавший поросенок… Длинные столы, уставленные маленькими бочонками, туесами меда, вырезанными сотами, над которыми бесшумно и лениво вились пчелы, и ребятишки липли, как пчелы, к меду. Бочки с капустой, с огурцами, с клюквой… Чего только здесь не было — хомуты, седла, сырые кожи, овчины, шерсть, козий пух, верблюжье сукно, ковры…
Смесь лиц и одежд разных народностей: рядом с русской женщиной в плисовом сарафане — мордовка в понаре, то есть в холщовой белой рубахе с красной вышивкой по подолу, в набойчатых портах, на голове — белая баранья шапка. Группа калмыков — кто в ситцевой рубахе, похожей на женскую кофту, кто в бешмете, стянутом поясом с железными пластинами, — предавались наивысшему в их глазах удовольствию — все дружно курили трубки, около них лежали на земле седла, сбруи. Только один из них не курил, он держал в руках сапоги с длинными голенищами и разглядывал высокие подковки каблуков. Предстоял яростный торг с рядом стоявшим владельцем сапог — известно, что за сапоги калмык был готов отдать все, они ценились как знак достоинства, недаром все курившие с такой важностью стояли, обутые в сапоги с длинными голенищами.
Сергей Тимофеевич миновал эту живописную группу, взял вправо, и вдруг взгляд его обдало такой жизнерадостной многокрасочностью, как будто он попал на цветущую ягодную поляну. Повсюду — на лавках, на столах, на земле лежали, стояли, казалось, плыли, летали расписанные изделия деревянной посуды, утвари: ковши в виде птицы или с конскими головами, скопкари-братины для питья пива, меда, браги — в форме водяной птицы, с двумя ручками из длинною клюва и плоского хвоста, солоницы-уточки, ложки, чашки, пряничные доски с затейливым дробно узорным изображением фантастического коня с туловищем и лапами льва, прялки со сказочными узорами, светцы разного вида, фигурные дверные и воротные замки, туески, рубанки в виде льва, вальки с чудесными ручками. Тут же были плетеные корзины, сумочки, кресла, диваны. Завораживал взгляд цветной хоровод деревянных и глиняных игрушек — домашние животные, лесные зверьки, птицы. Человеческие фигуры, целый поэтический мир детства. Сколько художественного чутья, жизненности сквозь сказочность, фантастичность. Какое обилие талантов в народе, какое тяготение к красоте. Глаза разбегались от этого живого, вспыхивавшего то там, то тут многоцветья, узорочья, каждая вещь манила к себе. Вот уж действительно «виноградье», которое украшало почти каждый крестьянский рисунок и которое в народе связывалось с пышностью, праздничностью бытия. Какие богатые, выразительные рисунки, узоры и вместе с тем какая лаконичность, ничего лишнего, ни одной подробности, ни одной линии. Так должно быть и в художественном слове. И сколько здесь духовного здоровья, жизненной устойчивости, которые могут быть предметом литературы, искусства. Каждая вещь необходима в быту и в то же время это произведение искусства. Целесообразность и красота. Взгляд присмотрелся, и вроде бы все обычно, а ведь это удивительно, как встречает человека крестьянская изба — приветливой нарядностью наличников, узорами створок ворот, резным крылечком, росписью стен, красочностью посуды, бытовой утвари, выразительной простотой мебели. Быт связан с народным искусством. От детской колыбельки до могильного креста сопровождает оно человека, соединяя житейское с вечным…
Ярмарка как будто поутихла немного, глуше стал гул, поредела вроде бы толпа, но нисколько не ослабевало ощущение чего-то огромного, единого, небудничного, что по-особенному действовало на Сергея Тимофеевича, возбуждало его мысли и чувства.
Был конец сентября 1839 года, трехмесячное пребывание Сергея Тимофеевича в родных местах заканчивалось. Оставалось несколько дней до Покрова, который приходится на 1 октября. Где листом, где снежком Покров землю покроет. Конец хороводам, начало посиделкам. И свадьбы после завершения земледельческих работ. Он воочию представлял, как красочно оживится деревня, как будет развертываться живописная, драматическая свадебная «игра» — так называли в народе свадьбу. Давно ждавшие Покрова девушки, повторяя тайком: «Батюшка Покров, покрой сырую землю и меня молоду», будут ждать часа, который определит их судьбу — прихода сватов. И вот заявятся они, сваты, и громко стуча в ворота, заходят с хлебом и солью в дом невесты, где их примут с честью, и спросят, кто они, откуда, из какой земли, и пришедшие заведут ладные и хитросплетенные речи о том, что они охотники, увидели на пороше свежий след куницы, и он привел их в этот двор. Отец в ответ будет уверять, что они не сюда зашли, след, видно, обманул их, но если они пришли — надо посоветоваться с родными, дайте подумать и, поднеся им по стакану вина, скажет, чтобы они привели своего охотника, показали его. И если дело сладится, то тут же и сговор: у вас товар, у нас купец, и начнут «торговаться», пока не выскажут своих условий брака и не ударят «по рукам» отец невесты и сват.
И все пойдет своим порядком, как было в прошлом году, как извечно шло в крестьянской жизни. Накануне свадьбы в доме невесты будет справляться «девичник», на котором подруги грустными песнями проводят ее в новую, неведомую жизнь. А на другой день, утром, она от души поплачет, «повопит», прощаясь с косой (отсюда и «батюшка Покров, покрой меня молоду»), со своей девичьей волей. К воротам подъедут дружки и в ответ на вопрос брата невесты, что они за люди, ответят: «Мы — дружки, верные служки от князя молодого, приехали узнать, готова ли молодая княгиня-невеста». И затем приедет весь шумный свадебный поезд. Жениха, посаженного за стол рядом с невестой в переднем углу, во время еды будут величать девушки, а он благодарить за честь. Невеста обратится к родителям: «Родимый мой батюшка, прошу ни злата, ни серебра, а прошу твоего родительского благословения». «Не прошу ни тканого, ни браного, а материнского благословения». И, благословляя дочь, отец произнесет: «Не в рабы, а в помощницы, — и, обращаясь к родителям жениха, добавит: — Просим поберечь детище наше, а чего не знает, поучить». Дружки будут просить всех гостей благословить князя с княгиней. И свадебный поезд отправится на венчанье молодых, впереди — дружки, потом жених с «тысяцким» (посаженым отцом), «бояре», невеста со свахой. После венчанья в доме жениха начнется свадебный пир. Милости просим, люд честной, к нашим молодым на сыр-каравай! Здравствуйте, князь с княгиней, бояре, сваты, дружки и все поезжане. Дай бог молодым любовь да совет.
Так хорошо знакомый ему в подробностях свадебный обряд трогал его и своей поэтичностью, и нравственной значительностью[4].
Прощайте, последние сентябрьские дни, прощайте, дни наступившей поздней осени, которую он так любил. Кажется, улеглись в природе страсти, отбуйствовали летние грозы, отцвела, отшумела плоть листьев и травы, отполыхали зори, и как не бывало знойной сини бездонного неба. Низкие, тяжелые облака влачились по серому небу, сея временами мелкий дождь. Падали на землю побуревшие листья дуба, открытыми великанами стояли уже облетевшие старые липы, в просвечивающей насквозь роще виднелись еще желтеющие березки, ярко-красные рябины, освежающе зеленели ели и сосны. В тихом лесу чуткий охотничий слух его улавливал на большом расстоянии осторожные прыжки зайца и белки; уже не слышно было птичьего хора, лишь отдельные крики птиц разносились в парке — звонкий свист синицы-беска, взвизгивание дроздов, скрипучие звуки снегирей. Речка в чем-то изменилась, прибрежные голые кусты, завядшие травы уже не закрывали воду, и оттого Бугуруслан казался светлее, шире, свободнее в своем задумчивом течении.
Он уезжал утром в тихий серенький денек, небо было сумрачным, накрапывал теплый дождик — самая любимая его пора, самая приятная погода, когда он любил удить, укрывшись под ветвями дерева. Карета тронулась от крыльца, толпа крестьян провожала его. Проезжая мимо церкви и часовни, под которой был склеп с могилами отца и материной мысленно помянул их и подумал: когда-то еще придется ему прийти к ним? Сдерживаемые кучером кони шли шагом; медленно проезжая по деревенской улице, Сергей Тимофеевич вглядывался в крестьянские избы, вспыхивали в памяти разговоры, встречи с мужиками. За околицей открывалась дорога, по лощине на гору, в заволжскую степную даль с ее холмами, оврагами, лощинами, косогорами. Фыркая и горячась, кони резво побежали. Он высунулся из окна кареты и глядел на удаляющееся Аксаково, пока оно, в последний раз видимое как на ладони с горы, не скрылось, оставив налет грусти в душе. Впереди была долгая дорога, действовавшая на него с непреодолимым могуществом, успокоительно и целительно, дорога, которая, отрывая человека от текущей среды, пестроты предметов, погружает его в самого себя, в свои мысли, чувства, мечты, в воспоминания прошедшего, настраивает на ясность и спокойствие. Он возвращался в Москву с мыслью о своей семье, своей Оллине и детях, и вез с собою все то увиденное, перечувствованное в родных местах, что было необходимо всем им, отпрыскам аксаковского рода, и что неотвратимо входило в его раздумья о
И в Москве семья Аксаковых не расставалась с привычным укладом деревенского житья. В своих воспоминаниях Иван Панаев, бывавший в доме Аксаковых, оставил живое свидетельство о той обстановке и тех нравах, которые сложились в их семье. «С. Т. Аксаков был большой хлебосол и гордился этою московскою добродетелью. Аксаковы жили тогда (то есть в 1839 году. —
В своей семье Сергей Тимофеевич был уже Приамом, пусть не таким древним, но столь же чадолюбивым и основательным, отцом взрослеющих детей. Михаил Петрович Погодин, находившийся в дружеских отношениях с Аксаковым, любивший навещать их дом, умилялся, видя, как дети «облепили» Сергея Тимофеевича и за столом собирается девять детей. Давно минуло то время, когда дети лепились к нему, как котята, кучей, мал мала меньше, и он мог с ними беспечно играть, иногда забавляясь в угоду своей актерской прихоти (никак не забывалось, что он имел решительно сценический талант!), впрочем, когда знаешь, что дети в надежных материнских руках, да и все в доме под моральной защитою его жены, Ольги Семеновны, то можно и самому порезвиться. Но в свое время шестилетний Гриша, когда они только что переехали в Москву, отучил его от забав. Одной из увеселительных сцен тридцатипятилетнего отца было, меняясь в лице и в голосе, уверять ребенка, что с ним говорит булочник Дромер, немец. Мальчик начинал смехом: «Нет, вы не немец, вы отесенька». Но фарс продолжался, доводя в конце концов ребенка до слез. Однажды, преследуемый опять «немцем» Дромером, Гриша вышел из себя, голубые глаза его потемнели, помутились, и он дал изо всех силенок затрещину «немцу», примолвя: «Когда вы не отесенька, то как смеете лежать на его постели?» Вот тогда и отрезвел от своих шуток «отесенька», пораженный вспыхнувшим гневом в шестилетнем сыне, напомнившем ему деда, Степана Михайловича, вспышек бешеного гнева которого он так боялся в детстве. Действительно, Гриша «укинулся», как говорили крестьяне, в своего прадедушку Степана Михайловича и обличьем и обычьем — горячностью, вспыльчивостью. Полученная затрещина испугала отца возможными для будущего молодого человека последствиями такой горячности, хотя он не сомневался в смягчающем влиянии на пылкость души семейной любви, которою были окружены дети и в атмосфере которой закладывалась основа характера каждого из них.
После Гришиного урока он уже не «играл» перед детьми, зато по-прежнему был большой охотник до декламации, дети во все глаза глядели на него, декламирующего, даже с испугом, когда голос его звучно раздавался на весь дом, но потом привыкли, и когда гости просили их «отесеньку» что-нибудь почитать, то дружно присоединялись к просьбе.
Все в этом доме дышало приветом и любовью. Дети кидались к появлявшемуся любимому гостю, выражая свою радость, приобщая его к общему настроению семьи, так хорошо действовавшему на душу. Сергей Тимофеевич был искренне рад каждому своему гостю, приходившему и просто посидеть, отвести душу в разговорах, поделиться новостями, общественными, литературными, театральными и прочими; а то и попросить совета в каком-нибудь важном, даже личном деле, и всегда находя сердечное участие в хозяине дома, принимавшем чужие радости и невзгоды как свои собственные. Иные приходили поиграть в карты, в излюбленный «бостон», и этому не чужд был Аксаков, до страсти поддаваясь игре, как при всяких своих увлечениях.
Рядом с хозяином, находившимся постоянно в окружении гостей и детей, малозаметна, казалось, была роль хозяйки дома Ольги Семеновны. Она не то чтобы держалась в тени мужа, а просто и скромно исполняла свой долг жены, матери, хозяйки, как она его понимала, без всяких притязаний на какое бы то ни было преобладание, нравственное ли, умственное, не демонстрируя своего всезнайства, своего просветительского первенства, как это нередко бывало с хозяйками литературных салонов. Но это не значило, что Ольга Семеновна была далека от интересов мужа, всего того, что говорилось и обсуждалось на их вечерах. С мнением ее очень считались, в том числе и авторы литературных произведений. Как близко к сердцу могла принимать она происходившее в стране, в той же литературе, говорит следующий факт: по свидетельству современника, гибель Пушкина особенно горестно была воспринята в семье Аксаковых именно ею, Ольгой Семеновной.
Высокая, спокойная, она производила впечатление строгой, даже суровой женщины, но стоило только, впервые увидев ее, разговориться с нею, просто посмотреть в ее глаза, добрые, глубокие, на ее лицо, осветленное задушевной улыбкой, — как тотчас же менялось мнение и человек невольно проникался симпатией к ней. И все же она была действительно строгой — с серьезным взглядом на жизнь, на свои обязанности, с твердыми моральными правилами. Нравственный авторитет ее не только в семье, но и среди знакомых, был так высок, что Гоголь делился с нею духовными своими нуждами и в письмах из-за границы благодарил ее «за все», а Погодин, например, почитавший Ольгу Семеновну беззаветно, не иначе ее называл, как своей «первой начальницей», и говорил обычно так: «Ольга Семеновна велела». Но вовсе не начальствуя, не командирствуя в доме, не беря верх над мужем (так же, как сам он не выставлял себя главой, повелителем в семье, а влиял на нее как добрый гений своей мудрой сердечностью), Ольга Семеновна была тем началом, на котором держался не только внешний порядок, но и внутренний лад семейной жизни, как бы освещенный изнутри ее теплым, ровным светом.
Наступало двадцать пятое сентября — именины Сергея Тимофеевича (месяц домашних праздников — именины четырех дочерей, день рождения сыновей Миши и Ивана), поутру, когда отец, случалось, еще был в постели, все они, братья и сестры, приходили его поздравлять, по обыкновению сев вокруг него и разговаривая с ним.
Приветливость с гостями не мешала детям быть и довольно критическими наблюдателями. Приходил, например, к ним в дом сослуживец Сергея Тимофеевича по цензурному комитету Сергей Николаевич Глинка, не мудрствовал особенно, как держаться и вести себя за столом, ему и в голову не могло прийти, что кто-то не упускает из виду ни одного его движения, ни одной промашки. А в это время семилетняя Верочка делала свое дело, о чем она расскажет в письме к старшему, девятилетнему братцу Косте: «У нас сегодня обедало довольно много гостей… Как ты думаешь, кто у нас сегодня обедал? Но я назову тебе их, потому что ты бы никогда не отгадал. Это С. Н. Глинка и брат его Ф. Н. Я тебе скажу только, как он, то есть С. Н., сидел за столом. Он так гадко себя держал, так пил, так провожал глазами каждое блюдо, которое еще не доходило до него, так превозносил себя похвалами, что меня беспрестанно мороз по коже подирал». Кто, вероятно, мог бы подумать, что Верунок, Верунчик (как называл старшую дочь Сергей Тимофеевич) так беспощадно может подсматривать за гостем и рассказывать об увиденном.
Благоговея перед «отесенькой», дети и от него не скрывали своих приговоров, хотя бы они касались и его самого. Сам Сергей Тимофеевич писал жене, Ольге Семеновне, о восьмилетней дочери: «Марихен проснулась, когда я ложился, и сказала: „Не стыдно ли всю ночь играть в карты у Васькова?“» (приятель Аксакова. —
И было, пожалуй, еще неуютнее на душе Сергея Тимофеевича, когда он сам уезжал из дому, тяготясь всегда тяжелым, почти невыносимым для него «разделением» семейства. Из Петербурга, куда приехал с сыном Григорием, поступавшим в Училище правоведения, он писал жене: «Если бы ты могла понять — до какой степени мне нестерпима суета и разъединенная жизнь». Особенно длительна для него была последняя, совсем недавняя разлука, когда он в течение трех месяцев, от конца июня до конца сентября 1839 года, пробыл по хозяйственным делам в Новом Аксакове и Надеждине. Оттуда, за тысячу верст, беспрестанно переносился он воображением в Подмосковье, где жила в это время его семья, представлял себе воочию «в разных положениях» милых своих детей, разговаривал с каждым из них, начиная с первенца Кости: «Возишь ли братьев на Клязьму? Впрочем, это Миша должен делать: он там бывал. Гуляет ли мой Веренок? Что читает? Оля чтоб не слишком много ходила. Удишь ли и стреляешь ли ты, мой юрист Гриша?.. Что мой Ваня? Поет ли, сидя с удочкой на пруду?» «Здравствуйте мои душеньки-дочери. Мой подорешничек, моя хозяюшка — Надя, моя француженка — Люба, моя кошурка-Машурка и моя актриса Соня. Гуляете ли вы, весело ли вам, ходите ли за грибами, которых здесь вовсе нет? Умны ли вы? Утешаете ли маменьку? Бережете ли ее здоровье? всех вас целую и благословляю. Отец и друг ваш С. А.». А жене Сергей Тимофеевич признавался: «Утро прелестное, но без тебя, моя Оллина, и без моего семейства не существует для меня даже и прелести природы».
…Да, время летит быстро, уже на исходе 1839 год. Их и теперь столько же, когда они садятся за стол — десять детей, но уже не мал мала меньше, а наоборот, один больше, старше другого. Константину — двадцать два года, Вере — двадцать, Грише — девятнадцать, Ольге — восемнадцать, Ивану — шестнадцать, Мише — пятнадцать, Наденьке — десять, Любочке — девять, Машеньке — восемь лет и актрисе Сонечке — шесть. И были, бы еще у них братья и сестрицы, если бы те не скончались во младенчестве. Старший сын, первенец Константин, или, как его называли в семье, Конста — любимец родителей, непререкаемый авторитет для всех братьев и сестер. Еще мальчиком он затевал с ними разные игры — сражения с финальной победой русских князей над врагами. В комнате его, наверху, висели старинные палаши из солингенской стали, когда-то валявшиеся в амбарах в Аксакове и привезенные оттуда в Москву. Как будто о дедушке, отце маменьки, боевом суворовском генерале, напоминали эти прямые и широкие сабли. Конста зачитывался книгами о прошлом России. Он собирал братьев и сестер в своей комнатке и рассказывал им о давних событиях, вслух читал историю Карамзина, объяснял прочитанное, заставляя всех слушать себя. Насколько сам Сергей Тимофеевич не имел никаких наклонностей к пропаганде, настолько они рано проявились в его старшем сыне, готовом при всяком удобном случае горячо развивать свои излюбленные мысли о великом прошлом русского народа, о его славной столице — белокаменной Москве.
Но зато от отца в детстве воспринял Костя любовь к русской литературе.
Маленький Костя принимал живое участие в жизни отца, как, впрочем, и все другие дети; по экспансивности, открытости своего характера Сергей Тимофеевич не мог скрывать того, что его захватывало и волновало, и все в семье знали, кто написал такую-то пьесу, когда она будет поставлена на театре, как она была встречена публикой, кто из актеров играл замечательно и кто дурно. Дети знали, кто друг, а кто противник «отесеньки». На вопрос: кто главный противник? — могли бы крикнуть хором: «Полевой!» Действительно Николая Полевого, критика, издателя журнала «Московский телеграф», Сергей Тимофеевич считал своим неприятелем, не прощая ему «дерзких», «наглых» нападок на своих друзей — драматурга и театрала А. Шаховского, водевилиста А. Писарева (увы, надо признать, чаще всего справедливо подвергавшегося за свою легковесность резкой оценке со стороны Полевого). Не один год продолжалась полемическая тяжба Аксакова и его друзей с энергичным Полевым, и все это время имя Полевого не переставало склоняться в аксаковском доме.
Такие доверительные отношения, чуждые дидактических поучений и наставлений, больше всего, может быть, влияли на детские души, были благоприятны для их нормального, плодотворного развития и в то же время укореняли прочную любовь к родителям. Ибо всякая нравственная прочность покоится на нераздельности слова и дела, а здесь все на виду, скрывать нечего: чем жили неложно сами, то передавалось им, детям.
Наступило время, когда пора было определять первенца, закончившего гимназию. Друг Аксакова Погодин хотел взять его старшего сына в свой домашний пансион, но Сергей Тимофеевич воспротивился и отвечал: «Мне казалось странно, что мой старший сын (это важно для братьев) в то время, когда должен был поступить в друзья мне, будет жить не под одною кровлею со мною».
Пятнадцатилетним отроком поступил Константин Аксаков в Московский университет на словесное отделение. Из домашнего гнезда попал он как бы на торжище молодых умов, на умственный сквозняк, где какие только идеи не проносились. Разнилась эта разношерстная толпа по своему социальному положению: дети дворян, чиновников, духовенства, купцов, мещан, крестьян. Были здесь и разночинцы и аристократы, ярые атеисты и те, кто сторонился их; дети своих консервативных отцов и ниспровергатели всего существующего в России.
Иные напоминали того студента Сашку из одноименной поэмы А. Полежаева, «чертами характера» которого были «жажда вольности строптивой и необузданность страстей» и к кому не скрывал своей симпатии поэт:
Конечно, многим не по вкусу
Такой безбожный сорванец,
Хоть и не верит он Исусу,
А право, добрый молодец.
Но этот «добрый молодец» был не по вкусу Константину Аксакову, и он сторонился подобных ему.
Одно время Константин сошелся и даже стал приятелем своего сверстника Александра Сухово-Кобылина. Это был худой длиннолицый юноша, почти еще подросток, но уже с манерами самоуверенными и властными, вспыхивающим темным огоньком в глазах в минуту раздражения, надменный в обращении с товарищами. Всегда одетый в модный изящный сюртук или полуфрак, он как бы инстинктивно отстранялся от усевшейся с ним рядом в аудитории фризовой шинели, выцветшего демикотонового сюртука или казакина.
Однажды произошел случай, заставивший студентов много говорить о Сухово-Кобылине. Его младшая сестра влюбилась в своего домашнего учителя, профессора Московского университета Н. И. Надеждина. Узнав о романе своей сестры с «поповичем», Александр был взбешен. Он сказал тогда Константину Аксакову, с которым был в приятельских отношениях: «Если бы у меня дочь вздумала выйти за неровного себе человека, я бы ее убил или заставил умереть взаперти». Он властно вмешался в семейную историю, при полном бездействии мягкого, безвольного отца, с одобрения обожавшей сына матери потребовал выезда Надеждина из их дома. Бедный Надеждин страшился самой мысли, что он должен будет принимать после всего происшедшего экзамен у Александра, для него это была пытка, но самого Сухово-Кобылина это нисколько не смущало, и он пришел на экзамен к незадачливому жениху своей сестры как ни в чем не бывало. Прямодушному Константину Аксакову было не по душе «бездушное приличие своей сферы», которое внесли в университетскую жизнь молодые люди из аристократических домов, такие, как Сухово-Кобылин, даже и то, что они предпочитали говорить не на русском, а на французском языке. Эта наружная благовидность «принесла свои гнилые плоды». В конце концов он должен был разорвать свои товарищеские отношения с Сухово-Кобылиным, «напитанным лютейшей аристократией», по словам Сергея Тимофеевича Аксакова, который принял искреннее участие в несчастье Надеждина. Действительно, более разных людей, чем Константин Аксаков и Сухово-Кобылин, и нельзя было представить: один — весь дитя искренности и душевных порывов, готовый броситься в объятия каждому, в ком ему виделось добро; другой — не по возрасту как бы заледенелый в своем высокомерии. Собственно, это были два типа сознания, еще складывавшегося, но уже с видимыми задатками будущего развития обеих натур: сознания нравственно-цельного, не отчужденного от других, и сознания индивидуалистического.
С поступлением в университет роль Константина, и без того заметная в доме, сделалась почти главенствующей. Братья Гриша и Иван, старшая сестра Вера обращались теперь к нему чуть ли не как к профессору с вопросами по изучаемым в гимназии предметам, прочитанным книгам, за литературными, филологическими и прочими разъяснениями. Для матери он по-прежнему оставался большим ребенком, который нуждался в неусыпном родительском попечении. Но Сергей Тимофеевич с отцовской восприимчивостью чувствовал нечто важное, происходившее в первенце, что вносило в дом новые интересы и в чем-то меняло его самого, отца, ведь любовь к детям тоже знает разные духовные фазисы.
Вскоре слова «Шеллинг», «философия тождества», а затем «Гегель», «гегелизм» на все лады зазвучали в доме, погромче тех звучных стихов, которые декламировал глава семьи. И поскольку никто не таил секретов, всем в доме стало известно, что у Кости завелись университетские товарищи, с которыми он упоенно читает немецких философов. То был кружок Станкевича — названный так по имени его вдохновителя Николая Станкевича (которому предстояла недолгая жизнь — он скончался в 1840 году двадцати семи лет с небольшим от роду). В этом кружке сойдутся такие разных впоследствии идейных путей люди, как Белинский, Бакунин, Грановский, К. Аксаков. Гегель вызвал к себе такое поклонение, даже обожествление со стороны «русских мальчиков» (ведь никому из них, за исключением Белинского, не было еще тогда и двадцати лет, а самому младшему, Константину Аксакову, — всего шестнадцать), что сами же они со временем будут иронически вспоминать крайности своего увлечения. Но тогда весь живой мир, живые люди, все в русской действительности сводилось для них к завершенным категориям: «перехватывающему духу», «абсолютной личности и ее по себе бытию», «субстанции в ее непосредственном и случайном явлении» и т. д. И хотя «гегелизм» оставит свой след в той или иной степени в сознании каждого из них, в том числе и Константина Аксакова, крайнее увлечение гегелевской философией уже вскоре уступит место глубоким разногласиям между ними.
Друзья собирались у Станкевича в его доме в Большом Афанасьевском переулке, у Аксаковых, — сначала в Красноворотском проезде, а потом на Смоленской площади, в доме Боткиных в Петроверигском переулке. И когда уже вышли из университета, по-прежнему встречались, делились мыслями, спорили вплоть до отъезда Станкевича за границу в 1837 году, до перехода в конце 1839 года Белинского в петербургские «Отечественные записки». Вина почти не пили, только не было пощады чаю и булкам, не успевавшим остывать и залеживаться на столе. Но если раньше, во времена «студентской молодости» они могли принять за личную обиду и не говорить друг с другом по неделям из-за разного понимания, толкования какого-нибудь гегелевского определения вроде «перехватывающего духа», то теперь непримиримым пунктом расхождения стал вопрос об отношении России к Европе: должна ли она, Россия, следовать по пути Европы или у нее свой, самобытный исторический путь?
Кроме Станкевича, Белинского, Бакунина, К.Аксакова, Грановского участвовали в собраниях кружка и В. Боткин, Кетчер, Катков, Самарин. Начинали весело, с шуток, но вскоре закипали споры, переходившие нередко в крик. Белинский, забыв про булку и чай, мог вдруг вскочить со стула и зашагать по комнате, вскрикивая на ходу:
— Да, у нас нет литературы, это я писал в своих «Литературных мечтаниях», и каждый волен подумать о причинах такой пустоты…
— Висяша, зачем думать? — нежным, вкрадчивым голосом перебивал Боткин, подходя к Белинскому и гладя его по голове; был Боткин в какой-то цветной шапочке, прикрывавшей лысеющую голову; в глазах его мелькала то осторожная, то добродушная, с каким-то чувственным огоньком улыбка. — Никакой пустоты русской литературы нет, есть же у нас Кирша Данилов, — иронически продолжал Боткин, глядя со значением на Аксакова, как бы намекая на его восторженное отношение к песням Кирши Данилова.
— Оставьте в покое Киршу Данилова, не вам с вашей иронией судить об этой жемчужине народной поэзии! — Константин Аксаков, произнесший эти слова громким, суровым голосом, стоял против осторожно улыбавшегося Боткина, глядя на него с нескрываемым гневом.
Бакунин, с кудрявой львиной головой, с дымящимся чубуком у рта, переводил свой тяжелый, пытливый, беспокойный взгляд с одного приятеля на другого. Совсем недавно, всего год назад он, служивший в армейской части в глухой провинции, тайком от отца вышел в отставку и поселился в Москве. Здесь он познакомился со Станкевичем и его друзьями и вошел в их кружок, никакой философией он раньше не занимался и не интересовался, Станкевич угадал в новобранце сильные диалектические способности и засадил его за немецкую философию. После Канта и Фихте наступил черед Гегеля, и он-то стал любимым коньком бывшего артиллерийского прапорщика. Усвоив крепко гегелевскую методу и логику, он начал проповедовать ее со всей яростью новообращенного фанатика.
Здесь, в кружке, двадцатитрехлетний, но не по возрасту атлетически мощный Мишель (как называли Бакунина его приятели), весь был поглощен своим гегелизмом, безразличный, кажется, к спорам о России и Европе. От него, поглядывающего тяжелым, налитым взглядом на спорящих, можно ожидать каждую минуту, как он «срежет» заговорившегося, подойдет к нему и, загребая нелепо длинной, свободною от чубука правою рукою, сложивши два длиннейших перста, покажет, что в нем, в разгорячившемся спорщике, спекулятивности нет «вот на эстолько».
Совсем юный, но уже с властным выражением как бы застекленевших зеленых глаз, с готовностью «тяжело навалиться на человека», как заметил о нем бывавший в кружке, чуткий к людям поэт Кольцов, стоял в стороне Катков, по-наполеоновски сложив руки на груди. Вопил, хохотал громко по всякому поводу Нелепый, как называли приятели Кетчера, являвшегося обычно на собрание с бутылкой рейнвейна или шампанского, им же самим большей частью и осушавшейся. Переводчик Шекспира, он «жарил» с чудовищным маханием рук шекспировскими цитатами, хохоча гомерически.
«Шепелявый профессор», как называли Грановского за его пришепетывание, выразительно менявшейся складкой полных, припухлых губ как бы высказывал свое отношение к тому, что слышал. Скромно сидел, внимательно слушая, Самарин, самый юный, державшийся поближе к Константину Аксакову.
В кружке, как говорил впоследствии Белинский, люди сошлись «со всех четырех сторон света», в нем царило разномыслие. Спор кипел, голоса перебивали, заглушали друг друга, мешались, в общем шуме не все можно было разобрать…
— Господа, не пора ли вам грянуть «За туманною горою»?
Споры иногда так и пресекались — вмешательством Станкевича, считавшего задачей кружка не разжигание политических страстей, а чисто философское нравственное развитие каждого из его членов. Но берега не удерживали, споры перехлестывали их, и Станкевичу, натуре живой, одаренной, приходилось для успокоения, примирения расходившихся спорщиков прибегать к шутке, к передразниванию, большим мастером коего он был (передразнивая, например, стучанье Белинским по столу кулаком), и часто к запеву какой-нибудь «студентской» песни. Доставалось обычно за «буйные хулы» Белинскому, прозванному в кружке «неистовым Виссарионом», а столь же «неистовый» Константин Аксаков вызывал шутки Станкевича, он иронически горячо «по-славянски жал руки Константину и по-русски низко кланялся ему в пояс». А самому Константину Аксакову по природной суровости, серьезности отношения к своему верованию было не до шуток. Впоследствии он в «Воспоминаниях студентства» скажет о кружке, о своем положении в нем: «В этом кружке выработалось уже общее воззрение на Россию, на жизнь, на литературу, на мир — воззрение большею частию отрицательное… я был поражен таким направлением, и мне оно было больно; в особенности больны были мне нападения на Россию, которую я любил, которую люблю с самых малых лет».
Неожиданным для друзей Константина Аксакова явился его отъезд осенью 1838 года за границу, и только в семье знали о причине этого, о разрыве с Машенькой Карташевской, боль которого он думал утолить вдали, на чужбине. Но и там не удавалось ему избавиться от мучительного любимого образа, он писал родным: «С нами (только не в одном экипаже со мною) ехала одна девушка, которая, особливо при свечах, была очень похожа на М., так что я с изумлением смотрел на нее. На другой день утром очарование исчезло, но не совсем». Тосковал он и по семье, по родителям, братьям и сестрам, чужеземные лица напоминали ему свои, родные. «В тот же день, на пароходе, на котором я приехал в Линдау, была одна англичанка, очень похожая на Верочку».
И за границей Константин Аксаков оставался самим собою. Читая его письмо, Сергей Тимофеевич хохотал, восклицая: «Узнаю Костю!» И в самом деле, как было не узнать, читая такое: «Когда я воротился в гостиницу, то мой пруссак вместе с пруссаком из Кенигсберга обедали в столовой зале. До сих пор, благодаря Бога, не было у меня такого неприятного разговора, как от Кенигсберга до Берлина, тот, кенигсбергец, спросил меня: „Что, видели вы здесь русский монумент?“ — „Какой русский монумент?“ — „Монумент, воздвигнутый 30 тысячам баварцев, погибшим в России, но больше от холеры, чем от меча русских…“ Тогда я сказал: „Я, господа, видел другой монумент, недалеко от Москвы, в селе Кунцеве, на этом монументе написано: 'Король Фридрих Вильгельм Первый благодарил отсюда Москву за спасение своего Отечества…' Так написано по крайней мере, господа“. — „Что ж! Это правда“, — сказал мне пруссак. Трактирщик, старый, добрый человек с удовольствием, казалось, слушал мой спор с пруссаками, и потом ласково заговорил со мною, уверяя, что он знал много моих земляков».
И тут, на чужбине, мыслями он был с Москвой, с родными, друзьями. «Хотелось бы мне заехать в Эмс, если Станкевич там». И разве только на время была загнана внутрь тоска по Машеньке. Он возвращался домой с обновленным чувством родины — всего того родного, необходимого ему, как воздух, чем и жил до этой поездки.
…Каждый из «неистовых» — и Белинский и Константин Аксаков — проповедовал свое, был готов положить душу «за други своя», за свои убеждения. Каждая встреча с новым человеком была как бы вербовкой в свои ряды. Упоминавшийся Панаев в тех же литературных воспоминаниях рассказывает, как Константин водил его, петербуржца, приехавшего в Москву, по улицам первопрестольной, показывал достопримечательности. «Константин Аксаков был такого же атлетического сложения, как его отец, только пониже ростом. Его открытое, широкое, некрасивое, несколько татарское лицо имело между тем что-то привлекательное; в его несколько неуклюжих движениях, в его манере говорить (он говорил о любимых своих предметах нараспев), во всей его фигуре выражались честность, прямота, твердость и благородство; в его маленьких глазках сверкало то бесконечное добродушие, то ничем не преодолимое упорство… Он останавливал меня перед Иваном Великим, перед Васильем Блаженным, перед Царь-пушкою, перед колоколом — и глазки его сверкали, он сжимал мою руку своей толстой и широкой рукой… „Вот Русь-то, вот она, настоящая Русь-то!“ — вскрикивал он певучим голосом. Он возил меня в Симонов и Донской монастыри и, когда я обнаруживал мой восторг от Москвы, восхищался ее живописностью и ее старинными церквами, К. Аксаков схватывал мою руку, жал мне ее так, что я только из деликатности не вскрикивал, даже обнимал меня и воскликнул: „Да, вы наш, москвич по сердцу!“»
Глубоко уважал К. Аксакова за честность, благородство, глубину, силу характера и Белинский. В его письмах к приятелям то и дело повторяется: «Константина Аксакова я, чем более узнаю, тем более люблю: это один из малолюдной семьи сынов божиих». «Рад, что вам понравился Аксаков. Это душа чистая, девственная, и человек с дарованием»; «из старых друзей, только добрый, благоугодный, любящий Аксаков все так же хорош со мною, как и прежде». Но, расхваливая Константина Аксакова, Белинский видел в нем и существенный, в его глазах, недостаток: он «еще не искушен внешнею жизнью, внешнею борьбою, которые потому необходимы человеку, что, как толчки, пробуждают в нем жизнь и борьбу внутреннюю». «Да, славное дитя Константин: жаль только, что движения в нем маловато. Я и теперь почти каждый день рассчитываюсь с каким-нибудь своим прежним убеждением и постукиваю его, а прежде так у меня что ни день, то новое убеждение. Вот уж не в моей натуре засесть в какое-нибудь узенькое определеньице и блаженствовать в нем».
С одной стороны, у Белинского — восхищение незаурядной личностью Аксакова, с другой стороны — неприятие в нем того, что сам Белинский называет «неподвижностью». «С Аксаковым мои отношения хороши. Я вижусь с ним с удовольствием и, когда увижу его, то люблю, а когда не вижу, то чувствую к нему род какой-то враждебности. Чудный, прекрасный человек, богатая и сильная натура, но я не знаю, когда он выйдет из китайской стены ощущений и чувств, своей детскости, в которых с таким упорством и с такою неподвижностью так мандарински пребывает», — писал Белинский Станкевичу в начале октября 1839 года незадолго до своего переезда в Петербург, положившего конец его дружеским отношениям с Аксаковым.
Осень 1839 года как бы заметала их молодую, семилетнюю дружбу. Они еще встречались, Белинский по обыкновению навещал Константина, подойдя к дому, он как-то беспокойно оглядывался, опасаясь увидеть неблаговолившую к нему, смотревшую косо на его дружбу с сыном Ольгу Семеновну, и спешил по лестнице наверх, в мезонин, в комнату Константина. Здесь ему было свободно и вольно, усевшись на диван, ссутулившись, он усмехался чему-то своему, покачивая головою и поглядывая большими серыми глазами на хозяина.
— И воротился бы назад, да ноги сами идут к тебе, любезный Константин, несмотря ни на что! — Белинский на миг полуприкрыл глаза, как всегда в редкие спокойные минуты, и о чем-то задумался. — Вот скоро уезжаю в Питер, в «Отечественные записки», содействовать предприятию Краевского и успехам отечественной литературы, — заговорил он с иронией, которая обычно не удавалась ему, и выходило как-то простодушно, в лоб.
— Наконец-то я перебираюсь в Питер! — и замолк, увидев перемену в лице Аксакова, не любившего Петербург, считавшего его городом бюрократии и космополитизма. — Для тебя все Москва, Москва! Я и сам, брат, москвич: могу ли я забыть, как впервые я въехал в Москву десять лет назад, как сильно билось у меня ретивое, когда за несколько верст до заставы завиднелась, как в тумане, колокольня Ивана Великого, а потом увиденный Кремль, монумент Минина и Пожарского на Красной площади. Но ведь всему свое время! Нельзя же вечно заниматься «москводушием».
— Ты чаще говоришь «москвобесие», — тихо вставил Константин.
— Зарезал, брат, зарезал! — захохотал Белинский, откидываясь головой на диване и тут же закашлявшись; кашлял он долго и громко, с выражением досады на худощавом лице: этого еще не хватало, эдакий, право, глупый ремиз. И, справившись с приступом кашля, продолжал, переводя дух:
— Нелегко мне, Костя, оставить Москву, где совершилось столько важных переворотов и процессов моего духа, где завязался и кипел наш кружок, где много прекрасного узнал я в друзьях. Но наш удел — не постоянный дом с филистерским халатом, а ряд бивуаков, судьбе угодно, чтобы я переехал в Питер. Это великое детище Петра, божества, вызвавшего нас к жизни, разбудившего от смертной дремоты древнюю Россию… — и как бы вспомнив, чего можно ждать от Аксакова в ответ на этот дифирамб, какой бури, Белинский закончил: — Да и тебе стоило бы пожить в этой отрицательно-полезной сфере петербургской жизни, чтобы избавиться от прекраснодушия.
— Оставь ты меня в покое со своей отрицательно-полезной сферой! — отвечал Аксаков, нахмурившись.
Прежде разговор между ними тек легко, Константин был смешлив; закрывая глаза, в восторге кричал «каково зрелище!», когда Виссарион со своей прямотой и наклонностью к сильным выражениям припечатывал кого-либо из своих друзей. И острые углы (которые, конечно, тогда были же!) как-то сглаживались, забывались перед взаимной симпатией и любовью. Но теперь уже не было этой гладкости отношений, то и дело находила коса на камень, оба были не из уступчивых.
— Всем ты, Костя, взял — и благородством, и умом, и глубиной духа, но сколько тебя знаю — никакого движения…
— А твои движения?
— Ты знаешь их сам, но могу и напомнить, мне нечего стыдиться своего развития. У меня было и «к черту политика, да здравствует наука», и рефлектирование, которое я побил органическою духовной жизнью, был фихтиянский взгляд на жизнь, — я уцепился за него с фанатизмом, фихтионизм я понял, как робеспьеризм, и в новой теории чуял запах крови, пока по возвращении с Кавказа я не оказался в переходном состоянии: дух утомился отвлеченностью и жаждал сближения с действительностью. Вот тут-то и явился Мишель с гегелизмом: это был новый момент, потрясший меня до основания! Действительность! Действительность! — твержу я, вставая и ложась спать, днем и ночью! Напрасно ты умаляешь во мне движение, хотел бы я, чтобы каждый так подвигался, как я двигался от масленицы прошлого года до вчерашнего дня, когда я окончил письмо Станкевичу.
Белинский, как это с ним бывало при возбуждении и волнении, уже ходил большими шагами из угла в угол комнаты, как бы приседая при каждом шаге. Аксаков слушал, не вставая со стула, опираясь ребрами огромных ладоней на стол.
— Сейчас я готовлю яростный залп по тем, кто отвергает разумную необходимость в истории. Не аплодисмена я жду, а крика негодования вчерашних друзей. Но что нужды? Истина для меня превыше всего.
— Желаю тебе подольше задержаться на этом моменте, — вставил Аксаков, внимательно слушавший Белинского, — мы ведь и повиты оба одной веревочкой — Гегелем, он связал нас с тобой…
— Посмотрим, время покажет, — отвечал Белинский, плюхаясь на диван и растягиваясь на нем во весь рост с заложенными за голову руками. — Откуда мне знать, что может выкинуть действительность? Это ты непробиваемый мандарин, ты еще и не нюхал действительности…
Аксаков казался спокойным, но в глазах его, отражавших так красноречиво всю смену его душевных состояний, уже сверкало то волевое, ничем не преодолимое упорство, которое было так хорошо известно Виссариону, хорошо знавшему, что предвещало это упорство. Вдруг Константин поднялся со стула и, рубя ладонью воздух, высокий, отчужденный, суровым голосом заговорил:
— Ты все нападаешь на русскую народность и тех, кто предан ей, обвиняешь в застое, в неподвижности. Ты кичишься своим развитием, без которого у тебя дня не проходит, но ведь развиваться — значит предыдущее полагать в себе моментом развития и идти далее, а не то, чтоб целый век прыгать с ноги на ногу и качаться из стороны в сторону на одном месте. Вот тебе мой ответ на твое так называемое развитие.
«Отрицательно-полезная сфера» петербургской жизни способствовала еще большим радикальным переворотам в сознании Белинского. Разрыв между прежними друзьями становился неизбежным, он и наступил летом 1841 года. А после выхода в мае 1842 года гоголевских «Мертвых душ» между Белинским и Константином Аксаковым произошла яростная идейная схватка. Суть спора касалась отношения не только к искусству, но и к самой действительности: есть ли в ней силы положительные, созидательные (достойные утверждения) или же она заслуживает только отрицания. Белинский, разделавшийся со своей вчерашней «разумной действительностью», весь был теперь поглощен отрицанием «гнусной действительности», и в литературе главным для него сделалось это отрицание, социальное обличение. А знаменем этого обличения стал Гоголь, его «Мертвые души».
После переезда Сергея Тимофеевича с семьей из Оренбургского края на житье в Москву он стал всерьез думать о службе. В это время прошел слух о создании в Москве нового цензурного комитета, который должен был находиться в ведении министра народного просвещения. А поскольку этим министром был старый знакомый Аксакова — Александр Семенович Шишков, то с ним следовало и вести разговор.
За эти десять лет, протекших со времени их последней встречи в 1816 году, в жизни Шишкова произошло много перемен: уже не было на свете Дарьи Алексеевны, первой его жены, оставшейся в памяти Аксакова «истинно доброй и достойной уважения»; Александр Семенович второй раз женился, «имея нужду в няньке», как он сказал при встрече Сергею Тимофеевичу. Но могло казаться, что все в его жизни ровно и спокойно, как в гавани, после того невиданного шторма, каким была для него, как и для всех русских людей, Отечественная война 1812 года. Уже становились историей и его деятельность на посту государственного секретаря (вместо M. M. Сперанского), и писанные им от царского имени во время войны манифесты, обращения к народу, которые, по словам Аксакова, «действовали электрически на целую Россию». В своей деятельности Шишков видел служение благу Отечества, как он это понимал: чтил власть, но никогда не раболепствовал пред нею, оставался всегда верным своим убеждениям, не боясь опалы. Прямота и честность не изменяли ему и в отношениях с Александром I. Шишков отказывался от писания манифестов в тех случаях, когда они не отвечали истинному положению дел. Надо было обладать недюжинной нравственной силой, смелостью, чтобы настаивать, как это сделал Шишков, на отъезде из армии императора, присутствие которого неблагоприятно отражалось на руководстве русскими войсками.
Исполнив свой общественный долг в суровую годину для России, чуждый какому бы то ни было карьеризму, Шишков после изгнания Наполеона из России по собственной воле избрал служебное место более скромное и близкое ему, став президентом Российской академии. Но не только излюбленная этимология занимала его в это время. Никто, пожалуй, не знал, что в 1818 году Шишков начал писать воспоминания, или, по его словам, «Домашние мои записки», и закончил их в 1828 году. Стало быть, в том 1826 году, когда Сергей Тимофеевич, спустя десять лет, снова встретился с Шишковым, уже министром народного просвещения, он даже не догадывался, какие грандиозные события проходят через душу этого рассеянного старика. Начиная с восьмидесятых годов XVIII века, когда он при Екатерине II начал свое служебное поприще с Морского кадетского корпуса, Шишков был свидетелем и участником многих событий, и малых и великих, и внутренних и международных. И в своих «Домашних записках» он подробно повествовал об этих событиях, зачастую оставшихся тайной для современников, развертывал картины государственной, общественной жизни, военных столкновений, со свойственной ему прямотой рассказывал о закулисных сторонах происходившего.
Писал свои «Записки» Шишков не для печати, а как он сам укажет через два года, в 1828 году, в предисловии к ним — «собственно для себя или для весьма немногого числа моих приятелей», и даже завещал сжечь их после своей смерти. Однако сам же Александр Семенович и нарушит свою авторскую волю, когда впоследствии, в 1831 году, выпустит свои «Краткие записки» (основанные на тексте «Домашних записок»).
Приехавший в том, 1826 году, на короткий срок из Петербурга в Москву Шишков не мог, конечно, не вспомнить о своем давнем плане, касавшемся первопрестольной. Еще в конце 1812 года он замыслил, получив одобрение императора, описать пребывание наполеоновской армии в Москве и тогда же поручил этот труд литератору и переводчику религиозной литературы Я. И. Бардовскому. Для Шишкова варварство завоевателей, руины Москвы, оскверненные ее святыни были обличением ненавистного ему западного «безверия». Он внимательно следил за работой Бардовского, в переписке с ним наставлял, как лучше собирать известия, что смотреть, куда поехать, каких отыскивать людей, которые уведомляли бы его о собранных подробностях «в Москве и, сколько можно, во всех окрестностях, по которым шатался неприятель». Затеянное дело получило широкую известность, о нем много говорили, ему сочувствовали, но, по непонятным причинам, труд Бардовского так и не появился в свет. Теперь, спустя четырнадцать лет после московских бедствий, Шишков мог только радоваться, видя вновь выстроенную, прекрасную Москву, но и досадовать, что уходит время, следы пребывания французов в Москве уже исчезли, а задуманного описания все еще нет.
Сергей Тимофеевич дивился этому человеку, простодушному, житейски нетребовательному, скромному в быту, и в то же время твердому, непреклонному в своих консервативных убеждениях. Пушкин приветствовал назначение Шишкова министром народного просвещения («Шишков уже наук правленье восприял»), славил его как «честного министра», видя в нем друга русского просвещения, русской науки (и другие отмечали заслуги Шишкова — в утверждении национальных начал в народном образовании после космополитической ориентации его предшественника на посту министра; в открытии славянских кафедр в русских университетах, в посылке русских ученых за границу и т. д.). А память о нем запечатлена в известном двустишии Пушкина, которое любил повторять при имени Шишкова Сергей Тимофеевич Аксаков.
Сей старец дорог нам он блещет средь народа
Священной памятью двенадцатого года
Прежний министр народного просвещения князь А. Н. Голицын был связан с масонами, хотел «европеизировать», «обновить» православие. Против Голицына с его «смесью веры» яростно восстал знаменитый архимандрит Фотий, который при поддержке Аракчеева добился у Александра I отставки Голицына, длительное время бывшего главным советником императора по вероисповедным вопросам. Свою министерскую задачу Шишков видел в искоренении ереси, в восстановлении чистоты православия и не боялся говорить правду императору, который мечтал о «соединении всех вер» в одном христианстве. Шишков писал Александру I, призывал его осознать свою «прежнюю ошибку», тем более, что «все и без объявления Твоего знают сию ошибку, а потому упорное пребывание Твое в оной не закроет ее от глаз людских, но только покажет, что Ты любишь себя больше, нежели общее благо».
Таков был Александр Семенович Шишков. Он очень обрадовался Аксакову, своему младшему собеседнику, которого не видел десять лет, расспрашивал его о деревенском житье-бытье и по своей простодушной недогадливости пропустил мимо ушей признание Сергея Тимофеевича, что ему нужно место в Москве с «порядочным жалованьем». Пришлось через два дня снова приехать и спросить прямо: не может ли он, Аксаков, занять место цензора? «Почему же нет? Лучшего цензора я желать не могу», — Шишков был очень рад и удивился, как это раньше он сам об этом не догадался.
Так, с лета 1827 года началось цензорство Аксакова. После десятилетнего деревенского уединения он оказался на месте довольно бойком и хлопотном, требовавшем служебной ловкости и достаточной осведомленности в современной обстановке, в том числе литературной. Впрочем, сам Аксаков, вступая в цензорскую должность, дал себе слово толковать в цензурном уставе «все в хорошую сторону», и, стало быть, не ущемлять авторов и издателей. Об этом у него в первый же день службы разгорелся горячий спор с председателем комитета князем В. П. Мещерским, который настаивал на крайне строгом следовании уставу, каждой букве его. Однако не прошло и месяца, как председатель Цензурного комитета был отстранен от должности, и Аксакову было предписано временно исполнять эту должность, что и длилось более года. На выходивших книгах значилось: «Печатать дозволяется, Москва, 1828 года (такого-то месяца, дня). В должности Председателя Московского Цензурного Комитета Сергей Аксаков».
Служба шла успешно. Литераторы, известные и начинающие, журналисты, книгопродавцы, содержатели типографии, букинисты, — все они довольны быстрым решением их дел в новом комитете (кроме С. Т. Аксакова цензорами состояли писатели С. Н. Глинка и В. В. Измайлов). Небольшие рукописи, листа в два или три, просматривались и цензуровались тут же, при авторах. Ничего подобного не знал прежний цензурный комитет, из профессоров, которым, по их ученой занятости, в тягость были посторонние обязанности, возня с кучами книг и всяким литературным «хламом». Поэтому неудивительно, что издатель «Московского телеграфа» Н. Полевой, узнав, что его журнал будет цензуровать Аксаков, попробовал было сблизиться с ним, но Сергей Тимофеевич вовсе не склонен был к такому сближению и откровенно сказал Полевому, что только как цензор он может быть в сношениях с ним и при этом вежливо добавил, что господин издатель, без сомнения, может быть уверен в скором и снисходительном удовлетворении его требований. Но этой снисходительности хватило ненадолго, вскоре начались недоразумения, красный карандаш цензора разгуливал по страницам «Московского телеграфа», приводя издателя в отчаяние… Кто из них был прав, кто виноват — об этом немало писали и говорили, но даже и те, кто держал сторону Аксакова, должны были признать, что в конфликте с Полевым не всегда прав был Сергей Тимофеевич.
Совсем иные отношения сложились у Аксакова с издателем «Московского вестника» М. П. Погодиным, эти отношения положили начало их тридцатилетней, вплоть до смерти Сергея Тимофеевича, дружбы. Аксаков вскоре уже был не только цензором погодинского журнала, но и его деятельным автором, писавшим статьи о театре, игре московских актеров и актрис, разборы спектаклей. Эти материалы вносили разнообразие и оживление в журнал, благодарный издатель к каждой книжке «Московского вестника» стал прилагать специальное прибавление по листу и по два, где помещались аксаковские вещи.
Аксаков фактически возглавил театральный отдел журнала. Страсть неисправимого любителя декламации, игры в домашних (и не только в домашних) спектаклях отныне находила новую точку приложения — в театрально-критической деятельности Аксакова. Писал он о спектаклях так, как будто сам участвовал в них — с увлечением, с таким подробным разбором игры актеров и актрис, что перед читателем возникал живой портрет исполнителя с его удачами и промахами. Доскональное, требовательное, доброжелательное вникание Аксакова в секреты актерской игры, его точные, психологически правдивые замечания, без сомнения, оказывали неоценимую услугу актерам, были для них школой «натуральности», как определял сам Сергей Тимофеевич жизненную правду исполнения. Несмотря на тогдашнее представление его о «пошлой», «низкой» действительности как недостойной театрального искусства; несмотря на некоторую дань «условной натуральности», то есть декламации, напевности в трагедии, Аксаков в принципе отстаивал саму «натуральность», видя «единый способ — обратиться к натуре, истине, простоте: изучить и искусство представлять на театре людей не на ходулях, а в настоящем их виде». Тем самым он содействовал утверждению реалистичности в русском театре, изживанию в нем всего искусственного, рутинного, натянутого. Уже здесь заявила о себе эстетика будущего художника, автора «Семейной хроники» и «Детских годов Багрова-внука» с их высокой простотой, истинностью человеческих характеров.
Проницательность Аксакова выразилась и в том, что он первым в театральной критике оценил по достоинству искусство Щепкина и Мочалова — актеров разных сценических направлений: реалистически-комедийного и романтико-трагического, но которых объединяло и нечто общее: психологическая правда в раскрытии характера героя. Аксаковские характеристики их актерского дарования исполнены меткости и тонкости оценки. Особенно замечательна оценка Мочалова во «2-м письме из Петербурга» (напечатанном в «Московском вестнике») — в сравнении с другим трагиком — Каратыгиным, игравшим на петербургской сцене. Художническое вдохновение Мочалова, при всех срывах, неровностях его игры, потрясает силою, глубиною переживания, «имеет такие минуты, такие превосходные места, которые доходят прямо до сердца, в восторг приводя зрителя, чего г. Каратыгин в своей игре не имеет и едва ли достигнуть может». Каратыгин — «неограниченный властелин своих средств», «методическая игра» удерживает его от срывов, но, рассчитанная на внешнюю картинность, эффектные жесты, она производит впечатление хотя и блестящего, но холодного актерства, оставляющего зрителя, в сущности, равнодушным. Сравнение двух трагиков и столь точная характеристика каждого из них были даны Аксаковым в 1828 году, за семь лет до появления известной статьи Белинского «И мое мнение об игре г. Каратыгина», где также проводится «параллель» между обоими актерами и отдается предпочтение «сильному и самобытному» таланту Мочалова перед эффектной, искусственной игрой Каратыгина. А впоследствии Белинский повторит аксаковское сравнение Мочалова с «самородком чистого золота».
Участие Аксакова в «Московском вестнике» оживляло его литературно-театральные интересы, через Погодина расширялся круг литературных знакомств. В январе 1829 года Погодин записал в своем «Дневнике»: «Завтрак у меня, представители русской образованности и просвещения: Пушкин, Мицкевич, Хомяков, Щепкин, Венелин, Аксаков, Верстовский… Разговор от еды и (?) до Евангелия, без всякой последовательности, как и обыкновенно». Пушкин был в дружеских отношениях с Погодиным, возлагал надежды на издателя «Московского вестника» (где был опубликован отрывок из его «Бориса Годунова»), вообще на московских литераторов как на противодействие петербургской журналистике булгариных. Называя петербургских литераторов «предприимчивыми и смышлеными литературными откупщиками», Пушкин говорил, что «ученость, любовь к искусству и таланты неоспоримо на стороне Москвы». «Московская критика с честию, отличается от петербургской. Шевырев, Киреевский, Погодин и другие написали несколько опытов, достойных стать наряду с лучшими статьями английских Reviews («Обозрений»), между тем как петербургские журналы судят о литературе… наобум и как-нибудь, иногда впопад и остроумно, но большею частию неосновательно и поверхностно». Пушкин ценил Погодина за ученость, за его работу в области русской истории, сочувствовал его опытам народной трагедии, что же до отношения Погодина к Пушкину, то это было благоговение к великому поэту, олицетворяющему собою русскую литературу. Погодин мог только пожалеть, что Аксакову не довелось слушать чтение Пушкиным «Бориса Годунова». Как и для многих из собравшихся тогда, для Погодина привычным было господствовавшее в то время чтение стихов нараспев, завещанное французской декламацией, мастером которой считался Кокошкин. И вот вместо кокошкинской декламации услышали речь простую, внятную и вместе с тем поэтическую. Читал без всяких притязаний человек среднего роста, с длинными курчавыми волосами, с живыми быстрыми глазами, с порывистыми жестами, в черном сюртуке, в небрежно завязанном галстуке. Спустя сорок лет Погодин признавался, что «кровь приходит в движение при одном воспоминании» об этом чтении. «Сцена летописца с Григорием просто всех ошеломила. Что было со мною, и я рассказать не могу. Мне показалось, что родной мой и любезный Нестор поднялся из могилы и говорит устами Пимена: мне послышался живой голос древнего русского летописателя. А когда Пушкин дошел до рассказа Пимена о посещении Кириллова монастыря Иоанном Грозным, о молитве иноков: „Да ниспошлет Господь покой его душе, страдающей и бурной“, — мы все просто как будто обеспамятели. Кого бросало в жар, кого в озноб. Волосы поднимались дыбом…»
С Пушкиным же у Сергея Тимофеевича будет своя, хотя и скромная, история взаимоотношений. В 1830 году, когда в журналах начались нападки на Пушкина, он написал «Письмо к издателю „Московского вестника“» (там же оно было напечатано) «О значении поэзии Пушкина». Аксаков писал о достоинствах поэзии Пушкина, о том, что «многие стихи его, огненными чертами врезанные в душу читателей, сделались народным достоянием!». По словам самого Сергея Тимофеевича, Пушкин был очень доволен этим письмом. Не зная, кто автор его, он сказал однажды в присутствии Аксакова: «Никто еще никогда не говорил обо мне, то есть о моем даровании, так верно, как говорит в последнем номере „Московского вестника“ какой-то неизвестный барин».
При жизни Пушкина Аксаков не заявил еще о себе как писатель, единственное, что он напишет (в 1834 году) в прозе — небольшой очерк «Буран». Однако уже и здесь будет виден крупный художник: сколько поэтической выразительности в описании зимней вьюги в степи, действительного ощущения ярости бурана, смешавшего землю и небо, леденящего душу человека-песчинки в рассвирепевшей природе. Аксаковский буран произвел большое впечатление на Пушкина и отозвался в знаменитом описании метели во второй главе «Капитанской дочки».
В приведенной выше дневниковой записи Погодина о завтраке у него «представителей русской образованности и просвещения» в числе других назван и Юрий Иванович Венелин. С этим замечательным человеком у Сергея Тимофеевича сложатся самые приязненные отношения. Настоящая фамилия Венелина была Гуца; родом закарпатский украинец, учившийся в Львовском университете, он в возрасте двадцати одного года, в 1823-м, переехал в Россию, где так плодотворно развернулась его ученая деятельность как слависта. Оригинальный филолог и историк без обычного для его времени безоговорочного поклонения европейским авторитетам, с проницательным историческим чутьем, Венелин был еще более человеком сердца. За свои убеждения, за свое дело он готов был идти на крест. Это был боец за идеи славянства, за национальные культуры славянских народов. Особенно много он делал для болгар. Вскоре после встречи у Погодина, в том же 1829 году, выйдет книга Венелина «Древние и нынешние болгаре в политическом, народописном, историческом и религиозном их отношении к россиянам». Этот труд положит основание национально-культурному возрождению болгар, окажет большое влияние на деятелей болгарского просвещения. Странник по натуре, Венелин в своих трудах как бы пускался в историческое паломничество по славянским землям, уходя и в древнюю историю русского народа в его связях с другими народами, не только славянскими; и в прошлое словенцев, сербов, словаков, стараясь понять их исторические судьбы. Венелин никогда не расставался, куда бы он ни забредал, со своим ученым коробом, наполняя его каждый раз дорогими для него неповторимыми дарами именно этой славянской земли, куда он попадал, дарами народного быта, языка, литературы, фольклора.
Собирая то, что было для него богатством, он и вокруг себя распространял его. И семья Аксаковых окажется не без влияния его дела. Венелин стал учителем Константина Аксакова, когда тот в 1832 году готовился к поступлению в Московский университет, с тех пор возбужденный Юрием Ивановичем интерес к истории и культуре славянских народов уже не покидал Константина Сергеевича. В том же, 1832 году, во время приезда в Москву А. С. Шишкова Сергей Тимофеевич представил ему, как президенту русской академии, Венелина. Шишков, знавший и очень уважавший книгу «Древние и нынешние болгаре…», внимательно отнесся к ее автору, поддержал его просьбу совершить поездку в Болгарию[5], предложив выделить для этого из средств Российской академии необходимую сумму денег. Вернется Венелин из Болгарии с обильным фактическим материалом, ценными документами, грамотами, которые потом будут изданы.
И не только поклонники ценили его. С уважением будет писать о нем Белинский, полемизируя с излишеством, по его мнению, славянских симпатий Венелина. Уже спустя четверть века после смерти Венелина (он скончался в 1839 году) Аполлон Григорьев, признавая за ним черты гениальности, причислит его к тому направлению мышления, которое он назовет «органической критикой» (связывающей предмет разговора с глубочайшими задачами жизни).
Но вернемся к службе Сергея Тимофеевича. Однажды явился в цензурный комитет небольшого роста худощавый человек с глубоко посаженными буравящими глазами и завел речь о том, чтобы ему дозволили издавать журнал отечественной истории, словесности и критики под названием «Русский зритель». Посетитель назвался Калайдовичем. Имя Константина Федоровича Калайдовича было и прежде хорошо известно Аксакову как имя ученого, имеющего заслуги в разыскании и публикации российских древностей. Он был один из тех, кто входил в знаменитый «кружок Румянцева». Основатель, вдохновитель и меценат кружка Николай Петрович Румянцев был сыном знаменитого русского полководца, генерал-фельдмаршала Петра Александровича Румянцева-Задунайского. Сын полководца как бы оправдал девиз, начертанный на их фамильном гербе: «Не только оружием». В молодости дипломат, представлявший Россию в Европе, затем министр коммерции, принимавший энергичные меры для укрепления экономики страны, министр иностранных дел, способности которого высоко оценил сам Наполеон, который вел с ним переговоры в Париже (и в знак своего уважения к нему предоставил ему возможность ознакомиться с французской Национальной библиотекой); наконец — канцлер, председатель Государственного совета — таков был служебный путь Румянцева. После того как в 1814 году шестидесятилетний граф ушел в отставку, началась новая полоса его деятельности, не менее, а более славная, принесшая ему посмертное признание большее, чем вся его блестящая государственная карьера. Он выбрал необычное поприще для дальнейшего служения Отечеству, решив объединить вокруг себя ученых, сплотить их усилия в научных исследованиях, в изучении исторических памятников прошлого. То было время, когда после победы 1812 года русское национальное самосознание находило свое выражение в литературе, искусстве, во всех сферах общественно-культурной жизни. Это же обстоятельство и одушевило деятельность Румянцева и сложившегося вокруг него кружка, развернувшего научные изыскания с небывалым размахом и сознанием своего патриотического долга. Сын великого полководца как бы созидал исторический тыл русским военным победам, доказывая тем самым, что «не только оружием» может быть силен народ. Можно даже сказать, что это тоже было оружие, та духовная сила, без которой непрочны никакие военные победы.
Средоточием пытливой научно-исторической мысли целой ученой «дружины», как назвал сотрудников Румянцева M. П. Погодин, стали российские древности. И наиболее деятельным, усердным, кропотливым исследователем, пользовавшимся особым доверием и расположением графа, был Калайдович, отыскавший десятки ценнейших рукописей.
…Между тем Сергея Тимофеевича ожидали служебные неприятности. Цензорство оказалось не тихой заводью, а в некотором роде омутом неожиданностей, где впору самому не утонуть. Одной из таких неожиданностей и явилась для Аксакова история со статьей Ивана Киреевского «Девятнадцатый век» (напечатанной в журнале «Европеец»), которую он цензуровал и в которой содержались мысли о современном просвещении, расходившиеся с официальным мнением. Статья вызвала неудовольствие высших властей. Правда, Сергей Тимофеевич отделался на этот раз «строгим замечанием», но тут же вослед пожаловали другие неприятности, вроде поднявшегося шума вокруг пропущенной Аксаковым баллады «Двенадцать спящих будочников», в которой было усмотрено оскорбление московской полиции. Следствием было то, что в феврале 1832 года Аксаков был уволен со службы.
Так закончилась более чем трехлетняя с перерывами его цензорская деятельность.
Эти неудачи, однако, не подвели пока черту под послужным списком Сергея Тимофеевича. По прошествии менее чем двух лет, в октябре 1833 года, он поступил на новую службу — инспектором Константиновского землемерного училища. Полтора года спустя училище было преобразовано в Межевой институт, и Аксакова назначили его первым директором. И удивительное дело: вчерашний неумелый хозяин на ниве земледельческой обнаружил на новой, педагогической ниве способности и воспитательные, и организаторские, и даже хозяйственные. Новая должность была ему более по душе. Надзор здесь был другой — над воспитанниками училища, а затем института, которых было двести пятьдесят человек — будущие межевщики и чиновники межевой службы, землемеры бескрайних русских пространств. Может быть, потому Сергей Тимофеевич и сошелся с ними, потому и вошел во вкус новой службы, что сам был в каком-то смысле землемером, любил до подробностей знать родную землю. Да, это была служба желанная, хотя и хлопотная, отнимавшая много времени, стоившая немалого труда, облегчаемого сознанием его нужности и полезности. Во все надо было вникать, начиная от программы подготовки учеников, частностей их обучения, воспитания и кончая хозяйственными делами. Институт был молодой, с малопроторенными еще воспитательными путями, и было где приложить педагогические усилия. Аксаков и повел дело с этим чутьем истинного педагога, для которого нравственным долгом было создание наилучших условий для обучения воспитанников, а высшим удовлетворением — их успехи, делавшие его «очень счастливым», как он сам признавался. Сергей Тимофеевич разработал новый устав Межевого института, который был утвержден и послужил основанием для всех последующих уставов этого учебного заведения. Уже одним этим он вписывал свое имя в его летопись, и не случайно новые директора института с таким уважением и почтением относились к своему предшественнику, и со временем среди учителей и воспитанников сложились свои предания о директорстве Аксакова, знаменитого уже к тому времени писателя.
Но и в Межевом институте, среди землемеров, Сергею Тимофеевичу напоминала о себе литература. Он ближе узнал Белинского. Они и до этого знали друг друга: Белинский бывал в доме Аксаковых, о нем много рассказывал отцу Константин Сергеевич, не скрывавший ничего о своих спорах с Виссарионом, как и вообще о своей умственно-философской жизни, так что Аксаков-старший всегда был как бы соучастником ее. Сергей Тимофеевич цензуровал некоторые вещи молодого критика, помог напечатать его книгу «Основания русской грамматики», взяв на себя все материальные заботы по изданию. И вот теперь сильно нуждавшийся в средствах Белинский с благодарностью принял предложение Аксакова преподавать в Межевом институте русский язык. Недолго преподавал Белинский, всего семь с половиною месяцев, быстро он утратил интерес к работе и попросил увольнения. Впрочем, вскоре, на шестом году службы, в декабре 1838 года и сам Сергей Тимофеевич ушел в отставку, желая зажить «свободно и спокойно».
Отношения между Аксаковым и Белинским и после этого не прекратились. Белинский в кругу знакомых всегда с большим уважением и душевной приязнью отзывался о Сергее Тимофеевиче. Как рассказывает А. Я. Панаева в своих «Воспоминаниях», он однажды сказал: «Ах, если бы побольше было таких отцов у нас в России, как старик Аксаков…» В письме к сыну Аксакова Белинский признавался: «Верь, Константин, что я уважаю твоего отца искренне, хотя он, как мне кажется, и предубежден против меня… Наши лета и понятия разнят и рознят нас, но я тем не менее уважаю его за верное чувство поэзии и за добрый и благородный характер». Личные предубеждения могут и проходить, «понятия» же со временем «разнят» еще больше. Как человеку умеренных взглядов, снисходительному к мнениям других, Сергею Тимофеевичу чужда была идейная нетерпимость Белинского, резкость, радикальность его суждений, все более с годами проявляющееся отрицание действительности, в чем Аксакову виделось что-то разрушительное, и все это, конечно, не располагало его к критику. Не мог не повлиять на дальнейшее отдаление Сергея Тимофеевича от Белинского и разрыв Константина с Виссарионом.
А этот разрыв был уже окончательным и непримиримым. Белинский говорил: «Чем больше живу и думаю, тем больше, кровнее люблю Русь, но начинаю сознавать, что это с ее субстанциальной стороны, но ее определение, ее действительность настоящая, начинают приводить меня в отчаяние — грязно, мерзко, возмутительно, нечеловечески…» Константин Аксаков любил Россию в большой степени «субстанционально» — в ее нравственном идеале, в то время как Белинский все более обостренно чувствовал потребность видеть в ней, в России, именно социально-отрицательное — «мерзость», «безобразие» и т. д. И весь путь его, все «фазисы», «эпохи» его духовного развития, все бесконечные «перевороты» вели к крайнему радикализму. Для Белинского лозунгом стало «социальность или смерть». Социальность была и у Константина Аксакова, выступавшего, как и другие славянофилы, против крепостного права, которое он называл «бесчеловечным» и «делом возмутительным», против тех же «мерзостей» общественной жизни, произвола бюрократии; он отстаивал необходимость свободы слова, ратовал за распространение просвещения в народе. В этом отношении социальность Константина Аксакова, как, повторим, и других славянофилов, была столь активна, что вызывала резкое недовольство высших властей, прибегавших к их преследованию. И все-таки это была иная критика и, в сущности, иная позиция, чем у Белинского. Пропастью, разделявшей их, было отношение к пути исторического развития России. Для славянофилов это был путь, основанный на развитии исторически сложившихся начал тысячелетней русской государственности, основанный прежде всего на православии, вне которого они не мыслили себе ни судьбы, ни будущего русского народа. Белинского же при всех его «духовных переворотах», при «неоднозначности» идей даже и в последний период жизни, все более одержимым делала «идея отрицания как исторического права», говоря его словами. Письма его (о которых он говорил, что в них «вся жизнь моя») кипят и бурлят этим отрицанием. Он восклицает: «Да здравствует разум и отрицание… Проклятие и гибель думающим иначе!» «Отрицание — мой Бог». «Мне отраднее кощунство Вольтера, чем признание авторитета религии…» «Я понял и французскую революцию… понял и кровавую любовь Марата к свободе, его кровавую ненависть ко всему, что хотело отделяться от братства с человечеством».
Современники Белинского вспоминали, с каким лихорадочным возбуждением слушал он чтение статей об истории французской революции, о терроре якобинцев. Путь к решению всех проблем он видит «через социальность». «И потому нет ничего выше и благороднее, как способствовать ее развитию и ходу. Но смешно и думать, что это может сделаться само собою, временем, без насильственных переворотов, без крови. Люди так глупы, что их насильно надо вести к счастью».
Это было сказано в 1841 году, и с тех пор вплоть до смерти Белинского в 1848 году каждый из бывших друзей шел своим избранным путем.
Была весна 1832 года. Аксаковы жили тогда в доме на Сивцевом Вражке. По субботам у них обычно собирались приятели хозяина, обедали, коротали вечер. В один из таких вечеров Сергей Тимофеевич сидел у себя в кабинете, наверху в мезонине, играя с гостями в карты, скинув от жары фрак, как вдруг дверь отворилась и вошедший без всякого предуведомления Погодин подошел прямо к столу с неизвестным, очень молодым человеком и объявил: «Вот вам Николай Васильевич Гоголь!» При этом имени чуть не выпали карты из рук игрока. Такого замешательства при знакомстве как будто еще не бывало у Аксакова. Да и гости были явно озадачены и молчали. Видя, что с их приходом прервалась игра, Погодин и Гоголь стали упрашивать Сергея Тимофеевича продолжать игру, так как некому было его заменить. Только он взял в руки карты, как послышался радостный крик Константина, узнавшего о приезде Гоголя и бросившегося к нему. Пятнадцатилетний Константин достаточно уже разбирался в русской литературе и хорошо знал Гоголя как автора «Вечеров на хуторе близ Диканьки» (которыми восхищалась вся семья Аксаковых) и теперь забросал любимого писателя своими вопросами. Сергей Тимофеевич радовался, слыша, с каким большим чувством и пылкостью говорит его сын с Гоголем, и, рассеянно продолжая игру, прислушивался одним ухом к разговору, но слов тихо говорившего Гоголя не мог расслышать.
В то первое свидание Сергей Тимофеевич только и перемолвился с Гоголем несколькими словами. Он даже и не мог вспомнить потом, о чем у них шла речь. Но бросился в глаза и запомнился невыгодный для гостя его наружный вид: хохол на голове, подстриженные височки, выбритые усы и подбородок, что-то даже плутоватое, как показалось хозяину, было в нем. Претензию на щегольство обличали в Гоголе его пестрый светлый жилет с большой цепочкой, большие и крепко накрахмаленные воротнички, придававшие какой-то особый вид его обличью. Что-то не располагающее к себе, несимпатичное было в госте, в самих его манерах, создавалось почему-то впечатление, что держит он себя неприветливо, небрежно, как-то свысока, не особенно считаясь с другими. С час пробыл Николай Васильевич и ушел, сказав напоследок хозяину, что побывает у него на днях и попросит сводить его к живущему недалеко от Сергея Тимофеевича Загоскину.
Так началось знакомство Сергея Тимофеевича с Гоголем, переросшее вскоре в дружбу, которая продолжалась до самой смерти Николая Васильевича. О своих взаимоотношениях с великим писателем Аксаков расскажет впоследствии в «Истории моего знакомства с Гоголем». Эти воспоминания так живы и полны таких незабываемых подробностей, что в своем рассказе мы и будем следовать мемуарам Сергея Тимофеевича, хотя читателю следует иметь в виду, что иногда автор их, может быть, и субъективен.
Через несколько дней Гоголь явился к Аксакову. Сергей Тимофеевич с искренним чувством тут же заговорил о его «Диканьке»: как свежи, прелестны, благоуханны, художественны рассказы в ней; но вскоре должен был поубавить свой пыл, видя, как сухо принял Гоголь его похвалы. Опять, как и в прежний раз, показалось ему, что было что-то отталкивающее в Гоголе, не допускавшее его, Аксакова, до той откровенности, излияния чувств, без которых для него человеческое общение было неполным. Гость не намерен был засиживаться, и скоро по его просьбе они пошли пешком к Загоскину. Молчавший Гоголь вдруг начал жаловаться на свои болезни; по его словам, он был болен неизлечимо. «Да чем же вы больны?» — спросил Аксаков, глядя на него изумленно и недоверчиво: таким здоровым казался ему Гоголь. (Только потом Сергей Тимофеевич узнал, что о своей болезни Гоголь говорил и Константину.) Из неопределенного ответа Николая Васильевича можно было понять, что «причина болезни его находится в кишках».
Зашел разговор о хозяине дома, к которому они шли. Гоголь похвалил Загоскина за «веселость», но тут же заметил, что он не то пишет, что следует, особенно для театра. Сергей Тимофеевич отвечал быстро, как бы напоминая совершенно очевидную истину, что «у нас писать не о чем, что в свете все так однообразно, гладко, прилично и пусто, что…». И тут он продекламировал:
…даже глупости смешной
в тебе не встретишь, свет пустой.
Гоголь сбоку посмотрел на него быстро, как-то значительно и сказал: «Это неправда, комизм кроется везде, что, живя посреди него, мы его не видим; но что если художник перенесет его в искусство, на сцену, то мы же сами над собой будем валяться со смеху и будем дивиться, что прежде не замечали его». Аксаков был озадачен, услышав от Гоголя эту мысль. Более того, эта мысль поразила его, она произвела в нем некий внутренний переворот. Ему открылось со временем в размышлениях об этом, сколь неисчерпаема в своей внутренней содержательности действительность, только в ней искусство может найти истинность и поэзию. И сам Гоголь, как поэт действительности, станет для него откровением творчества, художником, который всю жизнь будет вызывать у него благоговение. Существует множество историй, рассказывающих, как какое-нибудь обстоятельство, слово, прозрение переворачивали духовно, внутренне человека, могли в корне изменить, преобразить его. Случай с Аксаковым, которого поразили произнесенные выше слова Гоголя о «комизме», — это тоже своеобразный переворот, но не духовный, не нравственный, а эстетический, и, зная, как он подействовал на писательскую судьбу Сергея Тимофеевича, а в какой-то мере и на всю его жизнь, можно предположить, насколько преимущественно художественной была эта натура. Позже мы увидим, как эстетически, так сказать, перерожденный Гоголем Аксаков и в нем самом хотел видеть только великого художника, исключительно художническую натуру, как бы ревнуя ко всему другому в нем, не принимая его «напряженного религиозного направления», пагубного, по его мнению, для искусства — здесь и начиналось глубокое противоречие между ними. Но об этом будем говорить в своем месте, а пока заодно с ними войдем в дом Загоскина в Денежном переулке. Если бы Михаил Николаевич догадывался, что привести Гоголя к нему могла не столько его, Загоскина, писательская слава, сколько положение как директора московских императорских театров, небезразличное для тех, кто свои пьесы не прочь увидеть на сцене (а у Гоголя в то время в замысле как раз и была комедия), то появление Николая Васильевича могло быть встречено и посдержаннее. Но не таков был Загоскин, чтобы подозревать что-то своекорыстное в людях, да еще в человеке, с которым пришел его друг Аксаков. Правда, до этого он по прочтении «Диканьки» спорил с приятелями, говоря, что похвалы их излишни, преувеличены, находил в описании украинской природы неестественность, напыщенность, восторженность молодого писателя, видел везде неправильность языка… Но все это было забыто, ведь превозносимый всеми Гоголь поспешил к нему приехать, как было не отозваться на это всей душой. После первых же слов Загоскин кинулся обнимать Гоголя, ласково, но, видимо, и тяжеленько тыча кулаком в бок, принялся целовать несколько опешившего гостя, потом перебросился с такими же приветствиями на Аксакова, именуя его всякого ряда звериными прозвищами. После этого любезного натиска Загоскин с не меньшей энергией начал угощать гостей рассказами о себе, своих занятиях, о множестве прочитанных книг, о своих археологических трудах, о том, в каких чужих краях ему только не приходилось быть (далее Данцига он нигде не был), не говоря уже о Руси, которую он изъездил всю вдоль и поперек и т. д. Сергей Тимофеевич знал, что этим фантазиям мог искренне верить один Загоскин. Гоголю довольно было несколько минут послушать словоохотливого хозяина, чтобы сразу все понять, но он говорил с ним, словно век его знал. Тут Загоскин подошел к шкафам с книгами, начал хвастаться ими, затем очередь дошла до табакерок, шкатулок. Все это наперед знал Аксаков, и он молча сидел, забавляясь сценой. Но в самом разгаре этого смотра Гоголь вдруг взглянул на часы и, сказав, что ему пора идти, исчез.
— Ну что? — спросил Аксаков Загоскина. — Как понравился тебе Гоголь?
— Ах, какой милый, — закричал Загоскин, — милый, скромный, да какой, братец, умница!
Сергей Тимофеевич не стал возражать приятелю, зная, что это бесполезно, хотя сам не увидел ничего особенно умного в обиходных, ничем не примечательных словах Гоголя, говорившего о совершенных пустяках.
Шел 1835 год. В семье Аксаковых, жившей теперь уже в доме Штюрмера на Сенной площади, имя Гоголя пользовалось особым почетом и любовью. К этому времени он, по словам Аксакова, «успел уже выдать» «Миргород» и «Арабески», «где великий талант его оказался в полной силе». Сергей Тимофеевич с Константином, вся семья, их знакомые были «в полном восторге от Гоголя, особенно от его «Старосветских помещиков» и «Тараса Бульбы», в которых «уже являлся художник с глубоким и важным значением». И этим великим художником был человек, ничем не интересный, казалось бы, в общении, говоривший о совершенных пустяках, даже отталкивающий чем-то от себя, но, впрочем, он открыл ему, Аксакову, как все в жизни значительно для искусства, и то, что проходит мимо обыкновенного глаза, замечается, видится художником, который преображает и саму мелочь в нечто художественно значительное, и оттого взгляд самого Сергея Тимофеевича обретает большую зоркость и глубину.
Как-то Аксаковы, отец и старший сын, были в Большом театре; они сидели во время антракта в ложе, когда вдруг в растворенную дверь вошел Гоголь и с веселым, дружеским видом протянул руку Сергею Тимофеевичу. Никогда не видевшие его таким приветливым, Аксаковы были обрадованы до того, что их шумные возгласы привлекли внимание соседних лож. Вошедшему тут же в ложу знакомому Константин шепнул на ухо: «Знаешь ли ты, кто у нас? Это Гоголь». Мигом эта новость разнеслась по креслам, трубки и бинокли нацелились на ложу. Сказав, что он опять в Москве на короткое время, Николай Васильевич тут же уехал. Было ясно, что произошла какая-то перемена в отношении Гоголя к ним, Аксаковым, хотя и не могли они понять причину этого. Впоследствии Сергей Тимофеевич узнал, что Погодин рассказал Гоголю об Аксаковых, о том, как высоко чтут в их семье его талант, как горячо любят его произведения. Услышав от Погодина обо всем этом, Гоголь тотчас же поехал к Аксаковым, не застал их дома и, узнав, где они, отправился в театр, где и явился к ним в ложу.
В тот короткий приезд в Москву Николай Васильевич читал в доме Погодина свою комедию «Женихи» (названную после «Женитьбой»), но по болезни Сергей Тимофеевич не мог приехать и слышать чтения, чем был очень огорчен. Гоголь, сожалевший, что Аксакова не было у Погодина, назначил день, в который хотел приехать к нему обедать и прочесть комедию. Много гостей собралось у Сергея Тимофеевича в тот долгожданный день, в том числе Станкевич и Белинский, все ожидали автора. Но он опаздывал (что нередко с ним случалось). Было уже пять часов, и хозяин велел подавать проголодавшимся гостям кушать, как увидели Гоголя, который шел через Сенную площадь к их дому. Праздник так и не состоялся: Николай Васильевич объявил, что читать комедию он сегодня не может, а потому не взял ее с собою. Хозяину было очень неприятно слышать все это, и отчасти оттого, может быть, возникшая было в последнее время надежда на сближение не оправдалась.
Гоголь же продолжал, по словам Сергея Тимофеевича, «выдавать» новые гениальные произведения, заставляя своего почитателя забывать неприятное впечатление от встреч и все более проникаться благоговением перед ним как художником. Аксаков прочитал «Ревизора» с таким увлечением, с каким, по его убеждению, «конечно, никто никогда не читал». А вскоре он оказался вовлеченным в «ревизорские» хлопоты. Дело в том, что Николай Васильевич, хорошо знакомый со Щепкиным, поручил ему постановку «Ревизора» на московской сцене, письменно снабдив весьма дельными советами и указаниями. У Щепкина, однако, положение было затруднительное: актеры совершенно не считались с его замечаниями и могли «на зло ему уронить пьесу», о чем он рассказал Аксакову, умоляя взять постановку ее на себя, потому что актеры уважают и любят Сергея Тимофеевича, а в дирекции у него есть близкие приятели. Аксаков согласился и тут же написал горячее письмо Гоголю, выражая готовность вместе с Щепкиным все сделать для постановки пьесы. Это было его первое письмо к Гоголю. Ответ Николая Васильевича, тоже первое послание к Аксакову, любопытен уже тем, что на конверте было написано: «Его высокородию Милостивому государю Сергею Тимофеевичу Аксакову». Аксаков был тогда титулярным советником, но выглядел, видимо, гораздо внушительнее этого чина, и в глазах Николая Васильевича оказался достойным статского советника, соответственно генерала. Само же письмо, простое, искреннее, почему-то не понравилось Сергею Тимофеевичу, как и всем домашним, и это будет началом той «тяжелой истории непонимания Гоголя» друзьями, о которой он будет впоследствии говорить, укоряя себя и друзей.
В 1837 году погиб Пушкин. Страшное известие застало Гоголя в Риме, из писем его оттуда видно, как потрясен он был этой вестью. «Моя жизнь, мое высшее наслаждение умерло с ним, — писал он Погодину. — Мои светлые минуты моей жизни были минуты, в которые я творил. Когда я творил, я видел перед собою только Пушкина. Ничто мне были все толки, я плевал на презренную чернь, известную под именем публики: мне дорого было его вечное и непреложное слово. Ничего не предпринимал, ничего не писал я без его совета. Все, что есть у меня хорошего, всем этим я обязан ему. И теперешний труд мой есть его создание. Он взял с меня клятву, чтобы я писал, и ни одна строка не писалась без того, чтобы он не являлся в то время очам моим. Я тешил себя мыслью, как будет доволен он, угадывал, что будет нравиться ему, и это было моею высшею и первою наградою. Теперь этой надежды нет впереди! что труд мой? что теперь жизнь моя?»
Письмо это, конечно же, ставшее известным и Аксакову, многое могло открыть ему в душевном состоянии Гоголя, который, по его словам, «сделался болен и духом и телом». Как мало кто из современников, Сергей Тимофеевич понял всю глубину того, что значила эта утрата для Гоголя. По его мнению, Гоголь «уже никогда не выздоравливал совершенно…»; «смерть Пушкина была единственной причиной всех болезненных явлений его духа, вследствие которых он задавал себе неразрешимые вопросы, на которые великий талант его, изнеможенный борьбой с направлением отшельника, не мог дать сколько-нибудь удовлетворительных ответов».
Из «прекрасного далека» доходили временами, преимущественно через Погодина, который постоянно переписывался с Гоголем, сведения о нем, не спешившем, как видно, возвращаться в Россию. Аксаковы потеряли уже надежду видеть Николая Васильевича в Москве, как вдруг однажды узнают о его приезде. Это было в конце сентября 1839 года, а второго октября (Аксаковы только что переехали с дачи в Москву) он явился к ним. О, как были рады и счастливы Аксаковы, да и сам Гоголь не скрывал своего удовлетворения. Сергей Тимофеевич был восхищен всем сердцем: ведь они виделись всего только несколько раз, да и то на короткое время, за пятилетнее отсутствие Гоголя не обменялись с ним ни одним письмом, но, значит, что-то сблизило их, если так искренна, душевна их встреча, а сам гость кажется воротившимся к своим давнишним друзьям. Не обошлось опять-таки без посредничества Погодина, у которого в доме на Девичьем поле остановился Николай Васильевич, он передал ему все, что знал о Сергее Тимофеевиче и его семействе. Так любовь Аксаковых к Гоголю произвела в нем свое действие и обратила его к ним.
Гость внешне сильно переменился. Это был уже не тот франт в модном фраке, с хохолком на голове, каким впервые Аксаков видел его семь лет тому назад. Сергей Тимофеевич смотрел на Николая Васильевича и любовался: «прекрасные белокурые густые волосы лежали у него почти по плечам; красивые усы, эспаньолка довершали перемену; все черты лица получили совсем другое значение; особенно в глазах, когда он говорил, выражались доброта, веселость и любовь ко всем; когда же он молчал или задумывался, то сейчас изображалось в них серьезное устремление к чему-то высокому». Сергею Тимофеевичу сразу же бросилась в глаза перемена в «наружности» Гоголя, вплоть до «благообразной» фигуры в сюртуке, но он не мог еще догадываться о начавшемся духовном его подвижничестве (названном самим писателем в одном из недавних писем «пророческим даром»), которое вскоре ужаснет Аксакова, увидевшего в нем смертельную опасность для художника.
Но пока еще и не предвиделась эта пропасть между ними, а радовало одно: душа Гоголя отворилась для дружбы с ним; для Сергея Тимофеевича, всегда чуткого к влияниям, началась как бы новая эпоха его художественной, да и душевной жизни.
Гоголь приходил к ним почти каждый день, очень часто обедал. Много шутил, с таким непередаваемо оригинальным, забавным юмором (сам не улыбаясь при этом), что все смеялись неудержимо. Хозяину больше всего хотелось бы, конечно, говорить с ним о его сочинениях, слух о «Мертвых душах» разнесся уже по обеим столицам и всей России, возбуждая небывалый интерес и любопытство. Но Сергей Тимофеевич знал, как рискованно начинать подобный разговор. Попробовал было совсем недавно это сделать Константин в доме Погодина, спросив сгоряча: «Что вы нам привезли, Николай Васильевич?», на что тот очень сухо и с неудовольствием отвечал: «Ничего». Он не любил подобных вопросов, вмешательства в то, что было сокровением его души, и, уже ученые опытом, Аксаковы не повторяли своей докуки.
Между тем Николаю Васильевичу пора было собираться в Петербург, чтобы взять двух своих сестер из Патриотического института, где они воспитывались на казенном содержании. Собственно, и свой приезд в Россию он объяснял тем, что ему надо забрать сестер из института и «устроить, сколько можно лучше, их судьбу», как он писал матери и друзьям из-за границы. Но и Аксакову необходимо было ехать в Петербург, чтобы отвезти своего младшего, четырнадцатилетнего сына Мишу, в Пажеский корпус, где он был давно кандидатом. Уговорились ехать вместе, и вот 26 октября (того же 1839 года) тронулись в путь. Дилижанс, который повез путешественников, был из двух купе, разделенных двумя небольшими окнами: в переднем сидели Миша и Гоголь, а в заднем — Сергей Тимофеевич с дочерью Верой. Это была незабываемая поездка, оставшаяся в памяти Аксакова на всю жизнь, открывшая ему такого милого и веселого Гоголя, каким он уже больше никогда его не увидит. Николай Васильевич, как это знал Аксаков, любил уединение дороги, не терпел, чтобы в дороге к нему приставали с вопросами, как к писателю, отвлекали от уединенных дум, во избежание этого он даже пускался на хитрость, называя себя какому-нибудь любопытному соседу то Гогелем, то Гонолем, отрезая тем самым путь к разговору.
Но в это путешествие все было совершенно по-другому: хватало времени и на чтение книги (это был Шекспир на французском языке, как подсмотрел сидевший рядом с ним любопытный Миша Аксаков), и на дружеские разговоры, и на шутки. Николай Васильевич рассказывал Сергею Тимофеевичу о жизни в Италии (о, эта Италия! Аксаков ревновал к ней Гоголя, полагая, что тот слишком «много любит» ее в ущерб России), делился мыслями о любимой им живописи, об искусстве вообще, выказывая такое тонкое, ясное и глубокое понимание художества, что сосед был очарован им. Говорил и о своем «Ревизоре», досадуя, что дурно играют роль Хлестакова, предлагая, по возвращении из Петербурга в Москву, разыграть комедию на домашнем театре, отведя себе роль Хлестакова, а Сергею Тимофеевичу — городничего, И всю дорогу не переставал шутить. На станциях, в разговорах с кондукторами-ямщиками разыгрывались иногда уморительные сценки с такими забавно сказанными вопросами Гоголя и комическими, заранее им предугадываемыми ответами, что все помирали со смеху.
На одной из станций у Гоголя завязался разговор с продавцом пряников. Взявши один пряник и разглядывая его внимательно, Гоголь стал уверять, что это не пряник, а мыло, и по белому цвету и запаху точно мыло, и нельзя его было покупать как кушанье, пусть сам хозяин отведает, да и стоит этот товар дороже пряника и т. д. Продавец начал доказывать, что это не мыло, а пряник, в конце концов рассердился, так и не поняв, шутит или всерьез говорит странный покупатель.
Так весело продолжалась дорога, доставляя огромное удовольствие Сергею Тимофеевичу и его детям. Выходя из дилижанса на станциях, Гоголь всегда выносил с собою большой мешок, в котором кроме книг было все его хозяйство, принадлежности туалета, как-то: головные щетки, ножницы, щипчики, щеточки для ногтей, какое-то масло, которым он мазал свои волосы, усы и эспаньолку. Пока перекладывали лошадей, он, чтобы согреть ноги, бегал по комнате или грел их у печи. Эту зябкость Аксаков объяснял следствием того «болезненного состояния нерв, которые не пришли еще в свое нормальное состояние после смерти Пушкина». Да, Пушкина не было, и не в эту ли мысль погружался Николай Васильевич, когда после дневных шуток нахохливался вечерами у себя в купе, закутавшись в шинель, подняв ее воротник выше головы, углубившись, уйдя целиком в себя, не испытывая, однако, обычного в дороге исцеления душевных недугов. Всего месяц назад он писал П. А. Плетневу, другу Пушкина и своему: «Как странно! Боже, как странно! Россия без Пушкина. Я приеду в Петербург, и Пушкина нет. Я увижу Вас, и Пушкина нет». Зачем ему теперь Петербург?
В Петербург приехали на пятые сутки вечером тридцатого октября. На одной из улиц Николай Васильевич вышел из дилижанса, захватил свой мешок, не зная еще, где ему остановиться — у Плетнева или Жуковского, жившего в Зимнем дворце, а Аксаковы поехали дальше, на Владимирскую, где был дом сенатора Григория Ивановича Карташевского, за которым была замужем сестра Сергея Тимофеевича — Надежда Тимофеевна.
Через несколько дней Аксаков встретился с Гоголем, переехавшим к Жуковскому. Теперь в Петербурге это был уже не прежний дорожный Гоголь, а чем-то смущенный и озабоченный, видимо, не одними только хлопотами за сестер. Вскоре Аксакову стало известно о его денежных затруднениях, и между ними произошло волнующее объяснение. Это было тридцатого ноября 1830 года, и это число для Сергея Тимофеевича стало, по его признанию, «незабвенным днем на всю мою жизнь». После обеда, обняв Гоголя одною рукою, Аксаков повел его наверх, чтобы поговорить наедине. По смущению, болезненному движению на его лице Сергей Тимофеевич почувствовал, что Николаю Васильевичу неприятно, мучительно начинать разговор, о котором он догадывался, и так совестно, так стыдно вдруг стало Аксакову, поставившему в унизительное, как он считал, положение гениального человека, что он хотел уже прекратить свою затею, но, взойдя наверх, Гоголь начал говорить сам. Преодолевая себя, он поведал об обстоятельствах, сделавшихся для него невыносимыми. Не сбылась надежда получить в ближайшее время деньги, на что он рассчитывал, приехав в Петербург. К тому же с ним приключилась беда: он потерял бумажник с деньгами. Об этом было дано объявление в полицейской газете, но до сих пор бумажник не возвращен. Что делать? Денег ни гроша. Гоголь и еще что-то говорил тоном, какого прежде у него никогда не было, но Аксаков уже плохо слушал его, да и в себе мало что понимал, он только чувствовал, как вскипела его душа. С трудом удававшимся ему твердым голосом Сергей Тимофеевич начал говорить о том, что он может без малейшего стеснения, совершенно свободно располагать двумя тысячами рублей, что ему, Гоголю, будет грех, если он хотя на одну минуту усомнится, что помочь ему в затруднительном положении Сергей Тимофеевич считает самою счастливою минутой своей жизни, что он имеет право на это счастье по своей дружбе к нему, имеет право даже на то, чтобы Гоголь взял эту помощь не только без неприятного чувства, но с удовольствием, которое чувствует человек, доставляя удовольствие другому человеку.
Столько, видно, было правды в этих словах, в самом чувстве, с каким они были сказаны, что лицо Гоголя прояснилось и, как показалось Аксакову, сделалось даже лучезарным. Он вслух поблагодарил Бога «за встречу на земле с Аксаковым и его семейством». Он признался, что ожидал такого участия, но ему было известно через Погодина и Шевырева, что Сергей Тимофеевич сам иногда нуждается в деньгах, и мысль быть причиной лишения целого огромного семейства останавливала, терзала его, и поэтому он не мог обратиться к нему, и теперь, когда Сергей Тимофеевич свалил камень, давивший его, на душе у него легко и свободно. Он стал рассказывать, что он сделает по возвращении в Москву, что, кроме труда, завещанного ему Пушкиным, завершение которого он считает задачей своей жизни, то есть «Мертвых душ», его ждет трагедия из истории Запорожья, в которой почти все уже готово, до последней нитки, довольно будет двух месяцев, чтобы переписать ее на бумагу, это давнишнее, любимое его дитя будет лучшим его творением.
Гоголь с любовью говорил о семействе Сергея Тимофеевича, особенно о Константине, которого он желал видеть в мире не отвлеченной мысли, а искусства, где могло быть больше приложения для его благодатных сил. Оба были взволнованы. Сергей Тимофеевич чувствовал, что настал тот момент, когда каждому из них надо остаться наедине, и, условившись, когда он может передать Гоголю деньги, он простился с ним совершенно счастливый.
Таким было это объяснение между ними, единственное в своем роде. Одалживали и будут еще одалживать Гоголю и другие его друзья: Погодин, Шевырев, Жуковский, Языков, но вряд ли кто из них испытал нечто хоть в малейшей степени похожее на то, что так бурно сотрясло Аксакова. Это было целое событие, по-своему историческое для него, хотя и интимное, равное, без всякого преувеличения, радости какого-нибудь генерала, выигравшего сражение, или ликованию чиновника, удостоенного вожделенной начальственной награды. Так много значила для Сергея Тимофеевича интимная сторона человеческого духа.
Где бы Аксаков ни был, с кем бы ни встречался в Петербурге, он всегда переводил разговор на Гоголя, на его книги, и отношением собеседника к великому писателю мерился уровень его не только эстетического, но и духовно-умственного развития, во мнении Сергея Тимофеевича. Все, кто не ценил Гоголя, были для Аксакова калибанами[6] в понимании искусства. Хозяин дома, где жил Сергей Тимофеевич, муж сестры Григорий Иванович Карташевский, совсем озадачил и, мягко говоря, огорчил его. Когда-то в гимназические годы в Казани Григорий Иванович был воспитателем Аксакова; страстно любивший «Дон-Кихота», обожавший Гомера и Шекспира, он первый привил своему воспитаннику любовь к искусству. Глубоко уважаемый с тех гимназических лет, Григорий Иванович оставался для Аксакова просвещенным авторитетом, покуда дело не коснулось Гоголя. Однажды Николай Васильевич обедал у них, долго говорил с Карташевским об искусстве, музыке, характере малороссийской поэзии, и как удивительно ново, свежо, как истинно все говорил! И что же? Григорий Иванович, этот умный, образованный человек, не лишенный понимания некоторых сторон искусства, по уходе Гоголя начал бранить его, говорить, что, кроме комизма, ничего нет в его книгах, все пустое, что Гоголь много берет на себя, желая быть и живописцем, и музыкантом и т. д. Сергей Тимофеевич не знал, что и отвечать. Но это еще не все. Три дня спустя к Карташевскому (который, кстати, был сенатором) пришли обедать два тайных советника, прежде литераторы. И здесь разговор коснулся Гоголя. Боже, что они говорили о нем, какое это было тупоумие, невежество — даже Григорию Ивановичу стало совестно за них. Сергей Тимофеевич ходил вместе с Верой по зале, не желая слышать, а все же слыша разговоры, и молил Бога, чтобы не сорваться вгорячах, не дать волю резкости, неумеренности в своих выражениях. В конце концов он не выдержал и, подойдя к хулителям Гогол!я, убийственным тоном бросил: «Ваши превосходительства, сядемте-ка лучше в карты». И был до злорадства доволен, обыграв всех трех тайных советников.
В Петербурге Аксаков повидался с Жуковским.
Для Гоголя Жуковский был и старшим другом, и покровителем, добивался для него денежной помощи (да и сам лично бывал на этот счет «избавителем», по выражению самого Николая Васильевича), через него было получено царское разрешение на печатание и постановку «Ревизора». Благодаря Жуковскому Гоголь сблизился с Пушкиным. Дружба свяжет обоих до самой смерти, у них было много общего как в духовных интересах, так и во взглядах на искусство.
Сергей Тимофеевич не был коротко знаком с Жуковским, но Василий Андреевич хорошо знал Аксакова «по Гоголю» и встретил гостя очень радушно. Впрочем, это было его, Жуковского, обычное отношение к людям, и не только к друзьям, хорошим знакомым, но и к случайным посетителям, так он преисполнен был благожелательности, доброты к ближнему.
Хорошо известна та роль, которую сыграл В. А. Жуковский в судьбе многих деятелей русской культуры. Сам за себя говорит перечень тех, кого поддержал Василий Андреевич в критический период их жизни: Пушкин, Гоголь, братья А. и Н. Тургеневы, Ф. Глинка, А. Кольцов, И. Козлов, А. Иванов, А. Герцен, Т. Шевченко и другие. Он стремился жить так, чтобы его убеждения, идеи и дух самой поэзии не расходились с поведением, поступками. Что-то детски благодушное было в этом почти шестидесятилетнем человеке, действовавшем одним своим присутствием так ясно и умиротворенно на собеседника, хотя при всей своей незлобивости и мягкости он обладал удивительной нравственной твердостью и крепостью духа. Сергей Тимофеевич просидел у него часа два. Говорили о Гоголе. И здесь не обошлось без некоторой досады: Аксаков решил, что Жуковский не вполне понимал талант Гоголя, он восхищался его юмором, комизмом — и только, а серьезного значения не придавал художнику. Уважение к Жуковскому, как знаменитому писателю, а еще большее уважение к его высоким нравственным достоинствам удерживало Аксакова от спора, хотя укор так и готов был слететь с его уст. Так ревниво относился Сергей Тимофеевич к признанию гения Николая Васильевича, что впоследствии, как и Жуковского, упрекнет даже Пушкина в недооценке Гоголя.
Но если подозрения Сергея Тимофеевича были безосновательны и несправедливы в отношении Пушкина, то этого нельзя сказать относительно Жуковского. Наверняка встреча с ним приняла бы иной оборот, знай Аксаков то, что произойдет через неполных два года. А произойдет следующее. В сентябре 1841 года Гоголь встретится во Франкфурте с Жуковским и пожелает прочитать ему трагедию из украинской истории. Сам Жуковский расскажет об этом чтении так: сначала он слушал, хотя сильно было скучно, потом решительно не мог удержаться и задремал. Когда Гоголь кончил и спросил об его мнении, то Василий Андреевич отвечал: «Ну, брат, Николай Васильевич, прости, мне сильно спать хотелось». — «А когда спать хотелось, тогда можно и сжечь ее», — отвечал Гоголь и тут же бросил рукопись в камин. «И хорошо, брат, сделал», — сказал Жуковский. Так эта трагедия Гоголя, названная им «Выбритый ус», и не увидела света по вине задремавшего Жуковского. Работая над нею, Гоголь считал, что «вещь может быть славная». И Сергей Тимофеевич, незадолго до ее сожжения, узнал от одного литератора, которому Гоголь читал в Риме сцены из трагедии, какое «совершенство» было изображенное в них комическое лицо. В самом деле, Жуковский, любя, высоко ценя Гоголя как писателя, не был все же поклонником его таланта.
Иное, более глубокое связывало обоих — религиозно-духовные интересы. И как это ни могло быть досадно для Сергея Тимофеевича, благоговевшего перед Гоголем-художником и ревнивого ко всему, что могло, по его убеждению, мешать гоголевскому художественному гению, — Жуковский духовно влиял на Гоголя, причем не думая ни о каком сознательном влиянии. Это особенно скажется в последние годы их жизни, когда внутренней потребностью Гоголя будет, по его собственному признанию, исповедоваться в письмах перед Жуковским как в мыслях об искусстве, так и более сокровенных вопросах. Но в то время, когда Аксаков посетил Жуковского, для Василия Андреевича Николай Васильевич оставался все тем же Гогольком, о котором он говорил с отеческой теплотой и любовью.
Аксаков простился уже было с ласковым хозяином, как вдруг узнал от него, что Гоголь никуда не уходил, что он дома и пишет. «Но теперь пора ему уже гулять. Пойдемте», — сказал Жуковский и повел гостя за собою. Пройдя через внутренние комнаты, остановился у крайней двери, тихо отпер и отворил ее. Аксаков чуть не вскрикнул от неожиданности, увидев Гоголя в совершенно фантастическом одеянии: в длинных шерстяных русских чулках выше колен, во фланелевом камзоле, вокруг шеи большой разноцветный шарф, а на голове бухарский, малиновый, шитый золотом кокошник, смахивающий на головной убор мордовок. Гоголь писал, и его не вовремя прервали. Он долго, не зря, как выразился Жуковский, смотрел на вошедших, еще углубленный в свое дело, как бы не придя еще в себя и не обращая никакого внимания на то, как он выглядел в своем затейливом костюме. Освоившись с положением, Аксаков сказал, что из Петербурга выехать в ближайшие дни он не может, и Гоголь со вздохом принял покорно эту весть, решив дожидаться, чтобы ехать вместе.
Дела с Мишей затягивались. Поместить в лицей в Царском Селе его не удалось, оставались теперь две возможности — поступать в экстерны Пажеского корпуса или в Юнкерскую школу. Судьба как будто нарочно продлевала пребывание Сергея Тимофеевича в нелюбимом Петербурге, чтобы не разлучать его с сыном. Если бы знал Сергей Тимофеевич, что через год с небольшим не станет его мальчика!
В доме Карташевских отрадой для Сергея Тимофеевича была Машенька, его племянница, которую любил как дочь.
И это после всего того, что пережил Костя из-за этой девушки. Старший сын писал им письма из Петербурга, куда поехал для свидания с любимой Машенькой, и до сих пор эти письма болью отзывались в отцовском сердце. Сколько в них тоски, почти безнадежности, отчаянья, чего, казалось, нельзя было ожидать от него. «О Боже мой! — писал он. — Когда я вспоминаю 1836 год, переберу в уме моем все то счастливое время, и потом все горе, которое за ним последовало, а там эти ужасные полтора года… Не могу передать вам, милые дражайшие родители, всего тяжелого чувства, которое это на меня производит… Год и десять месяцев не видел я М., сказать страшно! В каких обстоятельствах расстались мы! И вот мы встретились после такой долгой разлуки. И что же? Вместо искренних, сердечных объяснений я почти боялся сказать слово, взглянуть лишний раз на М. И на долго ли это свидание? На пять дней! Сколько не договоренного, не досказанного!» И уже с дороги из Петербурга, отъехав сорок верст, Костя, по своему обыкновению не скрывать ничего от родителей, делился с ними своим намерением поехать за границу, чтобы было легче от разрыва с М. Читая тогда письма Костиньки, врезавшиеся в память его слова: «и в самой горести есть отрада, но, разумеется, иногда бывает она тяжела», Сергей Тимофеевич чувствовал, будто в нем самом засело что-то надсадно ноющее, и как перерабатывается оно в мужающее сознание выхода из личного горя, примиряющее с жизнью. Так становились для отца своими переживания сына, перед нравственной строгостью и серьезностью которого он, можно сказать, смирялся. Препятствием же к сближению Кости с Машей, его двоюродной сестрой, была главным образом непреклонность Надежды Тимофеевны Карташевской, которая воспротивилась даже переписке молодых людей. И, несмотря на все это, Сергей Тимофеевич не держал обиды на сестру, а тем более на племянницу. Он, Сергей Тимофеевич, не судья им, сестре и ее мужу, не хотевшим сближения их дочери с Константином, двоюродным ее братом. Машенька — существо прекрасное и сердцем, и умом, она и Вера неразлучные подруги, обе замечательно рисуют; пока были здесь, Машенька написала портрет Веры, а Вера — портрет своей сестры Марихен, который так понравился Гоголю, что он просил Веру написать для него портрет Сергея Тимофеевича масляными красками (о чем будет не раз напоминать ей даже когда уедет за границу). Мила и дорога была Машенька для Сергея Тимофеевича и тем, что она, как и Вера, восхищалась произведениями Гоголя, понимала и ценила его как великого художника.
Сам же Николай Васильевич так был занят своими сестрами, начиная от устроения их в доме доброй знакомой и кончая покупками всего нужного для их костюма, что не так часто уже виделся с Аксаковым. Гоголь оказался нежным братом, но ему трудно приходилось с «патриотками», привыкшими к нравам Патриотического института, где они воспитывались, и досаждавшими теперь брату капризами, ссорами, к тому же еще дикарством. Вера лаской, удивительным терпением сумела расположить их к себе, к облегчению измучившегося Гоголя. Кроме того, он страдал от петербургских морозов и был повержен в уныние.
Наконец настал день отъезда. Но исчезло уже то веселье, как тогда, когда ехали из Москвы в Петербург. Уже не слышались прежние шутки Гоголя на станциях во время завтраков и обедов, вместе с Верой он постоянно был занят только тем, как бы урезонить неунимавшихся «патриоток», угодить им. На пятые сутки притащились в Москву.
Гоголь, поселившийся с сестрами в доме Погодина, в мезонине, почти ежедневно посещал Аксакова, и Сергей Тимофеевич все ближе, как ему казалось, узнавал его как человека, во всяком случае в каких-то бытовых склонностях и странностях его характера. Но это был лишь один Гоголь, и как два «дорожных» Гоголя разнились друг от друга, так (в этом скоро убедится Аксаков) «бытовой» мало что общего имел с внутренним, духовным Гоголем, который был скрыт даже и от самых ближних к нему людей.
Вместе с Николаем Васильевичем приходили к Аксаковым другие гости.
Был Юрий Самарин, друг Константина, недавно познакомившийся с Гоголем, восторженный его поклонник, до такой степени, что в разговоре, в письмах его беспрестанно вырывались гоголевские фразы и обороты. Они будут переписываться, письма молодого человека по доверительности своей воспримутся Гоголем как исповедь, понятная ему как человеку, который «испытал сам многое», по его собственным словам.
Как-то в один из мартовских дней пришедший к Аксаковым Николай Васильевич вдруг совершенно неожиданно объявил, что он будет читать. Гости поспешно расселись в гостиной. Николай Васильевич, севший за боковой круглый стол, вынул из кармана тетрадку, икнул и сказал, что он объелся грибков. Слушатели не сразу и сообразили, в чем дело, и только потом, когда, заглядывая в тетрадку, автор стал читать, все поняли, что вовсе не Николай Васильевич объелся грибков, а его герой, которого так натурально представил писатель. Все были в восторге от комической сцены. И уж совсем в «восторге упоения», как выразился Сергей Тимофеевич, привело слушателей чтение в другой раз автором своих «Мертвых душ».
Наступило 9 мая, день именин Гоголя. В саду у Погодина он решил угостить обедом своих приятелей. Как досадовал Сергей Тимофеевич, что ему нельзя было из-за жестокого флюса, зубной боли остаться на этом обеде, проходившем на открытом воздухе, в прохладную погоду. Он приехал, закутав голову, поздравить именинника и тут же уехал. Потом он узнал, как весело и шумно прошел обед. После обеда все разбрелись по саду. Не каждому из них удалось послушать, как Лермонтов читал Гоголю и другим случившимся с ним рядом отрывок из новой своей поэмы «Мцыри», вспоминали впоследствии, как прекрасно он читал. Потом все собрались в беседку, здесь Гоголь, подшучивая над знакомыми, начал приготовлять жженку, которой любил потчевать других.
Спустя неделю с небольшим Гоголь уезжал за границу. Его провожали Сергей Тимофеевич с Константином, Погодин, Щепкин. Ольга Семеновна снабдила путешественника запасами в виде пирогов, балыков, лепешек и прочего. Николай Васильевич был весел и разговорчив в предвкушении всегда желанной, целительной для него дороги. Он снова стал уверять провожавших его, что через год воротится в Москву и привезет готовый к печати первый том «Мертвых душ». Аксаков не очень верил этому, и его огорчал отъезд Гоголя в чужие края, ему было непонятно, как можно, любя Россию, удаляться в Рим, чтобы там писать о ней. На Поклонной горе все вышли из экипажей, уезжавший на чужбину писатель простился с Москвой и низко поклонился ей. Перед самым отъездом все сели, по русскому обычаю, потом помолились. Гоголь устроился в тарантасе, и провожавшие долго стояли на улице, пока экипаж не скрылся вдали.
На обратном пути друзья Гоголя вдруг заметили, как, заволакивая небо, поползли черные, страшные тучи, и невольно мысли обратились к Гоголю, его будущему, на которое как бы пала тень этих мрачных туч. Но скоро, через каких-нибудь полчаса, все внезапно на горизонте переменилось: сильный ветер разогнал тучи, небо очистилось и солнце засияло во всем своем великолепии. Радостное чувство охватило Аксакова, для него увиденное было чем-то вроде предзнаменования. Такой же очистительной силы созданий художника, полного торжества его славы можно было ожидать в будущем. Случившееся произвело на Сергея Тимофеевича такое сильное впечатление, что, начиная с этого времени, он уже не смущался черными тучами, затемнявшими путь Гоголя, если даже они и таили в себе опасность для его существования, угрожали прервать неоконченный труд. До конца жизни Гоголя, до ее последнего часа Аксаков был убежден, что «Гоголь не может умереть, не совершив дела, свыше ему назначенного».
Отъезд Гоголя, опечалив Сергея Тимофеевича, скоро же и показал ему, что Николай Васильевич и на расстоянии был уже другим для их семьи человеком, чем в прошлое свое пребывание за границей. Первое же письмо из чужих земель, вызванное «побуждением душевным», по словам самого Гоголя, дышало чувством теплым, дружеским. «У меня не существует разлуки, и вот почему я легче расстаюсь, чем другой. И никто из моих друзей по этой же причине не может умереть, потому что он вечно живет со мною».
Началась переписка, как бы в продолжение московских встреч и разговоров. Сергея Тимофеевича радовало, что в письмах Гоголя он улавливал «то же самое настроение, с каким он уехал из Москвы». Посылались издалека «душевные объятия» «другу души моей» Сергею Тимофеевичу, всему семейству. Николай Васильевич обнимал от души Константина Сергеевича, «хотя без сомнения не так крепко, как он меня (но это не без выгоды: бокам несколько легче)». Давались всевозможные поручения, «комиссии», причем, видимо, с учетом возможностей каждого; так, Константину Сергеевичу поручается достать издание малороссийских песен, а Михаилу Семеновичу Щепкину — купить у лучшего петербургского сапожника выделанной кожи, самой мягкой, для сапог, и выслать ему, так как здесь недурно делают сапоги. Было какими известиями потчевать Сергею Тимофеевичу своего друга: у Погодина родился сын в день рождения Петра Великого и назван Петром, и он, Аксаков, крестил его; прочел он, Сергей Тимофеевич, «Героя нашего времени» Лермонтова, найдя в нем большое достоинство и живо помня его, Николая Васильевича слова, что Лермонтов-прозаик выше Лермонтова-стихотворца; высказывал «все, что теснилось в душе»… Николай Васильевич иногда шутил (хотя даже и у него на бумаге это выходило как-то неповоротливее, чем в неповторимой его, с серьезным видом, живой речи) и не шутя отделывал лечившихся на водах соотечественников, задававших вечный вопрос: «А который стакан вы пьете?!» — отчего он «улепетывал по проселочным дорогам», ибо этот вопрос напоминал ему другой непреложный вопрос: «Чем вы подарите нас новеньким?»
Но вот от Гоголя перестали приходить письма, он надолго замолчал, доходили слухи, что он отчаянно болен. Полученное наконец Аксаковым письмо подтвердило это. Гоголь писал, что он и не думал уже встать от болезни, но теперь здоров благодаря чудной силе, не только поднявшей его, но и осветившей его душу. «Много чудного совершилось в моих мыслях и жизни!» Какой-то иной, совсем другой тон, чем во всех предыдущих письмах, слышался в этом письме, как будто говорил другой человек, хотя, как писал впоследствии Аксаков, внутренняя основа всегда лежала в нем, Гоголе, все та же, начиная с молодых лет. Но, как понимал Аксаков, скрывавшийся в Гоголе за наружностью внешнего человека духовный человек в этом последнем письме, после болезни, выявился, как никогда прежде. По тону письма чувствовалось, что говорит уже не прежний Гоголь, что он изменился в нравственном существе своем.
Аксаков внимал признанию Гоголя о случившемся в нем перевороте, но ближе ему были «Мертвые души» (ничто не могло для него закрыть в Гоголе художника!), тем более что сам Николай Васильевич, живя уже иными, не литературными интересами, не только не бросил своего труда, но и, работая над ним, видел, что в нем «может быть со временем кое-что колоссальное». Отрадно было слышать Аксакову, как сердечно говорил Гоголь о своем пребывании в Москве, о его сыне Константине: «В моем приезде к вам, которого значения даже не понимал вначале, заключалось много, много для меня. Да, чувство любви к России, слышу, во мне сильно. Многое, что казалось мне прежде неприятно и невыносимо, теперь мне кажется опустившимся в свою ничтожность и незначительность, и я дивлюсь, ровный и спокойный, как я мог их когда-либо принимать близко к сердцу. И то, что я приобрел в теперешний приезд мой в Москву, вы знаете… Но уже когда я мыслю о вас и об этом юноше, так полном сил и всякой благодати, который так привязался ко мне, — чувствую в этом что-то такое сладкое». Так откровенно, в первый и последний раз, высказался в этом письме Гоголь. Сергей Тимофеевич был убежден, что сильное чувство к России в Гоголе развилось не без влияния его семейства, особенно сына Константина. «Без сомнения, пребывание в Москве, — писал Аксаков, — в ее русской атмосфере, дружба с нами и особенно влияние Константина, который постоянно объяснял Гоголю, со всею пылкостью своих глубоких святых убеждений, все значение, весь смысл русского народа, были единственно тому причины. Я сам замечал много раз, какое впечатление производил он на Гоголя, хотя последний старательно скрывал свое внутреннее движение».
И в следующем письме Гоголя были слова, встреченные с радостью Аксаковым и его друзьями: «Теперь я ваш; Москва моя родина. В начале осени я прижму вас к моей русской груди». Были здесь и фразы, которые могли бы показаться странными для тех, кто не знал Гоголя, не чувствовал его теперешнего, после перемены, состояния: он говорил о себе как бы со стороны, не скрывая своей избранности, как о сосуде, в котором заключено «сокровище». Все это могло бы показаться гордыней, если бы не слышалось здесь искреннее убеждение художника в великости своего труда, как в благом предназначении всей жизни.
В переписке случилось и то непредвиденное, что нарушило торжественный тон Гоголя и повергло его в смятение. Не знал Аксаков давней истории с «Москвитянином», того, как издатель его Погодин долго добивался от Гоголя чего-нибудь для журнала, как донимал его, жившего у него в доме, посылая наверх, в мезонин, записки и получая в ответ гоголевские краткие ответы-отказы. Не достигши цели, Погодин решил действовать через Аксакова, который, не ведая об упомянутой тяжбе, обратился в письме с просьбой к Гоголю, чтобы он прислал что-нибудь в журнал Погодина. Николай Васильевич ответил буквально стенаньем: для него, целиком погруженного в «Мертвые души», отрываться от них для журнального занятия было невыносимо. Но, жалуясь и страдая, он все же не смог отказать Аксакову и сделал из начала своей итальянской повести «Анунциата» статью «Рим», которая и была напечатана в «Москвитянине». Как раскаивался потом и обвинял себя Аксаков, узнавший, чего стоило Гоголю, чтобы оторваться от своего творения.
И настало время, когда великий труд завершился. В дорогу, в дорогу!
В Москве встретили Гоголя с объятиями в доме Аксаковых, крик Константина возвестил о приезде дорогого гостя. Даже по наружности было видно, какая сильная перемена последовала в Гоголе за эти менее чем полтора года: он стал худ, бледен, выражение осунувшегося лица казалось светлее и спокойнее прежнего. Голос его был тих, покорен, и говорил он как будто весьма мало занятый своим разговором. Внутренняя же перемена, происходившая в Гоголе, глубинная духовная жизнь гораздо менее были заметны, известны его знакомым. Сергею Тимофеевичу открылись они явственнее года через два, и особенно позднее, с выходом в 1846 году «Выбранных мест из переписки с друзьями».
Гоголь привез с собою готовый первый том «Мертвых душ», и все теперь для него в мире сосредоточилось вокруг издания этой книги. Для Сергея Тимофеевича не было, пожалуй, большей радости на свете, чем узнать об окончании первого тома «Мертвых душ». И надо ли говорить о счастье Аксакова, когда он вместе с сыном Константином и Погодиным был выбран Гоголем единственными слушателями, которым он прочитал целых пять глав своей поэмы. По окончании чтения автор потребовал критических замечаний. Погодин без всяких деликатностей со своей обычной рубкой сплеча заявил, что в первом томе содержание поэмы не двигается вперед, что Гоголь выстроил длинный коридор, по которому ведет своего читателя вместе с Чичиковым и, отворяя двери направо и налево, показывает сидящего в каждой комнате урода. Сергей Тимофеевич едва сдерживался, чтобы не перебить Погодина, и, когда тот кончил, горячо заговорил, доказывая, что никакого коридора и никаких уродов нет, что содержание поэмы идет вперед, потому что Чичиков едет по добрым людям и скупает мертвые души… Выслушав обоих, Гоголь взял сторону своего первого критика, сказав недовольно Аксакову: «Сами вы ничего заметить не хотите или не замечаете, а другому замечать мешаете», — и просил Погодина продолжать и очень внимательно слушал все, что тот стал говорить, не возражая ему ни в чем.
Рукопись поспешно была переписана (Сергей Тимофеевич предложил отличного переписчика, бывшего при нем воспитанником в Межевом институте, но Гоголь взял другого) и немедленно была отослана в цензуру в Петербург. Вскоре же пропущенная цензором рукопись вернулась в Москву, и сразу началось печатание.
Гоголь продолжал часто, почти ежедневно бывать у Аксаковых, по-прежнему все в доме дышало любовью к нему, Константин ходил как часовой кругом отцовского кабинета, охраняя покой подремывавшего там после обеда Николая Васильевича. Все было хорошо, пока не дошли до Аксаковых слухи, что Гоголь собирается скоро уехать за границу. Это было для них как удар грома среди ясного неба. Гоголь писал им такие письма из Рима, в которых признавался в сильном чувстве к России, в том, что Москва — его родина, он весь был обращен к России, вдруг опять этот отъезд на чужбину! Как же понять все это? Константин, очень огорченный, первым спросил гостя, верно ли, что он уезжает. Сначала тот отвечал неопределенным «может быть», но потом решительно сказал, что не может писать, оставаясь в Москве, что в самой его природе заключена способность тогда представлять себе живо определенный мир, когда он удалился от него. Для Константина все это было не резон, и он горячо убеждал Гоголя не уезжать, а приучать себя писать о России в Москве. Вера прямо приставала к Николаю Васильевичу с вопросами, не очень приятными для него: «С каким намерением он приезжал в Россию — с тем ли, чтобы остаться в ней навсегда, или с тем, чтобы так скоро уехать?» Знавшему об этих разговорах Сергею Тимофеевичу казалось, что Гоголь что-то скрывал, недоговаривал, и это обижало его.
Между тем печатание «Мертвых душ» подходило к концу. Первые готовые экземпляры были доставлены автору 21 мая в дом Аксаковых, это был день именин Константина, ему и подарил Гоголь первый экземпляр с надписью, а на другом подписал: «Друзьям моим, целой семье Аксаковых». На обеде, который был в то же время и прощальным обедом, Николай Васильевич обещал, что через два года будет готов второй том «Мертвых душ», но при этом уже ничего не сказал, приедет ли для напечатания книги.
И вот снова настал день прощания — это было 23 мая 1842 года. На первой станции, в Химках, заказали обед, выпили за здоровье Гоголя. Разговор был о всяких пустяках, провожавшие были в каком-то принужденном состоянии, не в силах одолеть в себе неприятного чувства при виде отъезжающего Гоголя, который обещал навсегда остаться в Москве. Подъехал дилижанс. Гоголь торопливо поднялся, стал собираться и простился с каким-то обыденным, казалось, чувством. Тут же он назвался и даже записался Гонолем, в пресечение возможного любопытства соседа по купе, какого-то военного необыкновенной толщины. Горькое чувство овладело душой Сергея Тимофеевича, смотревшего на захлопнувшиеся дверцы дилижанса: за ними уже не было видно Гоголя. Все забылось в эту минуту, все недоумения и недовольство скрытностью Гоголя, одно только чувство наполнило горестью при виде покатившегося по шоссе дилижанса: великий художник покидает отечество и их, своих друзей.
Уезжал тот, под влиянием которого совершился художественный переворот в сознании провожавшего его друга, обратив его душу и взгляд к действительности как предмету искусства. И все в действительности осветилось для него художеством. И все эти годы искусство настолько было для него неотделимо от Гоголя, что он не представлял себе их порознь, и неким откровением вошло это в самое его миросозерцание. А Гоголь увозил с собою тайну откровения, иного, чем у Аксакова, настолько далекого от него, что никакие расстояния уже не имели значения.
Сергей Тимофеевич проснулся, как всегда зимой, задолго до рассвета. Совершенная тишина царила в доме и за окном, выходившим во двор. Мысли были удивительно ясны, обнимая события вчерашнего дня, уносясь в прошлое. Сам он называл это — «дать мыслям волю». Пороша, которая вчера не переставала весь день, видно, к утру кончилась. Он всегда любил смотреть, как падает снег, но особенно одна картина для него была незабываема. Это было в годы его молодости, когда он жил в Аксакове. Бесснежие, сулившее бескормицу для скота, привело в уныние крестьян, все молились о снеге, как летом о дожде. И вот к общей радости среди бела дня снег, сначала порхающими пушинками, затем хлопьями, начал опускаться на землю. Он вышел в поле, и чудное зрелище открылось ему: будто разверзлись небеса и нескончаемые снежные потоки наполнили безграничное пространство. Так стоял он, зачарованный этим медленным движением поразительной, охватившей, казалось, весь мир тишиной, пока наступили сумерки и земля стала покрываться белым мраком. И хотя как страстный ружейный охотник он мог желать как более выгодное для стрельбы мелкоснежье, но, видя общее довольство, он также радовался снегу и с этим чувством воротился домой. Тридцать лет прошло с тех пор, но и сейчас видел он себя в поле среди падающего снега, оставшегося навсегда таким благодатным в его памяти.
Уже живя долгие годы в Москве, он по деревенской привычке любил иногда встречать без свечки зимний рассвет. И сейчас, с постели, он сел против окна, выходившего на восток, и стал всматриваться в темноту. Ничего не было видно. Долго длилось время, пока не появилась еле заметная белизна в окнах. Наконец смутно выделилась изразцовая печка, вскоре заметно побелевшая, отделился от стены неразличимый до тех пор шкаф с книгами. Из другой комнаты через отворенную дверь донеслось хлопанье печной заслонки, там затопили печку, огласившую домашний покой веселым гудением и потрескиваньем. Дверь и часть комнаты осветилась светом. Таким уютным, живым, приветливым. Так хорошо, отрадно было на душе… Постепенно окна все более светлели, освещение от топящейся печки бледнело и сливалось со светом нарождающегося дня.
Скоро развиднелось. Сергей Тимофеевич, в мягких широких туфлях, в своем неизменном полукафтане, прохаживался по комнате. Мысленно он был с Оллиной. Он знал, что она также давно проснулась, при свече долго молилась. И вот появилась перед ним, в темном сарафане, в чепце, в накинутой на плечи шали, готовая с самого утра к семейной ноше. Он подошел к ней и поцеловал ее в щеку.
— Как спала, Оллина?
— Хорошо, Сережа, даже сны заспала. А как ты?
Сон видался хороший, может быть, потому, что не металась ночью дочь Оленька, вот уже три ночи подряд она спала спокойно. Бедная страдалица! Доктора так и не могут установить, что у нее за болезнь. Неделями не встает с постели, худоба неимоверная, к этому еще прибавилась болезненная опухоль ног. Девушке двадцать один год, а уже разучилась смеяться, только порой улыбнется, бедняжка, так что по сердцу полоснет. Оллина, более суровая, чем он, в воспитании детей, всегда отдавала предпочтение сыновьям пред дочерьми, всякий раз жалела, что у нее родился не сын, а дочь. Но не себя ли обманывала она и говорила так, не оттого ли, что с дочерьми труднее, только он один, пожалуй, знал, как переживала она незамужество своих старших дочерей.
Ольга Семеновна и Сергей Тимофеевич поговорили о детях, о домашних делах и заботах, о разных мелочах, без которых нет семейной жизни и о чем они могли говорить только между собой. Между тем в доме уже начиналась утренняя жизнь, слышалось хлопанье дверей, топот ног, раздавались смех, голоса. «Можно отворить окошко?» — «Можно», — это отвечала «хозяюшка», Надя, младшей Маше. Басовитый голос Ивана: «Нынешний Никола зимний без гвоздя». — «Нет, с гвоздем, на улице мороз!» — кричала Любенька. «Хорошо сейчас кататься на санях в Богородском!» — мечтала громко вслух девятилетняя «актриса» Сонечка, самая младшая из Аксаковых. С подмосковным дачным местом Богородским, куда они долгие годы ездили в летнее время, живя там до глубокой осени, было связано для семейства много дорогих воспоминаний, и часто в разговоре слышалось название этого любимого загородного места.
Вскоре вся семья собралась в столовой, вокруг большого длинного стола. Призывно шумел пузатый медный самовар, зазвякали чашки о блюдца, потянулись руки к сахарнице…
— Ешь пироги, Иван, маменька для тебя старалась, — сказала с веселой шутливостью Вера, пододвигая к сидевшему напротив брату тарелку со вчерашними пирогами. Ольга Семеновна улыбнулась своей сдержанной теплой улыбкой, а Сергей Тимофеевич, только собиравшийся поднести кусок ко рту, расхохотался. Все поняли намек Веры. Иван только что, в этом 1842 году, закончил Петербургское императорское училище правоведения, вернулся в Москву и несколько месяцев как поступил на службу в сенат. В памяти домашних еще свежо, как читалось всесемейно полученное от Ивана из Петербурга письмо, в котором он описывал свой стол — что съедает за день: поутру, в обед и ввечеру — очень умеренно! Реакция на письмо была различной. Мать чуть не плакала, узнав о таком умеренном столе сына, а Сергей Тимофеевич хохотал, считая, что все это не худо и для здоровья, и для приобретения умения себе отказывать и ограничивать себя, о чем он и написал Ивану. Но Константина особенно заинтересовало то, что его брат обходится без пирогов: Аксаков без пирогов! — вот уж эту мысль он никак не мог переварить.
Иван с очками на носу, придававшими ему важный вид, выбрал пирог поменьше и принялся без особой охоты есть, не то что Константин, любивший пироги и разделывавшийся с ними даже за утренним чаем.
За столом заводились разговоры, которые были явно скучноваты для младших Аксаковых, но объединяющим лицом, как всегда, была Вера, которая могла быть одновременно и серьезной с Константином, и назидательной с Иваном, и жизнерадостной с маленькими сестрами. Вера могла вдруг оторваться от серьезного разговора и рассмеяться застольной выходке кого-нибудь из младших. И сейчас она прыснула со смеху, видя, как вертевшаяся на стуле Сонечка стала церемонно потчевать пирогом сидевшую рядом с нею Марихен (так звали в доме Машу), называя ее «друг мой».
Оля, которую привела к столу, поддерживая ее, мать, сидела в кресле. То время, когда она не страдала, было блаженством для нее, болезнь научила ее радоваться этим передышкам. Какое счастье! Как ни вслушивайся в себя — все спокойно, нет противной расклеенности, никакой боли, что-то целебно-устойчивое облегало измученное сознание. И как радостно все вокруг, как хорошо сидеть за этим столом, видеть родные лица, видеть, как щурится, повернув голову к окну, Любенька, и как сияют глаза у Наденьки, как задумался о чем-то своем Костя, кончивший пить чай. Она наслаждалась наступившим облегчением и этим благом жизни, самым обыкновенным, домашним и таким полным.
И все в семье чувствовали эту перемену в ней, и своим особым чувством — мать, начинавшая снова, уже в который раз, надеяться и верить, что Оленька скоро поправится: должно же наступить наконец исцеление? И Сергею Тимофеевичу было легче на душе. Он всегда при болезненных приступах у дочери, сильно встревоженный, скрывая отчаяние, убеждал Ольгу, что она должна терпеливо сносить ниспосланные ей испытания. Под влиянием ли отца или нет, но она кротко переносила страдания, и только в глазах ее таилось что-то израненное.
Покончив с чаем, Иван закурил жуковскую сигару и принялся тут же, за столом, за чтение свежих газет. Ему хотелось бы поговорить о некоторых газетных новостях со старшим братом, ну хотя бы о тех, которые касаются материальных сил, России, но разве его подымешь на такой разговор? Ведь он равнодушен ко всему, что не затрагивает его любимых вопросов. Вот если бы рядом был Гриша (выехавший по делам службы в губернию), у них нашлись бы с ним общие интересы. Недаром они оба воспитывались в одном и том же Петербургском императорском училище правоведения, оба служили в сенате, правда, он, Иван, титулярный советник только недавно, в этом году поступил на службу. Да, с Гришей его, Ивана, связывала наклонность к практической деятельности, стремление к существенной пользе. И маменька разделяла эти мысли, она всегда желала видеть своих сыновей полезными людьми, полезными на службе. Константин же не хотел даже вникнуть в его слова, в то, что он не раз внушал ему: надо обогатиться практическим знанием России. Но странное дело: как он ни спорил с Константином, как ни упрекал его в равнодушии к материальным вопросам, а выходило так, что старший брат все был для него на первом плане.
Просмотрев бегло газеты, Иван, свободный в этот день от службы, занялся своими делами и вскоре, одевшись, отправился по знакомым, желая по обыкновению запастись всякого рода вестями общественными и частными. А Константин, поднявшись наверх, в свой кабинетик, засел за диссертацию о Ломоносове — об этой диссертации знали не только все в доме, но и знакомые Аксаковых, и сам Гоголь, осведомлявшийся иногда в письмах из итальянского далека, как идут дела у Константина Сергеевича.
Сестры разошлись, разбежались по комнатам, кто принялся за рукоделие, кто за чтение, а младшие пошли погулять.
Сергей Тимофеевич занялся почтой. Конечно же первым делом перечитать (уже в который раз) письмо Гоголя. Там есть просьба, чтобы Григорий Сергеевич прислал ему реестр всех сенатских дел за прошлый год с отметкой: между какими лицами завязалось дело и о чем дело. Это, как писал Гоголь, ему очень нужно для второго тома «Мертвых душ». Поручение Николая Васильевича будет выполнено, как только сын приедет домой. А вот письмо от самого Гриши. Письма его хотя и не изумляли, как талантливые послания Ивана, шедшие еще недавно из Петербурга, но более утешали своим спокойствием и благоразумием. Иван говорил о себе, что благоразумие наполняет его свинцом и сердце не бьется, как у двадцатилетнего, но часто поступал как дитя, мог уехать больным, не жалея ни себя, ни отца с матерью, да и в письмах столько еще ребяческого. За Гришу было спокойнее, хотя задатки у него гораздо более страстные, чем у его братьев, недаром он весь, как вылитый, в дедушку — и обличьем и обычьем. Сергею Тимофеевичу вспомнилось, как он отвозил шестнадцатилетнего Гришу в Петербург для поступления в учебное заведение. Нелегко было решиться на эту жертву — оставить сына одного, без семьи в немилой сердцу северной столице, но он, отец, был убежден, что дети его связаны такими крепкими узами семейной любви, что можно было не бояться вредного влияния. Только уже покидая Петербург, узнал он всю силу Гришиной любви к нему, отцу, и семейству. Никогда не забыть, с какой любовью и тоской смотрел сын на него в минуту разлуки. Он дал слово отцу — при первой же вспыльчивости вспомнить об отце и матери.
И он сдержал свое слово. Спустя некоторое время один из петербургских знакомых Аксаковых привез письмо Гриши, которое он, Сергей Тимофеевич, жадно прочитал, не показывая его Ольге Семеновне. Опасаясь, что до семьи могут дойти ложные слухи о случившемся и встревожить родных, Гриша подробно рассказал в письме о том, что произошло с ним. Дело было в следующем. К одному из воспитанников приехали мать и сестры, над которыми неприлично посмеялись некоторые учащиеся. Гулявшие тут же в саду Гриша и двое его товарищей не только не участвовали в дурной выходке воспитанников, но даже старались их остановить. Когда эта история стала известна директору, то, не разбирая ни правого, ни виноватого, он наказал весь класс, кроме Гриши. Сын не мог с этим смириться! Он явился к директору и сказал ему, что если наказаны все и даже те два его товарища, с которыми он ходил вместе и которые, как и он, не участвовали ни в чем, то он просит, чтобы наказали и его, как всех.
Вместо того чтобы понять благородный порыв молодого человека, директор вознегодовал: это бунт, вольнодумство! И пригрозил даже солдатством на Кавказе. Горячая волна захлестнула Гришу, все в нем помутилось, он уже не помнил себя и невесть что мог сделать в эту минуту, но мгновенно мысль об отце и матери озарила его, и он опамятовался. Только взгляд его был таков, что директор не выдержал и убежал. Всему дальнейшему Гриша повиновался беспрекословно: и когда его, приведя в больницу, посадили там в отдельную комнату под арест; и когда заставили просить прощения у директора. Он думал теперь уже не о себе, а об отце и матери. Чего стоило ему переломить себя, и это сделала сыновняя любовь. Сергей Тимофеевич с уважением к сыну подумал, что беспрестанной работой над собою Гриша овладел своим характером.
Вот прислал письмо Гриша; приехал домой, кончив курс, Иван, но уже не дождаться ни писем, ни возвращения младшего сына. Почти два года, как умер Миша, 5 марта 1841 года, умер внезапно, на руках Ивана. До боли оживало все в памяти, когда он, Сергей Тимофеевич, вспоминал, как отвозил Мишу в Петербург для поступления в Пажеский корпус. В этом далеком холодном городе и суждено было оборваться его только что начавшейся жизни. Он был самый веселый, остроумный из братьев и сестер, сколько оживления вносил он в жизнь семейства, как радовал своими музыкальными способностями! Не только близкие, но и посторонние удивлялись его таланту, о нескольких его юношеских сочинениях знатоки говорили, что они сулят юноше-музыканту блестящую будущность. Бывало, из комнаты раздавались, лились веселые чарующие звуки, переносившие в светлый, чистый мир поэзии и мечты. Ведь и жизнь его была пока что мечтой. А как нравилось матери слушать игру сына! Помнится, к его, Сергея Тимофеевича, письму в Петербург к сыновьям Грише и Ване она сделала приписку о пятнадцатилетнем Мише, который заканчивал гимназию: «Не знаю, куда наш Миша попадет нынче; он доставляет мне большое услаждение своею игрою. Меня нынче музыка может успокаивать, когда я бываю очень расстроена, как магнетизм, но только хорошая музыка, разумеется».
Смерть Миши поразила его отцовское сердце. Он был смят горем; он и прежде испытал семейные потери — умерли во младенчестве, сразу же вскоре после рождения, два сына и две дочери. Но здесь уже семнадцатилетний юноша, почти взрослый сын. Удар был жесток, будто пелена спала с глаз, и он увидел, как не только сладка, но и страшна привязанность к детям, в любую минуту может оборваться ниточка, связывающая всех, каким хрупким может быть семейное счастье. Он боялся за Оллину, но она, узнав о смерти сына, не предалась ни
Да, судьба послала ему его Оллину, без нее все могло быть иным. С молодости, с детства он был подвержен страстным увлечениям — когда мальчиком забывал обо всем на свете, даже о больной матери, пропадая часами с удочкой на реке; когда юным студентом Казанского университета до самозабвения упивался игрой в любительских спектаклях; когда уже женатым проводил целые дни в поле за охотой, целые ночи за карточным столом. И эта, ставшая его страстью связь с театром, с актерами, прививавшая ему самому слабости этого артистического мира. Без Оллины, кто знает, он мог бы и завязнуть в этих театральных страстях. Правда, он всегда сознавал свои слабости, отдавая моральное первенство жене, не только любя ее, но и глубоко уважая в ней выдержанность характера, редкий такт, ум и сердечность. Исполняя скромно, незаметно свой долг матери и жены, она и не думала о своей преобладающей роли в семье, но это было так. Что дети? Он и сам, их отец, всегда чувствовал влияние на себе Оллины, воспитывающее действие семейной жизни, обязанной прежде всего ей, ее нравственной чистоте и строгости. И, зная за собою недостатки, он был смиренного мнения о себе, не заносился в гордыне, снисходительно относился к другим. Почему, по древнему изречению, духовными наставниками людям поставлены люди, а не сверхчеловеческие существа? Да потому, что слабость, немощь человека понятны человеку же.
Вот и ему, смешно сказать, по характеру совсем не наставнику, не проповеднику, выпала доля быть кем-то вроде примирителя между приятелями. Сколько раз были у них недоразумения, споры и даже ссоры, и к нему обращались, чтобы он рассудил спорящих. Уж чем другим, а этой благожелательностью к людям, пониманием жизни человеческой с ее добром и слабостями он не обделен.
Из сегодняшней почты — письмецо Михаила Петровича Погодина, с Новодевичьего поля, заваленного, можно подумать, сугробами, судя по глухой жалобе пленника его, что не может никуда выбраться по отдаленности и зимней непогоде.
Михаил Петрович, занятый летописями, своим «Москвитянином» (совсем недавно начавшим издаваться), только по крайним надобностям покидал свое поле, заглядывая временами и в дом Аксаковых. Когда же Сергею Тимофеевичу надо было связаться с Погодиным, решить с ним какое-нибудь дело, то на край Москвы отправлялся обычно Константин Сергеевич, имевший все полномочия говорить от имени отца и всей семьи. Но живой связью был и обмен письмами, записками на клочках бумаги. Ответ на такой погодинский клочок, как всегда, с неразборчивым почерком, клочковатыми фразами, не требовал от Сергея Тимофеевича особого обдумывания, с ним можно было и на бумаге, как при встрече, говорить, не мудрствуя лукаво.
Письмо от сестры Надежды. Третий год, как не стало ее мужа, Григория Ивановича Карташевского. Тогда он, Сергей Тимофеевич, вместе с Верой поехал в Петербург и четыре месяца прожил там у сестры, стараясь облегчить горе ее и племянницы Машеньки. Вера, лучший друг Машеньки, была неразлучна с нею, а они с сестрой отводили душу в тихих, кротких разговорах. Сколько с нею, сестрой, связано воспоминаний о той золотой поре детства. Только потяни ниточку, — и, кажется, нет конца разматываемому клубку. Он въяве видит то, что было почти полвека назад. Вот он в доме больного дедушки, которому стало лучше, и он велел позвать Сережу к себе в горницу. Робко переступил он порог горницы и увидел показавшегося ему страшным дедушку с отросшей седой бородой, который в халате сидел на диковинных кожаных креслах, а на коленях у него была сестрица, весело болтавшая. Увидя внука, он опустил «козульку» на пол и с ласковыми словами: «Здравствуй, внучек», протянул руку. Сережа поцеловал ее. Дедушка так пристально и добродушно смотрел на него, что мальчик стал чувствовать себя смелее, да и отчего-то хорошо стало от топанья сестрицы, не сидевшей на месте. Посадив внука к себе на колени и поцеловав его, дедушка громко сказал: «Надежда, кажется, похожа на мать, а вот на кого похож ты, Сережа, так и не пойму, кажется, на дядю, Григорья Петровича». Дедушка оказался совсем не страшным, и мальчик, прибежав тогда к матери, долго рассказывал, что видел у дедушки и что слышал от него, и с шестилетнего братца не спускала глаз при этом его четырехлетняя сестрица.
Это было удивительное чувство, даже более сильное, чем любовь к матери. С младенчества, с тех пор как он начинал помнить себя, у него было чувство жалости к сестрице: ему все казалось, что ей холодно и она хочет кушать, поэтому он своими кушаньями хотел кормить ее, и плакал, когда ему этого не позволяли. Позже, когда у него были приступы болезни, это чувство жалости к сестрице, как, впрочем, и ко всему страдающему, доходило до крайностей. Он не мог видеть ее слез, ее крика и сам начинал плакать. Однажды, когда сестрица была нездорова, мать приказала перевести ее в другую комнату, и это так подействовало на него, такое охватило его отчаяние, что мать поспешила позволить ему опять быть вместе с сестрицей.
И эта милая сестрица, которую он забавлял в детстве разными игрушками, с которой вместе гулял, проводил так много времени, расцвела к шестнадцати годам такой красотой, что всякий, увидев ее, останавливался и заглядывался на нее. И — что было особенно привлекательно в ней — в красоте ее лица выражалась красота души. У шестнадцатилетней невесты объявились богатые женихи, и, видя такой успех дочери-красавицы, мать стала ласковее с нею. С детства сестрица не знала нежной заботливости матери, для которой любимцем, как называли его, фаворитом, был ее старший сын Сереженька. От бабушки и тетушки сестрица постоянно слышала, что она нелюбимая дочь, но эти внушения нисколько не влияли на любящее сердце девочки, никакое чувство зависти не омрачало ее души, чистой, как взгляд ее прекрасных глаз. Ей только очень хотелось, и она об этом молилась, чтобы мать ее также полюбила, готова была на всякую жертву ради нежного материнского слова. И вот шестнадцатилетней девушкой, уже невестой, видя, как к ней переменилась мать, она почувствовала себя совершенно счастливой, ставя даже свое будущее в зависимость от материнской любви. Сергей Тимофеевич, вспоминая то далекое время, иногда задумывался: хватило ли бы у него такой самоотверженной любви, как у сестры? И смиреннее думал о себе.
Тогда сестра вскоре вышла замуж, но через четыре года осталась молодой вдовой, а еще через два года стала женой Григория Ивановича Карташевского.
Сергей Тимофеевич с Надеждой были старшими детьми в семье, а кроме них еще трое сыновей и четыре дочери. Из них наиболее близкие у него отношения с младшими братьями Николаем и особенно Аркадием, служившими в Петербурге. Аркадий был младше Сергея Тимофеевича на двенадцать лет, но, как писал обращаясь к нему старший брат еще в молодости в одном стихотворении: «Сходны по склонности, по нравам, сходны сердечной простотой, к одним пристрастные забавам, любя свободу и покой, мы были истинно с тобою единокровные друзья». «Одни пристрастные забавы» — это конечно же охота и рыбная ловля.
Как ни скуповаты к нему музы дарами вдохновенья, спасибо им и за эти слабые строчки о братской дружбе, которые остались на бумаге и в любую минуту могут напомнить о прошлом. Вот и в этом послании все напоминает ему о младшем брате, который всегда так дружески заботился о нем, старшем брате. «Лежит там лодка на плотине в грязи с изломанным веслом, но кто ж на ней поедет ныне со мной, с трусливым ездоком? Кто будет надо мной смеяться, меня и тешить и пугать? Со мною Пушкиным пленяться, со мной смешному хохотать? Кто старшим лет своих рассудком порывы бешенства смирит и нежным чувством или шуткой мою горячность укротит? Кто, слабостям моим прощая, во мне лишь доброе ценя, так твердо, верно поступая, кто будет так любить меня!» Если в чем и нельзя упрекнуть его, Сергея Аксакова, так это в гордости, он охотно сам первым скажет о себе, в чем он слаб и непригляден, не хочет скрывать даже того, что он трусливый ездок на лодке, хотя, казалось бы, такой рыбак! (Как огорчало Константина, когда отец рассказывал о себе как о трусе!) «Мы сохраним сердца прямые, мы будем с совестью в ладу» — этому они с братом и в самом деле с молодости остались верны. «Пиши ко мне, ты очень знаешь, как письма дороги твои… Уверен также, что читаешь ты с удовольствием мои». Сергей Тимофеевич смеялся, произнеся вслух эти заключительные стишки, написанные почти двадцать лет тому назад, но очень подошедшие к теперешнему случаю: прочитав дорогое для него письмо младшего брата, он представил, как тот с удовольствием будет читать его ответ.
Почта в этот день была большая, каждое письмо оживляло в воображении Сергея Тимофеевича лицо адресата, с которым он вступал в мысленный разговор и только потом приступал к письму. Так прошло несколько часов, и, когда он поднялся из-за стола, было уже за полдень. Сергей Тимофеевич подошел к окну и зажмурился от ослепительно-снежной чистоты двора. Как будто ударила в глаза белизна первозимья, когда, бывало, выходил в поле со своим «испанцем», любимым ружьем. С волнением всегда встречал он в деревне первый снег, выйдя в поле, жадно всматривался, нет ли где заячьих маликов, лисьих натисков, других следов — волчьих или мелких зверьков. И этот охотничий инстинкт шевельнулся вдруг теперь в нем от этого удивительного снега за окном, хотя он уже давно не охотился и ружье сменил на более мирную удочку. Представилось даже — почти неразличимый от снега застыл беляк, как в давние те времена в поле, в степи, и только по неопределенному какому-то чутью зоркий взгляд охотника узнавал, что эта неопределенная белизна — заяц.
Из всех зверей и зверьков ему лучше других известны зайцы. Сколько промелькнуло в его глазах этих русаков, беляков, тумаков, но не к ружью уже тянется рука, а почему-то к бумаге, при мысли об этих диковинно резвых на бег, на быстроту прыжков, робких и беззащитных творениях. Кто только не истребляет их: волки, лисы, собаки, горностаи и ласки, орлы, беркуты, ястребы; даже ночью, когда зайцы выходят из своего дневного убежища, их сторожат совы и филины. И самый страшный истребитель бедных зайцев — человек. В молодости и он, Аксаков, был истребителем, в охотничьем азарте, что называется, не жалел зарядов, хотя и никогда не любил легкой стрельбы, но так и не свыкся с жалобным, как плач младенца, криком раненого зайца. И этот крик больше всего другого остался в памяти от прошлой охоты.
Что-то странное иногда находило на него, уж не писательский ли искус? После «Бурана» (а это было восемь лет тому назад) он, кажется, ничего не писал, кроме писем да разве лишь, забавы ради, стихов, а от театральных статеек и рецензий рука уже давно отвыкла. И вот временами при воспоминании о прошлом, о той же охоте, рыбалке «пальцы просятся к перу, перо к бумаге».
Что это? Потребность поделиться с другими своими впечатлениями, своей долговременной опытностью? Быть полезным охотникам деревенскими своими наблюдениями над нравами дичи, добрым советом по части технической? А может быть, это не только в нем охотник говорит, но и литератор, и даже в большей степени? Недаром Гоголь, как-то заслушавшись его рассказами о птицах, подстрекнул его к написанию охотничьих записок. И все те, с кем он, Аксаков, близок — охотники особые, которых он бы назвал настоящими охотниками и образованными наблюдателями. Его братья Николай Тимофеевич и Аркадий Тимофеевич Аксаковы, которым он обязан многими сведениями о птицах. Алексей Степанович Хомяков сказывал ему, что русак на бегу перепрыгивает глубокие рытвины или расселины до семи аршин шириною, вдвое больше, чем считал он. Хомяков же с другим стрелком-охотником, Юрием Федоровичем Самариным, рассказывали ему удивительные подробности нападения сов и филинов на зайцев. Вот уж поистине: один зоркий взгляд хорош, а два лучше. И эти близкие ему люди тоже подстрекают его к писательству. Сколько поэтичности, художественности в самом языке об охоте! И как преображается слово даже чужое в народном употреблении! Самая мелкая дробь носит немецкое название «дунет». Русские продавцы превратили его в «дунец» — от «дунуть», то есть дробь так мелка, что дунешь — и разлетится. А слово «высыпка» — внезапное появление весной дичи, усыпанные дупелями, бекасами, вальдшнепами, другими породами степной, болотной, водяной и даже лесной дичи еще вчера пустынные болота, берега разливов, вспаханные поля. А что может быть образнее выражения «стон стоит в воздухе», как говорят крестьяне во время пролета и прилета птиц. Воздух накален птичьим криком, свистом, писком, шумом их крыльев, беспрерывными разнородными звуками, сливающимися в волнующий гул. Пролет и прилет птиц — самое поэтическое для охотника весеннее время. Пролет совершается в вышине обычно ночью или по зорям. Когда птицы появляются на месте своего обычного жительства — это значит прилет. И как разнится крик пролетных и прилетных птиц! Первые еще в пути, обетованные места их впереди, и они устремлены вдаль, крича неопределенным, не своим обыкновенным голосом. А прилетные птицы уже прибыли к своей цели, где им вить гнезда и выводить птенцов, все здесь для них кажется свое, привычное, и своим природным, обычным криком, свистом они как бы переговариваются между собою, высматривая сверху место попривольнее и опускаясь на землю.
О, как сладостно воспоминание о природе, одарившей его с детства впечатлениями на всю жизнь, сладостно и грустно. Невозвратное золотое время детства с его чистым упоением всем, что существует в мире и что есть в нем добро и благо. Как беднее была бы его жизнь без природы. И ему жаль людей, которым так и не открылось это величайшее благо на земле. Ведь им неведом неиссякаемый источник здоровых, жизнерадостных настроений, примирения и душевной свободы. Сам же он в минуты тревоги и волненья, недовольства собою, раздражительности своей страстной натуры, не охлаждаемой годами, всегда находил успокоение в мире природы, в воспоминаниях о своих родных местах. И о своих молодых годах, о своем детстве.
Вот уже два года преследует его «Семейная хроника», писать которую ему посоветовал Гоголь. Сделано уже несколько набросков. Боже, стоило ему прикоснуться памятью к детству, и рой воспоминаний окружил его, нахлынуло из прошедшего столько живых лиц, картин, подробностей, что он не знал, как с ними справиться. Как ему дорого все в давно прошедшем, нравы и обычаи предков, их образ жизни, даже и то, как они одевались в обычные и в праздничные дни, что ели и пили. Ему дорого все в том быту — начиная от жбана студеной бражки, дедушкиного халата и колпака, кресла с медными шишечками. Как сказано у Пушкина в «Евгении Онегине»: «…просто вам перескажу Преданья русского семейства, Любви пленительные сны Да нравы нашей старины… Перескажу простые речи Отца иль дяди-старика, Детей условленные встречи у старых лип, у ручейка…» У каждого есть свои семейные преданья, и они не должны быть преданы забвению, иначе ведь и нас может ожидать такая же участь в будущем. Пусть они, наши деды, были не великие герои или громкие личности, пусть они не оставили следа в истории, но они были люди, они так же, как мы, радовались и страдали, надеялись и верили, их жизнь так же любопытна и поучительна для потомков. И больше всего, пожалуй, ему любопытно, что ожидает их аксаковский род в будущем, какое пойдет от его корня потомство, какие внуки, правнуки, праправнуки…
Замечтался, замечтался… У, какой хаос в голове, сколько теснится образов, мелочей, так и просятся на бумагу. Но что-то нет той минуты, когда бы свободно потекли строки. Видно, еще нет внутренней ясности, не улеглись страсти, не просветилось еще прошедшее.
Пробило два часа. Короток зимний день, скоро и сумерки. Семья, кажется, уже была вся в сборе, разве лишь Иван мог где-то задержаться, запасаясь в каком-нибудь доме политическими, литературными, иными новостями. И действительно, к столу собрались все, кроме Ивана. Константин был в отличном настроении, довольный, видно, своей уединенной беседой с Михайлой Ломоносовым. Вера, рисовавшая портрет Машеньки, выговаривала ей за непоседливость во время позирования. Младшие сестры рассказывали о прогулке.
К концу обеда появился Иван, оповестивший, что никак не мог отказаться от просьбы хозяина отобедать и вот опоздал на родную трапезу. Сегодняшний обед был на редкость сугубо семейным, никого из гостей! Это было невероятно для аксаковского застолья, где обычно собиралось ежедневно до двадцати человек. И вообще невероятно, что этот день был без гостей. Только в эту осень и зиму прибавилось у них около сотни новых знакомых, и все они перебывали у них. Это, конечно, хорошо, но иногда казалось, что такая жизнь — суета, хоть и умная, а все суета. И в этот день семья была предоставлена самой себе, чтобы завтра опять возобновилась умная суета.
Впрочем, и сами Аксаковы, Сергей Тимофеевич и Константин, при всем их домоседстве, охотно посещали приятные для них дома. Приезжали они туда и затем, чтобы читать Гоголя. Сергей Тимофеевич читал обычно «Шинель», «Разъезд», «Игроков», Константин — «Тараса Бульбу». Голос отца, звучный, сильный в особо одушевленных местах, явно уступал голосу сына, готового за каждое слово Гоголя идти в огонь и воду. Младший брат Иван не шутя говаривал, что, слушая Константина, его повелительный голос, не знаешь, что производит впечатление: текст или чтение? Читая, Константин как будто говорит: это место хорошо, изволь восхищаться, а не то — вы ничего не смыслите. Но Сергею Тимофеевичу нравилось чтение первенца. И вообще интересы старшего сына все более захватывали отца. Диссертация о Ломоносове, над которой работал Константин, стала как бы собственным делом Сергея Тимофеевича. Ему были известны все излюбленные мысли сына о Ломоносове, ставшие дорогими и для него самого. Целью жизни Ломоносова были наука, просвещение. Но он был истинный поэт во всем, в своих научных занятиях, в своих одах, стихотворениях.
Парящей поэзúи ревность
Твои дела превознесет;
Ни гнев стихий, ни вéтха древность
Похвал твоих не пресечет.
В моря, в леса, в земное недро
Прострите ваш усердный труд.
Повсюду награжду вас щедро
Плодами, паствой, блеском руд.
Сергей Тимофеевич с удовольствием чеканил эти строки, не утратив привитый смолоду вкус к звучности стиха старых поэтов, как тогда называли стихотворцев XVIII века. А как он мог не разделить восхищения сына, когда тот приводил на память замечательные, отдельные выражения Ломоносова, исполненные верности и простоты, эпитеты. «Когда томит
Он настолько сжился с героем своей диссертации, что мог видеть за каждым словом, стихом Михаилы Васильевича его живой, резкий жест, энергичное движение, очень родственные его собственному характеру. Сергей Тимофеевич шутливо представлял, каким хорошим помощником Ломоносову был бы старший сын в борьбе с засильем немцев в Академии наук: негодование Ломоносова деятельностью иных приезжих ученых, чуждой интересам России, Константин разделял также всею душою в своей диссертации, восторгаясь «пылким, неукротимым характером» великого русского ученого-патриота. В одном он был не согласен с Михаилом Васильевичем: в обоготворении Петра Великого, которого Ломоносов называл живым божеством. Кстати, об этом же не раз разгорался спор Константина с Белинским, именовавшим Петра богочеловеком, которому он предлагал воздвигнуть алтари во всех городах российских. Это приводило в неистовство Константина. Он и сам не отрицал великого исторического значения Петра, который, по его словам, «обличил и поразил» односторонность исключительной национальной жизни, не пришедшей в соприкосновение с Западом и оттого таившей в себе «страх чужеземного».
Связь с просвещением Запада была исторически необходимой и плодотворной для национального самосознания. Но, освобожденные от одной односторонности, говорил Константин, мы впали в другую односторонность, крайность, отрекшись от нашей истории, литературы, даже языка. Теперь пора возвращаться к себе, возвращение в смысле философском, подчеркивал он, не шаг назад, не отступление. Приняв все лучшее в просвещении Запада, уже не отчужденные от него, мы возвращаемся к нашей истории, к нашему Отечеству, к нашей национальной жизни, теперь уже не исключительной, как прежде, а испытанной взаимодействием с Западом, миром. Эти мысли старшего сына были хорошо знакомы Сергею Тимофеевичу, но по отцовской своей слабости он каждый раз был терпеливым слушателем первенца, когда тот с неизъяснимым увлечением повторял их перед гостями дома.
Милый Костя, и богатырь ты, и дитя! Слушая сына, который, казалось, не читал, а жил жизнью гоголевского героя, Сергей Тимофеевич верил, что Константин, как и Тарас Бульба, если бы представился для этого случай, пошел бы на костер за свои убеждения. И вместе с тем какая детская беспомощность, неприспособленность к жизни, какое наивное доверие к людям! Какая младенческая чистота жизни, физическая и нравственная. Он, отец, не мог и помыслить, чтобы в Костином возрасте, двадцати шести лет, у него было такое мужество борьбы со страстями. Бороться с внешними препятствиями в силах многих людей Неизмеримо труднее побеждать препятствия в себе, то разрушительное, что гнездится в душе. Недаром народная пословица гласит человек первый убийца себе. Легко обличать пороки в других, обращать свои страсти на ненависть к другим, на внешние действия. Но попробуй поборись с самим собою, со всем тем, что есть дурного, низменного в тебе, что противоречит лучшему в тебе, твоему идеалу. На это способны немногие. Из них и Константин. Под спокойной, веселой его наружностью таится непрестанная внутренняя борьба Как-то (это было года три тому назад), воротившись вечером из гостей домой, он застал Костю спящим в креслах, нераздетым. Костя проснулся, разделся, лег: он помазал ему глаза миндальным маслом, и тот вскоре же заснул. Но не спалось ему, Сергею Тимофеевичу. Не мог он смотреть равнодушно на сына с больными, сильно загноившимися глазами. Оллина была тогда в отъезде, и он написал ей обо всем этом письмо. Почему вспоминается ему этот случай и особенно в последнее время? Не потому ли, что у него самого что-то неладное происходит с левым глазом, какие-то боли временами, помутнение зрения. Но это должно пройти, как прошло, к счастью, бесследно у Константина.
Иван, покуривая сигарку, стал рассказывать о последнем «четверге» у Вельтмана, где так много говорили о Москве. Сам хозяин, Александр Фомич Вельтман, любил писать о Белокаменной. Бывавший на «четвергах» Константин читал там не раз стихотворение Ф. Глинки «Москва», посвященное ему, Константину Аксакову. Живописны в этом стихотворении подробности: «Город чудный, город древний, Ты вместил в свои концы И посады, И деревни, И палаты, и дворцы! Опоясан лентой пашен, Весь пестреешь ты в садах; Сколько храмов, сколько башен На семи твоих холмах». Но Константину больше были по душе великанские, огнедышащие образы: «Кто, силач, возьмет в охапку Холм Кремля-богатыря? Кто собьет златую шапку у
И для самого Сергея Тимофеевича Москва с ее «русской атмосферой», историческими, народными преданиями была «градом сердечным», где он навсегда обосновался с семьей и где все ему мило и дорого. Это не перелетное для него место, а прилетное. Куда бы он ни уезжал (правда, это бывало очень редко), он спешил воротиться в Белокаменную, в семью, чувствуя себя исконным, коренным москвичом.
Заговоривший о Москве Иван перешел на другие темы, перенесся в другие города, в другие края и страны — по газетным известиям. По всему видно, не задержится он в Москве, уедет куда-нибудь по делам службы.
— Мне кажется, Иван, что ты скоро покинешь нас, — сказал Сергей Тимофеевич с нескрываемым сожалением… — Мыслями ты так далеко от дома.
Девятнадцатилетний Иван, закаленный петербургской самостоятельной жизнью, не был уже так привязан к дому, как Константин, да и хотелось пуститься в дорогу, повидать другие края, испытать себя на более деятельном служебном поприще, ближе узнать действительность со стороны ее практических интересов. Но в этом казавшемся столь серьезным и дельным юноше было еще много мальчишеского, пробивавшегося в самом его голосе, в его задорных нотках, что как никто чувствовал в сыне Сергей Тимофеевич. И теперь Иван, как бы споря с кем-то, сказал:
— Сидеть безвыездно чиновнику в департаменте такая же тягость, как человеку жениться.
Сергей Тимофеевич рассмеялся и потом проговорил:
— Я точно так говорил в дни моей молодости, но женился, и вышло совсем другое.
Все мешалось в разговоре отца с сыновьями: мелочи быта и литературные дела, личное и общественное, смешное и высокое. Сергея Тимофеевича бодрил этот разговор, его радовало, как много он воспринимает от сыновей. Вот они часто наводят его на мысль о семейной хронике, которая его занимает, о значении прошлого. Константин говорит, что нельзя только восхищаться красотой Петербурга, забывая о жертвах его строительства, нельзя только любоваться набережными, забывая о сваях под ними, которые стоили такого кровавого труда и стольких человеческих жизней. Однажды один из гостей, слушавший Константина, сказал самоуверенно: «Кому теперь до этого дело. Было и прошло, а город стоит и вызывает восхищение. Так и в истории: было и прошло, а новые поколения живут своими интересами». Нет, когда земля напитана кровью — то новые поколения дышат насыщенным ею воздухом, и не будет им счастья, как бы они ни хотели упиваться им, закрыв глаза на прошлое. Дорого обходится человечеству его легкомыслие предавать забвению опыт и страдания предков. Не должно быть этого и в семейных преданиях.
Последнее время, занявшись семейной хроникой, он много думал о матери, отце, деде, о своих дальних предках, давших жизнь ему и его семье. Его семья… Бывало всякое: неприятности по службе, разлад в дружеском кругу, что-то гнилое в светском обществе, до которого он был неохотник, а все «хороша зато погода у тебя в семье родной», как вертелся на уме собственного изделия веселый стих. В семье не было недовольных жизнью, не было праздности и уныния. Кто много страдал, тот умеет ценить жизнь, так бедная Оля вся светилась тихой радостью, когда ей становилось легче. С Олей семья глубже познавала себя. Никто не считал себя несчастным, находя и в самом малом благо, которому можно радоваться как дару жизни. Ненасытимость желаний пожирает человека, когда у него нет ничего за душой, никакого внутреннего света. Если вдуматься, все мудро в жизни, никто не обделен. Нет одного: скажем, таланта, славы — есть другое: дети, любовь к ним. Нет семейного счастья — есть удовлетворение от недаром прожитой жизни.
Вспомнились слова старинного знакомого: «Разрыв родства — история нашего времени». Так говаривал Сергей Николаевич Глинка в бытность их совместной службы в цензурном комитете, Он и писал об этом. Но он же, Сергей Глинка, с волнением рассказывал, как после долгой разлуки двадцатилетним подъезжал к родному дому, увидев с окрестной высоты свою родину, струящийся дым над кровлею отцовскою; как к ним, спустившимся с горы, на звон колокольчика сбежались все из деревни. Как у крыльца вылетел он из кибитки, и побежал в комнату, и очутился у ног матери; как после первых восторгов свидания он вышел в другую комнату и его окружили дворовые сверстники, с которыми в ребячестве делил он игры. По словам Сергея Глинки, он дышал новою жизнью, жизнью родственною, видя отца, мать, сестру, любуясь семилетним братом Федором, который с жаром читал стихи из одной трагедии.
Как не вспомнить здесь стихов И. И. Дмитриева: «Где лучше, как в своей родимой жить семье?»
Так неужели действительно история нашего времени — разрыв родства? Нет, он, отец, не может поверить, чтобы его сыновья после долговременной разлуки встретились бы как посторонние и незнакомые. Вот и в последние годы они, живя один в Москве, другой в Петербурге, встречались дома всегда радостно, по-братски, хотя тут же могли о чем-то и заспорить. Но и спор их, какой-то необидный, больше сближал их, чем разъединял. А теперь они, стоя у окна, разговаривали тихо. Сергей Тимофеевич долго сидел в задумчивости, потом мысли его обратились невольно к семейной хронике. Что за наваждение. Опять эти встающие перед глазами живые лица родных, подробности давно прошедшей жизни, такие пронзительно зримые, что до них, кажется, можно дотронуться рукой, опять эти воспоминания о счастливом детстве, от которых так сладко и грустно на душе.
В доме младшие уже спали, когда вернулась из Хотькова, где была на всенощной, Ольга Семеновна. Умиротворенным был поздний разговор мужа и жены, дышавший отголосками прожитого дня.
А ночью пошел снег, и, слыша бьющиеся в окно порывы ветра, он уносился памятью в заснеженные деревенские дали. Бывали страшные метели, застававшие его в поле, когда все сливалось, смешивалось в кипящем, ревущем прахе, и бесполезно было искать дорогу. Однажды, застигнутый вечером неподалеку от деревни бураном и блуждая в беспроглядном мраке, он набрел на стог сена и ночевал в нем. И, вспоминая ту далекую ночь, будто под баюканье нестрашной, утихающей метели он заснул здоровым, праведным сном.
Жил в Москве, на Собачьей площадке, около Арбата, Алексей Степанович Хомяков. Жил он в собственном доме, вполне счастливый в своей семье, любящий отец и супруг, любимый своей молодой женой. Семейная жизнь, казалось, нисколько не охладила первоначальной любви тридцатидвухлетнего молодого человека и восемнадцатилетней девушки. Оба равно целомудренными встретившие друг друга, они обратили всю силу и чистоту чувства во взаимную радость, полноту семейного блага. Могло показаться удивительным, что этот блюститель чистоты и нравственной строгости не какой-то тихий отшельник, а бывший конногвардеец, участник войны 1828–1829 годов с турками, бывавший во многих делах, отличившийся в атаке храбростью и получивший за это Святую Анну с бантом. И вообще человек хотя и несколько застенчивый, но вовсе не тихий, а наоборот: при всем своем миролюбии боевой, готовый в любое время вступить в сражение, правда, с оружием особого рода — словом. В этом была для многих странность его.
Удивляло и другое: всесторонняя и глубокая образованность человека, свободно владевшего французским, английским, немецким языками, знавшего хорошо латинский, греческий, впоследствии изучившего даже санскрит. А какая необычайная широта интересов: философия, история, литература, искусство, технические достижения, медицина — в каждой из этих областей проявлялась редкая пытливость и самостоятельность его мысли. От писания философских работ, стихов он переходил вдруг к занятиям совершенно другого рода: придумал, например, ружье и передал его в военное министерство. Изобретенная им паровая машина, отправленная в Лондон, получила там патент. Превосходный знаток живописи (сам рисовавший в молодости), он был одним из основателей Московского училища живописи, ваяния и зодчества. Одним словом, богатство его дарований и сил было таково, что Сергей Тимофеевич Аксаков, находившийся с ним в дружбе, говорил о нем шутя: «Из Хомякова можно выкроить десять человек, и каждый будет лучше его».
Но странность в глазах некоторых людей была в том, что столь богатая во всех отношениях натура, этот высокообразованный человек слыл за славянофила. Человек проповедует вещи, которым давно пора, так сказать, в отставку за несовременностью. Вполне серьезно, с каким-то даже фанатичным упорством проповедует он учение о церкви, причем церковь толкует не как казенное учреждение, а как некую соборность в благодати всех живших, живущих и тех, кто будет жить. То же и в других вопросах, чего бы ни касалось — государственности, права ли, человеческой личности, семьи, социальной этики, современного просвещения, словесности, — все у него сводится к религиозной идее, и это — в век европейской философской мысли! Таково было мнение части публики об этом человеке.
Обладающий многими дарованиями, Алексей Степанович более всего любил беседовать, развивать свои излюбленные мысли в разговоре, в споре. «Изустное слово плодотворнее писаного; оно живит слушающего и еще более говорящего. Чувствую, что в разговоре с людьми я и умнее, и сильнее, чем за столом и с пером в руках. Слова произнесенные и слышанные коренистее слов писанных и читанных». Спор, казалось, был стихией Хомякова, в которой выявлялись его могучие силы бойца. Герцен, удивлявшийся неутомимости Хомякова, «могшего спорить с вечера до утра», видел в нем сильного диалектика. Искусность Хомякова в споре, умевшего всякий раз развивать мысль в применении к конкретным обстоятельствам, принималась иными за «софистику». Сам же Хомяков говорил на этот счет так: «Наше общество так апатично, так сонливо и понятия его покоятся под такою толстою корою, что необходимо ошеломлять людей и молотом пробивать кору их умственного бездействия и безмыслия».
Мысль о самобытной русской философии зародилась у Хомякова еще в молодости, в двадцатых годах, в кружке любомудров, средоточием которого был его друг, поэт и мыслитель Д. Веневитинов, подававший большие надежды и так рано скончавшийся в 1827 году, в возрасте всего двадцати двух лет. Здесь Хомяков получил первую закалку в споре с теми, кто был сторонником западного просвещения. Шли годы. Не пришло еще время союза Хомякова с Иваном Киреевским, сделавшего их двумя столпами славянофильства. И не он, Иван Васильевич, будет первым, перед кем Хомяков начнет расточать свои идеи. Первыми идейными учениками Алексея Степановича стали юные Константин Аксаков и его друг Юрий Самарин. Константину Аксакову было двадцать два, а Юрию Самарину — двадцать, когда они в 1839 году, оба кандидаты Московского университета, познакомившись друг с другом, решили вместе готовиться к экзамену на магистра. Гегель был их кумиром, и долгие часы они проводили за чтением, обсуждая каждое его философское положение, ища во всем «философское оправдание» на началах Гегеля. Но неведомое, волнующее вошло в их сознание, когда они стали читать памятники древней русской словесности, изучать летописи, старинные грамоты и акты. Целый мир, до того совершенно не известный им, со своими духовными сокровищами, видимыми и еще не изведанными, со своеобразием народной жизни, быта открылся им. Какая-то почва почувствовалась вдруг под ногами после зыбкого блуждания в гегелевской «феноменологии духа».
Так явились они в московском обществе со своим новым словом. В сущности, наиболее рьяным провозвестником его был Константин Аксаков. Громкий голос раздавался в литературной гостиной, и все уже знали, что пришел конец шуткам, светской игривости разговора, взаимным уступкам во мнениях, а начнется сейчас проповедь. Мало кто с пониманием, сочувствием слушал входившего на глазах в рьяность молодого богатыря, заспорившего сначала с пожилым соседом о каких-то грамотах и вскоре уже горячо доказывавшего свое во весь голос, на всю гостиную. Хотя оратор и невольно подкупал слушателей своим неподдельным энтузиазмом, глубиной суждений, внезапными после яростных споров вспышками детского простодушия, — большинство иронично, чуть насмешливо относились к его речам: «чудак», «фанатик», «человек с крайностями», «идеалист». Но с ним, как всегда, неразлучно находился рядом Юрий Самарин, давая знать то замечанием, то кивком головы, то выразительным взглядом, что он целиком согласен со своим другом, и это имело свое действие: всем был известен блестящий, саркастический ум этого молодого аристократа, спокойного, воздержанного, с безупречными светскими манерами, трезвостью взгляда. Уступая Константину Аксакову в творчестве, Юрий Самарин превосходил его аналитической зоркостью, логической отчетливостью и последовательностью мысли, выводов, эти качества проявлялись в нем уже в молодости, обещая богатое развитие. Так оба они как бы дополняли друг друга.
В 1840 году произошла встреча, оказавшая решающее влияние на их жизнь. Алексей Степанович Хомяков был значительно старше каждого из них: ему было тридцать шесть лет, человек всесторонне образованный философски, со сложившимся давно мировоззрением. Но не только духовным опытом, зрелостью мысли превосходил он своих молодых товарищей. То, что было порознь в каждом из них — творчество и сила аналитическая, — соединилось в нем в полном согласии, составляя цельность его натуры. Поэтому молодые друзья должны были бы, казалось, найти каждый свое, свою точку опоры в Хомякове, но на первых порах этого не произошло. Для обоих, как уже говорилось, кумиром являлся Гегель, и расстаться с ним было им не так-то просто. Хомяков же, прекрасно изучивший Гегеля, сам редкий диалектик, по высокой терпимости своей не подавлял мнения молодых людей, только непреклонно держался своего «камня» — русской истории, ее духовно-культурных, бытовых особенностей. Это было главным для него, а потом уже Гегель и «гегелята» (как он говорил), «гегелизм», ценимый им, но имеющий в его глазах все-таки косвенное отношение к «русскому началу» (как вообще вся германская, рационалистическая в своей основе, философия). Друзья-противники оказались довольно крепкими орешками, с которыми непросто было справиться. Особенно упорствовал в стоянии за Гегеля Константин Аксаков, которого Хомяков прозвал «свирепым агнцем», соединявшим в себе идейное неистовство с детскостью сердца. Веря в прочность главного в Константине Аксакове, Хомяков говорил ему: «Я с вами более согласен, чем вы сами». И дело сдвинулось с места, благоговение хомяковских оппонентов к Гегелю как всеобъемлющему абсолютному началу познания померкло. По словам младшего брата Ивана, освобождение Константина Аксакова от оков Гегеля было полным: «Гегель как бы потонул в его любви к русскому народу». Впоследствии сам Константин Сергеевич признавался: «Живой голос народный освободил меня от отвлеченности философской. Благодарение ему».
Хомяков сделался постоянным гостем в доме Аксаковых, так же как и сам рад был видеть их у себя в гостях на Собачьей площадке (недалеко от Смоленского рынка, где одно время жили Аксаковы). Известная еще с семнадцатого века, Собачья площадка возникла, по преданию, на месте Псарного, или Собачьего, двора для царской охоты, и одним уже этим много говорила таким заядлым охотникам, как Алексей Степанович и Сергей Тимофеевич (как, впрочем, и Юрию Самарину — также охотнику). Дом Хомякова охотно встречал гостей, в столовой находилось всем место у огромного раздвигающегося стола-«сороконожки». А в угловом кабинете хозяина в клубах дыма, забывая время, мирно беседовали или неистово спорили, не слыша, как во дворе уже кричали петухи.
7 сентября 1842 года Сергей Тимофеевич с сыном Константином, дочерью Верой и Хомяковым слушали и смотрели оперу Глинки «Жизнь за царя». Уже после представления долго был старший Аксаков под влиянием изумительной музыки, как и подвига костромского крестьянина Ивана Сусанина. С первого действия безоглядно отдался он родной музыкальной стихии, которая целиком, казалось, поглотила его, в красоте своей открывая ему, сцена за сценой, простоту и величие народной жизни. Каким же внутренне содержательным должен быть этот крестьянский мир, чтобы породить из себя такое богатство мелодий, музыкальных образов, такую силу чувств. И наши театралы, захваченные музыкой, вскоре как бы и забыли о ней, чувствуя себя уже посреди действующих лиц; таким близким, понятным веяло и от этих крестьянских изб, и от пашен, и от мужиков в сермягах, и от Сусанина, одного из тех, кто составляет «хор» — не только в опере, а в самой народной жизни, и силен этот Сусанин не как выделяющийся среди других крестьян герой, а как член их братской общины, выразитель их общего дела, — эта мысль о Сусанине особенно занимала Хомякова. Не менее чем Хомякову по душе было и Аксаковым все происходившее на сцене. Сергей Тимофеевич знал об отношении Глинки к своему Сусанину, поющему «вроде запевалы», и теперь в пении Сусанина, Антониды, Собинина, Вани, задевающем за живое, слышались ему ведущие голоса народного хора.
И вот эпилог. Заполненная народом Красная площадь в Москве. Ликование и скорбь, величие и еще живые в душе страдания — все слилось в полноте народного испытания и торжества. Грянул хор «Славься» — такой величественной, исполинской силы и вместе с тем солнечного звучания гимн Руси, народу, что мороз подирал по коже, и слушатели не сразу пришли в себя после этого финального потрясающего хора.
Нетрудно вообразить, с какими чувствами выходили из театра Аксаковы с Хомяковым, для которых творение Глинки значило больше, чем опера. Сергей Тимофеевич в какой-то мере был приготовлен к вынесенным им впечатлениям об этой музыке. Еще в 1834 году, в доме у своего знакомого литератора А. Н. Мельгунова, он и Шевырев часто встречались с вернувшимся из-за границы Глинкой, поглощенным замыслом написать национальную оперу. Сюжет тогда предполагался иной, не связанный с Иваном Сусаниным, но уже созданы были композитором мелодии, песни, которые войдут в оперу о костромском крестьянине. Аксакову приятно было видеть, как племянник С. Н. Глинки с таким неподдельным чувством говорил о народной песне, о своем желании написать оперу, где все было бы национальным — и сюжет и музыка, — «настолько, чтобы мои дорогие соотечественники чувствовали себя дома». Глинка садился за фортепьяно, изящными маленькими ручками прикасался к клавишам, и в комнате раздавались, лились удивительно задушевные звуки. Они всплывали в памяти Сергея Тимофеевича, когда он слушал оперу.
Опера Глинки произвела на них сильнейшее действие. Хомяков написал о ней статью для «Москвитянина», в которой, подробно разобрав сюжет, содержание сцен, развил попутно излюбленную свою мысль о народе, дающем нравственную силу каждому отдельному члену своему, в отличие от «аристократического рыцарства», «поклоняющегося своей личности». И заканчивал свою статью Хомяков возгласом: «Нет человечески-истинного без истинно-народного!» Более просто, без философствования, высказался об опере Глинки Сергей Тимофеевич в своем письме сыну Ивану: «Стыдно мне, что я до сих пор не слыхал этой музыки, и досадно, что я лишил себя этого наслаждения. Это именно то, о чем я мечтал; именно то, чего недостает операм Верстовского. Это не русские песни, даже не чисто русские мотивы, — это русская музыка, в которой каждый звук мне родной; я его слыхал, певал или непременно услышу, спою».
Кому из философствующих москвичей не был известен дом Елагиных у Красных ворот?[7] Хозяйка дома, Авдотья Петровна Елагина, племянница В. А. Жуковского, по первому мужу Киреевская, мать Ивана и Петра Киреевских, славилась как замечательная по уму и образованности женщина, умевшая собирать вокруг себя незаурядное общество. Кто только не перебывал здесь за тридцать лет (начиная с двадцатых годов), какие только разговоры здесь не велись. Царствовавшие в доме благосклонность внимания, тонкость вкуса и возвышенность интересов при терпимости к любым мнениям располагали гостей к полной свободе суждений и споров, это, видимо, и давало повод некоторым современникам называть елагинский дом «республикой у Красных ворот».
В начале сороковых годов, о которых идет речь, гостиная Елагиной была тем местом, где охотно сходились западники и славянофилы, тогда еще не порвавшие друг с другом. Здесь по воскресеньям можно было встретить Хомякова и Чаадаева, К. Аксакова и Грановского, Ю. Самарина и Герцена, много других, с такими же разными взглядами, людей. Старик В. А. Елагин, муж Авдотьи Петровны, грубоватый на вид, но добрый сердцем, обычно молча слушал. Авдотья Петровна с одинаковой чуткостью следила за мыслью каждого, иногда мягким своим замечанием сглаживая остроту спора. Меньше всего можно было бы заподозрить ее в салонном тщеславии, игре в просвещение. Однажды она писала: «Усовершенствование наук — еще не главное; ум — второе отделение души, нужно усовершенствовать душу и не дать ей пасть». И не только на детей своих влияла она этим убеждением, но и окружающие не могли не чувствовать ее душевной притягательности.
Елагинские вечера не обходились без Аксаковых. Если даже Сергей Тимофеевич и не бывал здесь, все равно он хорошо знал, что всякий раз происходило на них, от старшего сына и вместе с ним жил этими интересами.
Спокойный, сосредоточенный, сидел Иван Васильевич Киреевский. С его рано постаревшего, в очках, с бакенбардами, лица не сходила грусть, возможно, от того постоянного самоуглубления, которое было связано с его философскими раздумьями. Он жил, казалось, все той же поглощавшей его всего идеей цельности мышления и жизни, идеей целостного бытия. Но эта цельность, видимо, давалась ему нелегко, и следы этой борьбы, ненавистного ему раздвоения мысли и жизни проступали глубокой грустью на его лице. Другой Киреевский, Петр Васильевич, выглядел внешне обыденно, с усами, с трубкой в зубах — простой степной помещик (и жил он по-деревенски уединенно в своей маленькой деревеньке Киреевская слободка под Орлом, отлучаясь ненадолго в Москву). Но каждый, кто ближе узнавал его, мог только дивиться образованности, той громаде знаний, которыми обладал этот на редкость скромный человек, говоривший и писавший на семи языках (помимо многих cлавянских). И вся одинокая жизнь Петра Васильевича была посвящена одному — собиранию народных песен, и настолько это дело было подвижническим, что сам Пушкин передал ему записанные им песни, и столь же охотно посылали Киреевскому свои записи песен Гоголь, Языков, Кольцов, Даль, Шевырев и другие.
Главным бойцом на елагинских вечерах (продолжавшихся обычно далеко за полночь) был, по общему мнению, Алексей Степанович Хомяков. Огромная эрудиция, проницательность ума и сила убеждения делали Хомякова в глазах западников опасным противником. В споре Хомяков не оборонялся, а всегда наступал, используя любое противоречие во взглядах другого человека. С кем угодно и в какой угодно час готов он был спорить о том, что было для него заветным, о том, например, что нельзя одним рассудком, разумом дойти до истины; оставленный на самого себя разум может строить категорию за категорией, даже выводить свои отвлеченные законы, но из этой пустоты никогда не будет выхода к истине, тайнам бытия, к таким понятиям, как дух, бессмертие, доступным только, по Хомякову, откровению, вере.
Слушавшему его Герцену Хомяков представлялся Ильей Муромцем, и забавно было видеть, как люди, спорившие с Хомяковым, терялись, когда он загонял их в угол «материализма» или «атеизма». Но он-то, Герцен, не менее чувствовал себя Ильей Муромцем и не прочь был померяться с Хомяковым в споре хотя бы о той же «идее народности». Для него, Герцена, «народность, как знамя, как боевой клич, только тогда окружается революционной ореолой, когда народ борется за независимость». (Надо сказать, что под влиянием славянофилов западники снисходительнее стали относиться к народности, к самому понятию «народ», как тому «агенту мысли», с которым приходилось считаться при решении социально-философских вопросов.) Что же касается разума, Герцен видел в нем абсолютное и универсальное орудие познания, и, по его словам, никакие уловки ни в малейшей степени не поколеблют этой истины. Хомяков щурил свой косящий глаз, потряхивая смоляными черными волосами, и с простодушным лукавством улыбался.
— Знаете ли что? — мог вдруг начать Хомяков, как будто ему пришла в голову впервые эта мысль. — Одним только разумом не дойдешь и до того, чтобы понимать природу иначе, как простое, беспрерывное брожение, не имеющее цели, которое может и продолжаться, и остановиться. А если это так, то вы не докажете и того, что история не оборвется завтра, не погибнет с родом человеческим, с планетой.
— Я вам и не говорил, — отвечал Герцен, — что я берусь это доказывать, я очень хорошо знал, что это невозможно.
— Как? — удивился Хомяков. — И в вашей душе ничего не возмущается?
— Нет, потому что выводы разума независимы от того, хочу я их или нет.
— Ну вы по крайней мере последовательны; однако как человеку надобно свихнуть себе душу, чтобы примириться с этими печальными выводами вашей науки и привыкнуть к ним!
— Докажите мне, что ненаука ваша истиннее, и я приму ее так же откровенно и безбоязненно, к чему бы она меня ни привела, хоть к Иверской.
Об этом разговоре Герцен впоследствии рассказал в «Былом и думах». В спорах он блистал остроумием, игрой сравнений. Всем было известно, что Константин Аксаков не любил Петербург, он даже ссылался на то, что в народе этот город называют «пятибрюхом», пожирающим пятью брюхами народный труд.
— Москва — столица русского народа, а Петербург только резиденция императора.
— И заметьте, — перебивая Аксакова, поспешно вставлял Герцен, — как далеко идет это различие: в Москве вас непременно посадят на съезжую, а в Петербурге сведут на гауптвахту.
Константину Аксакову было тесно в гостиной, он, вскакивая с места, ходил, провозглашал:
— Москва — истинная столица России, столица ее духа. Петербург — временный центр, выразивший чистое отрицание. Ни один народ не отважился на такое решительное, совершенное, строгое отрицание своей национальности, и потому ни один народ не может иметь такого общего всемирно-исторического значения, как русский народ.
— Согласитесь, дражайший Константин Сергеевич, что без православия наша народность дрянь, с православием наша народность имеет мировое значение, — внушительно басил Александр Иванович Кошелев, давний друг Ивана Киреевского и Хомякова, деятельный их единомысленник, впоследствии издававший на свои средства славянофильские журналы и сборники.
Грановский говорил меланхолическим тоном молодому соседу, пришедшему в числе других гостей на этот вечер:
— В основании исторических мнений Карамзина, кажется, лежала мысль, что русский народ и не способен ни к чему иному, кроме того, что сделают из него его правители.
Доносился негромкий, но твердый голос Ивана Киреевского:
— Уничтожить особенность умственной жизни народной так же невозможно, как невозможно уничтожить его историю; заменить теоретическими понятиями коренные убеждения народа так же нельзя, как отвлеченною мыслью переменить кости развившегося организма.
Редко когда нарушал свое молчание Петр Киреевский, да и говорил он запинаясь, но и так всем было ясно, чем живет этот «своенародности подвижник просвещенный», как назвал его в стихотворном послании к нему поэт Николай Языков. Собираемые Петром Киреевским песни были тем миром, той стихией народной жизни, где он вслушивался в строй русского национального духа, находя в нем великое содержание, прочную опору для своих убеждений. И как народные песни принадлежат всему народу, рождены им и выражают его сущность, так правда-истина не может быть добыта единолично, одним человеком, каким бы он ни был философом; эта живая истина есть продукт самой жизни народа, в ее исторической традиционной целости, и постигается народом соборно, совокупно. И как в иных песнях видел он вместо «благородной прямоты — ужимистый характер сословия лакейского» — знак наступавшей «моды», так в некоторых физиономиях знакомых ему людей, в том числе и тех, кто посещал их вечера, — видел он страшное обмельчание душ, духовное ничтожество искателей «впечатлений полегче и посветлее», по его словам.
Чаадаев, по обыкновению сложа руки, стоял неподвижно, его восковое лицо было невозмутимо. Когда хозяйка дома заговаривала о знакомых молодых людях, Чаадаев возражал с печальной насмешливостью: «А вы думаете, что нынче еще есть молодые люди?» Герцен находил, что лета не исказили стройного стана Чаадаева, и любовался им, тщательно одетым, с прямо смотрящим взглядом. Вот где, думалось иногда Герцену, недоставало Белинского (жившего тогда уже в Петербурге), вот упала бы где конгривова ракета, выжигая кругом все, что попало.
Так проходили елагинские вечера. Каждое лицо, там присутствовавшее, было так или иначе, прямо или косвенно, связано с ним, Сергеем Тимофеевичем. Тот же Иван Васильевич Киреевский. Ведь это из-за него, из-за его статьи «Двадцатый век» схлопотал когда-то он, цензор Аксаков, служебную неприятность. Этот факт не был случайностью в их взаимоотношениях, поэтому читателя необходимо хотя бы вкратце познакомить с философскими взглядами Ивана Киреевского, без этого не будет полон показ той умственно-духовной среды, которая окружала Сергея Тимофеевича.
Иван Киреевский занимал в ней важное место. Еще в статье, написанной в 1830 году, «Обозрение русской словесности за 1829 год» он говорит: «Но чужие мысли полезны только для развития собственных. Философия немецкая вкорениться у нас не может. Наша философия должна развиться из нашей жизни, создаться из текущих вопросов, из господствующих интересов нашего народного и частного быта». Слушание в 1830 году лекций Гегеля в Берлинском университете, а затем — лекций Шеллинга в Мюнхенском университете не произвело особого действия на Ивана Киреевского, не вызвал у него сочувствия сам «способ мышления» немецких философов, даже и более близкого ему по духу Шеллинга. Пожалуй, больше дало ему личное знакомство с Гегелем и через младшего брата Петра Васильевича (ранее его приехавшего в Мюнхен) — с Шеллингом, который, кстати, в разговоре с Киреевскими высказывал мнение, что России суждено великое назначение (эту же мысль, видимо, под влиянием победы России над Наполеоном в 1812 году высказал и Гегель одному из молодых русских, слушавших его лекции). Издали отчетливее мог он осмотреть то огромное, что представляло собою его Отечество. Не отрицая поучительности опыта Западной Европы, Иван Киреевский считал, что любой иноземный опыт нельзя механически переносить на историческую почву другого народа, что и философия, образованность точно так же не могут быть внешне переняты, а рождаются из недр национальной жизни. Тем более это относится к «самобытной русской философии», которая должна была, по убеждению его, выйти далеко за пределы национального значения и приобрести мировую роль.
В создании такой философии Иван Васильевич видел свое призвание, задачу своего служения Отечеству и жил, собственно, этим однодумьем. Он не разрабатывал систему, наподобие немецких философов, а развил ряд положений, которые легли в основание славянофильской философии. Суть этих положений вкратце сводилась к следующему.
Исторически сложилось так, что в основании просвещения Европы и России легли разные элементы, разные начала. Что касается Европы, то этими началами в ее просвещении стали христианство, проникшее туда через церковь римскую, древнеримская образованность и государственность варваров, возникшая из насилий завоевания. Как видно уже из этого, определяющей в судьбе просвещения европейских народов была роль Рима, римской образованности. Между тем было еще греческое просвещение, которое в своем чистом виде почти не проникало в Европу до XV века, до самого взятия турками Константинополя (когда на Западе появились греческие изгнанники со своими «драгоценными рукописями»). Но это было уже запоздалое знакомство, которое не могло изменить заложенного склада ума и жизни. Господствующий дух римской образованности, римские законы и римское устройство наложили властную печать на всю историю и жизненный уклад европейских народов, начиная от частного быта и кончая религией. Если говорить о главной особенности «римского ума», то это будет преобладание в нем наружной рассудочности над внутренней сущностью. Таким характером рассудочной образованности отмечены все проявления общественной, религиозной, семейной жизни в Древнем Риме, унаследованные Западной Европой.
Если на Западе христианство привилось через римскую церковь, то в России — через церковь восточную. В отличие от западного, рационалистического в своей основе богословия богословие восточной церкви, не увлекаясь в односторонность силлогизмов, держалось постоянно полноты и цельности умозрения. Восточные мыслители заботятся прежде всего о правильности внутреннего состояния мыслящего духа; западные — больше о внешней связи понятий. Восточные писатели, по словам Ивана Киреевского, ищут внутренней цельности разума, того средоточия умственных сил, где все отдельные деятельности духа сливаются в одно живое и высшее единство; западные, напротив того, полагают, что достижение полной истины возможно и для разделившихся сил, для раздробленного духа, что одним чувством можно понимать нравственное, другим — изящное, третьим — личное удовольствие и т. д.
Эта цельность духа, самого бытия как наследие восточного христианства, православия отличала, говорит Киреевский, древнерусское просвещение, быт и жизнь древнерусского человека и теперь еще не утрачена в простом народе, в русском крестьянстве. Необходимость такой цельности духа, цельности мировоззрения и жизни Киреевский считал центральной задачей русской философии независимо от времени, от исторических обстоятельств. Причем он призывал следовать не букве, а духу этого положения, приводя его в соответствие с современными, в том числе научными требованиями, не допуская решительно никаких элементов архаичности.
Итак, главное, по Киреевскому, заключается в том, чтобы та цельность бытия, которой отличалась древнерусская образованность и которая сохранилась в народе, была навсегда уделом настоящей и будущей России. Но в этом Иван Киреевский видит не узконациональную задачу, а мировое призвание России, ее историческую роль в судьбах Европы. Ошибаются те, кто считает славянофилов некими провинциалами, которые хотели бы вновь заколотить «окно в Европу», отгородиться от нее, замкнуться в своих национальных рамках (чуть ли не удельной Руси) и похаживать в мурмолках да косоворотках. Вопрос об их отношении к Европе гораздо глубже, не имеет ничего общего с этим карикатурным представлением.
Мысль Ивана Киреевского была такова: историческая жизнь России была лишена классического элемента, а так как прямой наследницей древнего мира является Европа, то и следует перенять у нее этот классический элемент — через лучшие черты западной образованности. Усвоив это все лучшее в культуре Запада, обогатившись ею, придав, таким образом, общечеловеческое значение русскому просвещению, можно успешнее влиять им и на Запад, внося в его жизнь, в его сознание недостающее ему единство духовного бытия. Сутью мировоззрения Киреевского было требование цельности, неразрывности убеждения и образа жизни. Еще в молодости он поставил своей целью «чистоту жизни возвысить над чистотою слога». Это был девиз всех его друзей — и брата Петра Васильевича, и Хомякова, Константина и Ивана Аксаковых, Юрия Самарина и других. «Чистота жизни», нравственная высота славянофилов наложили отпечаток и на их «слог», стиль творений, о чем В. В. Розанов, писавший по своему непостоянству разное о них, иногда прямо противоположное, в итоге мог сказать, что творения их «исходят из необыкновенно высокого настроения души, из какого-то священного ее восторга, обращенного к русской земле, но не к ней одной, а и к иным вещам… Чего бы они ни касались, Европы, религии, христианства, язычества, античного мира, — везде речь их лилась золотом самого возвышенного строя мысли, самого страстного углубления в предмет, величайшей компетентности в суждениях о нем» (Статья «И. В. Киреевский и Герцен»).
Та цельность, к которой стремился Иван Киреевский, не сводилась для него к сугубо личному самопознанию. Нравственная цельность личности может иметь большое воздействие на людей, стать средоточием их единомыслия и духовной общности. Иван Киреевский знал, что значит для других людей нравственная высота человека, какая это вдохновляющая и влекущая к себе собирательная сила.
Как философия не умозрительная, а практическая, жизненная, философия цельности Ивана Киреевского вбирала в себя и его бытовые впечатления и не могла, конечно, не вобрать его впечатлений от общения с хорошо знакомой ему, близкой семьей Аксаковых. Сергей Тимофеевич, не имея склонности к философствованию, мог и не вникать во все оттенки взглядов Ивана Васильевича, но ему родственно было понимание жизни человека в единстве, нераздельности его мысли и поведения. И в творчестве его эта цельность стала основой той удивительной истинности повествования, которая так властно действует на читателя, и не только эстетически, но и нравственно.
Бывавший у Хомякова Сергей Тимофеевич мог видеть, как менялись отношения между людьми, которых он всех хорошо знал и «по веротерпимости своей» готов был каждому отдать должное. Еще, казалось, недавно тот же Хомяков дружески встречался с Грановским, поздравлял его с успехом публичных лекций в Московском университете. А в доме Аксаковых был даже дан торжественный обед в честь популярного лектора, распорядителем «по части кушанья» был сам Сергей Тимофеевич Аксаков, «по части пития» — Герцен и «по части цигарок» — Самарин.
Но уже в этих лекциях таилось зерно разрыва. Как ни поздравляли устроители обеда виновника торжества, а видели прекрасно, что застольными тостами и кончится это веселое единодушие: все эти обеды — дань уважения людей, достойных той же веротерпимости, а суть оставалась ясной с самого же начала.
Спустя год после лекций Грановского в том же Московском университете с публичным курсом по истории русской словесности выступил другой профессор, Степан Петрович Шевырев. Для многих, даже скептиков, открылось вдруг нечто поразительное. Оказывается, в древней русской словесности такие богатства, о которых мало кто и знал. Ведь выходит, что русской литературе почти тысяча лет — самая древняя литература среди литератур Запада! У нас уже были шедевры словесности, когда она еще не значилась ни во Франции, ни в Германии, ни в Англии. Открылось как бы окно в Древнюю Русь, в мир ее духовного бытия и культуры.
Вскоре Шевырев издал свои лекции отдельной книгой, озаглавленной: «История Русской Словесности, преимущественно Древней». Получив эту книгу, Гоголь писал автору: «Читаю я твои лекции. Это первое степенное дело в нашей литературе». Живейший интерес вызвали чтения Шевырева и у поэта Н. Языкова, который в письмах к брату то и дело возвращался к лекциям, видя в них массу «нового» по части древней русской литературы («это Америка, открытая Шевыревым»). «Аксаков говорит, что как бы ни была драка на лекциях!! — писал Языков, — партия европеистов выходит из себя» и т. д.
Лекции, прочитанные Грановским и Шевыревым, послужили тому, что и практически углубилось размежевание между западниками и славянофилами. Назревал разрыв. Но почти одновременно с лекциями Шевырева произошло и еще одно знаменательное событие. С «проклятиями в стихах» (как сказал один из современников) против западников выступил Н. Языков, в то время тяжело больной, бывший уже на пороге недалекой смерти, но горевший страстной верой в «Русь Святую» и враждой к идейным противникам. Поэт, любимый Пушкиным и Гоголем, их друг, Языков был близок славянофилам. Хомяков, женатый на его сестре, Катерине Михайловне, называл Языкова в письмах «любезным братом». Столкновение между западниками и славянофилами не оставило Языкова равнодушным. Он ринулся в стихию борьбы, как тот пловец в его знаменитом стихотворении о «нелюдимом нашем море», как бы в предчувствии, что «будет буря: мы поспорим и помужествуем с ней». Целую бурю в обществе вызвало стихотворение Языкова «К ненашим». Оно было направлено против тех, кто жаждал «онемечить Русь». Стихотворение подействовало на общество как электрический разряд.
Так развертывались события, очевидцем которых стал Сергей Тимофеевич. Сам он был в приязненных отношениях с Языковым. Но еще в начале тридцатых годов, в бытность свою цензором Аксаков познакомился заочно с поэтом Языковым, нанеся некоторое «повреждение» его стихам. В стихотворении «Ау» Сергей Тимофеевич красным карандашом вычеркнул следующие строки:
О! Проклят будь, кто потревожит
Великолепье старины,
Кто на нее печать наложит
Мимоходящей новизны!
И это был, конечно, не произвол цензора С. Т. Аксакова, а его убеждение, которого впоследствии придерживался и сын Константин, да и все славянофилы: «старина» не может быть законсервирована, она должна помогать творить ей же подобную «новизну» в новых исторических условиях, в духе того же идеала. Под влиянием ли когда-то преподнесенного Сергеем Тимофеевичем урока, независимо ли от него — только «старина» в посланиях Языкова уже лишилась прежней неприкосновенности, покоя и стала силой, сопутствующей действию:
…самобытная, родная
Заговорила старина,
Нас к новой жизни подымая…
Западники и славянофилы размежевались. Вчерашние друзья стали идейными противниками. Что же касается Сергея Тимофеевича, то хотя «веротерпимость», как всегда, оставалась с ним, ему были ближе убеждения сына Константина и его друзей. Конечно, он не богословствовал, как Хомяков; не философствовал, как Иван Киреевский; не залезал с головой в летописи и акты для доказательства исторической основы русской общины, для выяснения бытовых и государственных стихий русской истории, как это делал Константин Аксаков; не проникал, как Юрий Самарин, с логической отточенностью в рационалистические процессы, исказившие нравственное учение «латинства», то есть католичества. Сергей Тимофеевич не углублялся и не заносился в сферы, которые могли казаться порой и отвлеченными для его реалистической натуры при всей ее художественности. В нем говорил человек, знающий цену жизненному опыту. Поэтому он мог пошутить над философскими увлечениями молодого Константина, неумеренного «почитателя немцев» (считая, что «немецкий мистицизм противен русскому духу»), мог и прямо сказать, что старший сын недостаточно знает действительность.
Слушая собиравшихся в его доме друзей, таких, как Хомяков, Киреевский, Юрий Самарин и другие, сам принимая участие в беседе, в спорах, Сергей Тимофеевич мог с неудовольствием отмечать, что нет порой единодушия среди, казалось бы, единомышленников, что сколько людей — столько и мнений по какому-то одному вопросу. Но правда и то, что сам он еще в молодости, будучи студентом Казанского университета, говорил о своем «русском направлении», а впоследствии о своем «московском направлении» — в смысле «чувства национальности». Не надо забывать, что великий художник уже потому патриот, что он связан самим своим творческим призванием с созидательным гением народа, и судьба, будущее его творений немыслимы вне судьбы народа, его языка. Родной язык был для С. Т. Аксакова той национальной стихией, в которой только и возможно проявление самосознания художника и самой его бытийной сущности. И можно представить себе, что значило для него умаление этого языка и творца его — народа. А в этом умалении не было недостатка.
Не так невинно выглядела эта «галломания», «англомания» и прочее. Как мы назовем человека, который отрекается от своей матери, от своих родителей? Не меньшее, а еще большее, может быть, падение, когда человек отрекается от своего народа, от его языка, стыдится его, как чего-то позорного, низкого, недостойного его. Сколько было таких блудных сыновей, русских иностранцев, вообще добровольных рабов Запада, по-холопски унижавших все русское. Умаление всего родного, неуважение к своему народу, его истории, великому языку было оскорбительным для С. Т. Аксакова. В этом и было то «чувство национальности», которое так много говорило ему и как человеку, и как художнику и без которого не было бы его замечательных творений.
В апреле 1844 года Сергей Тимофеевич писал Гоголю: «Мы сошлись с Языковым». И это произошло во многом благодаря Николаю Васильевичу, который сделал Языкова как бы посредником в переписке между собою и Аксаковым, в тех поручениях, которые он им обоим давал. Хотя лично с Языковым Гоголь познакомился только в 1839 году, за границей, то есть гораздо позже, чем с Аксаковым, он прекрасно знал его и раньше как поэта, с восторгом говорил и писал о его стихах. Тогда же, познакомившись за границей, они совершили поездку по Италии, вместе жили там. Среди друзей Николая Васильевича Языков был одним из первых, кто принял на себя бремя наставлений Гоголя с самого же начала его духовного перерождения. Наставления эти не были тягостны для Языкова хотя бы и потому, что, близко, в совместной жизни узнав Гоголя, он убедился, что советы эти даются Гоголем не только в поучение, в помощь ближним, но и в исправление себя, ибо, по его словам, давая советы другим, сделается стыдно самому, когда не исправляешься сам. Гоголь, стало быть, сам жаждал исправиться, наставляя других, понимая, какая пропасть лежит между стремлением к идеалу и его осуществлением. Когда Языков сообщил ему, что его огорчают неприятные слухи, рассеиваемые о нем, Гоголе, то получил ответ обезоруживающий: «Если бы я, положим, и оправдался во многом, то разве это послужило бы доказательством, что во мне нет других, не менее дурных качеств?» И здесь неуместны никакие поблажки со стороны друзей, вежливые уклонения и недоговаривания! Здесь больше подходит прямота Погодина, чем любовь да ласки Аксаковых, он так и писал своим московским друзьям, требуя от них слов простых и жестких: «словом, превратитесь в отношении ко мне все в Погодина и рубите прямо сплеча, не разбирая, прав ли я или виноват». Кстати, бедный Погодин мог и запутаться, не зная, с какого бока на него взглянет Николай Васильевич, в какой реестр занесет: то назовет его «душа моя и жизнь», то бессовестным, то неряшливым во всем, в том числе и в слоге, в ученых занятиях и т. д. Но скорее всего угодил он, Погодин, по воле Гоголя в Собакевичи, потому о нем и пишет Гоголь, как о Собакевиче: «Ты хватил сгоряча топором там, где следовало бы употребить инструмент помельче»; самоуправно, без ведома самого писателя, Погодин приложил к «Москвитянину» портрет Гоголя и «пришипился, как бы ничего не было» (точно как и Михаил Семенович Собакевич пришипился, отделавши целиком с аппетитом громадного осетра у губернатора), на этот раз портрет Погодина «обломился всей своей медвежьей натурой», наподобие все тому же Собаке — вичу. Но могли попасть в персонажи «Мертвых душ» и другие друзья Николая Васильевича, положим, те же Аксаковы с их безграничной, ну не маниловской ли любовью к нему (о них он и скажет в письме к А. О. Смирновой-Россет, что Аксаковы способны залюбить его до смерти).
В августе 1843 года Языков возвратился в Россию, в Москву, поселившись в Малом Власьевском переулке, в доме княжны Гагариной. По этому адресу и потекли письма Гоголя. И почти в каждом письме в конце его приписка: спросить у Аксаковых, получили ли они его письмо, почему не пишут, поблагодарить их за милые письма и т. д. Почти каждое письмо Гоголя к Языкову собирало вместе Николая Михайловича и Сергея Тимофеевича. О чем бы ни говорили — о своих общих московских приятелях, особенно о Хомякове (он был женат на сестре Языкова, каждый из них называл друг друга братом), о деревне (Языкова тянуло в родную симбирскую глушь, отдохнуть от города), о литературных делах, — все сводилось к Гоголю. Николай Михайлович вспоминал их совместное римское житье-бытье, как Гоголь работал над «Мертвыми душами», ничего слаще этого названия не было для слуха Сергея Тимофеевича.
Так Языков сделался необходимым человеком для Аксакова, будто они век знали один другого. Однажды (это было в конце апреля 1845 года), узнав о полученном Языковым письме Гоголя (а это значило, что и к нему, Аксакову, есть у Николая Васильевича дело), Сергей Тимофеевич вместе с Константином отправился в Серебряный переулок, где жил теперь Языков. Как и ожидал, он застал хозяина сидящим в кресле, задумчивым, тихим. Сергею Тимофеевичу, который сошелся с уже больным Языковым, странно было представить его в той «хмельной» молодости, когда он, студент Дерптского университета, писал стихи, славившие любовь, поэзию, вино. Тот хмель прошел, но познал Языков теперь уже больше как человек, чем как поэт, другой хмель, о каком писал ему Гоголь, имея в виду некоего мужа, который «как бы вдруг пробуждается в великую минуту и так же запоем, как способен один только русский, который с горя вдруг вдается в пьянство, так же запоем из пьянства входит в трезвость души, великодушно объявляет брань самому себе, загорается еще сильнейшей жаждой небесного, чем всякий другой, и становится таким образом возвышеннее даже того, кто всю жизнь провел в честности».
Впрочем, как Гоголь о себе, так и Языков мог бы сказать, что у него не было «нового направления» в жизни, что он не менялся в основе своей, что даже в «хмельной» своей молодости он не утрачивал «трезвости души» (что видно и по его стихам), но с годами только усилилась жажда ее. Вряд ли, однако, такое признание встретило бы понимание Аксакова, боявшегося как чумы всякого «фанатического» влияния на Гоголя, повреждающего в нем художника: и так уж ходили слухи, что совместная жизнь за границей с Языковым вредно повлияла на Гоголя, в смысле упомянутой «фанатичности» (как будто какой-либо литератор мог свернуть Гоголя с его собственной дороги).
Языков, несколько оживившийся от разговора с Аксаковыми, взял лежавший на овальном столике пакет, достал из него листы и протянул их сидевшему напротив Константину Сергеевичу: «Здесь в конце есть и про вас». Нужное место тотчас же было найдено: «Узнай также от Константина Сергеевича, получил ли Сергей Тимофеевич от меня письмо с некоторым поученьем сыновьям его, в том числе и ему, то есть Константину Сергеевичу». Сергей Тимофеевич получил это письмо и хорошо помнил о тех поучениях, которые преподнес из Франкфурта его сыновьям Николай Васильевич. Он призывал их прежде всего
Константин Сергеевич широко улыбался, представляя, как он пишет диссертацию о Ломоносове, обращаясь к своей маленькой сестрице Марихен. Но в письме было и еще кое-что, касавшееся Константина. В самом же начале Гоголь сообщает о полученных им стихотворениях Языкова. Стихотворение «С. П. Шевыреву», писал Гоголь, «очень сильно и станет недалеко от „К ненашим“, а может быть, и сравнится даже с ним. Но не скажу того же о двух посланиях: „К молодому человеку“ и „Старому плешаку“. О них напрасно сказал ты, что они в том же духе; в них скорее есть повторение тех же слов, а не того же духа». Константин Сергеевич, было видно, не скрывал своего удовольствия от чтения письма, в самом тоне, с каким он выговаривал гоголевские слова, слышалось его согласие с Николаем Васильевичем, одобрение сказанного им. Ведь стихотворение «К молодому человеку» имело прямое отношение к нему, Константину. Языков в своем послании восторженно славил «молодого человека», то есть Константина Аксакова, он «молодец», «мил» поэту своей возвышенной, святой любовью к Родине, тем, что твердо, мужественно стоит за нее, страстно желает ей «судьбы великой», «жизни славной». Поэт в восхищении от молодого друга, но и упрекает его: ту же руку, которую жмет с такой любовью Языков, он, Константин Аксаков, дружелюбно подает и «ненашим», тем, кто ненавидит все то, что им обоим так дорого. Желая Константину Аксакову все той же смелости, мужества и в будущем, поэт советует ему «не мирволить своим врагам». Вот об этом послании Языкова писал Гоголь, видя в нем не столько «углубление самой истины», сколько полемическое «препирательство об истине», увлечение «гневным». Самому Языкову было известно, что Константин Аксаков недоволен этим посланием. Для Константина еще не пришел час разрыва с теми, кого он считал друзьями. Пройдет еще немного времени, и сам он объявит им, искренне переживая о невозможности дальнейших отношений между ними, как об этом свидетельствовали Герцен и Грановский. Любящая натура Константина Аксакова при всей непреклонности его убеждений брала свое, и хотя Языков не услышал от него на этот раз ни одного слова осуждения за его стихотворные «проклятия» (видимо, жалел сидящего перед ним больного человека), чувствовалось и без того, что Константину чужда ненависть к «ненашим». В письме Гоголя между тем речь пошла уже о другом стихотворении Языкова, «Старому плешаку», обращенном к П. Я. Чаадаеву. «В послании твоем „К плешаку“ слышно военнолюбивое расположение, вовсе неприличное твоему мирному характеру, по существу своему настроенному к прохладам тишины, а потому я отчасти думаю, не вмешались ли сюда нервы? А потому советую тебе рассмотреть хорошенько себя: точно ли это раздражение законное и не потому ли оно случилось, что дух твой был к тому приготовлен нервическим мятежом».
Но Языков уже не слушал ни Константина Аксакова, читавшего письмо Гоголя, ни самого Гоголя, стоявшего за своими торжественными глаголами, он смотрел перед собою невидящими, расширившимися глазами, словно пораженный какой-то внезапной мыслью. «Военнолюбивое расположение, неприличное моему мирному характеру… Мне бы прохлады тишины, а я вот взялся за плешака, — заговорил он глухим, насмешливым голосом. — Нет! Не для меня теперь эти прохлады тишины! И не раздражение тут виновато… Они торжествуют. Им все прилично… все…»
Вдруг неожиданно сильный голос как бы стеганул слух Аксаковых, внимание которых было еще занято письмом Гоголя:
Вполне чужда тебе Россия,
Твоя родимая страна.
Ее предания святые —
Ты ненавидишь все сполна.
Ты их отрекся малодушно,
Ты лобызаешь туфлю пап…
Почтенных предков сын ослушный,
Всего чужого гордый раб!..
Голос Языкова окреп, но никаких не было восклицаний, не было той звонкости, с какой он обычно читал свои стихи…
Замолкший Языков сделал движение всем телом в кресле, пытаясь, видимо, подняться, но, не в силах этого сделать, только качнул головой и продолжал:
Тебя мы слушаем смиренно;
Твои преступные слова
Мы осыпаем похвалами,
Друг другу их передаем
Странноприимными устами
И небрезгливым языком!
А ты тем выше; тем ты краше;
Тебе угоден этот срам,
Тебе любезно рабство наше,
О горе нам, о горе нам!!
До этого поэтическое одушевление давало полет, казалось, злой мысли автора, а тут такая томительная патриотическая тоска, как бы надорвавшись в конце, зазвенела в стихе, такая горечь, а не ненависть, что Аксаковым стало больно за поэта. А Языков, потрясенный, обессиленный, закрыв глаза, весь ушел в свои кресла, повесив голову, опустив ее почти на грудь. Что можно было сказать ему и надо ли было что говорить? Аксаковы посидели еще немного и попрощались с хозяином.
Наедине же с самим собой у Языкова с некоторого времени и начиналось главное. Предчувствия, каких не знал он прежде, томили его. Или близок его смертный час? Вот когда
Петр Яковлевич Чаадаев уже долгие годы нес бремя отрицательной мысли и светской славы. Отрицания все того же — какого бы то ни было исторического значения России, вообще даже разумности ее существования. Ну не абсурдно ли — все европейское человечество, облагодетельствованное влиянием могучего католицизма, идет по пути истинного прогресса, а Россия, принявшая православие от Византии, бывшей в состоянии упадка и растления, оказавшаяся вне католицизма, как некая аномалия, прозябает в изолированности от просвещенного европейского мира, не участвуя в его исторической жизни, ничего не внося в него и коснея в собственном варварстве. Правда, находились люди, которые недоумевали по поводу уже самого ретроспективного «предвидения» Чаадаева, что католическою Россия была бы лучше… Жуковский с мудрой своей мягкостью отвечал на это: «Россия, изначала католическая, была бы совсем не та, какова теперь». Она «не была бы Россией». Однако подобные возражения не имели значения для Чаадаева. «Исторический опыт для нас не существует; поколения и века протекли без пользы для нас… Одинокие в мире, мы ничего не дали миру, ничему не научили его; мы не внесли ни одной идеи в массу идей человеческих, ничем не содействовали прогрессу человеческого разума, и все, что нам досталось от этого прогресса, мы исказили».
Об этом он писал еще в своем знаменитом «Философическом письме» в 1829 году, напечатанном спустя семь лет в журнале «Телескоп». Статья была написана на французском языке в форме письма к даме, и местом ее сочинения был обозначен «Некрополь», то есть город мертвых — так называл Чаадаев Москву. Но это не мешало ему в том же мертвом городе искать и находить связи, разнообразившие его одинокую холостяцкую жизнь, проводить время в салонах, в беседах и спорах. Многозначительное его молчание на раутах прерывалось вдруг каким-нибудь замечанием, остроумным и едким, и тотчас на крыльях молвы переносилось из гостиной в гостиную, вроде сказанной им шутки, что Константин Аксаков одевается так национально, что народ на московских улицах принимает его за персиянина.
«Басманским философом» Чаадаев был прозван из-за места своего жительства и, понятно, по причине своих философических наклонностей. Безвыездно жил он на Новой Басманной, одной из отдаленных улиц старой Москвы, во флигеле, который он называл по-французски павильоном. Его квартира из трех небольших комнат, с годами все более ветшавшая (шутили, что она давно уже держится не на столбах, а одним духом), была известна, как говорили поклонники Чаадаева, всей Москве. Принимал он у себя еженедельно, сперва вечером по средам, потом утром по понедельникам. Петр Яковлевич не дожидался, когда его посетят нужные ему люди, а сам предпринимал для этого потребные меры. Он считал важным для себя, чтобы посещавшие Москву или проезжавшие через нее европейские знаменитости побывали и у него: среди его почетных гостей были Мериме, Лист, Берлиоз и другие, поскромнее именем — вроде французского публициста Сиркура.
Со своими было проще, те шли к Чаадаеву не только без особого искательства с его стороны, а большей частью спешили сами. Нелегкого труда стоило затащить к себе Гоголя, который все-таки вопреки своему нехотению однажды приехал. Не обращая никакого внимания на хозяина и гостей, он уселся в углу в кресло и так просидел все время, закрывши глаза, подремывая и даже похрапывая, пока не очнулся и тут же, пробормотав что-то в извинение, уехал.
Из соотечественников был, пожалуй, единственный человек, которого Чаадаев признавал более, чем даже себя, европейцем, хотя этот европеец спорил с ним, Петром Яковлевичем, и со многим не соглашался. Это Федор Иванович Тютчев, поэт и дипломат, будущий тесть сына Сергея Тимофеевича — Ивана Аксакова (который женится на дочери Тютчева Анне Федоровне, бывшей фрейлине царского двора). Но «европеец» Тютчев, которого Петр Яковлевич ценил за ум, образованность и дарование (зная и об ответном уважении), более склонялся к критике Европы и того же католицизма и в отличие от Чаадаева отдавал предпочтение России, ее историческому призванию.
После истории с «Философическим письмом» имя Чаадаева было окружено ореолом гонимого и мученика. Московское общество вскоре же повернулось к нему с сочувствием и как бы в забвение нанесенных ему обид во сто крат вознаградило его своим вниманием и ласками. Как об историческом событии говорили о благородстве И. И. Дмитриева, старого поэта и министра юстиции в отставке, посетившего Чаадаева в первый же день его опалы.
Аксаковы также бывали гостями на Басманной. Представлял обычно эту семью, точнее отца, Константин Сергеевич. Приходил он, по обыкновению, вместе с Юрием Самариным. Здесь когда-то в кабинете Чаадаева Юрий Самарин в первый раз встретился и познакомился с Хомяковым и Киреевским. Константина Аксакова Петр Яковлевич называл «милым, умным и благородным человеком», хотя, как уже говорилось выше, не пропускал случая поиронизировать над ним, то называя его за русскую одежду «персиянином», то «одним из сподвижников возвратного направления», то метя в него иносказанием о неких поклонниках Гоголя, ставящих его в один ряд с Гомером и «выше всех иных писателей настоящего времени и прошлого», оговариваясь тут же, что «этих поклонников я знаю коротко, я их люблю и уважаю, они люди умные, хорошие». Петр Яковлевич следил за литературой, читая новинки и иногда разыскивая понравившегося ему автора. Он писал своему племяннику, что, навестив его, может найти у него «сочинение Аксакова». «На свете только и есть хорошего, что доброта!» — заканчивал он свое послание племяннику, и если это и не относилось непосредственно к «сочинению Аксакова», то уже и одно то знаменательно, что следовало это заключение сразу же после слов об этом «сочинении».
Сергей Тимофеевич и сам встречался с Чаадаевым, и часто слышал о нем рассказы — не только сына Константина, но и своих друзей. С простодушной веселостью поведал ему Михаил Николаевич Загоскин, как он, директор московских театров, показывал Чаадаеву только что выстроенный Малый театр. «Не угодно ли осмотреть?» — предложил он Чаадаеву и показывал ему, как будто какому начальству, чем очень остался доволен «басманский философ». «С какой же целью была произведена эта демонстрация?» — спросил Сергей Тимофеевич. «Я давно искал случая публично показать Чаадаеву почтительное внимание, великодушно прощая ему его слабости, снисходя к прегрешениям, все-таки видя в нем человека с не совсем дурными зачатками, в сущности, более несчастного, нежели виновного», — благодушно улыбаясь, отвечал Загоскин. Сергей Тимофеевич от души смеялся, видя как бы воочию эту воспитательную сцену с пятидесятилетним Чаадаевым и вспоминая другую сцену в одной из комедий Загоскина, где тот же Петр Яковлевич выведен весьма неблаговидно, без всякого снисхождения.
Уже после разрыва западников со славянофилами Чаадаев продолжал поддерживать отношения с теми и другими, по-прежнему приглашал их к себе. Да он, в сущности, и не принадлежал ни к тем, ни к другим. Уже после известного послания к нему Языкова (впрочем, им самим не читанного тогда), Чаадаев, выражая в письме к Ивану Киреевскому сожаление, что тот не сможет быть у него, просит Ивана Васильевича прочесть речи западных публицистов. «Не знаю почему, мне что-то очень хочется, чтобы вы это прочли. Может статься, вы спокойно заметите, что в этом явлении европейской образованности находится одностороннего, и передадите впечатление ваше без ненависти и пристрастия». Не мог не оценить Чаадаев и великодушие Хомякова, который, прочитав «Философическое письмо», приготовился было за громовое опровержение его, но, узнав об опальном положении автора, решил, что не то время для полемики — «и без него уже Чаадаеву достаточно неучтиво отвечали». Константин же Аксаков, всегда располагавший к себе Чаадаева своим благородством и чистотой, только еще более возвысился в его глазах после того, как осудил послание Языкова. Так взаимными усилиями поддерживалась еще терпимость к мнениям друг друга. А здесь, на Басманной, мир поистине тесен, кажется, все из того десятка-другого лиц, которые осознают себя направляющей умственной силой в России, сходятся здесь. Даже и те, кто не приглашался на «понедельники» Чаадаева. Михаил Бакунин на правах жильца проживал в том же флигеле, что и Чаадаев, так что Петр Яковлевич в дальнейшем будет именовать его своим «воспитанником». Бывал здесь в московские свои годы и Белинский, дававший уроки сыну Левашовых, владельцев дома.
Однажды Константин Аксаков, войдя в комнату к Чаадаеву, увидел Петра Яковлевича, который, бережно складывая пополам исписанный лист бумаги, положил его затем в маленький портфельчик, который всегда держал при себе. В комнате были все знакомые лица, только что, видимо, слушавшие чтение хозяина.
— Mon cher, — обратился к нему Чаадаев, тут же переходя (с усилием над собою, как это он делал всегда в разговоре с Константином Аксаковым) на русский язык, — мы читали известное стихотворение графини Растопчиной о Москве, которое в свое время произвело в кругу здешних литераторов некоторый соблазн и оскорбило москвитян (так Чаадаев называл журнал «Москвитянин»), куда это стихотворение когда-то было послано мною.
Константин Сергеевич помнил эту давнюю историю, так же как и знал стихотворение Растопчиной, начинавшееся словами:
О! как пуста, о! как мертва
Первопрестольная Москва.
Сам Чаадаев иронически относился к графине с ее экзальтированными выходками. Но другое дело — стихотворение графини о Москве, созвучное с его ощущением первопрестольной, как Некрополиса, поэтому Петр Яковлевич и не забывал этого стихотворения.
Чаадаев прошелся по комнате, заложив руки за спину, потом, остановившись, принял свою привычную позу, скрестив руки на груди, уставившись неподвижным взглядом перед собою. Заговорил, как бы продолжая прерванную речь:
— У нас не хотят понять, что точка отправления народов определяет их судьбы. В этом вся история Европы и России. Я убежден в неминуемом и близком торжестве католичества над прочими вероисповеданиями. Католичество лучше других христианских исповеданий постигает своим здравым практическим смыслом человеческую природу и необходимую в ней связь наружного с внутренним, вещественного с духовным, формы с существом… У меня одна мысль, это вы знаете, и если невзначай я нашел бы в своем мозгу другие мысли, то они были бы связаны с той же самой.
Чаадаев, вдруг остановившись, задумался (что было непривычно видеть на его обыкновенно бесстрастном лице), потом подошел к креслу, стоявшему у стены, и показал рукой на темноватый выем на стене, чуть повыше спинки кресла.
— Здесь сидел Пушкин, откинувшись головой к стене, — Чаадаев бережно дотронулся до того темноватого места, к которому прикасалась голова обычно сидевшего здесь поэта. Петр Яковлевич любил напоминать об этом гостям, и было видно, как дорога для него эта живая замета его дружеских встреч и бесед с великим поэтом. Считая себя не только старшим другом Пушкина, но и наставником его, как бы даже хранителем и оберегателем на жизненном пути, сыгравшим решающую роль в судьбе, в образовании великого поэта России, Чаадаев воздал должное Пушкину в своей «Апологии сумасшедшего», написанной вскоре же после нашумевшего «Философического письма», как своего рода возражение на него. В этой «Апологии» не было уже прежнего столь беспросветно мрачного взгляда на Россию, и вчерашний критик ее, пропевший ей отходную, теперь глаголил нечто совсем иное: у него, Чаадаева, есть глубокое убеждение, что Россия призвана решить большую часть проблем социального порядка, завершить большую часть идей, возникших в старых обществах, ответить на важнейшие вопросы, какие занимают человечество. И здесь же Чаадаев готов был признаться в недооценке им исторических, духовных возможностей народа, говоря, что «преувеличением было опечалиться хотя бы на минуту за судьбу народа, из недр которого вышли могучая натура Петра Великого, всеобъемлющий ум Ломоносова и грациозный гений Пушкина».
Ну а как «грациозный гений» встретил «Философическое письмо» Чаадаева? Пушкин мог по щедрости души своей осыпать комплиментами своего старшего друга, но когда речь зашла о России, то тут уж никакой Чаадаев со своим наставничеством и попечительством не мог помешать ему. Получив от Чаадаева номер «Телескопа» с «Философическим письмом», Пушкин незадолго до своей смерти написал Чаадаеву письмо, которое осталось неотосланным. Он решительно не соглашался с чаадаевской мыслью о «нашей исторической ничтожности», видел «особое предназначение» России в тех величественных драмах и событиях, которыми полна ее история, и заканчивал письмо восклицанием: «Клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел
Все это можно было вспомнить в кабинете Чаадаева, глядя на кресло, в котором любил сидеть Пушкин, откинувшись головой к стене.
— Для меня драгоценно все, что относится до дружбы нашей с Пушкиным, — сказал Чаадаев, все еще стоя у кресла, заложив руки за спину.
Так и жил Петр Яковлевич. Аксаковы, как когда-то Хомяков, сменивший гнев на милость после возникших неприятностей у автора «Философического письма», к Чаадаеву также были снисходительны, мирволили ему, видя в его положении как бы охранную грамоту от всякой критики, следуя народному правилу, что нельзя бить лежачего. Константин Аксаков в споре с Чаадаевым не раз с досадой замечал в себе этот самому ему непонятный нравственный тормоз, и теперь он уходил не удовлетворенный самим собою, своей сдержанностью, как будто уступил в том важном, в чем нельзя никогда никому уступать.
Как колыбелью в детстве было для него его любимое село Аксаково, так теперь последней пристанью его, старика, каковым он себя считал, стало сельцо Абрамцево, что в пятидесяти верстах от Москвы. 1843 год — год покупки усадьбы — остался навсегда памятным для семьи. Сергей Тимофеевич даже сочинил тогда два стихотворения по этому случаю, одно жалобное — насчет того, как трудно найти подходящую подмосковную; все чего-то не хватает: есть лес — нет воды, есть вода — садик захудалый и дом никудышный и прочее. Другое стихотворение бодрое, радостное: «Вот наконец за все терпенье судьба вознаградила нас: мы наконец нашли именье по вкусу нашему, как раз». И далее расписывается, как «прекрасно местоположенье» усадьбы, все там есть — и парк, и пруд, родник с ключевой водою, река, роща, прелестная деревенька, и «не бедно там живут крестьяне».
Действительно, с балкона длинного деревянного дома открывались чудесные картины и дали: спускавшийся к реке Воре парк, за рекой начинался лес, рассеченный прямой аллеей, сквозь которую виднелись дома, церкви Хотьковского женского монастыря, где покоится прах Кирилла и Марии, родителей Сергия Радонежского. А в десяти верстах отсюда, за Хотьковом, раскинулся Сергиев посад с Троице-Сергиевой лаврой, откуда в праздничные дни, в тихие вечерние часы доносился звон колоколов. Рядом, под горою, текла быстрая Воря, с обильно водившимися в ней язями, плотвой, окунями, щуками, налимами, головлями да в придачу раками; рядом и лес, где довольно имелось всяких грибов — истинное раздолье для рыбака и грибника, без чего Сергей Тимофеевич и жизнь свою не представлял.
Достоин благодарности всей семьи Григорий, взявший на себя хлопоты по сысканью подмосковной и так удачно завершивший дело. Да и кому бы еще, кроме него, удалось это сделать? Иван, только что окончивший курс в училище правоведения, занят был службой сначала в Москве, потом в Астрахани, Калуге. Константин все возился со своей диссертацией о Ломоносове, да и какой из него покупщик, не тем занята его голова. С дочерей спрос невелик, а сам Сергей Тимофеевич как-то неожиданно для себя стал прихварывать, уже нет прежних сил и непоседства. Вот и пала вся забота на Григория, недавно перешедшего из военной службы в статскую и имевшего время заняться подысканием усадьбы. Скромный, некрасноречивый Григорий как бы добровольно поставил себя на самое незаметное место в семье, держался в тени братьев, отдавая первенство не только Константину, перед познаниями которого благоговел, но и Ивану, бывшему на три года моложе его, но уже державшемуся с солидностью некоего самостоятельного мыслителя. Оба они — и Григорий, и Иван — правоведы, но Григорий более «законник», кажется, что для него ничего не существует в литературе, кроме «Codex».
В семье-то знали, как умен Григорий, как на него можно положиться в серьезном деле, и сам он, исполнив свою обязанность перед отесенькой (так, и став взрослыми, продолжали дети звать Сергея Тимофеевича), маменькой, братьями и сестрами, поселив их в прекрасном загородном доме, мог уже со спокойной душой заниматься своими делами[9].
Река Воря манила к себе рыболова, снова, как когда-то, страстно привязавшегося к ужению, испытавшего давно позабытые наслаждения и от клева, и от самого погружения в целебный мир природы. Но текла ежедневно, в буднях, заботах и другая река — самой жизни, где не было даже временной безмятежности, а страсти уже не скользили по душе, а глубоко проникали в нее. Дома — не так уже все благополучно и мирно, как могло показаться со стороны. Иногда мрачным кажется будущее оттого, что не за себя боишься, а за многих. Тяжело видеть несчастную страдалицу — дочь Оленьку, «расстроенную нервами» до крайней степени. Она так ослабла, что из дома перенесли ее на руках, а потом положили в карету, на которой и тронулись в подмосковную. Была большая надежда на деревенский воздух, природу, но пока мало утешительного. Всего довольно в семье, и трудно сказать, чего больше — радостного или горького.
Время разводило с приятелями, с теми, кто когда-то так дружественно встретил его в Москве. И виновником этого был Гоголь. Приятели Аксакова не разделяли восторга преклонения перед Гоголем и тем самым уже отдаляли себя от Сергея Тимофеевича. Добрейший Михаил Николаевич Загоскин делался чуть ли не калибаном в глазах Аксакова, когда говорил что-либо против Гоголя. Об этом прямо и писал Сергей Тимофеевич Николаю Васильевичу: «Загоскин в театре не был, но неистовствует против „Женитьбы“, и особенно взбесился за эпиграф к „Ревизору“. С пеной у рта кричит: „Да где же у меня рожа крива?“ Это не выдумка». Говорится это о человеке, кого сам Аксаков любил и как друга, и как литератора, считая его более других достойным названия «народного писателя».
Более всего давал Аксакову почву для такого возвышения Загоскина его исторический роман «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году», вышедший в 1829 году и встреченный невиданными похвалами и всеобщим восхищением. В ту отдаленную уже пору только и было разговоров в обществе, что об этом произведении. Все знаменитые писатели того времени горячо приветствовали его. Жуковский прочитал роман ночью в один присест. Пушкин в письме к Загоскину назвал его «Юрия Милославского» «одним из лучших романов нынешней эпохи» и написал одобрительную, полную сочувствия заметку о нем, в конце которой упомянул о погрешностях, замеченных в романе автором «Московского вестника». Этим автором был Аксаков, написавший рецензию о «Юрии Милославском», в которой он оценил сочинение друга как «первый исторический роман с народною физиономиею», но при этом высказал и множество частных замечаний о всякого рода языковых и прочих погрешностях.
Все сословия начали читать роман Загоскина, имя сочинителя развозилось по всем углам необъятной России вместе с огромным числом табакерок и набивных платков, на которых изображались разные сцены из «Юрия Милославского». И даже за пределами России вскоре стал известен этот роман, переведенный на многие иностранные языки. Много писем с лестными отзывами получал автор от европейских литературных знаменитостей.
Роман покорил соотечественников больше всего, конечно, своим национальным, русским одушевлением и чувством патриотизма, а кого-то и особыми в их глазах достоинствами. Процветала в то время мода на романы Вальтера Скотта, имя знаменитого шотландца звучало магически. И что могло быть лестнее для любого русского автора, чем сравнение его с шотландским бардом? Даже Пушкину давали совет переделать «Бориса Годунова» на образец исторических романов Вальтера Скотта. В России явилась уже своя великая литература, а все не переставали награждать будто орденами: «русский Вальтер Скотт», «русский Байрон», «русский Жорж Занд», чуть ли не «русский Гейне». Да и сами русские художники были до щедрости великодушны в признании литературных гениев других народов[10].
Для кого-то, возможно, и было национальной честью то, что в лице Загоскина появился наконец «русский Вальтер Скотт», но С. Т. Аксаков, отмечая бесцветность одного из героев «Юрия Милославского», считал, что «многие герои романов Вальтера Скотта ничем его не лучше». И Сергей Тимофеевич был прав. В самом деле, стоит прочитать хотя бы «Айвенго», чтобы увидеть, что «Юрий Милославский» если не лучше, то и ничем не хуже прославленного романа, оба «одинаки» по своему не столько художественному, сколько беллетристическому характеру повествования. Разве лишь нет у Загоскина средневекового замка с роскошными пирами в нем, эффектным сражением за него, нет показного блеска рыцарских турниров. Да, «Юрий Милославский» был подсказан историческими романами Вальтера Скотта, но как раз слабее всего и было у Загоскина то, где он следовал знаменитому шотландцу, хотя бы в описании вымышленного главного героя, невыразительного уже по одной своей романтической условности. Куда живее, интереснее запорожец Кирша, со своими веселыми замашками и повсеместной находчивостью, умеющий быть благодарным за сделанное ему добро. Известно, как много значит в достоинствах книги личность самого автора: не последнюю роль в успехе романов того же Вальтера Скотта сыграли его привлекательные нравственные качества.
И у Загоскина было свое обаяние — та бьющая через край доброта, которая преобладала в нем над всеми другими качествами, по словам Сергея Тимофеевича. И все лучшее, живое в «Юрии Милославском», как и в других его романах, окрашено симпатичными свойствами его собственного характера: ясностью взгляда, простотою, добродушной веселостью и при всем этом непоколебимостью духовно-нравственных оснований, унаследованных от отцов и дедов. Поэтому-то все знавшие хорошо Загоскина видели в его книгах как бы еще и его самого. Не раз обращавшийся к «Юрию Милославскому» Аксаков многое в нем заметил, вплоть до мелочей, но не сказал ничего о метели, довольно впечатляюще описанной Загоскиным. Интересно, помнил ли Аксаков это описание, когда пять лет спустя он писал свой «Буран»?
Сразу же после «Юрия Милославского» Загоскин принялся за другой исторический роман — «Рославлев, или Русские в 1812 году». Но задача оказалась потруднее, чем думал окрыленный успехом своего первого детища автор, хотя, казалось бы, писателю изображенная эпоха была и ближе и лучше известна (ведь он и сам принимал участие в сражении), чем события более двухсотлетней давности в «Юрии Милославском». Причину неудачи нового романа Сергей Тимофеевич объяснил тем, что «слишком мало прошло еще времени — всего восемнадцать лет! — как отошло то величайшее событие и «глаз еще не мог оглянуть его». Сама любовная история, ставшая ведущей интригой повествования (главный герой молодой русский офицер Рославлев помолвлен с Полиной, но она полюбила француза и венчается с ним в самый день Бородинского сражения), невероятные приключения как с Рославлевым, так и с Полиной, встречающимися наконец в осажденном Данциге, — вся эта занимательность мало отвечала духу и характеру двенадцатого года. Русские события явно не лезли в вальтер-скоттовскую сюжетную схему; как покажет вскоре время, в русской литературе родится своя форма романа, вернее, свой художественный способ выражения действительности (будь она исторической или современной), самобытный, неповторимый у каждого великого русского художника, как неповторимо изображена каждым из них жизнь. Еще не пришло время, чтобы оглядеть величайшую эпоху во всем ее объеме, еще не пришел гениальный художник, которому будет под силу взваливать на себя громаду событий, ввести их в художественное русло и дать им жизнь, одним словом, не явился еще автор «Войны и мира».
Загоскин как мог старался усердно исполнить, говоря словами Аксакова, «мысль необдуманно смелую» — написать картину двенадцатого года, ориентируясь не столько на историческую подлинность (хотя бытовой подлинности немало в романе), сколько на патриотические идеи, пылкость чувств к России, обличение «обезьянского» подражания французам, восхищение благородством русских офицеров, с их великодушием к пленным, к побежденному врагу, наконец, на горький урок Полины, любовь которой к врагу ее отечества не приносит счастья. Загоскин, сердце которого, по его словам, «не терпело немоты», не накладывал запрета на уста свои и своих героев, когда надо было излиться в священных для него чувствах, так что даже побаивался непонимания читателей, обращаясь к ним на этот счет в предисловии с просьбой (может быть, несколько иронической) «не смеяться над моим патриотизмом, если между моих русских найдется много умных, любезных и даже истинно просвещенных людей». Но такая просьба все же не уберегала Загоскина от насмешек по поводу его «квасного патриотизма», хотя преобладало среди читателей сочувствие к автору.
Аксаков, как уже было сказано, строго отнесся к роману «Рославлев, или Русские в 1812 году», но, помня его собственные слова о «второстепенных писателях», которые приготовляют материал, поприще для писателей великих, мы и в этом романе Загоскина можем увидеть подготовительную работу к последующей картине двенадцатого года в русской литературе. Читая этот первый у нас роман о двенадцатом годе, невольно ищешь в нем то, что могло обратить на себя внимание автора «Войны и мира», и кажется даже, что находишь в нем зачатки того, что нам так памятно в романе Толстого: салонное пустословие русской светской публики с французской речью; «варварство» в глазах французов русских партизан; ирония в отношении Наполеона; полемические отступления, обращенные против его «обожателей». У Загоскина французский пленный офицер, удивленный великодушием казака, восклицает: «О, этот русский достоин быть французом». А в «Войне и мире» от французского офицера «высшее в свете наименование» француза получает Пьер Безухов. Совпадение, вернее всего, случайное, но оно говорит о том, что Загоскин мог и зорко видеть, и метко сказать. Вспоминаются невольно толстовские солдаты, когда читаешь у Загоскина, например, разговор русского офицера с дежурным по роте, который докладывает, сколько «поднято» убитых и сколько ранено, не показывая виду, что у него самого вся кисть раздроблена («больно мозжит»), и только по приказу командира идет к лекарю. Или рассказы по взаимной договоренности офицеров, «народа обстрелянного», о том, как и в каких обстоятельствах каждый из них испытал страх.
Но ни «Рославлев», ни последующие исторические романы не повторили успеха «Юрия Милославского», что явно огорчало Михаила Николаевича, но не удивляло его друга Сергея Тимофеевича, который трезвее видел, как за последние годы «требования публики изменились». Литература в жизни Загоскина шла рука об руку с его службой, которой он занимался с горячим усердием и пониманием дела. Оставив место директора императорских московских театров, вступил в должность директора Московской Оружейной палаты, каковым оставался до самой своей кончины. Будучи произведен в действительные статские советники, Михаил Николаевич возвысился чином над всеми своими московскими приятелями. Но гражданское это генеральство нисколько не остепенило Загоскина, всегда и везде он оставался самим собою, не стесняя своей простоты и добродушной веселости даже и в камергерском мундире. Цельность его натуры была, можно сказать, счастливая, легкая, бытовая. Но и крепким орешком была эта цельность при всей его мягкости. Если чего не принимает душа — того уже не навяжешь, как бы ни хвалили другие, какими бы важными, учеными словами ни именовали. Соберутся русские люди (Михаил Николаевич называл их под горячку «европейцами», «медью звенящей»), и пошло: Гегель, феноменология духа, трансцендентализм, интеллигибельный принцип, три царства абсолютного духа, примиренное возвращение из своего инобытии к самому себе. Сидит, слушает эту премудрость Загоскин, да и вырвется у него: «Эх, что это и за жизнь с такими понятиями!» Вот и решай каждый, как к этому отнестись: с возмущением ли, со снисходительной улыбкой; с презрением. Впрочем, бывало и так, что носившиеся в гегелевских интеллектуальных воспарениях умствователи, услышав с толком сказанное здравое загоскинское слово, как бы внезапно падали со своих воображаемых высот, увидя вдруг себя не в таком уж величественном положении. А Михаил Николаевич доволен, готов принять их, опустившихся с чужих заоблачных высот, в свои земные объятия.
Да и Сергей Тимофеевич был далек от всякого философствования, если и видел в чем «застой» у своего друга, то в непонимании Гоголя. Вот уж где «застой», и конца не видно! Совсем возмутило Сергея Тимофеевича, когда Загоскин, издавший до этого две книжки «Москва и москвичи» с интересным описанием Белокаменной, ее зданий, заведений, образа жизни, нравов ее обитателей, вдруг принялся за описание провинции (для третьего выпуска «Москвы и москвичей»). И это не выезжая тридцать лет из Москвы, сидя в своем Денежном переулке. И с какой же целью? Желая уничтожить Гоголя, писавшего, видите ли, карикатуру на нашу провинцию, он, Загоскин, хочет сказать положительную правду о ее нравах. Неимоверная дерзость. Сергей Тимофеевич был оскорблен. Так время сближало, разделяло их, но в общем-то оставляло прежними, несмотря на литературные расхождения, их дружественные отношения.
Гораздо дальше унесло течением времени от Аксакова другого его давнего друга — Шаховского. В последний раз виделся он с Шаховским незадолго до его смерти, наступившей в 1846 году. Хотя еще с молодости старообразный лицом, Александр Александрович, казалось, и не изменился, но это уже был не тот, не прежний Шаховской. Они до этого давно не виделись, но Шаховской против обыкновения уже не шлепнул себя по лысине при неожиданной встрече, не впился в него разговором, равнодушно смотрел он своими маленькими глазами, и напрасно Сергей Тимофеевич хотел найти в них глаза прежнего друга, когда тот, бывало, думал о каком-нибудь герое своей пьесы или же в споре старался придать своему лицу, как он наивно думал, насмешливое, язвительное выражение. Но разговорились по старой памяти, и Шаховской оживился.
— Скажи ты мне, Селгей Тимофеевич, твой секлет, как ты нашел велу в совлеменную лителатулу? — как обычно, не выговаривая «р», коверкая слова, вдруг заторопился Шаховской. — А я, блат, велить не могу. Все в плошлом: Клылов, Глибоедов, Пушкин. А театл? Помнишь спектакль для солдат в Большом театле? Тепель уж без плосвета наступило для меня это молчание.
Сергей Тимофеевич прекрасно помнил этот, двадцатилетней давности, бесплатный спектакль для солдат. Необычное зрелище являл собою зрительный зал: ни одного фрака, ложи всех ярусов наполнены гвардейскими солдатами разных полков. Они сидели неподвижно, в разноцветных мундирах, как раскрашенные восковые фигуры. Стояла совершенная тишина, удивительная при таком множестве народа. С приездом государя началось представление, показывали как раз забавную комедию и водевиль Шаховского. На сцене все находилось в движении, в кипении, звучали страстные речи, наддавали комического жару Щепкин и другие актеры и актрисы, государь часто смеялся в своей ложе, как было видно сидевшему в середине самого оркестра Аксакову, — а в театре царствовали полнейшая тишина и неподвижность, ни малейшего знака одобрения, участия. Спектакль кончился при такой же тишине, как и начался. Государь уехал, вставшие со своих мест в ложах необычные зрители начали без всякой торопливости, в полном порядке медленно выходить. Аксакову, отправившемуся на дрожках в свою Таганку, интересно было знать: что же говорят солдаты о спектакле? Обгоняя по дороге шедшие в казармы колонны солдат, он жадно вслушивался в их веселый говор, ожидая услышать обсуждение спектакля, но, судя по долетавшим до него словам, солдаты говорили о чем-то своем, словно и не были в театре. Странное это событие долго вспоминалось Аксакову, навело его на многие размышления, и не только театральные — во время спектакля в большой царской ложе находились иностранные послы, которым, видимо, задала задачу своим молчанием русская публика в солдатских мундирах.
И вот теперь Шаховской напомнил о том удивительном, незабываемом спектакле, открыв вдруг в этом молчании для Аксакова еще новый, щемящий смысл. Сергей Тимофеевич знал, как горько далась его другу отрешенность от театра: ведь вот уже десять лет он не у дел. Как когда-то пьеса его была играна при странной тишине, так всеобщее уже теперь молчание, равнодушие легли на все его драматическое искусство. С этим он не хотел мириться, считая повинным время, современную действительность, от которой он отворачивался как от дурного спектакля. В новой литературе не видел он никаких надежд, живя прошлым. Да что литература?! Самый путь России наводил Шаховского на мрачные мысли, и выход виделся ему в «русском самобыте», в отказе от чужеземных образцов, от гордыни философии, не в ней спасение, а в вере.
Мало кому так и довелось понять, что за человек Шаховской. Вот на лбу его до сих пор коричневое пятно, отчего? Тогда еще, двадцать лет назад, Аксаков узнал, даже сам случайно увидел, что Шаховской подолгу, часами, особенно по ночам, молится, стукается лбом об пол. Этому многие тогда не верили, зная склонность Шаховского как сына XVIII века к веселому кощунству.
Встреча, как выяснилось вскоре, стала прощальной. Уход Шаховского оставил чувство тихое и примиряющее.
Самому же Сергею Тимофеевичу в последнее время недоставало такого примирения с собою. Наступило испытание, которое ему было невыносимо трудно, почти невозможно переносить. Человек всю жизнь, с малых лет, радовался свету, во все глаза смотрел на природу, на все чудесное, захватывающее в ней, вглядывался в крылышки бабочки, открывая для себя невообразимую красоту в узорах и цветных переливах, с замирающим сердцем подкрадывался с ружьем к дичи, дрожал от одного внезапного погружения поплавка в воду… На его глазах выросли дети, все в них знакомо ему до мельчайших черт, движений… И вот всему приходит конец, глаза начинают замутняться, мир меркнет, любимые лица расплываются в пятна. И это ужасное время наступило для Сергея Тимофеевича в 1845 году, когда ему шел пятьдесят четвертый год. Началось с помрачения левого глаза, потом стало худо и с правым. Лечение не помогало, не принес облегчения и следующий год.
«Глаза мои пришли также в весьма дурное положение, — писал Аксаков Погодину в марте 1846 года, — не только потому, что левым глазом я не вижу и солнца, а правым на все гляжу сквозь сетку пятен… и клочьев, — но потому что глаза мои, особенно слепой, находятся в воспалительном состоянии». И далее он писал, что лечение сильным средством, «от которого вечер, ночь и утро я потел, а днем сильно знобило, — не оказало ни малейшей пользы, а сделало меня способным к простуде». В конце 1846 года тому же Погодину Аксаков сообщил: «С некоторого времени я нахожусь почти в одном и том же положении: я избавился покуда благодаря Бога от прежних жестоких страданий и укрепился несколько духом и телом, но головные и глазные боли иногда по утрам довольно жестокие меня не оставляют ни на один час». Теперь уже Сергей Тимофеевич не мог собственноручно писать, а стал диктовать, большая часть дня проходила для него в слушании чтения, так легче забывалось несчастье. В уединении справляться с этим было труднее.
Вот когда наступало время вспомнить, как это бывает с нами в страдании, сродное ему в жизни, всех тех людей, которые оказывались в таком же, как он теперь, положении. Вспоминался слепой поэт Николай Петрович Николев, с которым он познакомился в 1812 году. Привел Сергея Тимофеевича тогда к нему стихотворец Шатров, заранее предупредив, что Николев желает казаться зрячим и не любит, если кто принимает его за слепца. Он так и встретил гостей, подчеркнуто свободно идя к ним навстречу и протягивая руку и также ловко воротясь к своим креслам. Глаза его были совершенно ясны, так что, не зная, что он слеп, можно было принять его за зрячего. Николев одет был парадно, но неопрятно; во всех его движениях, в самом любезно-снисходительном тоне было сознание своего величия, подогреваемое бесцеремонными похвалами Шатрова. Кончилось тем, что бессмертный Николев (как назвал его в глаза Шатров, прося что-нибудь прочитать) начал декламировать сцену из своей трагедии, после чего с тем же видом зрячего воротился к своим креслам и внушительно уселся в них. Молодой Аксаков часто бывал потом у Николева, привык к странностям хозяина, сам даже помогал ему в исполнении зрячей роли, ловко, как вожак, приходя ему на помощь в затруднительном положении, и уже не дивился разыгрываемой слепцом печальной комедии.
Приходил на память Сергею Тимофеевичу и еще один слепой, вернее, полуслепой, с одним глазом, Гнедич (перенесший ребенком черную оспу и чуть совсем не ослепший). Над ним тоже подсмеивался один из знакомых молодого Аксакова — актер Шушерин, который, ведя его к Гнедичу, предупреждал, что «Гнедич будет читать с таким жаром и с такими жестами, что опасно сидеть близко к нему, особенно с кривого глаза». Гнедич читал действительно с необычайным пылом и с такими неистовыми движениями, что задел за подсвечник, который едва не угодил в голову Шушерина. Но в славных стихах Гнедича, в самом его чтении было столько силы и выразительности, что забывались смешные выходки декламатора. Тогда молодой, страстный Аксаков и не задумывался над положением полуслепого Гнедича, а у того был и свой мрак, и свой свет. Наедине, без слушателей беседовал он не с одним только Гомером, но и с другими поэтами-слепцами: легендарным Оссианом, Мильтоном, и было ему чем поделиться с ними, было что внести в их поэтические образы из своих личных переживаний. Тогда и открывается скрытый свет в других, когда к самому приходит внутреннее прозрение.
Терявшему зрение Сергею Тимофеевичу являлось то в жизни, чего он прежде не замечал. Как ни приходилось ему иногда до отчаяния тяжело, находился, однако, «примиритель», им был его литературный труд. Еще в 1840 году начал он писать «Семейную хронику», и вот спустя шесть лет, в 1846 году, первый отрывок из нее появился в «Московском литературном и ученом сборнике». Но «Семейная хроника» была отложена, книга о рыбной ловле целиком увлекла его, тем более что если и оставалось что еще доступным для него из прежних страстных занятий, то не ружейная охота, а удочка — мог добраться по еле видимой правым глазом дороге до берега Вори и терпеливо ждать, как электрически отзовется на клев удилище в руках.
Сколько всего теснилось в памяти при одном слове «ужение»; и теперь оно еще сильно, магически действовало на душу, а что говорить о прошлом, о детстве, когда удочка сводила его с ума. Сколько было всяких историй, переживаний, радостей, огорчений, и узнал ли бы он без ужения, сколько жизни в природе? Он решил написать книгу для освежения своих воспоминаний, для собственного удовольствия, но и, конечно, для истинных рыбаков. Как ни снисходительно, даже ни презрительно ходячее мнение об ужении, как о забаве лентяев и чуть ли не слабоумных, не переводятся все же любители удочки, и среди них самые разные люди, от простолюдина до какого-нибудь знаменитого человека. Его книга может быть приятна для каждого, кто разделяет его привязанность к рыбной ловле, а кроме того, всякая опытность в любом деле может быть полезна для других, увлеченных этим же делом. Охотники, по его мнению, — с ружьем ли, удочкой ли — должны понимать друг друга, ибо охота, сближая их с природою, должна сближать и между собою. Сколько ему известно, на русском языке нет еще книг об ужении, написанных знающим свое дело рыболовом, в то время как обилие таких книг имеется на французском и английском языках. Все это и побудило его взяться за книгу. Но это будет не трактат об ужении, не натуральная история рыб. Это ни больше ни меньше как простые записки страстного охотника, первый опыт на русском языке, который далек от претензии на полное обследование предмета.
С такими мыслями приступил Сергей Тимофеевич к составлению своей книги. По утрам он диктовал дочери Вере, вдаваясь в столь любезные ему подробности рыболовного дела, а вместе с тем погружаясь в свои воспоминания, уходя «на свои родные воды», в детские времена. В конце ноября 1845 года он писал Гоголю: «Я затеял написать книжку об уженье не только в техническом отношении, но в отношении к природе вообще: страстный рыбак у меня так же страстно любит и красоты природы; одним словом, я полюбил свою работу и надеюсь, что эта книжка не только будет приятна охотнику удить, но и всякому, чье сердце открыто впечатлениям раннего утра, позднего вечера, роскошного полдня и пр. Тут займет свою часть чудесная природа Оренбургского края, какою я зазнал ее назад тому сорок пять лет. Это занятие оживило и освежило меня».
С год продолжалась работа над книгой, и в начале 1847 года она вышла под названием «Записки об уженье». Что же это за книга? Казалось бы, все так прозаично: автор знакомит читателя с частями удочки: удилище, леса, поплавок, или наплавок, грузило, крючок, поводок; советует, как лучше устроить удочку; говорит далее о насадке, о выборе места для ужения, о прикормке, об умении удить: описывает затем рыб, как и где они живут, как размножаются, какие существуют породы рыб, которые берут на удочку, и т. д. Но, начавши читать эти вроде бы деловые записки, вы уже не можете оторваться от них, хотя вы, возможно, и никогда сами не удили, — так чарующ тот мир, в который вводит вас автор, не только как рыболов, но и как художник.
Конечно, пишет прежде всего рыболов, превосходно знающий свое дело, он точен во всем, как естествоиспытатель (недаром его наблюдения над птицами были авторитетны и для ученых-орнитологов). Он делится своим опытом по «изучению нравов рыб», разумея под этими словами «природные свойства рыб, то есть в каких водах преимущественно любят жить такие-то породы рыб, что составляет их любимую пищу, в какое время года и в какое время дня держится рыба в таких-то местах». Точны по характеристике «портреты» рыб вроде щуки: «Длинный брусковатый стан, широкие хвостовые перья для быстрых движений, вытянутый вперед рот, нисходящий от глаз в виде ткацкого челнока, огромная пасть, усеянная внизу и вверху сплошными острыми, скрестившимися зубами, из коих не вырвется никакая добыча, широкое горло, которым она проглатывает насадку толще себя самой, — все это вместе дает ей право называться царицею хищных рыб, обитающих в пресных водах обыкновенных рек и озер».
Много познавательного в этих записках, но вместе с тем сколько поэзии рождается как бы попутно, по ходу делового рассказа! Вот главка «Язь». Сначала идет нечто вроде справки об этой рыбе: «Язи около четырех фунтов попадаются всего чаще, но бывают и в девять фунтов. Самый большой язь, которого мне удалось выудить, весил около семи фунтов. Язь довольно широк, но уже не кругловат и ровнее плотицы; иногда достигает трех четвертей длины и двух вершков толщины, разумеется, в спине; хвост и нижние перья имеет красные, а верхние — сизые, глаза светло-коричневые… Настоящий клев язей — со дна; для уженья употребляются крючки большие, если велика насадка, и средние, если она мала». Но этого мало рыболову, есть что ему сказать и еще, поделиться иной радостью, и вот вместе с ним мы испытываем нечто такое, что уже несравненно больше всякого практического результата уженья: «…самое драгоценное время для уженья язей — раннее утро. Тут они берут задолго до восхождения солнца, так что, только сидя лицом к заре и то наклонясь к земле, можно различить наплавки. Только истинный охотник может вполне оценить всю прелесть этого раннего уженья… При торжественной тишине белеет восток и гонит на юго-запад ночную темноту, предметы выступают из мрака, яснеют; но камыши стоят еще неподвижны, и поверхность вод не дымится легким паром; еще долго до солнца… Вдруг начинаете вы слышать, сначала издали, бульканье подымающихся со дна пузырей: это воздух, выпускаемый через ноздри крупною рыбою… Это верный знак, что идут язи… Пузыри выскакивают ближе, вы уже их видите… Сейчас начнется клев… Язь берет верно и прямо утаскивает наплавок в воду; подсечка должна быть скорая, решительная, но не слишком крепкая и не порывистая. Язь — одна из сильных рыб и на удочке ходит очень бойко. Надобно осторожно, утомив наперед, выводить его на поверхность воды и наблюдать, чтобы круги, которые он станет давать, были не слишком широки: иначе ему будет легко, бросившись в сторону, натянуть лесу и оборвать».
Взгляд художника обогащает все, к чему ни обратится. Совет, как выбрать место для уженья, превращается в художественное описание мельницы с вертящимися колесами, дрожащим мельничным амбаром, с плотиной, обросшей кустами, дорожками, протоптанными прохожими, — всего того, что приводило, по воспоминаниям детства, душу самого Сергея Тимофеевича в тихое и сладкое волнение. В таких картинах исподволь как бы уже подготавливалось будущее повествование «Детских годов Багрова-внука».
И какой язык — не только оживляющий до образных картин специальные, технически-рыболовные предметы, но и делающий эстетическое чудо из ничего, казалось бы, — из приготовления удилища или же лесы, «извивающейся по движению воды», — столько здесь языкового «произрастания», как будто мы видим в микроскопе распускание почки. Даже немного досадно, что такое языковое чудо относится, в сущности, к мелочи, но это обычное для Аксакова языковое изобилие (не многословие).
«Записки об уженье», чего никак не ожидал их автор, были весьма сочувственно встречены читателями и критикой. Рецензент журнала «Современник» писал: «Главное достоинство таких руководств состоит в подробных сведениях относительно каждой рыбы, примененных к нашей полосе… Сравнительная лексикография поблагодарит «Записки» за указание многих народных терминов, которыми одна и та же рыба называется в разных местах России. Вообще автор человек бывалый: его «Записки» дают более, чем обещает заглавие». По словам рецензента другого журнала, читатели «были совершенно изумлены, когда, раскрыв «Записки об уженье» с полной уверенностью встретиться в них с галиматьею, сделавшейся отличительным достоянием книг о подобного рода предметах», увидели вдруг книгу «весьма умную, написанную чистым русским языком и складом», книгу, которая может быть «прочитана с удовольствием не одними охотниками удить рыбу, но и каждым образованным человеком». Успех книги объяснялся тем, что в ней «скрывалось искусство, и искусство истинное», как говорил позднее Хомяков. Гоголь, хотя и не интересовался рыбной ловлей, прочел «Записки об уженье» «от доски до доски с большим удовольствием».
Гоголь! И после его отъезда за границу в Италию Сергей Тимофеевич не расставался с ним, вернее, с его книгами[11].
Он не переставал являться в мыслях Сергею Тимофеевичу даже и в тяжелые минуты жизни. Аксаков думал о нем, стараясь представить его в чужих краях под чужими небесами. Оттуда слал Гоголь письма, вводя адресата в свои житейские заботы и оставляя его недовольным «противным» тоном наставничества. Было долгим молчание с обеих сторон. И вот когда Сергей Тимофеевич заболел, он написал Гоголю письмо, поведав о своей «страшной беде» и надеясь в глубине души получить в ответ дружеские слова утешения, живого участия. Ответ Гоголя и обескуражил и обидел Сергея Тимофеевича. «И вы больны, и я болен, — отвечал Гоголь. — Покоримся же Тому, Кто лучше знает, что нам нужно и что для нас лучше, и помолимся ему же о том, чтобы помог нам уметь ему покориться… Отнимая мудрость земную, дает он мудрость небесную; отнимая зрение чувственное, дает зренье духовное, с которым видим те вещи, перед которыми пыль все вещи земные…» Да, «много воды утекло» (как вспомнил русскую пословицу Аксаков) в продолжение последнего времени, много перемен произошло и в его жизни с тех пор, как уехал за границу Гоголь, но не было, видно, перемен больших, чем в самом Гоголе, написавшем такое бесстрастное письмо. Человеческое огорчение, «стенанье твари» уже ничто для него, судящего о земном с высот вечного. Как же надо для этого вознестись! Но, может быть, это и не перемена, а продолжение того, что уже было, что замечалось и в прежних письмах, но чему не придавалось настоящего значения? Ведь еще год с небольшим назад, в январе 1844 года, Гоголь дал ему, Аксакову, урок, которого не следовало забывать. Получив письмо от Гоголя с обещанием послать «одно средство против душевных тревог», Аксаков почему-то решил, что посылается второй том «Мертвых душ», и несказанно обрадовался. В этом он убедил не только себя, но и всех своих домашних. Заблуждение рассеял Шевырев, которому Гоголь посылал такое же «средство», поручая немедленно купить в Москве во французской лавке четыре миниатюрных экземплярчика «Подражания Христу» Фомы Кемпийского и, взяв себе один, раздать остальные Погодину, Аксакову и Языкову. Это и было то «средство против душевных тревог», за которое Сергей Тимофеевич ошибочно принял второй том «Мертвых душ». Каждый получил письмо Гоголя с «рецептом употребления самого средства»: как надо читать книжку («Читайте всякий день по одной главе, не больше, если даже глава велика» — разделите ее «надвое»; читать «всего лучше немедленно после чаю или кофию» и т. д.).
Надо сказать, что Сергей Тимофеевич, как многие друзья и просто знакомые Гоголя, относился к письмам его с неким эстетическим восхищением, видя в них, даже в их проповедническом тоне, нечто художественное. И для Сергея Тимофеевича письма Гоголя были прежде всего созданием великого художника. О двух глубочайших гоголевских письмах-исповедях к нему, где так явственна печать совершившегося в писателе духовного переворота, Аксаков говорил как о «замечательных, задушевных» письмах, окруженных «блеском поэзии», признаваясь, впрочем, что тогда они не были поняты и почувствованы, как того заслуживают. Но на этот раз, получив от Гоголя своеобразную инструкцию, как читать для душевной пользы Фому Кемпийского, — Сергей Тимофеевич не на шутку рассердился и даже почувствовал себя оскорбленным.
«Мне пятьдесят три года, — отвечал он Гоголю. — Я тогда читал Фому Кемпийского, когда вы еще не родились… И вдруг вы меня сажаете, как мальчика, за чтение Фомы Кемпийского». В этом наставничестве Аксаков увидел то «религиозное, мистическое» направление в Гоголе, которое пагубно, по его мнению, для художника. «Вы ходите по лезвию ножа. Дрожу, чтоб не пострадал художник! Чтобы творческая сила чувства не охладела от умственного напряжения отшельника». Умный и чуткий Сергей Тимофеевич тут же счел нужным оговориться: «Я лгу, говоря, что не понимаю высокой стороны такого направления. Я понимал его всегда, особенно в молодости; но оно только скользило по моей душе. Лень, слабость воли, легкомыслие, живость и непостоянство характера, разнообразные страстишки заставляли меня зажмуривать глаза и бежать прочь от ослепительного и страшного блеска, всегда лежащего в глубине духа мыслящего человека».
Но и при таком чутком понимании «направления» духовной жизни Гоголя он оставался для Аксакова преимущественно и даже только великим художником, и струны в нем задевались только художнические. Гоголю же если и были бы внятны какие-то доводы, то вовсе не эстетические, а скорее духовные — относительно хотя бы этого же Фомы Кемпийского. Книгу его Гоголь представлял своим друзьям как безусловное откровение, как своего рода руководство к действию, но любопытно было бы видеть, как отнесся бы, что говорил Гоголь в ответ на осуждение этой книги столь почитаемыми им старцами Оптиной пустыни, где он не раз бывал. Известно, что первый из знаменитых оптинских старцев прошлого века иеросхимонах Леонид называл книгу Фомы Кемпийского «душевно вредною», написанной в состоянии самообольщения, сулящей читателю общение с Богом без предварительного очищения покаянием. Подобного мнения конечно же был и преемник старца Леонида старец Макарий, с которым беседовал в Оптиной пустыни Гоголь. И другие современники Гоголя отрицательно относились к этой книге средневекового западного философа, видя в ней католическую гордыню. Так, епископ Игнатий (Бренчанинов) называет эту книгу «кокетством перед Богом». Доводы оптинских старцев могли бы поставить в затруднение Гоголя, для него духовный опыт только и мог теперь что-то существенно значить. До житейского же эстетического опыта Гоголю, погруженному в свое религиозное «направление», и дела никакого не было.
Но после Фомы Кемпийского и полученного назидания насчет внутреннего зрения Сергея Тимофеевича ожидал новый жестокий удар. В конце 1846 года дошло до него известие из Петербурга, что там печатаются знакомые ему «Выбранные места из переписки с друзьями». Тотчас же он написал письмо Плетневу, выпускавшему книгу Гоголя, с протестом и требованием не печатать ее. Плетнев ответил отказом. То, что Аксаков знал из книги, привело его в ужас. Давнишнее опасение исполняется, решил он: «Религиозная восторженность убила великого художника и даже сделает его сумасшедшим». Сергей Тимофеевич вознегодовал, когда ему, больному и ужасно страдавшему, прочли еще раз книгу Гоголя, и продиктовал к нему письмо. Диктовал он (сыну Константину) это письмо понемногу, волнуясь и увеличивая свои страдания, боясь, что оттого письмо потеряет свою цельность и энергию, но получилось оно если и не «жестоким», как думал и хотел того автор, то, во всяком случае, взволнованным и откровенным. Аксаков писал, что уже давно начало не нравиться ему «новое направление», которому предался Гоголь. Многие места из прежних гоголевских писем не могли не смущать, но «они были окружены таким блеском поэзии, такою искренностью чувства», что он не мог поверить своему внутреннему чувству, своей настороженности. Теплые, дружеские излияния сменились в письмах Гоголя наставлениями проповедника, всегда холодными, полными гордыни в рубище смирения.
С нетерпением ждал Сергей Тимофеевич ответного письма Гоголя и, получив, только еще более вознегодовал. Гоголь вежливо (Аксаков не мог поверить, что искренно, ибо был убежден бесповоротно в гордыне его, ни с чем не считающейся) благодарил за письмо, уверяя, что «все, что нужно взять из него к соображению, взято», но тут же уточнял: «Вновь повторяю вам еще раз, что вы в заблуждении, подозревая во мне какое-то новое направление. От ранней юности у меня была одна дорога, по которой иду». Впоследствии, уже после смерти Гоголя, Аксаков и сам повторит это (как признает и «неумеренность порицаний» им некоторых гоголевских статей), но тогда чувства кипели, в Гоголе-проповеднике он видел врага Гоголя-художника, готов был быть «палачом» первого ради второго, ничего иного не хотел знать и слышать, и несогласие с ним Гоголя только разжигало его. Он не выбирал выражения, говоря другу «беспощадную правду»: «ваш непростительно ошибочный взгляд»; «книга ваша вредна: она распространяет ложь ваших умствований и заблуждений», «дьявольская гордость, которую вы принимаете за христианское смирение». А в письме к сыну Ивану (служившему в то время в Калуге), сочувственно относившемуся — в отличие от отца, брата Константина и сестры Веры — к «Выбранным местам», Сергей Тимофеевич и вовсе, по страстности своей натуры, предался излишеству в излиянии негодующих чувств: «Все это с начала до конца чушь, дичь и нелепость»; «Я вижу в Гоголе добычу сатанинской гордости, а не христианского смирения»; «Я не мог без жалости слышать этот язык, пошлый, сухой, вялый и безжизненный, которым ты упиваешься»; «Хвалителей будет очень много, и Гоголь может утвердиться в своем сумасшествии»; «Нет ни одного здорового слова, везде болезнь или в развитии, или в зерне». Старик даже объявил, что в «сумасшествии» Гоголя видит «много плутовства»). Надо было иметь не только много выдержки, уважения к достоинству слова, к самому Аксакову, но и действительно находиться в особом внутреннем состоянии, чтобы так сдержанно отвечать на горячие нападки, как это делал Гоголь в своих ответах на письма Сергея Тимофеевича. Впрочем, с досадой спрашивал он своего страстного друга: «К чему вы также повторяете нелепости, которые вывели из моей книги недальнозоркие, что я отказываюсь в ней от звания писателя, переменяю призванье свое, направленье и тому подобные пустяки». И далее писал: «Книга моя есть законный и правильный ход моего образования внутреннего, нужного мне для того, чтобы стать писателем не мелким и пустым, но почувствовавшим святость и своего звания, как и всех других званий, которые все должны быть святы… Друг мой! Не будьте и вы так самоуверенны в непреложности своих заключений… Мне показалось даже, как бы в устах ваших раздались не ваши, а какие-то юношеские речи, как бы в этом месте вашего письма сказал, несколько понадеясь на себя, Константин Сергеевич, а не вы. В них отзывается такой смысл: „Твоя голова не здрава, а моя здрава; я вижу ясно вещь и потому могу судить о тебе“. Друг мой, теперь такое время, что вряд ли у кого из нас здрава как следует голова. Глядеть на меня, как на блудного сына, и ожидать моего возвращения на путь истинный может только тот, кто сам стоит уже на этом истинном пути. А это один только Бог ведает, кто из нас на каком именно месте стоит».
Примирительный, глубоко грустный, хотя иногда и с «перцем», по слову самого Гоголя, тон его писем постепенно охлаждающе действовал на Сергея Тимофеевича, умеряя его обвинительный пыл. И пусть уступчивость Гоголя была истолкована несколько произвольно в семье Аксаковых (как считала Вера Сергеевна, не без солидарности, конечно, с отесенькой, что «Гоголь опомнился и сам видит свои ошибки и признает их») — разговор в переписке постепенно входил в прежнее дружеское русло, с речью, еще не остывшей от страстей, но уже и умиротворенной в возобновленном попечительстве Сергея Тимофеевича о друге, которого он звал домой, на родину, где только и можно получить «полное выздоровление», звал непременно приезжать к ним, в подмосковную, где есть все условия и где все будет сделано для его отдохновения. Оставалось теперь надеяться и ждать, что недалеко уже то время, когда Гоголь воротится на родную почву.
И вот время, которого так ждал Сергей Тимофеевич, наконец пришло — весной 1848 года Гоголь через Одессу возвратился в Россию. Сначал он проехал в Васильевку, где прожил до осени, а в сентябре 1848 года приехал в Москву. Первым из Аксаковых, кто встретился с ним в Москве, был Константин, который, увидев его, забыл все и чуть не задушил, обнимая. Сергей Тимофеевич и Гоголь увиделись после шестилетнего перерыва, и вскоре же между ними установились прежние отношения, без всякого упоминания книги, вызвавшей такие страсти в доме Аксаковых. По-прежнему Гоголь часто бывал у них, был веселее, разговорчивее, чем прежде, читал вслух русские песни, переведенную Жуковским «Одиссею», казался здоровым и бодрым. Каждый раз при встрече, обнимая Гоголя, Сергей Тимофеевич щупал его руки, радуясь их крепости, любуясь пополневшим другом. Но это впечатление было ошибочным: не знал Сергей Тимофеевич, что в письмах этого времени Гоголь был совсем другим, жаловался на смутное «состояние души своей», на «недвижность» своих литературных занятий, на бездействие сил своих. И уж совсем не тем, кем в доме Аксаковых, был Гоголь в письмах к М. А. Константиновскому, отцу Матвею, ржевскому протоиерею, с которым переписывался еще до приезда в Россию, исповедуясь перед ним в своих «слабостях и пороках», бичуя себя за малость веры, за черствость сердца.
В семье же Аксаковых Гоголь казался даже веселым — там он мог не показывать своего уныния, «чтобы не вводить в него других», да и «Выбранные места» еще стояли между ними. Так прошли зимние месяцы, наступило лето 1849 года. Гоголь приезжал в Абрамцево. Здесь он гулял по рощам, ходил с Сергеем Тимофеевичем по грибы, хотя «смиренная охота» (как называл собирание грибов Аксаков) не увлекала Николая Васильевича. Он забавлялся тем, что, найдя гриб, подкладывал его на дорожку в расчете, что спутник потянется на него и подберет, это делалось почти на глазах опытного охотника. Однажды вечером (это было 18 августа 1849 года), усевшись на свой диван, Гоголь вдруг сказал:
— Да не прочесть ли нам главу «Мертвых душ»?
Можно было подумать, что он говорит о первом томе «Мертвых душ», так это понял и Константин Сергеевич, который встал, чтобы принести книгу сверху, из своей библиотеки. Но Гоголь удержал его за рукав и сказал:
— Нет, уж я вам прочту из второго.
И тут же вытащил из кармана большую тетрадь.
Трудно вообразить, что почувствовал Сергей Тимофеевич при этих словах. Сейчас он может услышать то, чего больше всего боялся: проповедник убил художника, второй том недостоин прежнего Гоголя! Растерянность его смутила даже и Гоголя, придвинувшегося к столу и приготовившегося читать. Первые же страницы сняли страх Сергея Тимофеевича, успокаивая его душу и постепенно наполняя ее восторгом: это был прежний Гоголь, гениальный художник, нисколько не утративший своей силы и глубины. После чтения, продолжавшегося час с четвертью, Аксаковы, отец и сын, совершенно счастливые, восторженные, наперебой обрушили на Гоголя такой шквал приветствий и похвал, что и без того усталый Гоголь в изнеможении запросил отдыха и ушел наверх, в свою комнату.
Сергей Тимофеевич обвинял себя, Фому Неверующего, за маловерие относительно творческого таланта Гоголя: оказалось же, что этот талант не только жив, он стал выше и глубже, дожить бы только до выхода книги, до полного торжества Гоголя на всем пространстве Руси.
Позднее ту же первую главу второго тома «Мертвых душ» с поправками Николай Васильевич еще раз прочел Аксаковым, несказанно радуя Сергея Тимофеевича тем, что автор воспользовался его замечаниями. Затем последовало чтение второй главы, третьей, четвертой. Каждый раз это были «именины сердца» для Аксаковых, говоря невинными словами гоголевского героя. Восхищение Константина Сергеевича было бы еще более полным, знай он сказанные Гоголем тогда же в письме к Жуковскому слова о том, что «второй том „Мертвых душ“ мог бы послужить для русских читателей некоторою ступенью к чтению Гомера».
Хотя Абрамцево и было отдохновением для Гоголя, хотя уют окружал его в этой дружной семье, но жил он, в сущности, другим, даже «Мертвые души» (которые вроде бы так объединяли его с Аксаковыми) значили для него не то же самое, что для Сергея Тимофеевича, видевшего в них только художественное произведение (тогда как Гоголь мог бы сказать о них словами из одного своего письма: «Скажите мне, зачем мне, вместо того, чтобы молиться о прощеньи всех прежних грехов моих, хочется молиться о спасеньи русской земли, о водворении в ней мира, наместо смятения, и любви, наместо ненависти к брату?»). Неотступно занятого мучительной мыслью о «Мертвых душах» Гоголя поражало то, что он в своих заметках называл «идеей города», куда попадает Чичиков, «возникшая до высокой степени пустота» существования обывателей. «Как пустота и бессильная праздность жизни сменяется мутною, ничего не говорящею смертью. Как это страшное событие совершается бессмысленно. Не трогаются. Смерть поражает нетрогающийся мир. И еще сильнее между тем должна представиться читателю мертвая бесчувственность жизни. Проходит страшная мгла жизни, и еще глубокая сокрыта в том тайна. Не ужасное ли это явление — жизнь без подпор прочной? не страшно ли великое она явленье?.. Так слепа… жизнь при бальном сиянии, при фраках, при сплетнях и визитных билетах… Весь город со всем вихрем сплетен, преобразование бездельности жизни всего человечества в массе…
Как низвести всемирность… безделья во всех родах до сходства с городским бездельем? и как городское безделье возвести до преобразования безделья мира?»
Для Гоголя было страшно знать и видеть, как жизнь людей проходит в духовной слепоте, в неведении, зачем они пришли в этот мир, что все существование их на этой земле есть пустота, которая «сменяется мутною, ничего не значащею смертью». Сам он с его христианскими принципами служить ближнему (как и с молодых лет — Отечеству) своим долгом считал помочь людям выйти из этой «мглы жизни». Но чтобы как писателю явить миру действенное слово, надо самому преобразиться нравственно. И главным творчеством для него становится «внутреннее делание» своей личности, духовное развитие ее, совершенствование, что и достигалось им и что замечалось близкими в его «нраве» и «наружности», например в воспоминаниях С. Т. Аксакова «История моего знакомства с Гоголем». За разговорами, прогулками, чтением «Мертвых душ» Гоголь мог забывать на время то, от чего изнемогала его душа и о чем Сергей Тимофеевич и не мог знать. Тем же летом 1849 года, когда Гоголь как будто благодушествовал во время своих посещений Абрамцева, он вместе с тем писал в одном из своих писем: «Вы спрашиваете меня, что буду делать с собою и куда двинусь. Сам не знаю. Передо мною одно безбрежное море. Чувствую только, что мне нужно куда-то ехать, потому что дорога была бы полезна для нерв моих, куда — не знаю». Исколесивший в дорожном экипаже огромные пространства России и Европы, Гоголь всегда надеялся на дорогу, как на душевное исцеление, пусть временное. И хотя любил дорогу и Сергей Тимофеевич (восклицавший: «Дорога удивительное дело! Ее могущество непобедимо успокоительно и целительно»), но это была иная дорога, с самого детства его — в родное гнездо, в семью, и уют, в то время как дорога Гоголя была без земного пристанища.
Да и сыновья Аксакова уже не знали, как их отец, этого бытового тепла, они дышали уже иным воздухом. Приблизительно в это же время, в конце 1848 года, двадцатипятилетний Иван, которого даже близкие люди считали человеком рассудительным и практическим, предавался дорожным размышлениям, от которых, вероятно, ему было зябко на душе: «Под корень подрублена вера в жизнь со всею ее красою, со всеми ее нравами; повеял свежий, резкий воздух, от которого замирает дух, где нет земной человеческой жизни. Надо жить, отвергая жизнь… Рушится быт повсюду; взамен тепла предложен воздух горных высот, где так страшно высоко; а так хорошо иногда бывает внизу!.. Конечно, еще далеко от этого преобразования, но уже вместилось в нас это убивающее жизнь понимание…» Сергею Тимофеевичу могло быть и понятно такое мироощущение (тем более что оно касалось его сына), но психологически ему чужд был «воздух горных высот», а хорошо именно «внизу», где «тепло» быта и природы. Это тепло было понятно Гоголю и успокоительно для него, но как временное «отдохновение», после которого его ждала своя дорога (два «состояния» видел в жизни Гоголя Аксаков: «творчество», перешедшее в «мученичество», и второе состояние — «отдохновение»). И Гоголю, и сыновьям Аксакова в большей степени, чем их отцу, было дано испытать ощущение тревоги времени, трагизма личности. Но даже Гоголь не понимал Константина и упрощал дело, когда говорил в одном из своих писем, что девственность Константина Аксакова, «воздержание во всех рассеяниях жизни и плоти устремило все силы у него к духу», и поэтому «он должен неминуемо сделаться фанатиком» Другие же душевную чистоту, телесное целомудрие Константина Сергеевича объясняли просто платоническим идеализмом, как свойством самой его натуры, как своего рода счастливым даром природы, который дался ему без всяких усилий с его стороны. У самого же Константина Сергеевича в ответ на такое объяснение вырвалось однажды признание: «Зачем так думать? Даром человеку ничто не дается, достижение чего составляет нравственный подвиг». И с большим усилием прибавил: «Я скажу, по крайней мере, о себе: нет, мне это не даром далось».
Так даже в духовно родственном кругу, в одной семье у каждого был свой внутренний путь, своя дорога.
Наступило лето 1850 года, тогда же из дома Аксаковых на долгих и выехал Гоголь на Украину вдвоем со своим другом М. А. Максимовичем (этнографом, историком, собирателем украинских народных песен, профессором ботаники Московского университета, а потом и ректором Киевского университета). С Максимовичем был в дружеских отношениях и Сергей Тимофеевич.
Но и после своего отъезда Гоголь как будто продолжал бывать в доме Аксаковых, беседовать с Сергеем Тимофеевичем, понуждая его на писание воспоминаний о своей прежней жизни, «подстрекая» на сочинение «Записок о ружейной охоте». Гоголь с «особенною любовью», по словам самого Аксакова, следил за его охотничьими записками. Для него было и развлечением, и удовольствием, и наслаждением послушать о какой-нибудь птице, так живо описанной Сергеем Тимофеевичем. После обеда Гоголь мог вдруг сказать: «А что бы куличка прочесть?» В ответ на это Константин приносил записки отца и принимался читать. Гоголя увлекала та живость, с какой Аксаков изображал птичьи повадки, «характеры». Он говорил Сергею Тимофеевичу, какие места, какие птицы в книге ему особенно нравились. По поводу описаний зоркости и проворства утки (гоголя) Николай Васильевич сказал: «Вот какой проворный мой соименник». Он даже желал, чтобы герои второго тома «Мертвых душ» были у него столь же живыми, как птицы в книге Аксакова.
И вот с отъездом Гоголя его внимание к запискам осталось для Сергея Тимофеевича поощрением к дальнейшей работе, которая приятно занимала его до конца 1851 года, когда «Записки ружейного охотника Оренбургской губернии» подошли к завершению.
Ничего подобного не знала русская литература об охоте. Издревле, с незапамятных времен охота (как, впрочем, и рыбная ловля) была широко распространена на Руси, и в народной среде, и в великокняжеской. Сцены охоты дошли до нас в старинных фресках Софийского собора (в Киеве). В «Поучении Владимира Мономаха», относящемся к концу XI века, рассказывается о тех опасных приключениях, которые пережил великий князь во время охоты. Мир животных, птиц, охота на них нашли свое живое отражение в древней русской литературе, начиная от знаменитого переводного памятника «Шестоднев» (о шести днях творения мира по Библии), с назидательным толкованием характеров животных, до «Урядника сокольничья пути» — сочинения об охоте, в составлении которого принимал участие сам царь Алексей Михайлович. И уже в XIX веке, в начале его выходят книги, ставящие перед собою практическую цель — быть пособием охотникам. В самом расположении материала («внешность» животных, птиц, их образ жизни и нравы, способы охоты и т, д.) видна относительная близость этих книг с «Записками ружейного охотника», но насколько полнее у Аксакова сведения о предмете, знание его, не говоря уже о достоинствах художественных. И как художественное произведение (а именно так воспринимается эта книга) «Записки ружейного охотника» очень своеобразны в сравнении, например, с ранее появившимися «Записками охотника» Тургенева, где охота, природа — только повод для рассказа о том или ином земледельце, помещике, о той или иной общественно-поучительной истории. Своеобразие это не только в том, что, как говорил Гоголь, «никто из русских писателей не умеет описывать природу такими сильными свежими красками, как Аксаков». Тургенев в своей рецензии писал об особом чувстве природы у Аксакова, который смотрит на нее «ясно, просто и с полным участием», «не подкладывает ей посторонних намерений и целей», и такому взору природа дает «заглянуть» в себя. Говоря о том, что Аксаков перенес в изображение птиц «законченность, округленность каждой отдельной жизни», Тургенев писал далее: «Когда я прочел, например, статью о тетереве, мне, право, показалось, что лучше тетерева жить невозможно… Если б тетерев мог рассказать о себе, он бы, я в том уверен, ни слова не прибавил к тому, что о нем поведал нам Аксаков. То же самое можно сказать о гусе, утке, вальдшнепе, — словом, обо всех птичьих породах, с которыми он нас знакомит»[12].
Собственно, сама охота в записках Аксакова способна еще пуще разжечь страсти у любителей ее, а неохотники подивятся, может быть, каким-то диковинным сторонам человеческой психологии, ее противоречиям, «тайнам». Так, Аксаков пишет: «Не знаю, как другие охотники, но я всегда встречал с восхищением прилет нырков и, в благодарность за раннее появление и радостное чувство, тогда испытанное мною, постоянно сохранял к ним некоторое уважение и стрелял их, когда попадались… Хороша благодарность и уважение, скажут не охотники, но у нас своя логика: чем более уважается птица, тем более стараются добыть ее». Таким своеобразным, «стреляющим» уважением отмечено и отношение Аксакова к тетереву, жизни которого так позавидовал Тургенев. Глава «Тетерев» читается как удивительно захватывающий маленький, в два десятка страниц, роман о роде тетеревином (по аналогии с родом человеческим), с его лесным «бытом», действительно ловко устроенным, ночлегами, нравами, изменяющимися с переменами времен года; с могучим инстинктом любви, страстно-призывным токованием, с последующей заботой курочек о потомстве; со своими драмами (писанный Аксаковым случай, как хищный зверек, ласка, впился в шею тетерева и поднялся с ним в воздух); с опасностями, подстерегающими бедных птиц со стороны существ пострашнее ласки — охотников, вооруженных всеми хитростями выслеживания и «маневров». Живые характеры, целые сцены проходят перед нами, вроде следующей: «При том, не видя человека, которого они боятся больше всех зверей, тетерева и после выстрела и падения одного из своих товарищей редко оставляют приезды, а перелетают с одной на другую. Если на присаде сидят несколько тетеревов, то охотник обыкновенно бьет нижнего, а верхние нередко сидят, смотрят на упавшего и кудахчут, как будто переговариваясь и удивляясь: отчего он свалился? Так поступают тетерева смирные, необстрелянные, а напуганные разлетаются после нескольких выстрелов и не возвращаются».
Любопытно признание писателя М. Пришвина (кстати, большого поклонника Аксакова): «Крошкой я помню себя с луком в руке, подстерегающим в кустах часами самых маленьких птиц, подкрапивников. Я их убивал, не жалея, а когда видел кем-нибудь другим раненную птицу или помятого ястребом галчонка, то непременно подбирал и отхаживал. И теперь часто размышляя об этой двойственности, я иногда думаю, что иные наши высокие чувства тоже питаются кровью». В то же время Пришвин, как и принято это считать, называет охоту типом «общения с природой».
Толстой в ответ на рассказ о количестве убитых зверей говорил: «Это не охота. Это стрельба… Привлекательность охоты — зверь хитрый, и его перехитрить. Это заставляет забывать жестокость».
И все-таки трудно читателю, не ослепленному страстью охоты, отделаться от ощущения ее жестокости, как бы ни прикрывали красивыми словами. (Вот с какими понятиями отождествляется охота в книге «Москва охотничья», М., 1997: с «любовью к природе и Родине», с некоей «наукой», как «частью национальной культуры», как с «поэзией, романтикой и сказкой» и т. д.) В памятнике древнерусской литературе XVI века «Домострое» выражено отрицательное отношение к охоте. И в новой русской литературе не все ее жаловали. В некоторых рассказах Чехова (например «Рано») охота показана как убийство на фоне тоскливого, веющего мрачной безысходностью, пейзажа. Трудно представить охотником С. Есенина с его «и зверье, как братьев наших меньших, никогда не бил по голове». Как согласовать проникновенное сочувствие автора стихотворения «Дед Мазай и зайцы» к попавшим в беду косым и азарт того же Некрасова, убивающего тех же робких зверюшек, о чем он писал другому охотнику И. С. Тургеневу: «В три мои последние поездки туда убил я поболе сотни белых и серых куропаток и глухарей, не считая зайцев». Автор статьи об Аксакове (его современник) назвал охоту «непримиримой войной» против «населения лесов, болот и рек». Не меркнут ли все эти писательские «художественные картины», воспевающие охоту, перед реальной участью ее жертв, того же зайчишки, о котором предшественник Аксакова Патфайндер в своих «Егерских записках» писал: «Хищные звери преследуют его днем и ночью, даже малютки горностаи и ласочки нередко нападают на него сонного и, впившись ему в затылок, заставляют его бежать, пока дух вон, а горностай или ласочка, напившись его крови, удаляются прочь. Самый ужасный для него враг — это человек, который ловит его в тенеты, в капканы, в петли, травит собаками, ястребами, стреляет весной на манку, летом — из-под легавой собаки, осенью подозревает и, наконец, сходит зимой по пороше… чтобы скрыть свое логово от зверей и людей, он так свои следы запутывает, что трудно его найти».
Да, охота далека от милосердия, от того обращения со зверьем и птицами, о котором рассказывают нам древние предания, напоминая об идеальной любви ко всему живому. Франциск Ассизский, встретив однажды на дороге множество птиц, почувствовал к неразумной твари сострадание и обратился к ним с проповедью: «Сестрицы мои, птички, вам следует громко восхвалять Творца вашего и любить Того, Кто одел вас перьями, дал крылья для полета и снабдил всем, что вам нужно». Птицы, по словам биографа, слушали с большим вниманием, и только когда Франциск благословил их, они улетели. Сергей Тимофеевич охотно и смиренно признался бы в своей неспособности на такое проповедничество и сострадание: что же делать — охотник!
И все же нельзя не верить искренности Сергея Тимофеевича, когда он с осуждением говорит об «истребительной охоте», признается, что не раз, зачарованный какой-нибудь птицей, не мог спустить курка: «Несмотря на увлечение, с которым я всегда предавался разного рода охотам, склонность к наблюдению нравов птиц, зверей и рыб никогда меня не оставляла и даже принуждала иногда, для удовлетворения любопытства, жертвовать добычею, что для горячего охотника не шутка».
Существует предание, что когда-то, в начале мира, человеку дана была такая удивительная способность к познанию всего живого на земле, к познанию всего сущего, так велики были возможности его разума, памяти, наблюдательности, что он, собственно, не знал предела в этом, дал названия многим тысячам видов животных, птиц, рыб. Со временем же в человеке оскудела эта связь с живым миром, померкла сама наблюдательность и память, закрылось перед ним животворное богатство природы. И вот, читая «Записки ружейного охотника», невольно думаешь о том, что в авторе их как бы возродилась эта первоначальная сила и свежесть в разумении природы, способность с необычайной зоркостью созерцать тварную жизнь во всем ее разнообразии и неисчислимых подробностях, обнимать их разумом как цельное бытие.
По успеху у читателей вторая книга Аксакова даже превзойдет первую, вызовет единодушное восхищение и признание как любителей охоты, так и людей, далеких от нее; как литераторов, так и ученых-естествоиспытателей. Притекут вести об этом не только из обеих столиц, но и из других городов страны. Юрий Самарин сообщит из Киева, какой эффект произвела там эта книга, как один тамошний профессор «отбил» ее у другого профессора, а о себе Самарин скажет: «Я сам читаю ее понемногу, по одной главе всякий день — после обеда, с таким удовольствием, которого я вам передать не могу». И в ответ на одну охотничью просьбу Сергея Тимофеевича Самарин напишет: «Вы в тысячу раз больше моего видели и высмотрели, и едва ли мне удастся чем-нибудь дополнить ваши наблюдения, но желание ваше я буду иметь в виду… Кстати, не припомню, описаны ли у вас подробно воздушные маневры гусей и уток, которые совершаются с таким чудным согласием? Знаете ли, что вам непременно нужно прибавить главу о волке и другую о лисице. Это — богатая тема». Юрий Самарин обычно в письмах своих сообщал Сергею Тимофеевичу о своих охотничьих событиях: где и как он охотился, сколько срезал пар уток, как «подхватил в лет» стрепетов и т. д. Однажды (это было в октябре 1849 года) он прислал Сергею Тимофеевичу реляцию, как он в Симбирской губернии охотился на зайцев вместе с Григорием Сергеевичем Аксаковым, служившим там губернским прокурором: «А вот с трудом передвигается прокурор Григорий Сергеевич — человек хороший, око правосудия, но охотник средней руки. Убранство на нем заемное, и потому не вполне приспособленное: ружье взято у меня, шубейка у барона, шапка у стряпчего, сапоги у непременного заседателя приказа. Ничего! Со временем все заведем свое». Писал Самарин старику Аксакову об охоте, чтобы «освежить воспоминания о… прежних подвигах», но почти слепой писатель, диктуя свои «Записки», увлекался этими подвигами гораздо больше любого зрячего охотника — такова была сила вынесенных им в молодости впечатлений.
«Записки ружейного охотника» выйдут в марте 1852 года, на другой месяц после смерти Гоголя, который так поощрял их своим вниманием, писал их автору: «Продолжаете ли записки? Смотрите, чтобы нам, как увидимся, было не стыдно друг перед другом и было бы что прочесть». Письмо это, посланное Гоголем Аксакову в ноябре 1850 года из Одессы, возвращает нас к последним временам жизни Гоголя, подводит к завершению тридцатилетнюю историю его знакомства и дружбы с Сергеем Тимофеевичем.
Первый биограф Гоголя П. Кулиш в своей книге «Записки о жизни Николая Васильевича Гоголя» пишет: «Особенно привлекал его к себе дом Аксаковых, где он слушал и сам певал народные песни… Песня русская вообще увлекала его сердце непобедимою силою, как живой голос всего огромного населения его Отечества. Это нам хорошо известно из его собственных признаний. «Я до сих пор, — писал он, — не могу выносить тех заунывных, раздирающих звуков нашей песни, которая стремится по всем беспредельным русским пространствам. Звуки эти вьются около моего сердца» («Выбранные места из переписки с друзьями»). Но к малороссийской песне он сохранил чувство, подобное тому, какое остается в нашей душе к прекрасной женщине, которую мы любим в ранней молодости… Приглашая своего земляка и знатока народной поэзии О. М. Бодянского на вечера к Аксаковым, которые он посещал чаще всех других вечеров в Москве, он обыкновенно говаривал: «Упьемся песнями нашей Малороссии…» По словам Гоголя, некоторые малороссийские напевы «очень мило Надежда Сергеевна (дочь Аксакова) положила на ноты с моего козлиного пения». Гоголь охотно слушал и исполняемые ею под фортепьяно мелодическим голосом «Чоботы», «Солнце нызенько», «У поли крыныченька».
Полюбил малороссийские песни, овеянные поэзией, и Сергей Тимофеевич, и впоследствии П. Кулиш в своей вышеупомянутой книге назовет его «авторитетом» (вместе с О. Бодянским и М. Максимовичем), указанием которых он руководствовался «в своем исчислении Гоголевых песен».
После проведенной в Одессе зимы, а затем весны у родных на Украине Гоголь в начале июня 1851 года приехал в Москву. По-прежнему бывал он у Аксаковых в Абрамцеве. Особенно памятен был приезд его 30 сентября, когда он воротился с дороги, из Оптиной пустыни, известного монастыря неподалеку от Калуги. Он был там и прежде (как впоследствии будут в Оптиной пустыни Достоевский, Толстой и другие русские писатели), беседовал на этот раз с иеросхимонахом Макарием. Своим путем шла духовно-религиозная жизнь великого художника. Финал же ее был так далек от всего житейского, что отношения его с Аксаковым гляделись всего лишь эпизодом, даже внешним, в его внутренней жизни, оставшейся неразгаданной тайной за порогом смерти.
Аксакову казалось, что у Гоголя «идет дело недурно», и по прошествии времени, поздравляя его с Новым годом, Сергей Тимофеевич выражал пожелание, чтобы 1852 год был «ознаменован появлением второго тома „Мертвых душ“».
Все, однако, принимало иной оборот. В конце января 1852 года умерла в возрасте тридцати пяти лет жена Хомякова, Екатерина Михайловна, сестра H. M. Языкова, оставив после себя пятерых маленьких детей. Кончина молодой женщины, с которой Гоголь был дружен, поразила его, произвела на него подавляющее действие. Вера Сергеевна Аксакова, которую в то время Гоголь посещал в Москве (Сергей Тимофеевич жил тогда в Абрамцеве), в своем письме к матери Гоголя после его смерти подробно расскажет о его состоянии, разговоре с ним. После первой панихиды по Хомяковой Гоголь решил, что для него все кончено, надо готовиться к смерти. «Спросил, где ее положат? Мы сказали: „В Даниловом монастыре, возле Языкова Николая Михайловича“. Он покачал головой, сказал что-то об Языкове и задумался так, что нам страшно стало…» После похорон, придя к сестрам Аксаковым, Гоголь заговорил о том же. «„Страшна минута смерти“, — сказал он. „Почему же страшна? — сказал кто-то из нас. — Только бы быть уверену в милости Божией к страждущему человеку, и тогда отрадно думать (о смерти)“. — „Ну об этом надобно спросить тех, кто перешел через эту минуту“, — сказал он».
Роковым образом решилась участь книги, выхода которой с таким нетерпением ждал Аксаков: в ночь с одиннадцатого на двенадцатое февраля Гоголь предал огню подготовленную к печати рукопись второго тома «Мертвых душ». Сохранились только несколько черновых глав.
Изнуряя себя голодом, отвергая пищу и помощь врачей, насильственно лечивших его, Гоголь скончался утром 21 февраля 1852 года.
Пораженный этой смертью, Сергей Тимофеевич выразил свои чувства сначала в письме к сыновьям, а немного позднее в «Письме к друзьям Гоголя». Через год он написал и напечатал статью «Несколько слов о биографии Гоголя». Постепенно Аксаков отходил и душой и умом от своего страстного отрицания того, что он считал заблуждением в Гоголе, признаваясь, что «больно и тяжело вспомнить неумеренность порицаний»… «Смерть все изменила, — писал Аксаков, — все, поправила, всему указала настоящее место и придала настоящее значение». Пришлось Сергею Тимофеевичу поправлять прежнее утверждение о перемене Гоголем своего направления, теперь он уже говорил другое: «Да и не подумают, что Гоголь менялся в своих убеждениях: напротив, с юношеских лет он оставался им верен. Но Гоголь шел постоянно вперед; его христианство становилось чище, строже; высокое значение цели писателя — яснее, и суд над самим собою — суровее. Итак, в этом смысле Гоголь изменился».
Тяжелым для русской литературы оказался високосный 1852 год! Вскоре после Гоголя, 12 апреля, не стало Жуковского, а летом, 23 июня, — Загоскина. Жуковский виделся в ореоле высоких нравственных достоинств, отдаленный в то же время своей заграничной жизнью. Загоскин теперь являлся в памяти Сергея Тимофеевича во всем своем дружеском обаянии, живости безгранично доброго своего нрава, освещавшего, оказывается, так много в его, Аксакова, жизни! Но жить предстояло с памятью о Гоголе, оставившем ему завет писать воспоминания о своей собственной жизни.
В семействе Аксаковых, как говорил один из бывавших у них часто гостей, «всегда было очень весело», чем его особенно и привлекал этот дом. Но «веселье» было не утомительно-шумным, а душевно-свободным, располагавшим каждого пришедшего сюда к такой же открытости, домашней непринужденности. Константин вербовал новых гостей, доверяясь всем и каждому, в ком замечал схожие со своими интересы. Так, стал очень часто бывать в доме Аксаковых в 1847 году молодой двадцатисемилетний историк Сергей Соловьев, будущий автор знаменитой «Истории России с древнейших времен». Сам Соловьев расскажет впоследствии в своих воспоминаниях «Мои записки для детей моих, а если можно, и для других» о том, как началось его знакомство с Аксаковыми. Константину Сергеевичу, читавшему в разных кружках свою драму «Освобождение Москвы в 1812 году», очень хотелось знать мнение историка-специалиста, и он затащил на одно из чтений Сергея Соловьева, который сочувственно отозвался о сценах драмы, чему искренне был рад автор. Вскоре после этого Соловьев по одному случаю послал записку Константину Аксакову, написав ее старым русским языком XVII века, что привело в восторг адресата, перенесшегося запискою в Древнюю Русь. Аксаков привязался к историку, не желая и слышать, что тот западник, начал ходить на лекции, которые Соловьев читал в Московском университете, живое сочувствие, симпатия лектора к Древней Руси как нельзя более по душе пришлись слушателю. Когда весной 1847 года Константин Аксаков защитил свою диссертацию о Ломоносове, то в числе выступивших на диспуте был и Соловьев, вызвавший смех присутствующих упреком магистранта в нелюбви к Древней Руси. Тогда же на пиру, данном новым магистрантом, Соловьев огласил свое написанное языком летописи сказание о том, как славянофилы ездили жениться — по поводу помолвки одного из них. А через несколько дней последовало новое сказание на том же летописном языке — как Константин Аксаков писал и защищал свою диссертацию. Больше всех смеялся сказанию сам герой, хотя не всем из славянофилов нравились эти стилизованные шутки, написанные на языке «священных книг». Познакомившись с семейством Аксаковых, Соловьев стал частым гостем их. Ему с первой же встречи понравился «умный старик» — Сергей Тимофеевич, покорила веселая доброжелательность, царившая в доме. И прямо-таки загадкой историка выглядит то, как вслед за этим признанием он в тех же «Моих записках…» осыпал злыми эпитетами каждого из семейства Аксаковых, досталось не только Константину Сергеевичу, но и Сергею Тимофеевичу с Ольгой Семеновной, как, впрочем, и поголовно всем славянофилам. Соловьев сам в молодости причислял себя к славянофилам, толчком для чего послужила следующая история. По окончании экзаменов в Московском университете летом 1838 года он поехал на вакацию в подмосковную деревню к князю M. H. Голицыну учить его детей. «И вот я в чужом аристократическом доме, среди чужих для меня нравов и обычаев, среди чужого народа, ибо среди чуждого языка; все, кроме прислуги, говорят вокруг меня по-французски, и молодых французиков, т. е. княжат, я обязан учить чуждому для них, а для меня родному языку — русскому, который они изучают как мертвый язык. Тут-то я впервые столкнулся с этой безобразною крайностью в образовании русской знати и столкнулся в самом живом, впечатлительном возрасте, в 18 лет! Понятно, какое сильное впечатление произвела на меня эта крайность и необходимо увлекла меня надолго, лет на шесть, в крайность противоположную, в славянофилизм, или, лучше сказать, в руссофилизм». Знакомство с Аксаковыми положило начало временному сближению Соловьева со славянофилами, хотя он и не переставал считать себя западником. Круг его друзей состоял из профессоров Московского университета, получивших, как он сам говорил, воспитание в западных университетах, таких, как Грановский, Кавелин, Корш и другие; прежде настроенные против Соловьева, как ученика Погодина, они обратились к нему с «распростертыми объятиями», как только убедились, что его магистерская диссертация вовсе же славянофильская, а, напротив, даже антиславянофильская — проводимой идеей, что в основе русской жизни лежит не общинное, а родовое начало. И в дальнейшем, вплоть до своей смерти в 1879 году, Соловьев не разделял славянофильских убеждений о самобытном пути России, а отстаивал идею единства исторического развития России и Европы. Хотя при этом до конца жизни он сохранял то, что отличало его от западников — глубокий интерес к прошлому русского народа, его культуре, языку, народному творчеству. Этим он и мог, надо полагать, вызвать к себе симпатию Аксаковых, особенно Константина, воспламеняющегося от малейшей искры духовной общности. Но тот же Константин Аксаков становился неприступным, если дело доходило до его принципов. Так, Константин Сергеевич решительно выступил против занятой Соловьевым позиции государственной школы в историографии, когда, начиная с 1851 года, Сергей Михайлович стал постоянно ежегодно выпускать тома своей «Истории России с древнейших времен». Как позднее и Толстой, Константин Аксаков не увидел в труде историках главной исторической силы — народа. «В „Истории России“ автор не заметил одного: русского народа… „История России“ С. М. Соловьева может совершенно справедливо быть названа… История Российского государства, не более». Так в конце концов идейно кристаллизовались отношения между современниками, что не могло не сказаться и на их личных взаимоотношениях.
Константину было уже за тридцать, но прежним оставалось его доверие к людям и жизни. Он и сам говорил о себе, что не чувствует с годами резкого различия во внутреннем своем «я». Гости, заполнившие гостиную, могли видеть, как он, подойдя к отцу, целовал у него руки или ласкался к нему, как бывало в детстве, — и самый изощренный критический взгляд не мог бы заметить в этих чистосердечных движениях ничего ложного и деланного — так Константин поступил бы и наедине с отцом, к которому был страстно привязан. Это было интуитивным требованием самой его натуры, цельной, и это невольно производило нравственное действие на окружающих, как и его решительная неспособность лгать ни в большом, ни в малом.
Но в этом «младенце на злое» жила душа бойца. Герцен вспоминал, каким он знал Константина Аксакова еще в сороковых годах: «Мужающий юноша, он рвался к делу… Аксаков был односторонен, как всякий воин, с спокойно взвешивающим эклектизмом нельзя сражаться. Он был окружен средой, средой сильной и имевшей над ним большие выгоды, ему надобно было пробиваться рядом всевозможных неприятелей и водрузить свое знамя. Какая тут терпимость!
…Его диалектика уступала диалектике Хомякова, он не был поэт-мыслитель, как И. Киреевский, но он за свою веру пошел бы на площадь, пошел бы на плаху, а когда это чувствуется за словами, они становятся страшно убедительными…»
Из рассказа Герцена видно, какими притягательными даже и для тех, кто расходился с ним в убеждениях, были благородство, честность, искренность Константина Аксакова: «В 1844 году, когда наши споры дошли до того, что ни „славяне“, ни мы не хотели больше встречаться, я как-то шел по улице, К. Аксаков ехал в санях. Я дружески поклонился ему. Он было проехал, но вдруг остановил кучера, вышел из саней и подошел ко мне. „Мне было слишком больно, — сказал он, — проехать мимо вас и не проститься с вами. Вы понимаете, что после всего, что было между вашими друзьями и моими, я не буду к вам ездить, жаль, жаль, но нечего делать. Я хотел пожать вам руку и проститься“. Он быстро пошел к саням, но вдруг воротился; я стоял на том же месте, мне было грустно; он бросился ко мне, обнял меня и крепко поцеловал. У меня были слезы на глазах. Как я любил его в эту минуту ссоры!»
Прошли годы со времени, описанного Герценом, но Константин Аксаков оставался все таким же открытым на благородство «юношей», разве лишь убеждения его еще более обогатились и углубились. А душою этих убеждений была неотступная мысль о русском народе, вера в его нравственные силы, в его великое историческое призвание. «Народ — единственный и постоянный действователь истории», — говорил А. Хомяков. И во всем, о чем бы ни размышлял Константин Аксаков, чего бы ни писал — в какой угодно области, будь то филологические изыскания, литературная деятельность в виде стихов, драм, критики, публицистики, исторические труды, — везде и всегда дышит задушевнейшая мысль о народе как главной исторической силе. Ломоносов — воплощение творческого гения народа, его внутренних духовных сил, живое свидетельство его природной талантливости; и вот написана диссертация о Ломоносове, с необычной, казалось бы, для Константина Аксакова хвалой Петру Великому, сблизившему русскую жизнь с западно-европейской. Вот великое событие в истории России — 1612 год, и появляется драма Константина Аксакова «Освобождение Москвы в 1612 году», где действуют люди из народа, «личность поглощена в общине только эгоистическою стороною, но свободна в ней, как в хоре», — определил Аксаков суть взаимоотношений человека и народа.
И герои, и сам народ в их лице показаны в драме как та решающая сила, которая способна осознать нависшую над Русью опасность и всей «землей» подняться на ее защиту в отличие от бояр с корыстными интересами. Выходит комедия Константина Аксакова «Князь Луповицкий, или Приезд в деревню»[13], где одноименный герой ее приезжает из Парижа в Россию, в свою деревню с целью просветить мужичков, отучить от невежества, образовать их: «Надо же наконец, чтобы народ наш походил на нас, европейцев». У Луповицкого целая программа «просвещения», и он приступает к ее осуществлению. Первой мишенью его цивилизаторства («сивилизаторства», как выражаются в комедии мужички) становится староста Антон. По намеченному плану пункт за пунктом начинает герой «образовывать» старосту, но тот спокойно и разумно отводит скороспелые предложения поклонника Запада, убеждая его самого в их неуместности и несуразности. Луповицкий — человек добрый, искренне желающий блага мужикам, и тем более нелепы, дики его представления о мужике, о народе, о России. Смешны претензии «сивилизаторов» перед мудростью народной жизни. Эта мысль была не комедийной для автора, а слишком серьезной, как все, что касалось его убеждения, и смешное в положении просвещенного героя как бы поглощается проповедническим голосом старосты, а за ним и самого автора. Так во всем выказывалась прямота Константина Аксакова, мешавшая ему быть художником, о чем он, впрочем, меньше всего заботился.
И в стихах его, которые он охотно писал, говорилось о все том же, заветном для него: укор тем, кто порвал с Отечеством, «земли родной презревши бытие»; призыв «понять себя в народе, преодолеть свой эгоизм через «животворную» связь с народом: «Не сжимает, как океан, твоей свободы он: тебе он только место назначает, ты общему в нем живо покорен». В стихах Константина Аксакова остался не только пафос его любимой мысли, но в иных и такие стороны бытия, которые, может быть, как никогда многое говорят современному сознанию. Огромную опасность для человека он видел в бездуховности. Для «толпы эмигрантов» (из одноименного стихотворения) не существует никакой высшей истины, ее света, кроме «осязательного пути», кроме только «величественного», материального. Но зло гнездится еще глубже — это «вещественное», «плотское», не вынося пустоты своего эмпирического существования, хочет «в дух втесниться», принимает обличье «лже-духа» (одноименное стихотворение), в котором лишь
…Плоти раздраженный жар.
Ей мало вещества для власти,
Ее пленяет духа дар,
Небесный мир в ней будит страсти.
«Лже-дух» претендует уже на универсальность бытия, ему мало «вещественной» власти над человеком, он хочет контролировать в нем и все духовно-сокровенное, интимное, хочет стать для него всем, а в сущности, ничем. Искус этого лже-духа особенно велик оттого, что, легко внедряясь в бытийные низы человека, он эти низы «освещает» доводами рассудка, некой научности, принимающей только «осязательный путь» и освобождающей человека от его духовных, нравственных исканий. Константин Аксаков и в современной ему литературе видел такую «точку эмпириков», самоуверенных, рассудочных, посмеивавшихся, кстати, над его «чудачествами».
Отдавал Константин Сергеевич дань и критике, отмечал как положительное все то в литературе, что отвечало его мнению о крестьянстве; не принимал ничего отрицательного в изображении народа.
Константин Аксаков не умалял культурно-духовных потребностей народа, он был против того, чтобы предпринимать издания книг специально для «народного чтения». «Что же народ — разве особенный отдел людей? Почему же для него и не существует общего чтения, как для всех людей вообще, а изготовляется нарочно чтение народное? Почему „История“ Карамзина, „История“ Соловьева, „Путешествие“, например, Головкина, „Юрий Милославский“ и пр. и пр. — не народное чтение? И что это чтение по сословиям? Но ведь в то же время у вас нет чтения дворянского, нет чтения купеческого: отчего же существует у нас чтение народное?.. Повторяем: народ имеет право на все чтение, на все выходящие книги. Предоставьте ему самому выбор… Не пишите для народа. Что будет общепонятно — поймет, поверьте, и народ… Вместо того, чтобы писать какие-то сочинения исключительно для народа, пусть лучше литература наша постарается быть народною: тогда она сама станет истинно на высокую и действительную ступень и для всего народа сделается доступною…»
В неразвитости, если не сказать, в отсутствии народности, и видел Константин Аксаков главный недостаток современной литературы, хотя и отмечал обнадеживающую перемену в появлении таких талантов, как Тургенев, Островский, Толстой, Щедрин. «Совершенным особняком», по словам Константина Аксакова, стоят в современной литературе сочинения С. Т. Аксакова, в которых ему видится положительная народность. Таким образом, Константин Аксаков излишне строго судил об «отвлеченности», «подражательности» тогдашней литературы, что дало впоследствии Достоевскому повод полемизировать с таким мнением его и других славянофилов, упрекать их в отрыве от «вашей же литературы, вашей, русской». То была, конечно же, русская литература, национальная, самобытная (в лучших своих творениях), вызванная к жизни самой русской социальной действительностью, ее противоречиями. Но при всем своем проявившемся позднее богатстве, величии русская литература не смогла объять всю полноту исторической жизни народа, поистине безмерной в своем содержании и значении. Не удивительно, что даже в такую эпопею, как «Война и мир», вошли далеко не все силы, участвовавшие в событиях 1812 года, в частности, нет здесь всеевропейской знаменитости Платова со своими славными донцами, который сам по себе мог бы стать предметом эпопеи. Русская историческая жизнь заключала в себе столько грандиозного, рождала такие характеры, что сами русские писатели с изумлением говорили об этом. Прочитав отрывки биографии П. Вяземского о Фонвизине, Гоголь писал о заключенном в XVIII веке «волшебном ряде чрезвычайностей, которых образы уже стоят пред нами колоссальные, как у Гомера, несмотря на то, что и пятидесяти лет еще не протекло… Нет труда выше, благодарнее и который бы так сильно требовал глубокомыслия полного многостороннего историка. Из него может быть двенадцать томов чудной истории, и клянусь — вы станете выше всех европейских историков». Гончаров, встретившись в Сибири с известным Иннокентием Вениаминовым, ученым и миссионером, с восхищением писал о нем как о «величавом» патриоте.
А как можно обойтись без истории, которая и напоминает о себе, влечет к себе неодолимо именно тогда, когда есть особая нужда глубже понять действительность. Константин Аксаков и имел дело с историей, нет, не погружался в нее, как летописец, а входил, как воин, отсекая все лишнее, неугодное ему, а оставлял только нужное, отвечающее его цели, и с этими историческими трофеями, с этим подкреплением возвращался в современность для дальнейших битв. Там, в истории России, в ее древности обнаружил Константин Аксаков то, что считал основой русской жизни — общинный уклад ее и развил целую теорию в статье «О древнем быте у славян вообще и у русских в особенности». В общине он видел залог самобытности русского народа, своеобразия его исторического пути в отличие от западно-европейского, не знавшего издревле этого общинного устройства. Герцен сочувственно относился к этой идее Аксакова, и, как известно, сам, особенно после разочарования Западной Европой, возлагал надежду на общину как на спасительное средство для России, которое поможет ей миновать буржуазный путь развития.
И еще одна мысль очень дорога Аксакову, капитальна в его исторических воззрениях. Это — соотнесение, вернее, противопоставление «земли» и «государства». Хотя то и другое одинаково двигатели русской истории, но народ, по утверждению Аксакова, всегда резко разделял эти понятия: «земля» — внутренняя, нравственная свобода народа, свобода его жизни и духа, в то время как «государство» являет собою власть внешнюю, действующую с помощью законов. Так, внутренняя жизнь народа с его нравственными идеалами оказывается неизмеримо глубже и полнее, чем жизнь государственная, и имеет право на свободу мнения и, следовательно, слова.
Заглядывая вперед, заметим, что эту мысль — о «земле» и «государстве» — Константин Аксаков развивал и в своей знаменитой «Записке о внутреннем состоянии России», поданной в 1855 году только что вступившему на престол императору Александру П. Прямота Константина Аксакова выразилась здесь особенно наглядно.
Величайшим бедствием России считал Константин Аксаков отрыв высших, образованных слоев общества, того слоя, который позднее будет называться интеллигенцией, — от народа, возникшие в результате этого разрыва глубокие противоречия между ними грозят катастрофой России. И вину за эту трагедию он возлагал на Петра I, который хотя и «обличил и поразил односторонность и был поворотною точкою», но своей реформой, порвавшей с многовековым укладом русской жизни, внес раскол в нее, привил высшим классам дух подражательности Западу.
Что такое народ для Константина Аксакова и что такое в сравнении с ним, народом, представители высшего сословия — можно судить по его статье «Опыт синонимов. Публика — народ», в которой с афористичной выразительностью противопоставлено одно понятие другому: «Публика выписывает из-за моря мысли и чувства, мазурки и польки; народ черпает жизнь из родного источника. Публика говорит по-французски, народ по-русски. У публики — парижские моды. У народа — свои русские обычаи. Публика (большей частью по крайней мере) ест скоромное, народ ест постное. Публика спит, народ давно уже встал и работает. Публика работает (большей частью ногами по паркету); народ спит или уже встает опять работать. Публика презирает народ; народ прощает публике. Публике всего полтораста лет, а народу годов не сочтешь. Публика преходяща; народ вечен. И в публике есть золото и грязь, и в народе есть золото и грязь, но в публике грязь в золоте; в народе — золото в грязи. У публики свет (балы и пр.), у народа — мир (сходка). Публика и народ имеют эпитеты: публика у нас — почтеннейшая, а народ — православный».
Такое отношение к народу, утверждение нравственного его превосходства над «публикой» встречало противников с разных флангов. Неугодно оно было и официальным властям, видевшим в этом противопоставлении повод для возбуждения розни между сословиями. Неприемлемо оно было для тех либерально-прогрессистских деятелей, которые видели в народе темную, инертную массу. В самом деле, для Аксакова «простой народ есть основание всего общественного здания страны. И источник вещественного благосостояния, и источник внешнего могущества, источник внутренней силы и жизни и наконец мысль всей страны пребывает в простом народе». Личность значительна, «может что-нибудь сделать» лишь в том случае, когда она не отторжена от народа, а связана с ним глубинными интересами. Что могли сказать эти слова, особенно те, что «мысль всей страны пребывает в простом народе», например, К. Кавелину, называвшему русский народ «Иванушкой дураком», презрительно именовавшему «народные массы» «какой-то этнографической протоплазмой, калужским тестом». И в этом сходились люди, которые вовсе не были единомышленниками в других вопросах — типа Кавелина и типа Антоновича, — сходились в своем взгляде на народ как на темную, сырую массу, которая сама по себе никогда не сдвинется с места, не придет в прогрессивное движение, так и будет коснеть вечно, если не просветить ее теоретической мыслью, не поднять ее до уровня своего незаурядного и передового сознания.
«Культ народа» у Константина Аксакова — не пустое теоретизирование, а упорное стремление внушить «образованному слою», что будущее России невозможно без понимания живой связи с народом и что понять ценности народной жизни — значит во многом и преодолеть разрыв. Позже только Достоевский с таким же упорством бился над этой же проблемой разрыва с народом, с еще большей проницательностью провидя возможные его следствия.
Бердяев в своей книге о Хомякове назвал ранних славянофилов бытовиками, крепко связанными с устойчивым бытом, лишенными катастрофического ощущения бытия. Психологически славянофилы менее всего были укоренены в быте. Если нельзя не увидеть трагическое в самом бытии человека, мучительно раздвоенного между осознанием христианского идеала и невозможностью достигнуть его на земле, то в высшей степени трагической была жизнь славянофилов. Ибо в отличие от западников, так сказать, детерминированных исключительно социальной средой, основным двигателем учения, поступков славянофилов была мораль, принцип единства мысли и поведения. Нравственная безупречность славянофилов была такова, что даже сами его противники — западники, либералы, писали об их редчайшем благородстве. Глубочайшая разница была в том, что для западников существовал только внешний враг (самодержавие, крепостное право и т. д.), в то время, как славянофилы неизмеримо глубже видели природу зла прежде всего в самом человеке, устремляя главные свои усилия на самоусовершенствование (что не мешало им, однако, не быть равнодушными и к общественному злу — характерно, что именно славянофилы в лице Ю. Самарина и других готовили проект освобождения крестьян 1861 года). Далеко от бытовой идиллии была и личная жизнь этих людей, знавших и тяжелые утраты (смерть молодой жены Хомякова, оставившей на его руках пятерых малых детей), и бездны аскезы (уход в Оптину пустынь Ивана Киреевского).
Но, пожалуй, никто из этих людей не был так духовно беспощаден к себе и последователен в
…Кто речи хитро не двоит,
Чья мысль ясна, чье прямо слово,
Чей дух свободен и открыт…
Кстати, эта прямота и в знаменитых строках поэмы Ивана Аксакова «Бродяга»:
Прямая дорога, большая дорога!
Простоты немало взяла ты у Бога,
Ты вдаль протянулась, пряма, как стрела,
Широкою гладью, как скатерть, легла!..
Интересно сравнить эту аксаковскую «прямую дорогу» с тем образом дороги, которую дает историк В. Ключевский в своей статье «Этнографические следствия русской колонизации верхнего Поволжья»: «Великоросс часто думает надвое, и это кажется двоедушием. Он всегда идет к прямой цели, хотя часто и недостаточно обдуманной, но идет, оглядываясь по сторонам, и потому походка его кажется уклончивой и колеблющейся… Природа и судьба вели великоросса так, что приучили его выходить на прямую дорогу окольными путями. Великоросс мыслит и действует, как ходит. Кажется, что можно придумать кривее и извилистее великорусского проселка? Точно змея проползла. А попробуйте пройти прямее: только проплутаете и выйдете на ту же извилистую дорогу». Географически разные дороги и могут привести к «прямой цели», но нравственно чаще всего одна, прямая дорога ведет к праведничеству (как у К. Аксакова), другая, «извилистая», — к либерализму (как у В. Ключевского).
Из века в век сквозным принципом эта «прямота» как черта нравственная, проходит через всю русскую историю, литературу. В величайшем творении древнерусской литературы «Слово о Законе и Благодати» митрополита Илариона (XI век) сказано: «…и будуть криваа въ праваа» («и будут кривизны прямыми»). В присяге избранному на всероссийский престол государю Михаилу Федоровичу Романову говорилось: «Служити мне ему Государю и прямить и добра хотелось и безо всякие хитрости». Оптинский старец Амвросий писал о другом оптинском старце, что в письмах своих он «обнажает истину прямо». Писатель XVIII века Андрей Болотов свою автобиографическую книгу назвал разговором с «прямым сердцем и душой». У русских классиков: «прямой путь», «идти прямою дорогою выгоднее, нежели лукавыми стезями» (Фонвизин), «прямой поэт» (Пушкин), «счастье прямое» (Жуковский), «свободою прямою» (Батюшков), «мы сохраним сердца прямые» (С. Аксаков), «прямота чувств и поведения» (Достоевский), «прямые и надежные люди» (Лесков), «настоящая русская речь — добродушная и прямая» (Тургенев о «Записках ружейного охотника» Аксакова), «благородная прямота» народных песен (П. Киреевский), «горячая прямота» Багрова (героя «Семейной хроники» С. Т. Аксакова) и т. п.
Константин в семье по-прежнему авторитет для братьев и сестер, как и для родителей, — во всем, кроме практической жизни. Иван — другого склада, не то что отрешенный от всего житейского старший брат. Константин обуян своими идеями и ко всему иному, кажется, равнодушен. А Иван уже в молодости вкусил служебной лямки, прозы жизни и выказал то, что особенно желал из своего «прекрасного далека» Гоголь сыновьям Сергея Тимофеевича, — «сметливость». Когда сыновья только что выходили каждый на свое поприще, то отцу было чему радоваться. «Костя переписывает набело свою диссертацию, — сообщал Сергей Тимофеевич в письме к Гоголю, — Иван возвращается с ревизии из Астрахани, где он действовал с неожиданным, изумительным даже для меня, достоинством мужа, а не юноши; Гриша служит товарищем председателя Гражданской палаты во Владимире и хотя не изумляет меня, но утешает более Ивана…»
Ивану в то время был двадцать один год, но он, с очками на носу, придававшими ему очень серьезный вид, считал себя уже «старообразным на лицо» и в шутку вслед за товарищами по службе именовал себя «возвышенным Акакием Акакиевичем». И действительно, его, такого аккуратного, усердного на службе, работавшего в день за столом по четырнадцать-пятнадцать часов, тянуло к поэзии не только в смысле писания стихов. В делах служебных он находил общие интересы с братом Григорием, который еще в большей степени считал своим призванием службу. Иван писал родителям: его желание с пользой служить «Гриша не только разделяет, но и со мною вместе будет подвизаться. Но мне больно, что Константин не только не соглашается, но не захочет даже вникнуть в мои слова…». Константин, равнодушный к службе, был дорог и близок Ивану другим — возвышенностью своих духовных, нравственных стремлений. Так Иван как бы соединял в себе воедино лучшие качества своих старших братьев.
Но ошибся бы тот, кто увидел бы в Иване одно «срединное» между братьями, как ошибся в свое время Сергей Тимофеевич. Случилось это в детские годы Ивана, когда ему было всего семь лет. Слыл он в семье за молчаливого, угрюмого, неуклюжего мальчика, казавшегося неотесанным рядом с гораздо более живыми братьями и сестрами, а уж в сравнении со старшим братом, маленьким оратором Константином, он и вовсе выглядел сереньким воробышком. Но вот однажды заболевшего скарлатиной Ивана родители, чтобы обезопасить других детей от прилипчивой болезни, сослали на верх дома, в мезонин. И здесь, скучая от одиночества, семилетний ссыльный написал послание своим братьям и сестрам и передал его вниз. Родители были сильно удивлены и даже поражены, читая его: кто бы мог подумать, что молчаливый, угрюмый Иван может оказаться таким красноречивым на бумаге, таким наблюдательным и рассудительным.
Впоследствии сам Иван относил рано развившиеся в нем внутренние интересы к тому, что в их семействе детская не существовала, то есть не было оранжерейно-искусственного воспитания детей, изолированного от интересов взрослых людей. Возможно, что сыграло здесь свою роль и то, что сам Сергей Тимофеевич по опыту своего детства знал, чего лишает ребенка оторванность от окружающей среды. В семействе Аксаковых, о чем бы ни говорили, детей не выпроваживали за дверь. Дети оставались детьми, и если кому из них было скучно и хотелось поиграть или хотелось спать, — вольному воля, иди на все четыре стороны. И мало кто из гостей, привыкших к детям, одинаково милым в их глазах, замечал, как маленький Иван, державшийся в сторонке, молчаливый, вдруг навострял внимание, прислушивался к разговору взрослых. И мало кто догадался бы, что в разговор о свежем политическом событии мог бы включиться и этот серьезный мальчик, если бы не его застенчивость и не боязнь показаться неловким. Как у отца в детстве страсть к рыбалке, так и у Ивана, начиная с десятилетнего возраста, появилась страсть к чтению газет. И не было для него, в чем-то провинившегося, большего наказания, чем лишение читать газеты. С горячим интересом следил он за политическими событиями в Европе, волновало его «революционное брожение», как он говорил, в Испании, считал себя «карлистом» — все по газетным стопам. Уже как бы предугадывался в нем будущий страстный публицист.
Но если считать, что всякая общественная деятельность начинается с практических дел, в том числе и со службы, то именно такое начало и было у Ивана. Девятнадцати лет от роду после выхода из Петербургского училища правоведения он приступил к службе. Сначала состоял при Министерстве юстиции. Потом, спустя два года, в 1844 году назначен членом ревизионной комиссии в Астрахани. Здесь-то и развернулась его работа, заслужившая уважение товарищей, изумление родителей и похвалы начальства. Работу эту, скучную и однообразную, и дня бы не выдержал Константин, но у Ивана хватало терпения: медленно и подробно входил он, втягивался в просмотр текущих дел, уголовных и гражданских, решенных за последние годы, сданных в архив, рылся в пыльных бумагах, чтобы ничто противопоказанное не могло ускользнуть от ревизорского взгляда. Столь явны были служебные способности молодого чиновника, что ему сразу же стали давать отдельные ответственные поручения наравне со старшими чиновниками, служившими уже по пятнадцать-двадцать лет, и ему приходилось слышать, как назначение его «заставляет трусить каждое присутственное место». Следовало вникать в дело так, чтобы лучше понимать ревизуемых, и этого Иван добивался. Так обревизовал он все места: экспедицию, комиссию народного продовольствия, строительную комиссию, добирался до канцелярии, затем штаба военного губернатора. И от этой канцелярской работы он чувствовал удовлетворение, считая, что благодаря ревизии он не только приобрел опытность в службе, но и узнал лучше действительность, «переворачивая народ со всех сторон, во всех его нуждах», и что такое знание необходимо для всякого, кто хочет разобраться в современной общественной жизни.
Разделавшись со своими бумагами, Иван приходил домой, в свою временную квартиру, скидывал мундир, «отпуская поводья напряженным мыслям», как говорил он, закуривал сигару и, растянувшись на диване, что-нибудь читал. Иногда садился за свой зеленый столик, брал чистый лист почтовой бумаги и принимался за письмо к родным. Писал обо всем, что видел и пережил за последние дни, со времени отправления последнего письма (писал он в среднем одно письмо в неделю). По письмам его можно было видеть как бы воочию все, что окружало Ивана, что ему встречалось и по долгой, длительной дороге в Астрахань, и при въезде в город, и в самом этом живописном, по-восточному красочном городе, и с кем он вместе работал, и с какими людьми знакомился, и как всей компанией ездили за Астрахань, за восемьдесят верст, к калмыцкому князю, и как их там встречали и т. д. — все это в живых картинах, с яркими подробностями. И в этих же письмах — исповедь его: мысли о службе, о людях, о своем характере, признания в своих душевных движениях, о том, что ему не живется беззаботно, «ноша жизни не легка», и благоразумие иногда давит его — сердце не бьется так, как у двадцатилетнего. И еще признавался: «на бумаге я откровеннее и разговорчивее, не затрудняюсь в словах, не чувствую беспрестанно смущающего меня недостатка моего произношения», то есть сбивчивой речи.
Письма Ивана в доме Аксаковых всегда ждали как праздника и любили слушать всей семьей. Впрочем, этот обычай слушать письма всей семьей как-то раз, в случае с Гоголем, дал осечку. Посылая однажды письмо Сергею Тимофеевичу, делясь говорящей в нем «всей глубиной души» своей, Гоголь просил, кроме Ольги Семеновны, никому не показывать письмо. «Можно ли было не показать его Константину и старшим дочерям?» — простодушно оправдывал себя Аксаков, нарушивший условие Гоголя, который узнал об этом и остался очень недоволен. Но с Гоголем это особый случай, а по заведенному обычаю чтение письма вслух было уже какой-то общей семейной потребностью, сближавшей родителей с детьми, вносившей в их отношения еще большее взаимное доверие.
И вот не менее раза в неделю получив очередное письмо из Астрахани, собравшись вокруг за столом, все как бы сходились с приехавшим Иваном, обращавшимся со своим словом ко всем вместе и к каждому в отдельности. Отесенька все поймет, с ним можно говорить обо всем, о всех мелочах службы, душевных затруднениях и прочем, и всегда услышишь в ответ добрый, мудрый совет, дружеское участие и сочувствие. С ним и главный разговор, мужской, начистоту. У маменьки свои заботы, свои попечения о сыне: как он там, в далекой стороне, как питается, здоров ли, как бы не надумал жениться рано. О, будьте покойны, он, Иван, так же мало думает о женитьбе, как богородский дьячок об австрийском императоре. Приятно, что маменька разделяет его мысли о службе, ведь она всегда желала видеть своих сыновей полезными людьми. Константин слушает стоя, иногда на ходу — ему как бы заранее известно, о чем будет говорить младший брат, во всяком случае, о службе-то непременно, да еще о том, чтобы Константин пошире взглянул на действительность, а для этого не пренебрегал бы предметами материальными, важными для государственного благосостояния, да и следовало бы путешествовать по России… Гриши нет за столом. Он, как и Иван, оторвался от дома, служит во Владимире, но и на него ссылается Иван как на своего служебного союзника в споре с Константином. А сестрицы — каковы, оказывается, Софья и Марихен, да и Люба пописывают вирши.
Слушать Ивановы письма любили все, в том числе и Константин, но отвечать ленился, редко когда сподобится на послание, да и то не особенно распишется. Зато Сергей Тимофеевич со всей щедростью отцовского сердца подробно и любовно писал сыну, не скрывая своего отношения к его посланиям: «Прекрасное письмо твое, в котором с большою, хотя еще неполною свободой раскрывается твоя богатая всякою благодатью натура, привело нас всех в восхищение». Отец беседовал с сыном с таким живым чувством общности их интересов и понимания его психологии, душевных запросов, с такой обстоятельностью и вниманием, что сын, в свою очередь, не менее удивлялся его письмам: «Удивляюсь тому, милый Отесенька, как Вы находите досуг писать мне аккуратно поллиста Вашим довольно сжатым почерком». И всегда под письмами Сергей Тимофеевич подписывался: «Твой отец и друг». Он и был друг, который все поймет и поддержит в трудную минуту. Строгий к себе, живший очень скромно и умеренно, Иван Сергеевич знал одно только «жуирование» — чтение писем Отесеньки, он так и писал ему. «Пишите мне в субботу, чтобы в воскресенье, досужный день, мог я жуировать Вашими письмами».
Но кончилась служба в Астрахани, и вскоре же в августе 1845 года Иван получил новое назначение — товарищем, то есть старшим помощником председателя Калужской уголовной палаты. Молодой чиновник снял квартиру, верх дома, из девяти комнат («ко мне всякий может приехать, поместиться есть где»), из окон виден был «дом Марины Мнишек», открывался чудесный вид на Оку. Снова, как и в Астрахани, потянулись служебные провинциальные будни. Можно сказать, событием в калужской жизни стало знакомство его с женой губернатора, знаменитой Александрой Осиповной Смирновой-Россет. В семье Аксаковых, как и среди их знакомых, хорошо знали имя этой женщины. Семнадцатилетней поступила она фрейлиной к императрице, все литературные знаменитости того времени были с нею в дружеских отношениях. Пушкин, Лермонтов посвящали ей свои стихи. Необыкновенной женщиной считал ее Гоголь, видимо, неравнодушный к ней, что вовсе не меняло его наставительного, проповеднического тона в письмах к губернаторше, от которой можно ждать много добрых и полезных дел. И сам Сергей Тимофеевич, не зная еще лично эту женщину, под обаянием ли ее прошлой славы, гоголевской ли оценки, по отзывчивости ли своей к красоте — как бы уже отдавал дань этому поклонению. Узнав о пожелании Александры Осиповны увидеться с ним при проезде своем через Москву в Калугу, Сергей Тимофеевич отвечал ей: «Я не смею откладывать возможности Вас видеть: я теряю глаза. Мне хотелось бы сохранить образ Ваш в числе отрадных воспоминаний на темную, может быть, долгую старость».
Неудивительно, что двадцатидвухлетний молодой человек, наслышавшись об этой женщине столько лестного, ожидал и увидеть некое совершенство, некий идеал в очаровательном женском образе. Но эта знаменитость была прежде всего женщиной, у которой столь многое зависит от дурного или хорошего настроения. Александра Осиповна была как раз в дурном настроении, когда Иван в первый раз явился к ней. Ожидавший так много от свидания, он был обескуражен. Хозяйка раздражалась, капризничала с мужем, выражала недовольство, что она не так удобно устроена, как прежде, что ламповое масло не доставлено из Москвы, что все здесь, в провинции, уроды. Хотя первое знакомство с А. О. Смирновой-Россет разочаровало Ивана Аксакова, дальнейшие встречи, разговоры, споры дали им возможность лучше узнать и понять друг друга. Ивану хотелось бы потолковать о серьезном, важном для него, о поэзии, о человеке, а хозяйке было мило другое, как она сама говорила: «Иван Сергеевич не охотник говорить пустяки, а я, признаюсь, до них большая охотница». Однако она могла говорить и не пустяки, недаром даже выдающиеся ее современники восхищались «необыкновенной прелестью ее обворожительного ума, чарующим остроумием, глубоким и метким знанием жизни, света и людей, пониманием возвышенных идеалов». Но большой свет, в котором она блистала, привил ей и свою жалкую опытность, холодность и бесплодную смелость суждений, «свободу» поведения. Тридцатишестилетняя женщина, столько повидавшая всего в большом свете, наглядевшаяся достаточно на всякий блеск и подноготную его, не считала нужным скрывать вынесенных из этого привычек, возмущая двадцатидвухлетнего юношу бесцеремонностью мнений и оценок. Он как бы обманулся в своем идеале и выразил разочарование в стихах, обращенных к Александре Осиповне, укоряя, даже обвиняя ее со всей непреклонностью чистой молодости в том, что она, которую так хотелось ему видеть «на высоте достойной, в сиянии чистейшем красоты», оказалась только блистательной дамой света. Что же касается снисходительного довода ее, что в нем «с годами остынет юношеский пыл» и он, как и все, примирится с «житейской мудростью и ложью», со злом в жизни, то Иван Сергеевич просит Бога спасти его от «преступного бесстрастия», от примирения с «житейской мудростью и ложью», дать ему сил не стареть с годами духом и мужать, закаляться «в борьбе суровой». Александра Осиповна, однако, с женской своей проницательностью увидела и почувствовала в этом неловком, серьезном не по возрасту молодом человеке, в прямоте и резкости его мнений безусловную нравственную чистоту и благородство душевных порывов, и она писала его отцу, Сергею Тимофеевичу: «У Ивана Сергеевича еще много жесткости в суждениях, он не легко примиряется с личностями, потому что он молод и не жил еще. Со временем это изменится непременно, шероховатость пройдет. Вся жизнь учит нас примирению с людьми… У него есть много самостоятельности в характере, что его удержит от всякого увлечения и при укрощении его жестокости составит весьма замечательный характер».
У Сергея же Тимофеевича было свое отношение к знакомству сына со Смирновой-Россет. Он писал Ивану об Александре Осиповне: «Для тебя наступила настоящая пора для полного развития и окончательного образования. Только одна женщина может это делать, и трудно найти в мире другую, более на то способную. Твоя дикость, застенчивость и неловкость рассыплются в прах перед одобрительною простотою ее обращения и неподдельною искренностью». Даже и после личного знакомства с Александрой Осиповной, которая приняла его, лежа в постели (и что было расценено им как неуважение к нему, старику), Сергей Тимофеевич, возможно, не без влияния Гоголя, продолжал убеждать сына в необыкновенности этой женщины. Да и сам Иван вскоре, лучше узнав ее, переменил и свое мнение, и свое отношение к ней, став терпимее к ее неприятным качествам и ценя больше хорошие стороны этой женщины.
Вскоре в доме Смирновой-Россет Иван Сергеевич встретился с Белинским. Сам Виссарион Григорьевич, по своей застенчивости и неловкости в женском обществе, не решился бы никогда на этот визит к знаменитой красавице, но его «затащил» к ней Щепкин. Оба они, Белинский и Щепкин, остановились проездом в Калуге по дороге в Одессу и Крым: критик ехал туда для поправления здоровья; прославленный актер, сопровождая его, намеревался подзаработать в южных городах участием в тамошних спектаклях. Михаил Семенович смотрел за больным Белинским «словно дядька за недорослем», по словам самого критика, «В качестве хвоста толстой кометы», то есть Михаила Семеновича, и появился Белинский в доме калужского губернатора. Долго не узнавал его бывший там в это время Иван Аксаков и наконец, встретившись с ним лицом к лицу, почти вскрикнул от удивления: страшно смотреть было на похудевшего, с усами, беспрестанно кашлявшего критика, изменившегося до неузнаваемости. Менее двух лет оставалось ему жить, но в этом изможденном человеке не угасала неистовость убеждений, вспыхивая болезненным румянцем на худых, впалых щеках. Правда, в присутствии аристократической хозяйки Белинский был тих и робок, но только разговор зашел о Жорж Занд, которую он боготворил, как рукой сняло его застенчивость и он заговорил уверенно и чуть вскрикивая, заражаясь чувством восторга. Александра Осиповна, нетерпеливо и резко перебив поклонника французской знаменитости, горячо набросилась на Жорж Занд, доказывая «весь вред и всю степень разврата» ее, нападая на ее «плебейское сердце». Белинский не уступал, хотя и не находил в себе духу в полный запал сразиться с женщиной в споре о предмете столь ему дорогом. Иван же Аксаков, поправляя некоторые промахи по-женски горячившейся хозяйки, держал ее сторону, солидно возражая критику.
Несмотря на сухость и холодность своего обхождения с Белинским, Иван Аксаков был доброжелателен к нему, ценя в нем «умного и талантливого» человека. Всегда почтительный к отцу, Иван решительно не согласился с ним, когда Сергей Тимофеевич по какому-то непонятному движению родительской обиды, что ли, за сына Константина, находившегося в непримиримой распре с Белинским, в письме к Ивану высказал неудовольствие, что Смирнова-Россет удостоила Белинского внимания и разговора. Иван отвечал отцу, что странны ему эти слова; почему «не удостоить Белинского разговора», когда сплошь да рядом Александра Осиповна «удостаивает разговора» людей ничтожных и пошлых по сравнению с Белинским? И в самом деле, что-то странное сорвалось с пера страстного в своих оценках Сергея Тимофеевича.
С другой стороны, и у Белинского сложилось свое мнение об Иване Аксакове. Он писал Герцену: «В Калуге столкнулся я с Иваном Аксаковым. Славный юноша! Славянофил, а так хорош, как будто никогда не был славянофилом. Вообще я впадаю в страшную ересь и начинаю думать, что между славянофилами, действительно, могут быть порядочные люди».
Безгранично любя и уважая отца, доверяясь его авторитету, Иван не отказывался, однако, и от своего «я», держался собственных суждений на тот или иной счет. Разошелся он с отцом и в отношении «Выбранных мест из переписки с друзьями» Гоголя, увидев в них не признак духовной болезни великого художника, как считал Сергей Тимофеевич, а, наоборот, высоту поставленных им перед самим собою задач. Особенно сильное впечатление произвел на Ивана Аксакова язык гоголевской книги. Возражая сестре Вере, которая «думала одинаково» с отцом о «вялости» языка «Выбранных мест», Иван Сергеевич восклицал: «Это такой язык, который, как стихи, невольно удерживается в памяти… „стонет весь умирающий состав мой!“ Это просто музыка».
В свободное от службы и посещений Смирновой-Россет время Иван Сергеевич знакомился с Калугой и ее окрестностями, побывал в Оптиной пустыни, описав в письме к отцу подробно свои впечатления обо всем увиденном в ней. У молодого человека не было особых духовных целей в его поездке в Оптину, какие были у приезжавшего сюда Гоголя, а впоследствии Достоевского и Толстого, но и для него эта поездка стала важным событием, вызвавшим в нем глубокую работу нравственного самосознания.
Два года, проведенные Иваном Аксаковым в Калуге, были отданы не только службе. Плодотворными они оказались и для его стихотворных занятий. «Человек довольно сосредоточенный и скрытый», как говорил Иван Сергеевич о самом себе, сдержанный на службе и в быту, он давал волю своим «внутренним движениям» разве лишь в письмах к родным да в своих стихах. Смолоду и в течение почти всей своей жизни писал стихи Иван Аксаков, вкладывая в них свои раздумья о современных вопросах действительности. Сам он невысоко ставил себя как поэта, но это признание делало только честь скромности Ивана Сергеевича, отдельные стихи которого Некрасов называл «превосходными» и добавлял: «Давно не слышалось в русской литературе такого благородного, строгого и сильного голоса». Из Аксаковых Иван, несомненно, наиболее даровитый стихотворец. Константин тоже писал стихи, но ему, казалось, дела не было до их поэтичности, главное — высказать свои излюбленные идеи, прямо, без обиняков сказать о том, что являлось его заветнейшим убеждением.
Не чуждался, как мы знаем, писания стихов и сам Сергей Тимофеевич, видя в них «сердца выраженье», внося в них и свои чувства страстной привязанности к природе, отмечая семейные события и неприхотливые житейские происшествия, даже свое препровождение времени, одним словом, не мудрствуя лукаво перелагал на стихи свой привычный «частный» образ жизни. В сравнении со стихотворным благодушием отесеньки муза Ивана весьма сурова своей гражданственностью («во мне слишком много гражданина, который вытесняет поэта», по его словам) и в то же время тревожна своими душевными исканиями и порывами в сравнении с публицистическими стихами Константина, не знавшего никаких сомнений в своей проповеди. В этой проповеди была и неколебимая сила — абсолютной точки опоры, но и своя замкнутость, по мнению Ивана Сергеевича, вкусившего плода с иного «древа познания» — самой жизни, кипящей практическими вопросами действительности, где открывается столько богатого, живого и противоречивого, не умещающегося ни в какие логические идеи. Иван «лицом к лицу», говоря его словами, и «встретился с действительностью», живя долгое время в губернских городах и вникая не только в механизм чиновничьего управления, но и в интересы общественной, народной жизни. Тысячи верст пришлось ему исколесить по дорогам России, на тарантасе ли, в кибитке, на санях, в простой телеге с приделанным к ней кибиточным верхом или вовсе без него: сколько людей самых разных сословий перевидал он на станциях, во время ночлега в деревнях и селах, при исполнении служебных обязанностей, сколько дорожных впечатлений и разговоров. «Эти впечатления лягут во мне, — писал он, — широким фундаментом для всякой будущей моей поэтической производительности».
Кажется, что в самой дороге, по вьюжным следам, возникали его стихотворные образы. Такова поэма «Зимняя дорога», написанная двадцатидвухлетним Иваном Аксаковым по возвращении его из Астрахани в Москву и вобравшая в себя множество бытовых подробностей русской жизни. Автор замечает, что «действие происходит в повозке, а частью и на станциях». В повозке, запряженной тройкой, двое молодых людей «едут из Москвы на именины одного помещика». Они мчатся санным путем, видя по сторонам то какую-нибудь небольшую деревушку, то обширный старый барский дом, поглощаемый тут же снежным пространством; останавливаются на короткий отдых согреться чаем в крестьянской избе, где за разговором хозяина и хозяйки угадывается непонятная для постороннего взгляда народная жизнь с ее заботами и бедами. Оба молодых человека видят и слышат одно и то же, но отношение к этому у обоих до противоположности различное. Один из них, по фамилии Ящерин, западник, расценивает бедность селений, «жалкое существование» крестьян как доказательство отсталости русской жизни от «просвещенного века». Для другого, Архипова, все увиденное, несмотря на свою противоречивость, ложится на душу каким-то странным, теплым чувством, ибо все это свое, родное, русское, от которого отказаться все равно что лишиться основы, начала своей личности.
Что-то от личного, духовно-интимного есть и в другой, лучшей поэме Ивана Аксакова «Бродяга» (названной им «очерком в стихах»). Недаром Иван Сергеевич признавал в себе «бродяжнический элемент», заставлявший его пускаться в путешествия по России. «Бродяга» вызвал живой интерес современников. Гоголь, узнав о замысле поэмы, с участием следил за работой автора. «Бродяжничество» главного героя, двадцатилетнего крестьянина Алешки Матвеева, по русской земле позволило Ивану Аксакову коснуться извечно «ищущих», страннических сторон русского национального характера, и вместе с тем этот «бродяга, гуляя по всей России, как дома», дал автору, по его словам, «возможность сделать стихотворное описание русской природы и русского быта в разных видах». Алешка тайком покидает деревню, долгие месяцы, в разные времена года странствует он по земле, под покровом ли летней благодати, терпя ли холод темных осенних дождливых вечеров, и природа действительно раскрывается перед нами в «разных видах». И здесь пригодились автору его собственные впечатления о тех дорогах и просторах, которые открывались ему в его путешествиях. Как, впрочем, пригодились и конкретные приметы тех мест, например, Астрахани, где побывал сам Иван Аксаков и куда собирается идти его Алешка (другой же герой поэмы отправляется к «дунайским берегам», где «близ границы деревня есть, Вилково» — об этом Вилкове Иван Аксаков подробно рассказывал родителям в письме из Бессарабии, почти одновременно работая над «Бродягой»).
Но наш «бродяга» вовсе не бездельник, «не празднолюбец», он бежит «не от труда, а к новому труду!», зная, что везде найдет работу.
Хоть сторона и не совсем знакома —
Все Русь да Русь, везде ты будешь дома!
И вот он уже пристал к артели работников, дробит молотом камни, которыми должны намостить дорогу, нанимается потом грузчиком на волжской пристани, таскает кули. Его буйным силам, молодецкому нраву, кажется, под стать только матушка Волга, к ней и стремится он, хочет держать путь на Астрахань.
…смерть хочется и мне
Так побродить в далекой стороне,
Да погулять, да покружить на воле!..
Поэма «Бродяга» оказалась неоконченной. Любопытно замечание Гоголя о возможной развязке ее: «Надобно показать, как этот человек, пройдя сквозь все и ни в чем не найдя себе никакого удовлетворения, возвратится к матери-земле. Иван Сергеевич именно это и хочет сделать и, верно, сделает хорошо».
Неизвестно, этим ли возвратом героя к земле завершилась бы поэма, будь она целиком написана, но и в настоящем своем, незавершенном виде поэма нисколько не утратила в силе и цельности идеи. А эта идея есть не что иное, как любовь автора к своему герою, вообще к крестьянству, восхищение его нравственным здоровьем, крепостью, размахом его душевных сил, трудолюбием, умом, самой его речью. И эта любовь вовсе не отвлеченная, не риторическая, а истинно неподдельная, конкретная и в понимании крестьянского характера, и в знании быта. Современников поразила смелость, широта замысла поэмы, этот размах коснулся как в целом всей поэмы, так и ее отдельных глав — развертывающихся картин крестьянского житья, образующих как бы панораму народной жизни. Деревня в пору сенокоса в жаркий полдень, застывшая, кажется, в тишине и дремоте, покуда не доносится с поля «дружный топот» шагов спешащих домой косцов, подхватывающих хором песню; хороводы, которые ведет при лунном свете «народ молодой», а рано утром его ждет работа; сходбище деревенское, где укоряют старого Матвея Лукича, отца провинившегося перед сельским миром Алешки, пропавшего без вести, позорят старика и вместе с тем жалеют; земский суд с портретами начальника и просителей; артельная жизнь с разнообразием судеб работников; служба в храме и разгул в кабаке, вольные разговоры в шалаше, под звездным небом, и осенний вечер в деревенской избе, где спит на полатях усталый хозяин, а хозяйка, оставив пряжу, качает люльку, успокаивая младшего ребенка, и в наступающей сонной тишине вновь раздается заунывное гудение веретена, сливаясь с порывами мокрого ветра, бьющего в окно. Простой, строгий стих поэмы не претендует на оригинальность, и однако, как отражение богатства содержания, жизненных явлений, стиховой состав «Бродяги» так самобытен, интонационно-метрически разнообразен, щедр. Склад стиха главы «Бурмистр», например, напоминает стих поэмы «Кому на Руси жить хорошо», написанной Некрасовым спустя десятилетия после «Бродяги». Как признано в исследовательских работах, поэма Ивана Аксакова предварила некрасовскую поэму и своеобразием сюжета — странствованием героя по Руси, хотя цель и сам идейный смысл хождения некрасовских мужиков по русской земле иные, чем у аксаковского бродяги. В поэме Ивана Аксакова заложен и богатый пласт народно-песенной стихии, связанный с крестьянским характером, этим, видимо, она и заинтересовала великого М. И. Глинку, которому читал свою поэму автор. Не одному поколению читателей был известен «Бродяга». М. Горький в своей книге «Детство» вспоминает, как с малых лет ему запомнились стихи «Прямая дорога, большая дорога!», напечатанные в сборнике «Родное слово», по которому мать учила его «гражданской» грамоте. Эти ставшие хрестоматийными стихи составляют главу «Шоссе» в поэме Ивана Аксакова «Бродяга».
«Бродяжнический элемент» и самого Ивана Сергеевича гнал из города в город, из одного края России в другой. После двухлетнего пребывания в Калуге он возвратился в апреле 1847 года в Москву и поступил здесь на службу. Политические события 1848 года в Европе вызвали в Иване Аксакове углубленные раздумья об историческом назначении России при сопоставлении с Западом, где все «раскачалось» и «качается», и в то же время оставили в сознании неразрешенные вопросы пред лицом «неведомой нам» истины, что нашло свой отклик в позднее написанном стихотворении «После 1848 года». В октябре Иван был уже в Бессарабии, куда приехал с секретным поручением Министерства внутренних дел для исследования тамошнего раскола. И опять пошли письма в Москву родным — из Бендер, Кишинева, с описанием здешних мест, характера молдаван, с рассказами о молоканах и т. д. Служба, как всегда, давала ему средство знакомиться ближе с Россией, с ее народами. Писал он, кочуя по проселочным дорогам, по разным деревням и местечкам Бессарабии.
Не то было в Петербурге, куда он прибыл после бессарабской командировки. Все Аксаковы не любили северную столицу. Дело доходило до забавного: так, самый младший сын Сергея Тимофеевича Миша, привезенный в 1839 году в Петербург для поступления в Пажеский корпус, в первом же письме к родным, как и было заведено среди них, отругал Петербург, даже, собственно, и не видя его. Не вдохновлял Петербург и Ивана Сергеевича; даже письма его стали другими, на что сетовала маменька, усматривая в них «вместо повествования одни рассуждения». Сын отвечал: «Жизнь идет колеёю самой обычной ежедневности… Это не путешествие, где возникает целый ряд быстрых, сменяющих друг друга впечатлений».
Но вскоре произошло событие, вырвавшее Ивана Сергеевича из «колеи самой обычной ежедневности». 18 марта 1849 года он был арестован и доставлен в штаб корпуса жандармов. Поводом к этому была близость Ивана Аксакова с Ю. Ф. Самариным, подвергнутым кратковременному аресту за «Письма из Риги», в которых обличались засилье чиновников-немцев в Остзейском крае и чинимый ими произвол против православных. Власти расценили эти письма как попытку возбудить вражду к немцам — российским подданным. Кроме близости к Самарину, подозрение вызывала и резкость суждений Ивана Аксакова о властях, сама приверженность его к славянофильству, которое связывалось официальными кругами с «панславистским учением на Западе». Ивану Сергеевичу был предложен ряд вопросных пунктов, касающихся его политических взглядов, славянофильских идей и т. д. Ответы были написаны, по словам самого Ивана Аксакова, «без всякого приготовления, экспромтом, набело», с присущим ему прямодушием и благородством. С ответами ознакомился император Николай I, который по прочтении их сделал на полях против подчеркнутых им мест собственноручные замечания и возражения и препроводил рукопись графу А. Ф. Орлову, надписав сверху: «Призови. Прочти. Вразуми. Отпусти!» Это и было сделано графом, шефом жандармов, в столовом зале которого проводил время арестованный Иван Аксаков, пользуясь любезным вниманием хозяина, снабжавшего его книгами и отличными сигарами. Так кончилось недельное лишение свободы, выпавшее на долю молодого критика властей.
Вскоре произошло другое событие. Вышел циркуляр, запрещающий русскому дворянину носить бороду. Для Аксаковых, отца и старшего сына, это был неприятный акт насилия: оба носили окладистые бороды, и вот, по циркуляру, предстояло расставаться с ними. В письмах к Ивану в Петербург Сергей Тимофеевич сообщил о всех фазисах «истории с бородой», откладывая бритье в надежде (увы, тщетной!) добиться разрешения носить ее, покуда не пришлось сдаться на милость циркуляру. Сергей Тимофеевич возмущался, и не потому только, что в его летах неприлично менять свою наружность, он видел в покушении на бороду нечто оскорбительное для своего образа жизни. Почтенную свою седую бороду Сергей Тимофеевич сбрил, как он сам сказал, с сердечным огорчением. Расстался с густой черной бородой Константин Сергеевич. Его отношение к бороде, к русскому платью было, видимо, несколько иное, чем его батюшки, об этом Юрий Самарин писал Константину Сергеевичу: «О твоем батюшке собственно не было речи. Его лета и то, что он действительно никуда не выезжает, полагают разницу между его и твоим положением. К тому же он надел русское платье, почти не говоря о нем; ты надел его с трубным звуком и показывался в нем».
Так или иначе, пришлось Константину Сергеевичу расстаться с русским кафтаном, но Сергей Тимофеевич платье свое, разновидность зипуна, по домашней привычке продолжал носить до конца жизни. Впрочем, с обритием бороды Аксаковы явно поспешили. Их близкий знакомый, издатель журнала «Русская беседа» Александр Иванович Кошелев, предупрежденный ими о случившемся, решил действовать более решительно, чем они. Через московского обер-полицмейстера Кошелев просил передать генерал-губернатору покорнейшую просьбу: оставить его бороду в покое. «Если же это невозможно, — прибавил он, — то придется взять меня силою и обрить меня в цирюльне». На этом закончился поход генерал-губернатора против его бороды, и Кошелев мог только с удовольствием поглаживать ее, серебристую, не столь уж и внушительную, в присутствии своего безбородого сотрудника, «дражайшего» Константина Сергеевича.
Следует сказать, что вопрос о русском платье был для К. Аксакова принципиальным, неотделимым от его понимания народности, верности ей. Его либеральные современники иронизировали над тем, что он ходит в зипуне (верхняя одежда типа кафтана, без воротника) и мурмолке (маленькая круглая шапочка из мягкой ткани, без околыша). Сколько насмешек, глумления вызывали у «прогрессистов» сами эти названия в применении к славянофилам! Впоследствии после смерти старшего брата, защищая память его от «нападающих», Иван Аксаков в статье «О ношении русской одежды» повторит вслед за ним, что стоит, казалось бы, «за таким пустяком, как одежда. На этом мы заметим только, что Петр Великий, пред которым, без сомнения, они же благоговеют, смотрел на это дело иначе и, видно, придавал одежде совсем не пустяшное значение, если ссылал в Сибирь и на рудники портных, шивших русское платье (См. полн. Собр. Законов). Он, без сомнения, желал и стремился обрить и переодеть по немецкой моде все русское крестьянство, но благоразумно воздержался от такой попытки».
Иван Аксаков замечает, что независимо от народного значения одежды, которую надели на себя К. Аксаков, Хомяков и другие, «это был акт личной свободы — и в то время эмансипации от гнетущих оков, наложенных на наше развитие рабскою подражательностью самого русского общества — так деспотически, вещественно и духовно полицействовавшему у нас Западу!» Обращаясь к молодым людям, не чуждающимся народной одежды, Иван Сергеевич напоминает, что ношение ее «не должно быть делом моды, способной опошлять всякое, доброе само по себе, действие… Народная одежда не должна быть
И конечно же сам дух времени определяет, насколько уместно, не стилизованно, не абсурдно выглядит издревле национальная народная одежда. Вот, к примеру, начало XX века, в России — наэлектризованная атмосфера, революционные разряды, страна на краю пропасти, а мы видим императора Николая I в одежде царя Алексея Михайловича; императрицу Александру Федоровну в одежде царицы Марии Ильиничны: генерала-адъюнкта графа Иллариона Ивановича Воронцова-Дашкова в наряде конного стрельца Московского приказа Авраама Лопухина; гофмейстера князя Г. Д. Шервашиадзе в праздничном кафтане боярина XVI века; гофмаршала графа П. Н. Бенкендорфа в наряде стольника князя Репнина; фрейлину княжну С. И. Орбелиани в наряде боярышни XVII века; камер-юнкера В. И. Звегинцева в «чуче» — наряде татарского покроя времен Бориса Годунова; группу офицеров кавалергардского полка в нарядах стрельцов времен царя Алексея Михайловича; группу офицеров лейб-гвардии Преображенского полка в нарядах начальных людей из жильцов времен Алексея Михайловича и т. д.
И хотя это был всего лишь костюмированный бал в 1903 году с участием в старинных нарядах государя и государыни, а также придворных лиц (запечатленных на фотографиях), — в каком трагическом отсвете встает перед крушением России это блестящее представление с идеалом «Святой Руси»!
Ивану пришлось посочувствовать отесеньке и старшему брату, но служба оставляла ему меньше, чем им, досуга для философствования на этот счет. Молодого чиновника уже ждал Ярославль, куда он был командирован в апреле 1849 года для ревизии городского управления в губернии, описания торговли в городах и т. д. Ярославль ему очень понравился как город со своей «физиономией», а о самой губернии он писал родным: «Что это за удивительная местность — Ярославская губерния! Сколько исторических воспоминаний на каждом шагу, сколько собственных своих святых, сколько жизни и деятельности в торговле и в промышленности, сколько предприимчивости в крестьянах…» В домах крестьян и мещан он отмечает «необыкновенную чистоту», «необыкновенную опрятность». Знакомясь со старинными русскими городами — Борисоглебском, Угличем, Ростовом и другими, с купеческим и крестьянским бытом, с материальными силами края, Иван Сергеевич в то же время был во власти тревожных общественно-нравственных раздумий, ими полны его письма отцу и старшему брату.
С Константином у него и единомыслие, и всегдашний спор. Сколько раз говорил он себе мысленно, вспоминая в душе старшего брата: как было бы хорошо, если бы Константин потрясся вместе с ним в телеге, пронесся через эти роскошные, зеленые поля, побывал бы с ним в этом городе, вместе посмотрели бы, как живет и чем занимается здешний народ, поделились бы впечатлениями об увиденном. А главное — он, Иван, помог бы Константину лучше узнать действительность, которую тот все же мало знает, даже и отесенька признает это, несмотря на свое преклонение перед «святыми убеждениями» первенца. И вот наступил день, когда они наконец встретились на дальней сторонушке. Константин приехал в Ростов, где в это время находился и его младший брат. Вместе ходили по улицам, осматривали его древности, вспоминали Димитрия Ростовского, слушали нарочно для них заказанный звон на соборной колокольне. Впервые братья оказались вместе вдали от родительского дома, и в первый раз в своей жизни Сергею Тимофеевичу случилось писать к ним общее письмо. И он писал им, как будто сам, а с ним и вся семья были с ними рядом. «Все это время всякий день, и не один раз, воображаем мы, как вы вместе ходите на ярмарке, разговариваете с купцами, мещанами и народом; как вы сидите друг против друга, перестреливаясь облаками дыма и мало-помалу начинаете спорить, как горячо развивает Константин свои неизменные убеждения…»
Иван остался доволен приездом брата, познакомил его с некоторыми служебными учреждениями, с оригинальными лицами, и Константин признал даже определенную важность практических вопросов. С тем и уехал Константин Сергеевич, снова ждал его родительский кров, полная свобода от житейских забот и условностей общества, где он, размахивая руками, готов был до ночи доказывать свое и где принимался теми, кого он сам называл «публикой», за что-то вроде индейского перца для приправы надоевших ежедневных блюд. А Ивана ждала чиновничья лямка, все та же «бивачная жизнь», пока не случилась одна история, положившая конец двухлетнему пребыванию его в Ярославской губернии. Третьему отделению собственной Его Императорского Величества канцелярии стало известно, что Иван Аксаков читает в обществе какую-то поэму «предосудительного содержания» под названием «Бродяга». Об этом было сообщено министру внутренних дел графу Л. А. Перовскому, в ведомстве которого служил Иван Аксаков. По официальному предписанию графа автор представил ему «Бродягу». Хотя министр и не обнаружил ничего предосудительного в содержании поэмы, но нашел неуместным заниматься сочинительством человеку, посвятившему себя службе и облеченному доверием начальства. Иван Сергеевич оценил замечание министра как оскорбительное для своего достоинства, в письме к нему он с некоторым вызовом разъяснил: «Не только правом, но и обязанностью своей считаю объяснить Вашему сиятельству, что не служба терпит от моих литературных занятий, а литературные занятия, нравственное и умственное образование мое принесено в жертву службе». Молодой чиновник объявил министру, что он не может оставить авторских занятий, которые если и не имеют особенного литературного достоинства, зато важны для него как единственный способ освежения его утомленных службой нравственных сил, и представил просьбу об отставке. Впрочем, вскоре же Иван Сергеевич раскаялся в своей горячности, написал письмо Л. А. Перовскому, где признался в «неуместной запальчивости» и выразил готовность служить под началом графа, но дело так и кончилось отставкой.
После отставки поначалу выходило, что все складывается как будто к лучшему: ведь и служил он, и странствовал, и бивачничал не из одной только охоты к этому, все это было приготовлением к главной цели, которая всегда, даже подспудно жила в нем и указывала ему будущее — к его литературно-общественной деятельности. И вот после девятилетней службы в разных городах России выдалось дело, касавшееся, кажется, его истинного призвания. В 1852 году он начал издание «Московского сборника», но вышел только первый том, второй том и дальнейшее издание сборника были запрещены за участие в нем славянофилов, взгляды которых по крестьянскому вопросу были восприняты цензурой как оппозиционные. Так неудачей окончились первые шаги Ивана Сергеевича на поприще издателя. Видно, не пришел еще его час, его срок, еще впереди была пора издательской и публицистической деятельности, которая поставит имя Ивана Аксакова в первый ряд деятелей русской общественной мысли и вызовет такой резонанс в России и в Европе.
Испытывая в себе зов глубоко засевшего в душу «бродяжнического элемента», Иван Сергеевич решил было отправиться на три года в кругосветное плавание на военном фрегате, что привело в ужас семью. Сергей Тимофеевич, не менее всех других обеспокоенный затеей Ивана, издалека, пользуясь своим отцовским чутьем к интересам и психологии сына, апеллировал к его разуму, как будто и не отговаривая прямо, а на самом деле заклиная оставить мысль о кругосветном путешествии: конечно, понятна заманчивая сторона этой затеи, но ведь его же ждет корабельная тюрьма, которая тем невыносимее будет для Ивана, что он не может жить без дела постоянного, животрепещущего; он, отец, уже не говорит о том, какому беспрерывному беспокойству подвергнет Иван все семейство.
Вместо кругосветного плавания пустился Иван опять кочевать по степным дорогам. По поручению Географического общества отправился он в Малороссию для обозрения и описания украинских ярмарок. Кроме практической цели, была и художественная сторона этого путешествия: Иван Сергеевич чувствовал себя пленником той прелести и обаяния, которыми уже в прежние поездки обдавала его Малороссия, и теперь совсем должна была покорить его — и самим видом «сел с белыми хатами, живописно разбросанными по холмам и долинам, с плетнями, сдерживающими густую зелень; и тянущимися по дороге возами с волами, рядом с которыми тяжелой, медленно ленивой поступью бредут чумаки; и южными ночами, в особенности безлунными, когда не спится и не знаешь, как бы полнее вместить в себя эту волнующую красоту, эту роскошь темного неба с ярко горящими звездами; и живыми, милыми лицами хохлушек; и очаровательными песнями, которые показывают высокое душевное образование в народе». Не раз, весь во власти малороссийской природы, думал он, как сильно будет тосковать по ней в Москве, особенно по южному лету.
Да еще потому, может быть, ему так дороги эти края, что здесь «везде так и торчит Гоголь со своими „Вечерами на хуторе близ Диканьки“». И как не заехать, не побывать в гоголевской Васильевке, что недалеко вроде бы от Полтавы, но куда и не так легко, по криводорожью, добраться (и не шутя можно повторить ошибку Чичикова, ехавшего к Собакевичу, а попавшего к Коробочке). За два с лишком года, прошедших после смерти Гоголя, пришли в запустение и заросли травою вычищенные в свое время по его указанию дорожки через рощицы. Марья Ивановна, мать Гоголя, показала Ивану Сергеевичу все места, также, впрочем, запущенные, которые любил ее сын; была она очень грустна и все твердила о нем. Возвращался в Полтаву Иван Сергеевич с глубокими впечатлениями: картины природы, клонившейся к вечернему отдохновению, смешивались с высокой печалью при воспоминании о Гоголе.
В ноябре 1854 года Иван Сергеевич приехал в Абрамцево, где собиралась проводить зиму семья Аксаковых. Опять все в сборе; опять старший и младший брат часами сердечно беседовали и спорили. Каждое очередное «кочеванье» Ивана отзывалось приращиваньем его жизненного капитала, обогащало его запасом сведений, это же давало ему право и на взыскательный тон в разговоре с Константином, когда заходила речь о практических вопросах. Старший брат, такой немногословный в письмах, теперь, в разговоре с Иваном лицом к лицу, был на своем коньке, разгоряченный, неудержимый, шумел — все о том же, о своем, — с таким самозабвением, словно перед ним новичок, впервые слышавший его, а не брат, достаточно наслушавшийся смолоду этих проповедей; нетерпеливо попыхивая сигарой, Иван выжидал удобного момента, чтобы, вклинившись в образовавшуюся паузу, остановить оратора и сказать свое:
— Деспотизм теории над жизнью есть самый худший из всех видов деспотизма. Особенно же страшны последствия, когда извне насильно пытаются подчинить народ чуждой ему теории. Тогда происходит такое расстройство, извращение пути народного развития, бесплодною жертвой которого становятся целые поколения. И сколько же времени потребуется для того, чтобы народная жизнь могла оправиться от этого извращения, если она вообще может оправиться! Вот что значит, дорогой брат, не считаться с действительностью, а этим ты грешен!
Константин расхохотался, обнимая крепко брата и крича: «Наповал убил!»
Так оканчивались обычно их споры, в которых разногласия пересиливались братской любовью и взаимным пониманием друг друга.
И после смерти Гоголя все в Абрамцеве продолжало Аксаковым напоминать о нем, от комнаты наверху, в мезонине, где он обычно поселялся во время своего приезда, до гоголевской сосны и гоголевской аллеи в парке, по которой он любил прогуливаться. Как это бывает после смерти человека, когда образ его очищается в памяти близких от всего мелкого, житейского и остается, высветляется главное, так Гоголь теперь уже иным виделся семье Сергея Тимофеевича. То, что прежде казалось странным, непонятным, теперь находило новое объяснение, в воспоминании Гоголь поднимался на такую духовную высоту, которая делала его в глазах Аксаковых святым. Его так и называли теперь в этом доме, состоялась как бы канонизация Николая Васильевича. Мнение на этот счет выразила в своем дневнике Вера Сергеевна: «Гоголь — святой человек по своему стремленью… Какой святой подвиг вся его жизнь. Теперь только, при чтении стольких писем к стольким разным лицам, начинаем мы постигать всю задачу его жизни и все его духовные внутренние труды. Какая искренность в каждом слове! И этого человека подозревали в неискренности!»
Между тем жизнь в Абрамцеве продолжалась своим чередом, по-прежнему приезжали сюда гости, привлекаемые гостеприимством хозяев дома. Приезжал малоросс Кулиш, Пантелеймон Александрович. Он называл Сергея Тимофеевича «министерством общественной нравственности» и весьма почтительно относился к нему. Незаменимым авторитетом являлся Аксаков для гостя в предпринятом им деле: Кулиш писал биографию Гоголя, и ему очень важно было мнение Сергея Тимофеевича о своем труде. Аксаков ознакомился с присланной ему в конце 1853 года рукописью Кулиша «Опыт биографии Гоголя», исписал целую тетрадь своих замечаний и «дополнительных сведений». Вскоре после этого Кулиш приехал в Абрамцево, проведя в нем около двух недель. С собою он привез материалы к будущим двухтомным «Запискам о жизни Н. В. Гоголя», над которыми тогда работал. И здесь, в Абрамцеве, он не оставлял разысканий, перебирал черновые бумаги Гоголя, находившиеся у Аксаковых, делая из них выписки. По вечерам и даже по утрам читали найденные Кулишом драгоценные отрывки, письма юного Гоголя. Кулиш привез с собой уцелевшие главы второго тома «Мертвых душ». Константин Сергеевич прочитал первую главу, столь памятную ему и отцу по чтению самого Гоголя: хотя эта черновая глава отличалась от того, что читал Николай Васильевич, все же она была прекрасна и живо напомнила автора; казалось, он находился тут же, рядом и вот-вот послышится его голос. Аксаковы, слушавшие записки Кулиша, делали свои замечания, высказывали советы, особенно было что сказать Сергею Тимофеевичу, в котором это занятие подняло со дна души воспоминание о друге (совестно, что он до сих пор не исполнил священного долга перед его памятью, не написал еще историю знакомства с ним); Кулиш охотно принимал советы, вносил поправки, добавления. Многое из того, что услышал, узнал Кулиш от Аксакова, что почерпнул из бесед с ним, что списал из его переписки с Николаем Васильевичем, он использовал впоследствии в своей книге о Гоголе. Сергей Тимофеевич ценил Кулиша за «точность и знание дела».
Кулиш, при всей своей щепетильности, не мог не видеть искреннего радушия хозяина дома и его семьи. Надежда Сергеевна, или попросту Наденька, рада была гостю, учившему ее по вечерам петь малороссийские песни, этим преимущественно интересовал ее Кулиш. Для всевидящей же старшей сестры ее, Веры Сергеевны, Кулиш представлялся умным и наблюдательным, методичным даже в мыслях и страстной натурой, умеющей понимать искусство, и вместе с тем человеком с «путаницей в голове разнородных понятий, а в душе разнородных стремлений». Веру Сергеевну удивляло, и тут она выражала мнение всей семьи, начиная с отесеньки, — как это можно, подобно Кулишу, в одно и то же время благоговеть перед Гоголем, «чисто духовным человеком», как она его называла, и восхищаться Жорж Занд, с модной «свободой чувств» ее героинь. Жорж Занд была в глазах Аксаковой духовным отпрыском Руссо, которого Вера считала «соблазнителем душ», видела в нем «безнравственность». С восхищением рассказывал Кулиш, как Руссо стал для него лучшим учителем в заточении. Под «заточением» имелось в виду то, что за участие в Кирилло-Мефодиевском обществе (выступавшем за федерацию славянских народов и проповедовавшем идею украинского мессианизма) Кулиш был сослан в Тулу, где служил чиновником в канцелярии губернатора. В 1850 году трехлетнее «заточение» кончилось, и он переехал в Петербург, заведя там собственную типографию, оттуда, из Петербурга, наведывался к Аксаковым. Если даже и оставить в стороне Руссо, сама разнородность «понятий» и «стремлений», отмеченная в Кулише Верой Сергеевной, была действительно характерна для него. Украинский националист и вместе с тем приверженец создания монархической федерации славянских народов под эгидой царской России, Кулиш восхвалял «культурную миссию» польской шляхты на Украине и одновременно показал себя проводником руссификаторства в Варшаве, где он служил чиновником, и т. д. В доме Аксаковых увидели еще в молодом Кулише ту его «разнородность», по слову Веры Сергеевны, разноидеяную податливость, которая станет спутницей его долголетней жизни.
Дни, проведенные в семействе Аксаковых, оставили теплое воспоминание у Кулиша. Он обращался в письме к Сергею Тимофеевичу: «Прошу Вас уверить всех ваших, что каждый из них произвел на меня такое впечатление, какое только может желать добрая душа оставить в душе далекого странника, с которым, бог знает, встретится ли она еще когда-нибудь в жизни, но который унесет ее милый образ далеко в свой путь и будет глядеть на него в свои светлые, святые минуты». Кулиш не знал лично Гоголя, вносил в свою книгу о нем разрозненные сведения, взятые у других, у него «многие анекдоты совершенно лишние и плохо объяснены» (как писал Иван Аксаков своему отцу, с чем Сергей Тимофеевич соглашался). Это давало повод для предубеждения против личности Гоголя и его произведений. Само отношение Кулиша к великому писателю менялось до прямо противоположных оценок. Сначала он восторженно отзывался о его первых повестях, говорил, что надобно быть жителем Малороссии, чтобы постигнуть, до какой степени общий тон гоголевских картин верен действительности. Впоследствии же утверждал совершенно обратное, что малороссийские повести Гоголя мало заключают в себе этнографической и исторической истины, что в них «разит на каждом шагу» незнание нравов и обычаев крестьянских, неуважение к человеческой личности украинского простолюдина. То же самое — о «Тарасе Бульбе». Сначала дифирамб о том, что «размашистая фигура» героя яснее всяких томов показывает, какова была старинная жизнь Малороссии. А позже — тот же Кулиш обличает автора «Тараса Бульбы» в «исторической недостоверности» изображаемой им борьбы православного казачества на Украине против ляхов, местечковых арендаторов церквей во времена Богдана Хмельницкого. И здесь, говоря словами самого Кулиша, «разит на каждом шагу» влияние на него его кумира-поляка, «знаменитого польского критика» Грабовского, который, играя на тщеславии Кулиша, восхваляя его, успешно взращивал в нем украинский национализм.
В его спор с Кулишом вступил его земляк, историк, этнограф A. M Максимович, который опроверг «кулишовы брехни» (слова из его письма) о якобы незнании Гоголем малороссийской жизни. Все пять статей Максимовича под общим заглавием «Оборона украинских повестей Гоголя» были помещены в газете И. С. Аксакова «День». В ответ Кулиш с его «хуторянским романтизмом», повторяя ранее сказанное, называя Гоголя писателем со «словом неукраинским», объявил, что он «решительно отрекается от „гоголевских украинцев“», будто бы изуродованных писателем.
Вслед за тем, в 1862 году в журнале М. М.Достоевского «Время» по поводу этой полемики была опубликована статья «Критики-этнографы», принадлежащая, как полагают исследователи, Ф. М. Достоевскому. В ней речь шла о несостоятельности дотошной «этнографической перемывки» литературных героев перед «тайной художественной правды». Автор статьи не мог пройти мимо «особого тона, слышимого в статьях Кулиша». «К чему упоминание о «великороссийских писателях» и «великороссийской критике», как о чем-то чужом, чуть не враждебном?.. Господин Кулиш косится на «великороссийскую» литературу — за что это и почему?.. Разве великорусская литература давит и гонит украинское слово, мешает его развитию, не сочувствует его успехам?.. Но упрямые фанатики… не хотят понять, что два не чуждые друг другу мира, два больших семейства, живя под одной кровлей на равных правах, могут не мешать, а помогать и быть взаимно полезными друг другу… Не хотят понять этого фанатики, и, читая на своем языке, косятся на соседа, как будто боясь, чтоб голос его не заглушил их речи…»
Впоследствии пришлось и Ивану Сергеевичу Аксакову дать отповедь этому двуликому Кулишу. То самое украинофильство, за которое демонстративно тот ратовал, оказалось им же попранным, оплеванным. В своей статье «Где и что болит у нас» (напечатанной в 1882 году) Аксаков писал: «Кулиш — тот прямо-таки оплевал все, что для «украинофильства» было когда-то точкою отправления и оправданием. Он насмеялся, наругался над казаком, над всем мученическим житием Украины, над ее геройскою защитою своей православной веры и независимости, над всем ее историческим подвигом. Мало того: он призывает ее, Украину… принести покаяние, не только задним числом пред польскими панами-мучителями и отцами-иезуитами — гонителями прошлых веков, но теперь, сейчас же, пред таковыми же панами и иезуитами современной поры, — пред теми самыми, что в настоящий, текущий миг так нахально угнетают русский народ в Галиции…» По словам Ивана Аксакова, «украинофилы» вроде Кулиша — «жалкие пешки в руках поляков».
Часто наведывался в Абрамцево Щепкин, приезжая туда как на свою дачу, отдыхая там с удовольствием, не чувствуя ни в чем стеснения.
Михаил Семенович любил в доме Аксаковых рассказывать о своих земляках-украинцах, зная, как неравнодушны к ним хозяин и его семья, особенно после писем и живых рассказов Ивана Сергеевича, много поездившего по милой Украине и полюбившего ее, тосковавшего по ней, по собственному признанию.
Осенью 1853 года Михаил Семенович побывал в Париже и вернулся оттуда с приятными впечатлениями, особенно от встречи с актрисой Рашель. Правда, игры ее он не видел, встреча свелась к «болтовне», как выразился сам Михаил Семенович в письме к сыну («Было много болтовни об искусстве, но писать об этом скучно, потому что это болтовня»).
А вскоре знаменитая актриса прибыла в Петербург, и первые же ее выступления привели в восхищение Щепкина. Он только и говорил, что о Рашели. И в Абрамцеве у Аксаковых не переставал восторгаться ею. Из Петербурга поступали самые различные толки о гастролерше. Игра ее многих насторожила, вызвала удивление — басовитым, гремящим голосом, дробящим фразы, хриплыми вскриками, воплями, внешними эффектами. Зрители замечали, что приемы актрисы грубы, что она довела до крайности риторическое, броское, что игра ее бездушна, сводится к механическим приемам.
Но гипноз европейской славы действовал безотказно, знатоки искусства, как всегда, были в меньшинстве, а падкой до всего модного, сенсационного публике было не до «тонкостей искусства»: довольно было одного уже имени Рашель. Русское гостеприимство не знало, казалось, удержу. Не знали, как и чем угодить приехавшей гастролерше.
В Москве Рашель играла в обычной своей манере, вызывая, как и в Петербурге, недоумение одних и восхищение других. И в Абрамцеве не обошлось без спора о Рашели. Свой человек в доме Аксаковых, Михаил Петрович Погодин не соглашался с таким же своим человеком в том же доме — Михаилом Семеновичем Щепкиным. В свое время, более десяти лет тому назад, Погодин, будучи в Париже, привез оттуда кое-какие наблюдения для Михаила Семеновича. Он решил, что актеру-художнику необходимо заграничное путешествие, ему полезно не только посетить знаменитые театры и посмотреть хороших актеров, но даже потолкаться в простом народе других наций. По его словам, всякий народ имеет свои жесты, особые приемы при слушании, при рассказах, при возражениях и т. д., всем этим наблюдательный актер может воспользоваться и употребить это в дело, на сцене. Французы по природе своей комические актеры. А какая богатая мимика у итальянцев — достаточно посмотреть на уличные народные сцены, чему с удовольствием предавался Погодин, бывая за границей. Обо всем этом он и говаривал Щепкину, на правах друга и наставника. Но Михаил Семенович сам кого угодно мог поучить этому искусству. Тогда же в Париже Погодин увидел впервые «мамзель Рашель» и не очаровался ею. Более того, по возвращении из Парижа он писал в своем «Москвитянине», что Рашель «обязана славою только моде, своей фигуре и статьям Жюля Жанена или, как называют его… Юлия Янина». И теперь с начавшимися в Москве гастролями актрисы он не менял этого своего мнения о ней, приводя тем самым в горячительное состояние Щепкина. С приездом Рашели в Москву Михаил Семенович только и говорил о ней. Без конца умилялся, казался без ума от Рашели, ее игры, но одно его все-таки огорчало, удивляло и возмущало: очень уж она гонится за количеством спектаклей, за выручкой, и откуда такая энергия берется? — в день несколько раз на сцене. Старик даже осмелился отчитать гостью: сыграть двадцать шесть спектаклей кряду — такая поденщина унижает искусство, топчет его в грязь. Но в кругу своих друзей Михаил Семенович защищал актрису от малейшей критики.
— Шумом о себе мамзель Рашель обязана Юлию Янину, — поддразнивал Погодин Щепкина. Но Михаил Семенович не терялся и парировал своего критика сокрушительной притчей о некоем мужичке, вернувшемся после заработков в сапогах в свою деревню, где все носили лапти. Вся деревня в один голос закричала: «Как это, дескать, можно! Не станем, братцы, носить сапогов; наши отцы и деды ходили в лаптях, а были не глупее нас; ведь сапоги мотовство, разврат…» — «А кончилось тем, — заключил Михаил Семенович, многозначительно поглядывая на слушателей, — что через год вся деревня стала ходить в сапогах!»
Сергей Тимофеевич также мог попасть в «противники сапог». Что касается драматургии французского классицизма и французского театра, то еще около тридцати лет тому назад, в двадцатых годах, Аксаков высказал о них некоторые свои суждения. Он написал статью о переводе на русский язык трагедии Расина «Федра», где сделал множество замечаний о неточности перевода, о несоблюдении переводчиком присущих французскому драматургу «постепенности и приличия» в выражении чувства, о словесном излишестве, растянутости стиха вместо «силы и необходимой краткости» Расина, о слабости многих стихов в сравнении с подлинником и т. д. В то время Аксаков еще отдавал дань классицистическому искусству, хотя в главном уже отошел от него, требуя реалистической правды на сцене. Это и видно в его отзыве в те же двадцатые годы о французском спектакле в Москве, когда он как главный недостаток игры актеров отмечал отсутствие жизненности, правдивости. «Старые, обветшалые формы, безжизненные характеры, пустая декламация, условная неестественность, кажется, уже никому не могут нравиться, — писал Аксаков. И уточнял, обращаясь к игре актеров: — Когда дело дошло до чувств и до огня, то, скажу скромно, явилась одна холодная, поддельная, несносная декламация; выговор прекрасный, и некоторые отдельные мысли автора выражены ею довольно удачно, но чувствительности души было очень мало», актер, «игравший комедианта, имеет талант и искусство, но холоден: эта роль много бы выиграла от живости исполнения»; «чтоб лучше дать понятие о французском спектакле, скажу лишь, что его можно было сравнить с каким-то экзаменом взрослых воспитанников и воспитанниц в декламации на французском языке или в сказывании уроков». А еще раньше, в 1808 году, юный Аксаков смотрел игру гастролировавшей в Петербурге знаменитой французской актрисы Жорж (Вейснер М.-Ж.). Впоследствии в своих воспоминаниях о Шушерине Сергей Тимофеевич писал, как неприятно поразила его искусственность игры Жорж, отсутствие всякого внутреннего чувства. «Характеры ролей, истинность их всегда приносились в жертву эффекту… ее игра была бессмысленна относительно к характеру представляемого лица». Жорж так «механически играла свои роли», что «все мельчайшие интонации голоса, малейшие движения лица, рук и всего тела, всякая складка на ее платье, долженствующая образоваться при таком-то движении, — все было изучено и никогда не изменялось». Французская актриса «не обращала ни малейшего внимания на мысль автора, на общий лад пиесы и на тон реплики лица, ведущего с него сцену: одним словом, она была одна на сцене, другие лица для нее не существовали. После этого можно ли назвать ее игру художественным воспроизведением личности представляемого лица».
Но вернемся к иным гостям Аксаковых, приезжавшим в Амбрамцево. Бывал здесь Никита Петрович Гиляров, почти ровесник (на год моложе) Ивана Аксакова, будущий ближайший сотрудник его изданий. Двадцатитрехлетним, в 1848 году он с блестящим успехом окончил курс в Московской духовной академии и за философское исследование в виде особого отличия получил к своей фамилии прибавление «Платонов». В той же академии он был оставлен для чтения лекций, но в 1854 году вышел из духовного звания, некоторое время служил цензором, а потом посвятил свои незаурядные способности философским, литературно-критическим занятиям, публицистической деятельности, издавая с 1867 года в продолжение двадцати лет ежедневную газету «Современные известия». Он разделял во многом славянофильские взгляды, сходясь более всего с Хомяковым, что не мешало ему с ним же и горячо спорить, как, впрочем, и с Константином Аксаковым. В семье Аксаковых Никита Петрович был как у родных, да он в известном смысле и породнился с ними: Сергей Тимофеевич был крестным отцом двух его сыновей. Очень любил Гиляров Сергея Тимофеевича и как писателя: в своей большой статье «Семейная хроника и воспоминания», написанной еще при жизни старика Аксакова, он высказал интересные мысли о его книге, в частности, сравнив «Семейную хронику» с историческим романом: «…если хотите, она есть тот же исторический роман по внутреннему смыслу жизни, который сквозит через эти, незначащие для истории лица и события. И какой роман! Огромный роман… который обнимает собою время целого столетия, характеризует две великие эпохи…» Любопытны и его замечания об изображаемой художником красоте природы, которые он выводит из душевного строя, «воззрения на жизнь» автора, его прекрасных человеческих качеств. Нетрудно догадаться, что именно общение с Сергеем Тимофеевичем, покоряющие свойства его натуры помогли Гилярову лучше почувствовать достоинства аксаковских произведений.
Даже и в этой всеобще радушной, приветливой семье сам хозяин был все-таки самым располагающим, Гиляров мог почувствовать это на себе. С уходом из духовного звания, с началом новой для него жизни, из-за неустройства домашнего, отчасти по характеру своему Гиляров нередко бывал в унылом, расстроенном состоянии и таким являлся к Аксаковым.
Вере Сергеевне, считавшей Гилярова человеком замечательно умным, ученым и даровитым, не нравилось видеть его расстроенным, унылым, что она и считала нужным записывать в своем дневнике. Согласен был с нею и брат, Константин Сергеевич, с простодушием своим не скрывавший этого от уважаемого гостя. Как-то пришедший к ним Никита Петрович завел разговор о своих исследованиях памятников древнего церковного пения. Затем стал вспоминать детство, юные годы, через какие трудные стороны жизни ему пришлось пройти. У него, Гилярова, есть записки его жизни, которые он давно уже хотел прочитать им. Разговор перебросился на другие темы, заговорили о самолюбии, в чем оно выражается у людей, у каждого из присутствующих. Начался вполне откровенный обмен мнениями на этот счет. Константин Сергеевич, как всегда, ничего не скрывал, что он думает о человеке, и со всей откровенностью и добродушием начал говорить Гилярову, что он, Никита Петрович, слишком возится с самим собою, погружен в себя, это мешает ему обращать внимание на других и не располагает их к нему. В ответ Гиляров сознался, что сам он не раз замечал, как люди действительно не были расположены к нему, чувствовали стеснение в его присутствии, видимо, потому, что предполагали пренебрежительное отношение к ним с его стороны. Константин Сергеевич говорил, что важна сердечная прямота во всем, что часто брань менее оскорбительна, нежели бездушие деликатного замечания. Никита Петрович соглашался и с этим, но как бы в смягчение своей вины ссылался на рассеянность, погруженность в занятия; как бы так сделать, чтобы уметь быть более приветливым? Тут же Константин Сергеевич поправил: не уметь быть приветливым, но надобно в душе быть таким.
Получив по заслугам от Константина Аксакова, Гиляров обратился к слушавшему спокойно этот разговор Сергею Тимофеевичу с вопросом: какое впечатление на него сделал он, Гиляров, в первый раз? И, услышав в ответ, что оно, это впечатление, было выгодно, Никита Петрович искренне удивился и повеселел духом.
Более миролюбивыми, чем с Константином, были отношения у Гилярова с Иваном Аксаковым. Иван Сергеевич только что в ноябре 1854 года вернулся в Абрамцево из своего путешествия по Малороссии и был полон теперь ярких впечатлений. Вечерами, за полночь, за большой чашкой крепчайшего чая бодрствовал он, приводя в порядок огромный привезенный материал. Как-то днем он собрал вокруг себя близких (в числе их был и Гиляров) и начал читать законченное им предисловие к своему статистическому труду. Сергей Тимофеевич, по мере чтения все более оживлявшийся, приходивший в явно взволнованное состояние, среди самого чтения подошел к Гилярову и отозвал его в другую комнату. Там с восторженным взглядом, как бы продолжая еще слушать чтение сына, он проговорил: «Вы запомните это слово, запомните! Иван будет
Поразительны были глубина и основательность исследования, но не менее изумляло и то мастерство, с каким автор умел осветить поэтично художественно сухой, казалось бы, предмет, деловой материал, данные, состоявшие из вроде бы скучных, даже мертвых цифр. Вспоминая эти слова старика Аксакова о своем сыне, Гиляров уточнит впоследствии, что предсказание отца сбылось, но Иван сделался не писателем только, а и деятелем, чего не предвидел, кажется, Сергей Тимофеевич.
Среди гостей Абрамцева был человек, которому мы обязаны тем, что можем видеть и теперь запечатленных рукой талантливого рисовальщика Аксаковых, отца и сыновей. Это Эммануил Александрович Дмитриев-Мамонов. О нем Вера Сергеевна Аксакова сказала: «Человек, одаренный разнообразными талантами и не способный ни одного из них обратить в дело». Знали его и как литератора, но интереснее, пожалуй, он был как художник. В своей оригинальной, несколько заостренной, преувеличенной манере он мог схватить натуру так метко, что бросалось в глаза самое характерное в ней. Каждый рисунок не окончен (как все, за что ни брался этот талантливый человек), но удивительно точен и схож с натурою. Сергей Тимофеевич изображен сидящим в кресле, нога на ногу, правая рука покоится на подлокотнике кресла, в левой — длинная трубка. Голова повернута вбок, в скошенных в сторону глазах спокойное внимание, видимо, к тем, кто участвует в разговоре. Совершенно иной характер на другом рисунке: «не усидчивый» в кресле Константин Аксаков, в волевом повороте головы, рванувшийся, кажется, в словесный бой, ничем, никакими условностями не сдерживаемый в своих движениях. Совсем другой на рисунке его младший брат, Иван Сергеевич: еще молодой, но уже солидный, строгий, в профиль, в очках, с указующим «публицистическим» жестом правой руки. Но, помимо всего прочего, был Дмитриев-Мамонов просто добрым человеком и этим больше всего нравился Аксаковым.
Гостем Абрамцева бывал и Иван Сергеевич Тургенев. И у него с Аксаковыми установились добрые отношения, больше с Сергеем Тимофеевичем: оба охотники, оба писали об охоте, природе — какие-никакие, а уже общие интересы. Тургенев был учтив, любезен со стариком Аксаковым, особенно в письмах, ценя его книги и в первую очередь его несравненный русский язык. Неустойчивый во мнении о собственном творчестве (душевный подъем или спад у него целиком зависел от того, что скажут о его новой книге друзья, критика и прежде всего молодежь), Иван Сергеевич был более уверенным в оценке других писателей, здесь выручало его эстетическое чувство — главное свойство его натуры. При этом в другом художнике он тонко чувствовал то, чего ему самому недоставало и что могло стать поводом для похвал, доставлявших удовольствие почитаемому таланту, как, впрочем, и ему самому. Так можно до скончания века длить эти добрые отношения с миролюбивым, снисходительным, благодарным за внимание к себе стариком.
Иное дело — отношения Тургенева с сыновьями Сергея Тимофеевича — с полным соименником Иваном Сергеевичем и особенно Константином. Для них мало чисто художественного воздуха в общении. Есть у него подозрения, что они хотели бы уловить его, как простецкую душу, в свои славянофильские сети. Он может любезничать с ними, кое в чем уступать для видимости, но когда дело дойдет до святых его убеждений — здесь уж ни на шаг назад! А святая святых его убеждений: личность, безграничный прогресс ее развития, безграничные права, самоценность ее. За право личности он сражался и будет сражаться до конца. И ему смешно слышать эти пророчества молодых Аксаковых о соборном начале в русской жизни, подчиняющем себе, поглощающем эгоизм личности. А религия — разве это не оковы для личности? Пусть как угодно думают Аксаковы, но для него, Тургенева, оковы. Прав Наполеон, который изрек на острове Святой Елены, что если бы ему нужно было иметь какую-нибудь религию, то он бы обожал солнце, потому что оно все оплодотворяет, оно настоящий бог земли. Аксаковы думают уловить его в свои сети, а пока сами попадают в ловко расставленную им художественную ловушку. Им понравились его «Записки охотника», Константин в восторге от «Хоря и Калиныча», увидел в этом рассказе прикосновение к земле и народу, давшее автору силу. Но ведь в тех же «Записках охотника» есть и рассказ «Однодворец Овсянников», где выведен не кто иной, как Константин Сергеевич под именем Любозвонов. Этот нелепый, неправдоподобный Любозвонов в кучерском кафтане, с его русской речью перед мужиками, просьбой спеть ему «народственную песню», конечно, карикатура на Константина Аксакова, поделом ему за его фанатичные убеждения. Но удивительное дело — никакой обиды, никакого раздражения не вызвал рассказ у Аксаковых, даже какое-то снисхождение к нему, хотя и с далеко идущими, как казалось Тургеневу, целями: не покидает их мысль перевоспитать его. В своем письме Иван Аксаков мягко укорял своего соименника, что он в новом издании «Записок охотника» оставил прежнюю карикатуру на Константина и тем самым поступил не совсем согласно с теперешним собственным убеждением. «Сами вы обо многом изменили свои мнения», — писал Иван Сергеевич Аксаков, но другой-то Иван Сергеевич не торопился с признанием на этот счет: ему виднее, переменились ли его взгляды… Но, право, сущий ребенок этот Константин Аксаков; сразу же по прочтении нового издания «Записок охотника» с оставшейся в них карикатурой на него он писал Тургеневу: «Кажется мне, любезнейший Иван Сергеевич, что вторичная наша встреча нас так сблизила, что мы с вами уж не разойдемся. Так я чувствую; уверен, что и вы тоже». Просто обезоруживает их незлобие, благодушие! Сам он, Тургенев, чувствовал неловкость, послав автору поэмы «Бродяга» свой отзыв, написанный свысока. «Ваши стихи имеют все качества поэзии, кроме того тонкого, неуловимого — того
Давно вели переписку Тургенев с Аксаковым, с неизменно доброжелательным, мягким Сергеем Тимофеевичем; всегда прямым, откровенным Константином Сергеевичем, готовым по всякому поводу подавать писателю советы, наставления: не оставаться навсегда «преобразованным» (разумеется, петровской реформой), а втягиваться в постижение «русской самобытной жизни»; с более терпимым соименником своим, Иваном Сергеевичем, имевшим обыкновение говорить ему в письмах: «Послушайте!» Но могут ли заменить письма живое слово, непосредственное общение людей? Да и не все охотники до писем. Для Тургенева они были более привлекательным зеркалом, чем личная встреча, живой разговор с «адресователем», когда снимался флер отношений на расстоянии и все, что составляло обаяние его писем, исполненных ума, эстетического вкуса, метких суждений об искусстве, людях, уже теряло свою красоту перед главным: стержнем, ядром личности собеседника.
Во второй половине мая 1854 года Тургенев пять дней прогостил в Абрамцеве. Срок небольшой, но и все же достаточный, чтобы если не узнать, то хоть лучше понять, почувствовать друг друга. И в этом, кажется, преуспели обе стороны, убедившись, вероятно, в том, что не такие уж маниловские отношения между ними, не все им так уж приятно друг в друге и лучше об этом, пожалуй, не говорить. Именно так, отмолчаться, и намерен был Сергей Тимофеевич, как бы вскользь, мимоходом упомянув о посетившем их госте в письме к сыну Ивану, странствовавшему в то время по Малороссии. Почуяв что-то неладное (ведь столько семейных разговоров было о письмах Тургенева, о нем самом), Иван Аксаков настоятельно просил отца подробнее написать о Тургеневе: «Как его нашли у нас, понравился ли он и что он сам теперь, каков?.. Вы так мало о нем говорите, что как будто им не совсем довольны», — уже напрямик заключал Иван.
И Сергею Тимофеевичу пришлось ответить: «О Тургеневе писать — неуместно. Как добрый человек, он понравился нам, то есть некоторым. Но как его убеждения совершенно противоположны и как он совершенно равнодушен к тому, что всего дороже для нас, то ты сам можешь судить, какое он оставил впечатление. Впрочем, по моей веротерпимости, это не мешает мне любить его по-прежнему». Взаимные отношения действительно и после этого оставались прежними, переписка не прекращалась. В январе 1855 года Тургенев опять навестил Абрамцево. Что-то тянуло его туда. Не сама ли теплота семейной атмосферы, нравственная чистота, господствовавшая здесь и невольно влиявшая на гостей? Этого не мог не ценить Тургенев в аксаковской семье, при всех расхождениях во взглядах с Сергеем Тимофеевичем и его сыновьями.
Возможно, и по другой причине потянуло Тургенева к Аксаковым. Это было тяжелое время для него, переходное в его творчестве, полное неудовлетворенности и осознания еще не найденного своего художественного пути, «старая манера» (которую он относил к «Запискам охотника» с их фрагментарно-очерковым описанием людей и событий) исчерпала себя. Для выражения тех современных общественных проблем, картин русской жизни, которые входили в его замыслы, требовалась форма более эпическая, форма романа. Но «новая манера» (его же слова) не давалась писателю, так и не доведенный до конца роман «Два поколения» был уничтожен как неудавшийся. Мнительный Тургенев, с сильно надорванной верой в себя как писателя, готов был бросить навсегда перо, но предварительно ждал все-таки разубеждения и поддержки друзей-приятелей, видимо, в том числе и Аксаковых. Кроме того, он «вертел» (его же выражение) в голове роман (будущий «Рудин»), в котором намеревался вывести Н. Станкевича и его кружок. Константин же Аксаков хорошо знал Станкевича, был членом этого кружка, мог бы рассказать кое о чем, да и недурно самого его понаблюдать, живого идеалиста тех тридцатых годов. Так или иначе, Тургенев снова прибыл в Абрамцево. Он видел себя здесь уже как бы старожилом после недавнего, летнего приезда и рад был отвести душу в разговорах и, конечно, спорах с Константином Сергеевичем. Но прежде «охотник старый» и «охотник молодой», как называл себя и Тургенева Сергей Тимофеевич, поведали один другому (хотя об этом уже и знали из недавних писем друг к другу) об осенней стрельбе птиц. «В октябре самая лучшая стрельба тетеревов с подъезда, — говорил Аксаков, — когда-то я так любил эту охоту… но теперь у меня осталась только удочка».
Тема эта была всегда новой для обоих охотников, поощрявших друг друга и на литературные рассказы об охоте.
Много говорили гость и хозяева дома о литературе. Слушая знакомые еще по письмам бережные замечания Сергея Тимофеевича о его первом, неоконченном романе (который так и не выйдет в свет), похвалы, уверения в «больших достоинствах» этой рукописи, Тургенев испытывал удовольствие, оценивал бодрее и свои силы, былая мнительность, сомнения в своем даровании самому уже казались неосновательными, вздорными, и снова можно было, как когда-то, говорить себе: вперед! Так вот он и докажет это своим новым романом.
Константин Сергеевич тотчас же заговорил о последнем, неоконченном романе Тургенева, где много дано воли Амуру. «Амур — мальчишка, и больше ничего. Я уже писал Вам, что мало говорят у нас об общественных страстях человека, об общих задачах, а вместо того, кажут нам разнородных влюбленных — то на французский, то на английский, то на испанский манер. Не уважаю, признаюсь, я и самого этого личного чувства любви или влюбленности, коль скоро переходит оно за пределы юности… Мужественная сила мысли, деятельность ученая, художественная в истинном смысле слова, с достойным содержанием, всегда может быть подвигом мужа. Смешон был бы человек, захотевший идти по следам Дон-Жуана, чувственно или душевно… Недостаток мужественности меня постоянно огорчает».
Тургенев, чуть жалея «гонителя любви» (как он шутливо назвал мысленно Константина Аксакова), подчеркнуто обратился весь во внимание. Константин же Сергеевич как ни в чем не бывало продолжал свое, по обыкновению, полный желания помочь Тургеневу выйти на правильную «дорогу», тем более что сам писатель в прошлом уже доказал свою способность идти дальше, написав «Хоря и Калиныча»: пока он толковал о своих скучных любвях да разных апатиях, о своем эгоизме — все выходило вяло и бесталанно; но он прикоснулся к народу, прикоснулся с участием и сочувствием — и как хорош его рассказ! И вот теперь, когда писатель на распутье, еще не нашел свою манеру, — не самое ли время указывать ему, что со своими амурами он недалеко пойдет.
Воспользовавшись передышкой в речи Константина Сергеевича, Тургенев завел разговор о Станкевиче. Но там, где был его любимый Станкевич, рядом же появлялся для Тургенева и не менее его любимый Белинский. И здесь он не преминул восторженно заговорить о нем. Константин Сергеевич стоял, о чем-то задумавшись; Тургенев, поглядывая по сторонам, на других слушателей, вспоминал то счастливое для себя время, когда он встречался с Виссарионом Белинским. Благотворны были для него, Тургенева, эти встречи. Белинский был его командиром и руководителем, крестным духовным отцом. «Белинский и его письмо к Гоголю — это вся моя религия!» — воскликнул Тургенев. При этих словах Константина Аксакова как бы сорвало с места, негодованием сверкнули его до того задумчивые глаза, успели вырваться у него только несколько возмущенных слов, когда подошедшая к ним Ольга Семеновна объявила, что обед готов и пора за стол. Тургенев знал, что так возмутило Константина Аксакова: его, верующего, возмутило конечно же то, что он, Тургенев, назвал Белинского и его письмо к Гоголю — всей, единственной своей религией. Странный человек этот Константин Сергеевич: такой умница и такие предрассудки…
В столовой Тургенев поспешил завладеть стулом возле Сергея Тимофеевича. Желая несколько сгладить не совсем приятное впечатление от спора со старшим сыном старика, Тургенев начал делиться своими наблюдениями о заграничной жизни, о Париже, о французах: все там мелко, узко, негде развернуться! Если бы не серьезные причины, личные в том числе, заставляющие его уезжать в Париж, удерживающие там, — он непременно предпочел бы жить здесь, в России.
После обеда все пошли в гостиную. Был здесь и Хомяков; закурив трубку, он расположился в кресле и приготовился, кажется, долго сидеть, по своему обыкновению, как это делал у Аксаковых, особенно вечерами. В последние годы он неузнаваемо изменился. Смерть жены, последовавшая в январе 1852 года, перевернула его жизнь. И хотя он мужественно переносил горе, слишком велико оно было, даже и для его сил. Мало кто и раньше мог догадываться о душевных ранах этого человека, которые он скрывал даже от близких людей. Еще тогда, в первые же годы семейной жизни, казавшейся ему такой счастливой, его поразило горе: младенцами умерли первые два сына. Тоску свою по ним излил он в стихотворении «К детям», где вспоминал, как он любил
Стеречь умиленно ваш детский покой,
Подумать о том, как вы чисты душой,
Надеяться долгих и счастливых дней
Для вас, беззаботных и милых детей, —
Как сладко, как радостно было!
Теперь прихожу я: везде темнота.
Нет в комнатке жизни, кроватка пуста,
В лампаде погас пред иконою свет…
Мне грустно: малюток моих уже нет.
И сердце так больно сожмется!
И вот не стало Катеньки, все померкло в доме, хотя умом он понимал, что теперь должен быть для детей своих столько же матерью (как будто это возможно!), сколько отцом. Он старался не выдать своего состояния, на людях принуждал себя быть таким же, как и прежде. Однажды гость, оставшийся ночевать в доме Хомякова, случайно стал свидетелем потрясающей сцены: Хомяков глубокой ночью стоял на коленях и глухо рыдал, а утром, как обычно, вышел к гостям добродушно улыбающийся и спокойный.
С тех пор, как скончалась Катерина Михайловна, он неотступно о ней думал. Для своих детей (а их было пять) он рисовал на память ее портреты, воскрешая черты любимого облика. Не было уже прежнего Хомякова, веселого, остроумного, любящего жизнъ. Смерть жены была испытанием его, казалось бы незыблемой, веры. Ведь это он писал в своем сочинении «Церковь одна»: «Живущий на земле, совершивший земной путь, не созданные для земного пути (как ангелы), не начинавшие еще земного пути (будущие поколения), все соединены в одной Церкви — в одной благодати Божией». Оба они — и она, и он всегда жили в Церкви, и в ней, в вечном ее благодатном лоне продолжают жить вместе с Катей и с уходом ее из этой жизни. Он верил в это, но такая тоска по умершей жене точила его, что временами падал духом. И однажды во сне услышал ее голос: «Не отчаивайся!» И ему стало легче. Она не перестает быть с ним, с детьми, укрепляет его силы для жизненного подвига. Ранее беззаботный относительно «слова письменного», предпочитавший ему «изустное» слово, он теперь стал больше писать, как бы зная отпущенный ему недолгий земной срок, спешил передать на бумагу в глубине души зревшие долгие годы дорогие ему мысли и чувства[14]. В доме Аксаковых он отдыхал душевно, сам, как хороший, теперь уже неполный семьянин, глубоко чувствовал благо семейного круга. Как и во всем другом в жизни, в семье он оставался цельным человеком. И в философии своей он находил для семьи не отвлеченные, логистически-мертвые формулы, а слова живые, проникновенные, говоря, что семья есть тот круг, в котором любовь «переходит из отвлеченного понятия и бессильного стремления в живое и действительное проявление».
Глубоко любя Сергея Тимофеевича, Хомяков и произведения его ценил прежде всего за то, что писатель «живет» в них, действует на читателя всеми своими прекрасными душевными качествами, как он говорил — «тайна его художества в тайне души, исполненной любви».
Тон в разговоре задавал Тургенев. Но в присутствии Константина Аксакова невозможно было особенно развернуться в светском красноречии: пусть здесь, в их доме и людей много, как на рауте в Москве, но для него-то, Константина Аксакова, это сходка, собственно, и все сходка — и эта гостиная, и любое собрание, и любой салон, где светские условности для него все равно что легкая паутина для его кулака, которым он потрясает пред собою, задетый за живое в споре. Есть в жизни русский крестьянин, Москва, Россия, есть народ и публика, соответственно — «золото в грязи» и «грязь в золоте», есть святыни у народа, которые чужды публике, интеллигенции. Когда ко всему этому у человека серьезное отношение, то может ли он переливать из пустого в порожнее в салонной болтовне? И он, Константин Аксаков, так и смотрел на дело, просто не обращая внимания на светский тон в разговоре и выходя прямо к барьеру идейной схватки. Тургенев понимал, с кем имеет дело, и хотя предпочел бы в послеобеденном обществе беседу легкую, художественную, шел навстречу бойцу вопреки своей небойцовской натуре.
— Я не согласен с вами, Константин Сергеевич, и, боюсь, мы никогда не сойдемся с вами ни во мнении о русском человеке, то есть крестьянине, по-вашему, ни во взгляде на право личности, которую вы, что ни говори, унижаете, а для меня это право превыше всего на свете…
— Вы молчите, Алексей Степанович, выходит, вы одного мнения с Иваном Сергеевичем? — спросил вдруг Константин Аксаков, как будто сделав для себя неожиданное открытие.
Хомяков, отрываясь от трубочки и переводя взгляд с Аксакова на Тургенева, спокойно сказал:
— Нет, я не одного мнения с Иваном Сергеевичем, если бы мы разговорились с ним далее, то разошлись бы совершенно во взглядах.
— Константин Сергеевич в самом деле хитер, он знал, что его слова помогут ему! — вскричал Тургенев и, подойдя к Константину Аксакову, дружески обнял его.
Сидевшая рядом с Хомяковым Вера Сергеевна с некоторым недоумением посмотрела на Тургенева, обнимающего ее брата, и грустно улыбнулась.
Учтивый же Иван Сергеевич Тургенев вступил в беседу с Ольгой Семеновной о Хотькове, о Хотьковском женском монастыре, где она вчера была, о недалеком же отсюда Радонежье, куда ему хотелось бы совершить прогулку, не теперь, конечно, в такую снежную зимнюю пору, а как-нибудь в другой раз, весною или осенью.
Перед ужином пошли погулять, но дул такой сильный ветер и такие дымились сугробы сразу же за домом, что чуть не завязли в снегу и, озябшие, шумные, вскоре воротились домой. Выдался самый подходящий случай — вспомнить давний рассказ Сергея Тимофеевича «Буран» и в домашней уютной обстановке прочитать вслух его, что незамедлительно и сделал Константин Сергеевич.
Вполне довольный проведенным временем в интересной семье, уезжал Тургенев из Абрамцева, клянясь, что скоро же приедет опять сюда, чтобы наслаждаться и приятными беседами с хозяином, и спором с Константином Сергеевичем, и прелестной природой. Но в Абрамцево он больше уже не приезжал; весной 1856 года, остановившись на несколько дней в Москве, по дороге из Петербурга в свою деревню, он навестил Аксаковых в их московском нанятом доме, и это была его последняя встреча со стариком. Но переписка между ними продолжалась вплоть до смерти Сергея Тимофеевича. Во время готовившейся крестьянской реформы, когда «корабль тронулся» в России, старик Аксаков написал Тургеневу за границу письмо, призывая его вернуться на Родину и принять участие в великом деле. Последней вестью для него о Сергее Тимофеевиче было полученное им письмо от Ивана Аксакова, в котором говорилось о смерти отца.
Как ни отвлекала заграничная жизнь Тургенева от старых воспоминаний, но где-то в глубине художественного сознания остался след от близкого знакомства с семьей Аксаковых. Вскоре после зимнего, январского пребывания писателя в Абрамцеве он задумывает в самом начале 1856 года роман «Дворянское гнездо». И что замечательно, в замысле его резко меняется отношение к личности, занимавшей писателя. Если незадолго до этого в повестях «Яков Пасынков», «Фауст» личность героя была важной только сама по себе, как «отдельная личность», то герой задуманного романа уже не мыслит себя вне жизни народа. Не под влиянием ли семьи Аксаковых идея народности вошла в роман Тургенева как главная сила, определяющая и судьбу человека? Потребовалось почти три года, пока возникший замысел, созревая, вылился в роман. Написан он был в Спасском. И, пожалуй, нет у Тургенева проникновеннее места, чем описание того, как возвратившийся из-за границы домой Лаврецкий погружается в целительный мир деревенской глуши с ее редкими, за окном, звуками и всепоглощающей тишиной; как будто он «попал на самое дно реки», где жизнь неспешна и полна силы, здоровья, заставляя забывать о «других местах на земле», в которых «кипела, торопилась, грохотала жизнь», «и — странное дело! — никогда не было в нем так глубоко и сильно чувство Родины».
В письмах к Сергею Тимофеевичу Тургенев все напоминал о своих спорах с Константином Аксаковым, явно эстетизируя их: «Я очень люблю спорить с ним, потому что, несмотря на наш крик и жар, дружелюбная улыбка не сходит у нас с души и чувствуется в каждом слове». Видимо, этот «крик и жар» помнился писателю, когда он описывал спор Лаврецкого и его университетского товарища Михалевича, «вопящих» всю ночь напролет. Но больше аксаковской существенности в споре Лаврецкого с молодым чиновником, «петербургским парижанином» Пащиным, когда Лаврецкий отстаивает «самостоятельность России», доказывает «невозможность скачков и надменных переделок с высоты чиновничьего самосознания — переделок, не оправданных ни знанием родной земли, ни действительной верой в идеал», «требует прежде всего признания народной правды». Как бы Константин Аксаков проглядывает порой в Лаврецком, в «странности» его (по словам Лизы, думающей так о нем после первого разговора с ним), в его облике, от которого «так и веяло здоровьем, крепкой, долговечной силой», в таких чертах его характера, как простодушие, целомудренность, честность, доверие к людям. Хотя Тургенев передал герою и кое-что свое — например отношение к религии, — Лаврецкий по желанию Лизы приходит в церковь, наблюдает за молением крестьян, оставаясь при этом совершенно равнодушным к таинству службы, занятый лишь одною мыслью — увидеть Лизу (так и вспоминаются слова Тургенева, сказанные в Абрамцеве и обращенные к Ольге Семеновне: «Даю вам слово, что в будущее воскресенье пойду в церковь», о чем рассказывает в своем «Дневнике» Вера Сергеевна).
Тургенев не вызвал симпатии у Веры Сергеевны, не увидевшей в нем того, чем она жила сама и что ей было близко в людях, — духовного идеала, но Иван Сергеевич благосклонно и сочувственно отнесся к ней как художник. Сам духовный облик ее, отношение ее к жизни, как к «трудному подвигу», не могли пройти мимо внимания художника, и образ Веры Аксаковой стоял перед ним, когда он изображал свою Лизу, с ее способностью к самопожертвованию.
Так впечатления, почерпнутые писателем из общения с семьей Аксаковых, вошли, художественно преобразясь, в «Дворянское гнездо». Как «неисправимый западник», каким он себя назвал однажды, Тургенев не мог принять славянофильские идеи Константина Аксакова, многое из того, что он слышал в семье Аксаковых. Но с ним могло случиться то же самое, что произошло с Лаврецким после отъезда университетского товарища, многие из слов которого «неотразимо вошли ему в душу, хоть он и спорил и не соглашался с ним. Будь только человек добр — его никто отразить не может».
Но было и еще одно обстоятельство, имевшее не последнее значение во взаимоотношениях Тургенева с Сергеем Тимофеевичем Аксаковым, его семьей. Тургенев мог в полемическом запале отрицать за Россией какую-либо роль в мире. Но автору «Записок охотника», конечно, было чуждо такое западничество, которому поклонялся, например, его друг Василий Боткин, говоривший с презрением о русском народе. У Тургенева не могло быть такого отношения к народу, уже как художник он видел то в крестьянах, что не способны были увидеть такие, как Боткин. И еще замечалось читателями-современниками, что знающий западный быт Тургенев тонко подмечает такие черты в иностранцах, которые делают их менее интересными по душевному складу. Да и сам Тургенев при всех его симпатиях к Западу, где он прожил десятки лет, при всей «податливости» своей натуры так и не растворился в западной жизни, не свыкся с типично европейскими цивилизованными нравами. С удивлением будет он рассказывать своим соотечественникам (оставившим о нем свои воспоминания) об этической глухоте французов, в том числе и своих друзей — французских писателей, поражаясь безразличию их к нравственной стороне человеческих поступков. Говорил в нем русский человек и тогда, когда, опровергая досужие вымыслы биографа, приписывавшего ему сочинения на французском языке, он с достоинством заявлял, что ни одной художественной строчки не написано им иначе как только на русском языке.
Значит, кроме расхождения с Аксаковыми (о чем писал Сергей Тимофеевич в известном нам письме к сыну Ивану), было и другое, что связывало обоих писателей. И не случайно, что так высоко ценили С. Т. Аксакова и Некрасов, и Щедрин, и Толстой, и Достоевский: было в его книгах, в самой теплоте народного мироощущения то, что оказалось сродни их нравственному взгляду на русский народ. Не случайно и Тургенев уже в конце своей жизни намеревался написать воспоминания об Аксакове — желание хотя и не осуществившееся, к сожалению, но весьма красноречивое по самой своей памяти о людях, оставивших неизгладимый след в его жизни.
Счастлива большая семья, дружная и крепкая привязанностями родителей и детей, но и беззащитна в самом своем счастье, таком непрочном и непостоянном. Сергей Тимофеевич со всей болью почувствовал и понял это, когда в 1841 году умер семнадцатилетний сын Миша. Зажившая, казалось, со временем рана напоминала о себе и обострялась от сознания, что то же самое может повториться с другим сыном или дочерью, и тогда все мертвело в душе. Привязанность к детям была и несчастьем, это видел свой человек в аксаковском доме Михаил Петрович Погодин, любивший эту замечательную семью, благоговевший перед Ольгой Семеновной и о ней же говоривший, что она слишком связана «прихотью материнской нежности» и ей бы надо приготовлять себя к принятию смертей, чего не миновать в жизни. Гоголь об этом же писал Погодину: «Ужасно мне жаль Аксаковых, не потому только, что у них умер сын, но потому, что безграничная привязанность до упоения к чему бы то ни было в жизни — есть уже несчастье». Но ведь сердцу не закажешь, особенно материнскому.
Девять детей в аксаковской семье — как в обычной средней крестьянской семье. Плодится Русь, растут и поднимаются, как стены пшеницы, новые поколения землепашцев, работников и воинов, только здоровый и телом и духом народ может порождать такие многодетные семьи. Человек семьистый, семьянистый — говорят крестьяне о главе большой семьи, — так и о себе Сергей Тимофеевич может сказать. Вот только того же он не может сказать о своих детях, из них обзавелся семьей только один Григорий, женившийся в 1848 году на симбирской помещице Софье Ивановне Шишковой. Женившемуся сыну отец писал: «Из глубины твоего сердца и души поднялось много нового — прекрасного, которое оставалось неизвестным и нам и тебе самому. Я верю, что у многих людей, не испытавших полного чувства любви, остается много прекрасного в одной только возможности, не преходящего в их нравственный организм и погибающего, не родясь к жизни, вместе с ними… Жизнь не идиллия, не игрушка; она серьезна и трудна. На сбивчивом и скользком пути ее ты будешь верным путеводителем столь глубоко любимой тобою жены. Ты прямо, здраво и
Сын уходит из отчего дома, отныне он будет созидать свою семью, и ему надо пожелать на этом великом пути счастья. «Да, мой дражайший сын Гриша, — обращался Сергей Тимофеевич к сыну, — теперь у тебя
Сергей Тимофеевич тепло и торжественно приветствовал в письме обвенчавшихся сына и невестку, которая отныне становилась родным человеком в их доме. И как же радовался он, когда на свет появилась его первая внучка, Ольга Григорьевна, Оленька, третье драгоценное для него существо, после жены и дочери, носящее это дорогое для него имя. (Внучке Ольге Сергей Тимофеевич потом посвятит «Детские годы Багрова-внука».) Но грустно иногда ему оттого, что вот подходит жизнь к концу, а нет у него внуков. И не предвидится пока пополнения рода. Никто из дочерей пока не замужем, а годы идут, и как сложится жизнь каждой из них? Константин так и останется, видно, один. Так и не одарила его судьба любящей подругой, о которой он мечтал. После Машеньки Карташевской, первой юношеской привязанности, также неудачей кончилась вторая его любовь. Летом 1852 года он искал руки Софьи Петровны Бестужевой, приходившейся племянницей жене Хомякова, но та медлила с ответом. Зная, как переживал отец за своего первенца, Юрий Самарин писал Сергею Тимофеевичу: «Все устроится, и Константину за то, что в жизни он искал не утех и наслаждений, а нравственного подвига,
Но, видимо, в этих словах друга было мало убедительного для Константина Сергеевича, видевшего в семье, в «начале семейном» «основу всего доброго на земле»[15].
«Бродяге» Ивану было, видно, не до женитьбы, мать сначала сама не хотела, в самом начале его службы, чтобы он женился, а потом если бы и захотела того, то не возымела бы успеха. По его собственным словам, он закалился против «женской красоты» — службой, строгостью своего нрава и не думал пока ни о какой женитьбе. И впоследствии, когда он не прочь был войти в брачный союз, для него было небезразлично и общественное значение этого союза, об этом он прямо и заявил своей предполагаемой невесте, дочери Хомякова, открывши ей, как важно их супружество для общего дела, чем привел ее в удивление и получил отказ. Позже, когда ему исполнится сорок три года, его женой станет тридцативосьмилетняя Анна Федоровна Тютчева, дочь поэта (о нем Иван Сергеевич напишет прекрасную книгу — и в этом, возможно, не последнюю роль сыграет тот семейный долг, которому он привык быть верным еще смолоду в родительском доме).
Мысли о семье не покидали Сергея Тимофеевича. Меняется время — меняется семья. Уходила из русской семьи былая ее крепость, основанная на авторитете старших, отцов. Об этом с элегическим чувством поведал в своих «Семейных пирах» Михаил Александрович Дмитриев, старший приятель его, Аксакова, поэтический бытописатель Москвы, «антикварий литературных наших дел».
Прежде здесь были пиры. — Я помню: сбирались родные
К старшему в роде, в день именин или в праздник. — Бывало,
Длинные ставят столы; сыновья наезжают с женами,
Дочери, внуки, зятья: и беда не приехать к обеду!
Ласковы были до нас старики, а шутить не любили!
Говор, и гам, и детей беготня: но за стол — все утихнут!
Дед сидит на переднем конце, близ внучки старушка.
Жены с мужьями рядком: а подалее — дети постарше…
Все по порядку и чинно разносятся вкусные блюда;
После жаркова обносят бокал — и все поздравляют!..
Связи семейные! Что вас крепит? — Не обычай ли дедов,
Не почет ли наследственный к горю и опыту старших,
Нам передавших и жизнь, и заботливо с ней нажитое?..
В их, аксаковской, семье не было ни такой чинности за столом, ни строгости в домашнем быту, но связи семейные крепились, в сущности, тем же — опытом родителей, передавших детям «и жизнь, и заботливо с ней нажитое». О себе, как всякий отец, Сергей Тимофеевич не мог думать лучше, чем о детях, но так выходило, что полнота семейной жизни была именно в нем, он объединял в себе, как бы гармонически обнимал интересы всех детей, и в этом отношении он был лицом универсальным. Детям уже менее была свойственна эта широта понимания. Каждый из них был одностороннее отца, уйдя преимущественно в какую-то одну область — в философию, как Константин, в политику, как Иван, в практическое служебное дело, как Григорий, в нравственный аскетизм, как Вера. И сама жизнь их была дисгармоничной, драматически складывались судьбы. Они становились уже детьми середины XIX века — предреформенной, реформенной эпохи вторжения новых, буржуазных отношений во все сферы общественной и личной жизни, времени крушения многовековых этических, культурно-бытовых ценностей. Аксаковская семья, созданная главой ее, подвергалась, как и все в то кризисное время, изменению.
…Дома, как всегда, было людно. Все жили вместе, за исключением Григория Сергеевича, служившего теперь после Владимира в Самаре, и вовсе не наездами служившего, как Иван, а вполне оседло, подолгу на одном месте. У каждого свое дело. Константин, хотя его Иван и поругивал за лень, бодрствовал в любой час дня, переходя от письменного стола, где сражался безмолвно, к собранию людей, где продолжал прерванную на бумаге борьбу. Иван погружался в свои газеты и журналы, московские и иностранные. Отправлялся к знакомым и возвращался с политическими, литературными и прочими известиями. Сергей Тимофеевич, не в силах сам писать, ибо зрение все ухудшалось, в часы спокойного расположения духа диктовал дочери Вере главы «Семейной хроники».
Из Крыма поступали все более тревожные известия, и все в доме Аксаковых жили ими. Соединенный англо-французский флот вошел в Черное море. Начались кровопролитные сражения, бомбардировка, осада Севастополя. Оттуда притекали вести о подвигах солдат, «нахимовских львов», о самом Нахимове. Сергей Тимофеевич писал Погодину: «Нахимов молодец, истинный герой русский. Я думаю, и рожа у него настоящая липовая лопата, как я называю Дмитрия Михайловича Пожарского». «Простонародность» Павла Степановича Нахимова была обманчивой. Этот адмирал при всей своей внешней «боцманской» простоте был человек великий и душой и умом. Он не просто был воин, слепо выполнявший приказы сверху и не видевший ничего, кроме своего военного дела. Он внимательно следил за европейскими событиями и видел то, что было скрыто даже и от профессиональных политиков. 18(30) ноября 1853 года русские корабли под командованием Нахимова в ожесточенном сражении в Синопской бухте наголову разгромили турецкий флот. Турция отныне не могла уже ничем помешать русскому господству на Черном море. Петербург ликовал. Только не рад был победе сам синопский победитель, прославляемый всеми. Тогда так и говорили: есть один человек в России, который не радуется победе, — Нахимов. Для него было ясно, что Англия и Франция, боявшиеся усиления России в Европе и мире, не простят Синопа. Вскоре это и подтвердилось — как в опубликованном письме французского императора Наполеона III к русскому императору Николаю I (где говорилось, что гром синопских пушек оскорбил французскую и английскую национальную честь), так и в крайней враждебности английского правительства к России.
Вчерашний синопский победитель возглавил героическую оборону Севастополя. Трагизм Нахимова был в том, что он видел обреченность Севастополя. Но следовало скрывать это. Матросы, безгранично любившие его, готовы были идти за него в огонь и воду, верили, что с Павлом Степановичем не сдадут города, и он должен был неослабно поддерживать эту веру. Как это бывает в грозный год исторических испытаний, когда сами события выбирают народных деятелей, руководителей (сметая с арены все бездарное, рутинное), так власть Нахимова в Севастополе сплачивала защитников не столько даже его официальным положением, сколько силою духа (он самолично отстраняет назначенного сверху начальником Севастопольской крепости старшего себя по чину генерала, которому должен был подчиняться).
Гибель Нахимова (считали, что он сам искал вражеской пули) потрясла севастопольцев. Э. И. Тотлебен, руководивший инженерными работами при обороне города, мучившийся сам от тяжелой раны, узнав о смертельном ранении Нахимова, писал жене, что Нахимов был патриот России подобно благородным героям Древнего Рима и Греции. «Никогда я не буду в силах передать тебе этого глубоко грустного впечатления, — писал один из очевидцев похорон адмирала. — Море с грозным и многочисленным флотом наших врагов. Горы с нашими бастионами, где Нахимов бывал беспрестанно, ободряя еще более примером, чем словом. И горы с их батареями, с которых так беспощадно они громят Севастополь и с которых они и теперь могли стрелять прямо в процессию; но они были так любезны, что во все это время не было ни одного выстрела. Представь же себе этот огромный вид, и над всем этим, а особливо над морем, мрачные, тяжелые тучи; только кой-где вверху блистало светлое облако. Заунывная музыка, грустный перезвон колоколов, печально-торжественное пение… Так хоронили моряки своего Синопского героя, так хоронил Севастополь своего неустрашимого защитника».
Смерть Нахимова вызвала скорбные чувства во всей России, Москва была в трауре. «Нахимов получил тяжкую рану! Нахимов скончался! Боже мой, какое несчастье!» — эти роковые слова не сходили с уст у московских жителей в продолжение трех последних дней. Везде только и был разговор, что о Нахимове. Глубокая, сердечная горесть слышалась в беспрерывных сетованиях. Старые и молодые, военные и невоенные, мужчины и женщины показывали одинаковое участие». Так писал Михаил Петрович Погодин. В этих всеобщих русских сетованиях слышались и голоса Аксаковых; бывая у них в доме, Погодин разделял с ними горечь тяжкой утраты. Реакцию семьи передала в своем дневнике Вера Сергеевна: «Нахимова нет!.. Каким тяжелым, безотрадным ударом была весть о его смерти!..»
События Крымской войны, неудачный ход ее для России, неопределенность будущего тяжело переживались в семье Аксаковых. Сергей Тимофеевич писал тогда в одном из своих писем: «Много великих событий совершилось на моей памяти (я помню, как возникал Наполеон); но ни одно так не волновало меня, как настоящее или, лучше сказать, грядущее событие. Я расстроен не только духом, но и телом; нервы мои напряжены и раздражены, и я захварываю от каждого известия из Крыма». В толках и разговорах много было безотрадного, а сдача Севастополя совсем сразила, «сердце болит от тоски», как сказала Вера Сергеевна.
Константину Аксакову мало уже было одних разговоров и речей, он решил от слов перейти к делу. Он должен написать письмо к государю, где скажет о необходимости сменить главнокомандующего в Крыму Горчакова, сдавшего Севастополь, и укажет на Ермолова как на единственно народное имя, столь нужное в теперешнее грозное время; и вообще выскажется о настоящем положении, о том, что Севастополь не сдан, а временно уступлен, и т. д. Он и написал это письмо.
Но помимо неприятеля, вторгшегося в Крым, был у России, по убеждению Аксаковых, еще один враг, даже более опасный, чем неприятель внешний, и находился он в Петербурге. Имя этого врага — Нессельроде, который ведал министерством иностранных дел России. Результатом его дипломатической практики стала полная политическая изоляция России в начале 50-х годов. Это была действительно зловещая фигура, роль ее в международных делах во вред России, и в частности во время Крымской войны, может быть, не до конца еще раскрыта. На поверхности лишь то, что бросалось в глаза современникам: связь Нессельроде с австрийским двором, служение его интересам. Нессельроде сумел внушить Николаю I, что Австрия является верной, преданной союзницей России, и строившаяся на этой убежденности русская дипломатическая комбинация оказалась роковой: Австрия не только отказалась от «дружественного нейтралитета», на что в крайнем случае рассчитывали в России, но открыто присоединилась к союзникам — Франции и Англии. Однако и после этого не прекращались тайные сношения Нессельроде с австрийским кабинетом. Героическая борьба Севастополя, длившаяся почти год, произвела такое сильное действие на французов, что император Наполеон III предпринял шаги для переговоров с Россией, которые и начались секретно в Париже. Тотчас же Нессельроде поставил в известность об этих переговорах венский двор, что крайне осложнило положение России: Австрия, боясь изоляции от западных держав, немедленно предъявила России унизительный для нее ультиматум, неприятие которого вело к войне; кроме того, еще более агрессивными стали намерения Англии. В семье Аксаковых Нессельроде прямо называли изменником и предателем. Еще не остывшие от возмущения Аксаковых слова так и падали в дневник Веры Сергеевны, проклинавшей Нессельроде, этого «австрийского агента», «изменника», «предателя», все действия которого были «во вред России», «клонились к гибели России»; «но я все-таки уверена, что государь не был бы так уверен в невозможности высадки, если бы его не постарался в этом убедить и поддержать предатель Нессельроде». Общее мнение семьи слышится и в следующем рассуждении Веры Сергеевны, когда она писала, ссылаясь на донесение английского дипломата: «Еще в начале войны… англичане объявили, что им нечего бояться, пока Нессельроде управляет русской политикой, потому что Нессельроде вполне разделяет взгляды Англии».
Преемник Нессельроде на посту министра иностранных дел А. М. Горчаков (лицейский друг Пушкина) рассказал как-то в частной беседе следующее: «Знаете одну из особенностей моей деятельности как дипломата? Я первый в своих депешах стал употреблять выражение: государь и Россия. До меня для Европы не существовало другого понятия по отношению к нашему отечеству, как только: император. Граф Нессельроде даже прямо говорил мне с укоризной, для чего я это так делаю? Мы знаем только одного царя, говорил мой предместник: нам нет дела до России». Они и были для Аксаковых неприятелями — все те, кому «нет дела до России».
Немаловажно и то, что в недоверии к Нессельроде они не были одиноки.
В разные десятилетия о политическом интриганстве Нессельроде, граничащем с предательством государственных интересов России, высказывались П. Вяземский и Тютчев, Ермолов и Паскевич, В. Перовский и Муравьев-Амурский.
Константин Сергеевич все это время был в состоянии необычайного внутреннего горения, практические, общественные вопросы целиком поглотили его. Крымская война, смерть Николая I и восшествие на престол Александра II вызвали в нем глубокие переживания и напряженную работу мысли. Настоящее и будущее России мучительно волновало его. Что надо делать для ее блага, для избежания опасностей, таящихся в современной общественной жизни? У него есть свое мнение, и он должен это мнение высказать, довести до самого государя. Так, вскоре же после вступления Александра II на престол, весной 1855 года, Константин Сергеевич начал составление своей записки «О внутреннем состоянии России», предназначенной для государя. Зная, можно сказать, преклонение Сергея Тимофеевича перед «святыми убеждениями» старшего сына, легко представить себе, с каким пониманием и одобрением отнесся он к его замыслу. Вскоре записка была готова и через близкого к Аксаковым графа Блудова подана государю. Тогда это было нередкое дело — сочинение записок, обращенных к царю с советами и предложениями. Но мнение самого царя об этих записках было приблизительно то же самое, как отношение его позднее к назначению писателя Салтыкова-Щедрина на должность вице-губернатора провинциального города: когда Александру II преподнесли всеподданнейший доклад об этом, то он сказал, что вот и хорошо, пусть теперь служит, как пишет. Но служить оказалось труднее, чем писать, что и доказал наш писатель, распростившись с вице-губернаторством. Так и записка Константина Аксакова осталась просто запиской, но в ней его характер, убеждения выявились со всей прямотой.
В ней повторяется прежде всего излюбленная мысль Константина Аксакова о раздельности «земли» и государства, особенно подчеркнута важность этого положения в тезисах, заключающих записку. Автор утверждает, что русский народ «государствовать не хочет» и, предоставляя правительству власть государственную, взамен того предоставляет себе «нравственную свободу, свободу жизни и духа». Не народ нарушил это начало русского гражданского устройства, а правительство. И тут автор не особенно выбирает выражения, клеймя правительство за то, что оно «вмешалось в нравственную свободу народа, стеснило свободу жизни и духа (мысли, слова) и перешло таким образом в душевный деспотизм, гнетущий духовный мир и человеческое достоинство народа»; «правительство наложило нравственный и жизненный гнет на Россию — оно должно снять этот гнет» и т. д. Отделяя правительство от государя, Константин Аксаков не особенно жалует и последнего, также прямо обличая лесть перед царем, заверяя, что «русский народ не воздает царю божеской почести, из царя не творит себе идола»… Константин Аксаков дает и практические советы, главный из которых следующий: поскольку «свобода духовная или нравственная народа есть свобода слова», то и необходимо предоставить России эту свободу слова, свободу «общественному мнению». Сергей Тимофеевич по-отцовски мог присоединиться к энтузиазму сына, хотя он и сам был в свое время цензором, налагавшим некоторым образом стеснение на эту вожделенную свободу слова. Но теперь в цензуре Сергей Тимофеевич ожидал встретить препятствие своей «Семейной хронике», и поэтому слова из записки сына: «Полная свобода слова устного, письменного и печатного» — звучали для него весьма волнующе. Правда, опасения старика Аксакова насчет «Семейной хроники» не оправдались, ее пропустили всю, без единой помарки, но это нисколько не было и в дальнейшем препятствием к тому, чтобы бывший цензор Аксаков не разделял мнения своего старшего сына о цензуре, гнетущей «свободное слово»…
В эту трудную для России эпоху Иван Сергеевич не выдержал домашнего сидения и записался «охотником» в ополчение. Он стал штабс-капитаном Серпуховской дружины московского ополчения, облачился в мундир, исполнившись при этом, по его словам, очень серьезного и строгого чувства, и снова пошел мерить бесчисленные версты. В должности казначея и квартирмейстера ведал хозяйством целой дружины: снабжением людей провиантом, лошадей фуражом, хранением амуниции, приемом и размещением ружей, патронов, пуль, пороха. «Все ополчения теперь двинулись, — писал Иван Сергеевич родителям и старшему брату, — заколыхались сотни тысяч людей, и по всем дорогам теперь топот и говор идущих масс».
Так были пройдены дружиной великороссийские большаки, малороссийские «черноземные полотна дорог с лоснящимися полосами от колес», миновали Киев, вступили в Одессу, походом прошли по Бессарабии.
В письмах к родным Иван Сергеевич делился впечатлениями обо всем том, что встречалось на пути, о своих заботах и делах казначея, квартирмейстера, о казнокрадстве, взяточничестве (уже после окончания Крымской войны Иван Аксаков был приглашен принять участие в следственной комиссии, назначенной по делу о злоупотреблениях интендантства во время войны). В глазах сослуживцев примером честности было то, что по окончании кампании Иван Аксаков сдал в казну крупную сумму сэкономленных казенных денег. Крымская война, поражение России в ней тяжело переживались Аксаковыми, заставляли их глубоко задуматься о причине этого поражения. «Для меня, — писал Иван Аксаков вскоре же после войны, — одна только новость была бы утешительна, если бы сделан был хоть бы один шаг к освобождению крестьян, со стороны ли правительства или со стороны частных лиц. Чем больше думаю, тем сильнее убеждаюсь, что это единственное средство спасения для России, и что если этого вскоре не совершится, то будем мы биты и опозорены не один раз».
В марте 1856 года при известии о мире Иван Аксаков оставил дружины и возвратился в Москву… Через год он закончил свой труд по исследованию украинских ярмарок и был награжден за него Географическим обществом Константиновскою медалью, а впоследствии получил за него же Демидовскую премию Академии наук.
«Бродяжничество», однако, еще не перебродило в Иване Сергеевиче, его тянуло в новое путешествие, но на этот раз уже по чужим краям, которые надобно было увидеть собственными глазами, чтобы глубже понять существенные для него вопросы (относящиеся к России и Европе), и только после этого можно было зажить оседлой жизнью, серьезно приняться за какое-то постоянное дело.
И вот он за границей, в Париже, на первых порах оглушенный, ошеломленный шумом, гулом, движением, блеском этого «волшебного города», но вскоре же, по прошествии первого впечатления, видящий за всем этим блестящим водоворотом некую суетность и никчемность. И что всего возмутительнее в его глазах — это «раболепство умных народов, у которых есть жизнь духовная, перед внешним блеском чисто внешней жизни». Хотелось ему отыскать и понять те «добрые стороны», которые есть же у всякого народа, но сделать это было нелегко, лучшее, видимо, было разбросано, как все редкое, и находилось где-нибудь в другом месте, недоступное за дальностью расстояния. Краткость пребывания в Париже не помешала Ивану Сергеевичу сделать суровый вывод о здешней духовной среде, где «отовсюду видны края и дно, стремлений высших нет».
Вольнее, внутренне свободнее почувствовал себя Иван Сергеевич с приездом в Италию, оказавшись сразу же под неодолимой властью красоты, изобилием которой, кажется, здесь насыщен сам воздух. В Риме он насчитывает четыре города: Рим древний (с Колизеем, соответствующим идее древнего владычества Рима), Рим католический (с храмом Святого Петра, соответствующим идее католического всемирного владычества), Рим художественный и Рим народный. И о каждом Риме у него свое мнение, свои мысли, вынесенные не из книг, а из собственных впечатлений, — так важно все это увидеть своими глазами. После Рима с его развалинами, вещающими про могучую жизнь древнего мира, с неисчислимыми сокровищами музеев, ласкающей синевой моря и упоительной природой встретил путешественника Неаполь; и совсем очаровала Венеция; с площадью Святого Марка, с сотнями мостиков и арок, возносящихся над каналами, с почерневшими от времени дворцами, опоясанными водою. Сама итальянская природа, по-юному яркая, пышная, впечатляющая, пришлась, как видно, ему по вкусу. Путешествуя по югу России, он задумывался о мироощущении современного человека, о том, как угасает, исчезает тепло, интимность быта и в сознание, в жизнь человека входит холод неких горних высот. И здесь, в Италии, его потянуло испытать высоту особого рода. Он совершил восхождение на Везувий, был в самом кратере, стоя на застывшей, отвердевшей лаве и видя, как неподалеку со страшным шумом и ревом вырываются из двух жерл, дымясь и беснуясь, изрыгая камни и серу, два огненных языка, и рядом, почти под ногами, под застывшим слоем, сквозь трещины дышит, выбиваясь дымом, раскаленная лава, кажется, из самой преисподней земли. Великолепное, ужасное, торжественное зрелище, думал он, и здесь же закурил сигару на «огне Везувия», то есть от горячего куска лавы, выброшенного на глазах.
Такие моменты бывают редко в жизни человека, они оставляют в нем особое ощущение исключительности положения: дух захватывает от сдавленной ярости и гула подспудных стихий, необычайно обостряются слух и зрение, само сознание человека, поставленного перед вулканической силой. Нечто подобное не раз испытывал впоследствии Иван Сергеевич, будучи уже знаменитым публицистом и общественным деятелем, находясь как бы в кратерах социально-общественной жизни, чутко прислушиваясь к гулу времени, стараясь уловить подспудное движение событий.
Все относящееся к итальянской природе, расписываемой с увлечением Иваном, не встречало сочувствия отца. «Мать и сестры приходят в восхищение от местностей и природы, тебя окружающей, — отвечал он сыну, — но мы с Константином, испорченные нашей русской природой, не увлекаемся восторгами, и признаюсь тебе: ни разу не мелькнула у меня мысль или желание — взглянуть на эти чудеса». Сергей Тимофеевич не любил ничего грандиозного в природе, никаких эффектов и ничего вызывающе яркого, броского. На что, казалось бы, вода, в которой он видел «красоту всей природы», которая всегда жива, всегда движется и дает жизнь и движение всему ее окружающему; но не всякая вода, не во всякой своей стихии люба Сергею Тимофеевичу. Ему по душе небольшие речки и реки, бегущие по глубокому лесному оврагу или же по ровной долине, по широкому кругу, по степи, но не любимы им реки большие, с «необъятной массой воды», с громадными, утесистыми берегами. «Волга или Кама во время бури — ужасное зрелище! Я не раз видал их в грозе и гневе. Желтые, бурые водяные бугры с белыми гребнями и потопленные, как щепки, суда — живы в моей памяти. Впрочем, я не стану спорить с любителями величественных и грозных образов и охотно соглашусь, что не способен к принятию грандиозных впечатлений». В природе Сергея Тимофеевича привлекают не «величественные и грозные образы», а все простое и повседневное, дающее не столько зрительное удовольствие, сколько душевную радость общения с ней, с природой, и самой жизни в ней. Потому-то он довольно равнодушно внимал сыновним описаниям красот итальянской природы, не переставая, впрочем, восхищаться «славными письмами» Ивана. Как всегда, Иван отправлял домой письма с подробнейшими и выразительными рассказами о тех местах, где бывал, об особенностях культурной, бытовой, общественной жизни, делясь и своим неудовольствием по поводу того, что люди живут там преимущественно «вне общих современных интересов» — и за границей не убывал в Иване Сергеевиче его общественный темперамент, обращаясь хотя бы в эту критику. Послания его, как обычно, по нескольку раз читались всей семьей, да и гостями, которые даже уносили их из дому с разрешения хозяев (чтобы дать и другим почитать).
В одном из писем Иван Сергеевич признавался родителям, что «хотел бы взглянуть на Лондон». Нетрудно догадаться, что, главным образом, побуждало его отправиться туда. Ну конечно же разве можно было, побывав за границей, не навестить Герцена? По обыкновению русских путешественников, завершавших свои хождения по Германии, Франции, Италии переправой через Ламанш, зачастую единственно только для того, чтобы встретиться в Лондоне со знаменитым эмигрантом, и наш Иван Сергеевич оказался на Альбионе. В молодости не раз видевший Герцена (с ним был ближе знаком старший брат Константин), он теперь, спустя десять лет после эмиграции его, с любопытством ожидал встречи с этим человеком, сделавшимся предметом столь разноречивых суждений в русской публике. Герцен жил не в самом Лондоне, а в окрестностях его, в Путнее, куда надо добираться минут двадцать по железной дороге.
Герцен встретил гостя с живостью и энергией в жестах и движениях. В приемной зале, обставленной с большим комфортом, со старинным камином и коврами, хозяин и гость только успели обменяться первыми фразами, как с верхнего этажа (где были спальня и детские комнаты) сбежали вниз дети Герцена, которые и были представлены им Ивану Сергеевичу: шестнадцатилетний Саша, Наташа, двумя годами моложе брата, и семилетняя Ольга. Тут же появился Огарев, живший в двух шагах от дома Герцена и большую часть времени проводивший у него. Здесь они вместе встречали эмигрантов разных национальностей, обсуждали все, что касалось издания «Колокола». Только год с небольшим, как приехали Огарев и его молодая жена Наталья Алексеевна Тучкова-Огарева в Лондон, покинув Россию, но они уже так сжились с герценовским домом, как будто не год, а все эти десять лет обитали здесь, настолько был близок и прямо-таки необходим Огареву его друг по клятве на Воробьевых горах. Впрочем, друзей настигло тяжелое испытание: вскоре же по приезде в Лондон Наталья Алексеевна, порвав с Огаревым, связала свою жизнь с Герценом, но преданность Огарева и Герцена друг другу не пострадала. И вот, видя сейчас пришедшего к Герцену Огарева, Иван Аксаков невольно подумал, насколько не сходны между собою эти два человека: из Герцена, кипучего, непоседливого, словно бил фонтан остроумия, в то время как полноватый, с круглым лицом скорее русского купца, чем поэта, Николай Платонович Огарев казался унылым, меланхолическим молчальником (хотя именно этот молчальник, как потом стало известно Ивану Сергеевичу, предложил Герцену издавать «Колокол»).
Вскоре последовало приглашение в столовую, где на правах хозяйки была Наталья Алексеевна. За столом Герцен еще более оживился, избрав, как он выразился, должность разливателя шампанского, заговорил о Москве, о Московском университете, где началась его первая сознательная политическая жизнь. Может быть, гость слышал о маловской истории, этой Илиаде типично российской дикости и самовластия во всех его формах, от которого он с молодости претерпел гонения?
После обеда перешли в кабинет, также с камином и коврами; за курением и за бутылкой шампанского продолжалась беседа. Герцен завел речь о «Семейной хронике» Сергея Тимофеевича, рассказал, что он написал в Мейзенбург бывшей воспитательнице его дочерей, а недавно задумавшей перевести книгу С. Т. Аксакова на английский язык: перевести «Семейную хронику» нелегко, потому что это очень национальное произведение; поэтому он, Герцен, считая, что «это сочинение слишком длинно для рядового читателя», предложил переводчице выбрать «ряд отрывков, а пропуски вкратце» пересказать. А что еще пишет Сергей Тимофеевич? Написал «Детские годы Багрова-внука», и книга, говорите, превосходная? Надо непременно почитать.
Герцен приступил к щекотливой теме. Неизвестно, какими путями в Лондон попали два экземпляра драматических сцен «Утро в уголовной палате», написанных Иваном Аксаковым. Это была довольно резкая вещь, обличающая судебные порядки в России, и не только судебные, но и крепостнические. Показано заседание губернской уголовной палаты, продолжающееся с одиннадцати утра до обеда. Вот и все действие драмы. Как и в обыденных такого рода заседаниях действуют, вернее, заняты своим делом самые обыкновенные, заурядные чиновники: председатель и секретарь палаты, заседатели от дворянства, заседатель от купечества и т. д. Но в том, как бездумно, формально председатель с заседателями подписывают подготовленные секретарем решения, как бездушно вершат они судьбы людей, как вместе с тем спокойно проходят мимо злоупотреблений помещика-крепостника; в разговорах этих чиновников, скрывающих под маской правосудия свои личные интересы, — во всем этом обнаруживается некое незаурядное общественное зло. И понятно, почему за «Судебные сцены», «сатирически да еще талантливо написанные», ухватился Герцен, когда они попали ему в руки. За три с половиною месяца до приезда в Лондон Иван писал родителям из Парижа: «Я получил из Лондона предложение напечатать „Утро в уголовной палате“ отдельным изданием, с именем или без имени; в Лондоне — бог знает как — два экземпляра моей „Уголовной палаты“. Но я не дал согласия. Надеюсь, что пропустят мне ее и в России. Впрочем, так как там есть экземпляры, то, пожалуй, могут и не уважить мой отказ». И сейчас он повторил свою просьбу «уважить его отказ». Герцен громким, звонким голосом начал, как всегда быстро, говорить о русском чиновничестве, об этом «каком-то гражданском духовенстве, священнодействующем в судах и полициях», среди которой «кража становится respublica[16]».
Отвлекаясь на время от беседы Герцена с Иваном Аксаковым, заметим, что вскоре «Утро в уголовной палате» было напечатано под измененным названием «Присутственный день уголовной палаты» в герценовской «Полярной звезде», книге четвертой за 1858 год. В одном из своих писем Герцен оценил эту драму Ивана Аксакова как «гениальную вещь». И в будущем имя Ивана Аксакова оказывалось связанным с Герценом-издателем; так, в 1861 году в Лондоне «Вольной русской типографией» был издан сборник «Русская потаенная литература», в котором значилась и поэма Ивана Сергеевича «Жизнь чиновника», написанная еще в 1843 году, молодым тогда автором, только что начинавшим службу и с чистотою, благородством молодости содрогавшимся при одной мысли, что служба может загубить все святое в душе. В поэме, названной «мистерией», и показан этот путь чиновника, мечтавшего в молодости служить «для общей пользы», но с годами растратившего «в мертвом деле свежих сил своих запас» и превратившегося спустя тридцать лет в жалкую жертву «жизни бумажной», осознавшего с грустью, что даром прожита жизнь, и сама его смерть, похороны (со злословьем толпы) только подтверждают этот печальный вывод.
Слушая «диатрибу» Герцена против русского чиновничества, его хвалу «Утру в уголовной палате», Иван Сергеевич думал о том, насколько оправдываются его предположения о возможном сходстве их теперешних взглядов хотя бы на некоторые вопросы русской жизни. Ведь и явился он к Герцену не ради «судебных сцен» и моды побывать у «знаменитого изгнанника». У него, Аксакова, были свои причины для такого визита. Ему было известно о разочаровании Герцена Западом, о неприятии им буржуазного пути для России, и, видимо, в этом слышался ему «живой голос» Герцена, а он, Аксаков, считал, что «необходимо затронуть все живое». Иван Сергеевич и высказал начистоту, откровенно перед хозяином свои предположения, Герцен, откинувшись на спинку кушетки, отвечал охотно:
— Мои мысли, Иван Сергеевич, о близкой вам партии будут рапсодичны, будет бегло обозначенный очерк о «не наших», как я назвал в своем мемуаре славянофилов сороковых годов. Да, мы были противниками, но очень странными, у нас была одна любовь, но не одинакая. Мы — друзья-враги. Нам одинаково ненавистны крепостничество, бюрократия, произвол власти, мы за свободу слова, и я, сперва один, а потом вместе с Ником[17] стоим за первым станком вольного русского слова. Здесь, вдали от России, мне понятнее стали иеремиады славянофилов о гниющем Западе. По странной иронии после бурь 1848 года мне пришлось делать на Западе пропаганду части того, что в сороковых годах проповедовали в Москве Хомяков, Киреевские и что я тогда высмеивал. Нам равно дорога русская община, хотя мой социализм нечто иное, чем славянофильская община. Но непримиримое разделяет нас — это отношение к религии, здесь мы заклятые враги. С детства я был плохой верующий, причастие вызывало у меня страх, так действует ворожба, заговаривание. Воробьевы горы сделались для нас местом богомолья, зачем нам нужна была церковь и вообще церковная mise-en-scène[18], когда перед нами развертывался форум человеческой истории и борьбы! Гонения же, которые я претерпел от царского правительства, должны были мне служить рукоположением. Не прикладывание к честному кресту в удостоверение обета, а честный и мужественный путь борьбы в осуществление человеческого прогресса — вот мой девиз, символ веры.
Большинство визитеров обычно не вызывали в Герцене потребности разубедить собеседника. Но здесь был случай другой, исключительный, когда гость, внимательно слушая оратора, на доводы отвечал своими доводами, развивал основательно свою мысль, доказывал. Чувствовалось, что это глубокое убеждение, и нельзя было отказать этому человеку в идейной силе и цельности.
Встреча с Иваном Аксаковым произвела большое впечатление на Герцена. Вскоре же он сообщил об этом в одном из писем: «Наиболее интересное лицо — сын Аксакова (брат ярого славянофила), человек большого таланта, сам немного славянофил, человек с практической жилкой и проницательностью». «Мы с ним очень, очень сошлись», — писал Герцен И. С. Тургеневу.
Но подходил конец заграничному путешествию Ивана Сергеевича, его новому «бродяжничеству». Проехано немало, Европа уже не что-то отвлеченное, чуждое и вместе с тем заманчивое, а увидена своими глазами и, как всегда бывает при непосредственном знакомстве, оказалась в чем-то иной, чем представлялась прежде. «Священные камни» Европы, ее великое культурное наследие много говорили уму и сердцу русского человека. Но это был и другой мир, с наложенной на него печатью утилитаризма и сугубо деловых, практических интересов, это же бросалось в глаза и в самом католицизме с его земным устроением дел и волею к внешнему, мирскому могуществу. Это был другой мир, живущий своей жизнью, которому и дела нет до мнения о нем какого-то заезжего русского, до его мыслей, неотвязных раздумий о «судьбах России и Европы», мир этот был непроницаем для него. Нет, здесь он не прижился бы, на этом европейском торжище. Где родился, там и пригодился. Отсюда, из «прекрасного далека», Россия виделась в своей таинственности и беспредельности, вовлекая и на таком громадном расстоянии от себя в тяжкие думы и в то же время открывая очистительный простор для мысли[19].
Жизнь в доме Аксаковых текла по-прежнему, по-семейному, с домашними страстишками, как по привычке именовал Сергей Тимофеевич свои родительские переживания, заботы, и трудными, уже не домашними думами. При гостях и без них вспыхивали, разгорались уже не страстишки, а страсти, касавшиеся больших общественных вопросов. И первый из них — крестьянский вопрос. В конце ноября 1857 года в печати был опубликован рескрипт Александра II, предписывавший виленскому генерал-губернатору В. И. Назимову образовать в Ковенской, Виленской и Гродненской губерниях особые комитеты из представителей дворянства для разработки проектов крестьянской реформы. Этот рескрипт был встречен в семье Аксаковых и среди близких к нему людей как начало великих свершений. Сам Сергей Тимофеевич, еще недавно, менее полугода тому назад, погруженный в свои воспоминания, в свои «Детские годы Багрова-внука» и отрешенный от злобы дня, теперь весь был поглощен предположениями, мыслями о реформе. «Корабль тронулся! — повторял он. — Никто не может, не имеет права равнодушно взирать на то, что происходит теперь в России». Как может в такое время жить за границей Тургенев? Всегда снисходительный к Тургеневу, не разделявший антипатию к нему Константина и особенно Веры, Сергей Тимофеевич на этот раз не выдержал и решил начистоту объясниться. В письме он энергично призывал его «немедленно воротиться в Россию». «Мы переживаем теперь великое время!.. Нельзя жить на чужой стороне, когда решается судьба Родины».
Стены гостиной оглашались помолодевшим, с нотами давно забытого, казалось, декламаторства голосом хозяина, заводившего с гостями все тот же разговор. И сами гости не знали иной темы, как крестьянский вопрос. Юрий Самарин уже три года был занят проектом об освобождении крепостных и читал этот проект в доме Аксаковых, вызывая у слушателей понимание и самое горячее сочувствие. Вообще Самарин был одним из немногих славянофилов, которые не довольствовались теоретизированием, а стремились практически осуществить свои идеи, убеждения, облечь их в непосредственные общественно-административные действия. Теперь Самарин принимал самое деятельное участие в подготовке реформы. В своей написанной в 1856 году новой «записке» «О крепостном состоянии…», насыщенной громадным фактическим материалом, формулами, параграфами, деловыми предложениями, выводами, Юрий Самарин характеризовал тревожным современное положение страны и призывал к немедленной «эмансипации», то есть освобождению крестьян. Славянофилы рассматривали крепостное право, введенное при Борисе Годунове, как историческую жертву русского народа, благодаря которой государство сохранило себя в чрезвычайную кризисную эпоху: закрепленной оседлостью земледельцев государство смогло противостоять тем центростремительным силам, которые раздирали его в период войн и смут конца XVI и XVII веков. Вся тяжесть закрепощения легла на плечи и душу русского народа, представлявшего Центральную Россию (известно, что ни Сибирь, ни Север России не знали крепостного права). Если возникновение крепостного права исторически объяснимо, считали славянофилы, то позднейшее его существование вплоть до настоящего времени — это явное зло, тормозящее развитие России и грозящее ей опасными последствиями. Поэтому борьба с крепостным правом была одной из главных побудительных причин публицистической, общественной деятельности славянофилов. Кроме Ю. Ф. Самарина, ставшего автором одного из проектов манифеста 19 февраля 1861 года, энергично участвовали в подготовке реформы и другие аксаковские знакомые славянофилы — А. Кошелев, В. Черкасский. А. Кошелев, сам помещик, воочию видел зло крепостного права. Впоследствии в своих «Записках» он писал, что, будучи предводителем дворянства в одном из уездных городков Рязанской губернии, он стал свидетелем «страшного злоупотребления помещичьей властью». При этом он приводит примеры потрясающей жестокости дворян-помещиков по отношению к крестьянам. Так, прежний предводитель дворянства «засекал людей до смерти, зарывал их у себя в саду и подавал объявления о том, что такой-то бежал от него». Это не мешало ему ханжески соблюдать все посты и церковные праздники. Все его злодеяния покрывались деньгами. У другого помещика крепостной, не выдержав его издевательств, повесился. Молодой помещик приковал девушку к стене дома ее родителей, не согласных на «право первой ночи» с их дочерью, и на их глазах изнасиловал ее. Против бесчеловечности крепостничества вопило само христианское чувство, веками сформированный опыт народной этики. И не отголоски каких-то далеких жарких обсуждений доходили до дома Аксаковых, а в нем самом закипали эти обсуждения, здесь много и горячо говорили о деталях проектов.
Крестьянский вопрос всегда был волнующим, животрепещущим в их доме. Разговоры, споры о положении крестьян, о судьбах страны не утихали среди западников и славянофилов, когда в 30–40-х годах в один из дней недели они собирались у Аксаковых. А Константин Аксаков еще задолго до подготовки к освобождению крестьян занялся изучением русских древностей, чтобы дойти до корня — как началось закрепощение крестьян, и пришел к выводу об «историческом праве крестьян на землю». Практически это означало — обязательное наделение крестьян землей при их освобождении. И этот вывод Константина Аксакова был использован Самариным и Черкасским во время выработки Положения 19 февраля 1861 года в редакционных комиссиях.
Казалось, что аксаковский дом был кораблем, который тронулся и где все как пассажиры чувствовали себя в ожидании небывалых открытий. Константин повторял восторженным голосом свое мнение о русском крестьянине: наконец-то этот богатырь распрямит свои плечи! Иван Сергеевич после возвращения осенью 1857 года из заграничного путешествия осел как будто надолго в Москве, в своем семействе, и предался усиленной деятельности по изданию журнала «Русская беседа», а затем газеты «Парус». Он давно определил свое отношение к крепостному праву, двадцатипятилетним чиновником он писал отцу: «Я же дал себе слово никогда не иметь у себя крепостных и вообще крестьян… Я же держусь того мнения, что помещики непременно должны понести правомерный убыток при эмансипации крестьян за то, что целые столетия пользовались безобразными правами над собственностью и лицом крестьянина; я считаю их, лучше сказать, я не вывожу этого логически, но душа моя говорит мне, что крестьянин, обрабатывающий землю, крестьянин, для которого она единственная мать и кормилица, более меня имеет на нее право». И теперь эти мысли, высказанные десять лет тому назад, Иван Сергеевич проповедовал со страниц, или, как тогда говорили, с кафедры журнала. Когда-то, совсем еще молодым, двадцатитрехлетним, он возражал старшему брату, призывавшему во всем следовать народу: «Когда я говорю об образованности, то вовсе не значит, чтоб в противоположность ей я поставлял другую крайность, мужика… Я сошел бы с ума, если б мне пришлось жить постоянно с мужиком». Но вскоре, под влиянием путешествий по России, развернувшихся перед ним картин народной жизни («Что за народ во Владимирской губернии! Живой, бодрый, великорослый, умный, деятельный, промышленный; богатые, чистые села, красивые наряды… Чудо, что такое!»), под обаянием открывшейся ему красоты народного характера Иван Аксаков, как и старший брат, готов будет «сочувствовать вполне народу». Эта любовь к народу выработается в Иване Аксакове во всей полноте впоследствии, уже после смерти Константина Сергеевича станет его душевным убеждением, войдет в плоть его публицистической, общественной деятельности…
Так была встречена весть в семействе Аксаковых о готовящейся реформе. Ну а сам глава, Сергей Тимофеевич? Былая страстность, увлеченность его натуры ожила и потребовала не слов, а самого действия. Сразу же после объявленного царского рескрипта он письменно известил оренбургского предводителя дворянства о своем желании освободить крестьян, не дожидаясь специального решения вопроса об этом. Нравственное бремя было сброшено, и как-то самому стало свободнее, легче.
Чаще других в последнее время в доме Аксаковых бывал В. П. Безобразов, видный экономист и публицист. Он вел с Сергеем Тимофеевичем «сочувственные беседы», по его собственному выражению; приветствуя отмену крепостного права, оба сходились во мнении, что она должна быть проведена без обострения противоречий между помещиками и крестьянами. Темы этих бесед легли в основу обширной статьи В. П. Безобразова, опубликованной во второй августовской книжке «Русского вестника» за 1858 год под заглавием: «Письмо к С. Т. Аксакову по поводу крестьянского вопроса». Самого Сергея Тимофеевича волновал вопрос: как пройдет реформа? В раздумье об этом он написал стихотворение «При вести о грядущем освобождении крестьян», которое начиналось словами:
Жребий брошен… Роковое
Слово выслушал народ…
Слово страшное, святое
Произнес минувший год.
С. Т. Аксаков считал, что «святое» дело освобождения крестьян откроет благотворную эпоху в истории России, народ, скинув крепостные оковы, стеснявшие его могучие силы, пойдет «в путь свой новый». В стихотворении и выражено это торжествующее настроение в преддверии события. И в то же время автор с тревогой думает о другом: какую дорогу может выбрать народ, куда он пойдет?
Тихая ль взойдет свобода
И незыблемый закон?
В церковь ли пойдешь с смиреньем
Иль, начавши кабаком,
Все свои недоуменья
Порешишь ты топором?
В мажорном тоне стихотворения это как бы попутный вопрос, но не случайный для автора. В семейных преданиях Аксаковых витал и этот призрак топора, конечно, мало заметный при общем мирном течении жизни, однако и не такой безобидный, чтобы забыть о нем. В «Семейной хронике» Сергей Тимофеевич по родовым преданиям вспоминает «пугачевщину». Упоминая о топоре, С. Т. Аксаков как бы предчувствовал то вскоре же после его смерти наступившее время, когда революционеры будут звать «Русь к топору».
Огромные перемены ждали Россию, и не только в «устройстве крестьян». Новые силы появились на исторической сцене. Уходила на глазах в прошлое столь любезная сердцу С. Т. Аксакова старая жизнь. Степан Михайлович Багров, дед писателя, как бы жил с ним, тешил его величием своим, пока он писал свои семейные предания, но как только окончил — особенно остро почувствовал, что таких людей, как Степан Михайлович, уже нет и не может быть в настоящее время. Сергей Тимофеевич даже рассердился на сына Ивана, когда тот заявил, что «Степан Михайлович теперь бы не годился». Он бы отлично годился, отвечал Сергей Тимофеевич, да вся беда в том, что он невозможен теперь.
Да что там Степан Михайлович, даже Куролесов уходит в прошлое, выглядит как злодей старомодный в сравнении с хищниками современными, цивилизованными, этими негоциантами, именуемыми новым на Руси словом «буржуа». Куда там Куролесову до современных «извергов»! Сравнивая его с ними, С. Т. Аксаков писал: «Тот был буйный гуляка, кровопийца по инстинкту и драл только прислугу свою, которая разделяла его пьянство, а крестьянам у него было жить хорошо. Он был нежаден на доходы (что я прибавлю в новом издании), и первою его заботою было благосостояние крестьян». Современный же нарождающийся тип «образованного» хозяина — это «такой изверг, которому и имени нет», по словам Сергея Тимофеевича. Знает ли этот новый хозяин, этот негоциант предел своим «доходам», есть ли ему какое дело до «благосостояния крестьян»? Одно у него дело и одна цель — приобретать любыми средствами все, что только можно приобрести, не останавливаясь ни перед чем, действуя с невиданной на Руси изощренностью и наглостью и поклоняясь одному божеству — деньгам. Что будет с Россией, думал Сергей Тимофеевич, хватит ли у нее здоровых сил, чтобы преодолеть это разлагающее народную жизнь вторжение, судя по всему, легионов «новых людей», хищников-негоциантов. За разговором вспоминались и мысли тех близких людей, которые бывают в их доме, и доходившие через них суждения знакомых литераторов. Не та ли же самая тревога за будущее России, подвергающейся со стороны «всемирных граждан» опасности духовного обезличивания, не эта ли тревога побудила Аполлона Григорьева сказать, что есть для нас, русских, вопрос первостепенной важности, это вопрос о нашей самобытности, о самостоятельности исторического пути. Константин как-то приутих: хотя и не могло быть и речи о перемене им своих заветных убеждений о народе, о русском мужике, но он стал больше говорить о другом, вернее, о другой стороне все той же медали — по контрасту с неизменными для него достоинствами русского крестьянина обличал механистичность тронутого буржуазным духом «современного человека». Позднее он напишет статью, так и названную: «О современном человеке», в которой выразит все волновавшее его. Не было для него ничего более мрачного и безотрадного, чем картина того, если бы все человечество отказалось от народных, других нравственных связей, высших связей веры, обратилось бы в разрозненные единицы, в эгоистические личности. Это была бы всеобщая сделка, основанная на эгоистическом расчете каждого. Это была бы всеобщая смерть на земле. Тогда беспрепятственно восторжествовало бы механическое начало в отношениях между людьми и человеческое общество обратилось бы в машину. Ум, все способности человека не имели бы иного назначения, как только быть средством, орудием материальных улучшений. Ничего живого, органического не осталось бы в человеке, кроме разве лишь его физической, грубой стороны. Человек стал бы не нужен миру, стал бы бесполезен на земле.
Не в пример непосредственному во всем старшему брату державшийся солидно, строговато, Иван Сергеевич в последнее время как бы ушел в себя, в свои думы, и, видимо, оттого какая-то непривычная задумчивость поселилась в его глазах. Его всегда удивляла всякая попытка втиснуть безмерность живой действительности в колодки той или иной теории. Его и волновало теперь больше всего наводнение в печати всякого рода теорий буржуазного прогресса, которые претендовали на универсальный охват всей действительности.
Не остывали разговоры в аксаковской семье о животрепещущем в русской жизни: этот дом был живой частицей той России, где в обеих столицах кипели общественные страсти, делались проекты, предположения о будущем, где на огромных, в глубине терявшихся пространствах все еще стояла, по словам Некрасова, «вековая тишина».
Подготовка крестьянской реформы глубоко волновала современников, и было, казалось, не до литературы. Это чувствовал и Сергей Тимофеевич, когда говорил, что «чисто литературные интересы побледнели» для него, что книга, которую он так горячо желал видеть напечатанною, теперь уже мало его занимает, «не вовремя она появится». Речь шла о «Детских годах Багрова-внука». И тем не менее писатель вкладывал в нее «всю свою душу», видя в ней любимое детище в еще большей мере, чем в вышедшей незадолго до этого «Семейной хронике».
Исхода ждало слово, выношенное долгими годами, а по сути, всей жизнью: детством, молодостью, зрелостью, мудрой старостью. Но как не вспомнить опять Николая Васильевича Гоголя, понуждавшего постоянно его, Сергея Тимофеевича, приступать к написанию истории своей жизни. И у Гоголя были на то основания. Как вспоминал Юрий Самарин, Гоголь, приезжая в Абрамцево, с напряженным вниманием, по целым вечерам вслушивался в рассказы Сергея Тимофеевича о заволжской природе и тамошней жизни, упиваясь ими. В рассказчике угадывался незаурядный писатель, и Николай Васильевич старался «раззадорить» Аксакова, настойчиво убеждал его, чтобы он взялся за перо. И находясь за границей, Гоголь напоминал Сергею Тимофеевичу: «Мне кажется, что, если бы вы стали диктовать кому-нибудь воспоминания прежней жизни вашей и встречи со всеми людьми, с которыми случилось вам встретиться, с верными описаниями характеров их, вы бы усладили много этим последние дни ваши, а между тем доставили бы детям своим много полезных в жизни уроков, а всем соотечественникам лучшее познание русского человека. Это не безделица и не маловажный подвиг в нынешнее время, когда так нужно нам узнать истинные начала нашей природы…» И даже более того: как бы выясняя свои отношения с Аксаковым, возникшие препятствия в их дружбе, Гоголь вроде необходимого условия для его любви к Сергею Тимофеевичу ставил написание им записок своей жизни: «Может быть, я и вас полюбил бы несравненно больше, если бы вы сделали что-нибудь собственно для головы моей, положим, хоть бы написаньем записок жизни вашей, которые бы мне напоминали, каких людей следует не пропустить в моем творении и каким чертам русского характера не дать умереть в народной памяти. Но вы в этом роде ничего не сделали для меня». Эти прямые слова о себе, способном любить людей предпочтительно «только из интереса», выдавались Гоголем как «новые, горячие вещества, подкладываемые в костер дружбы», но для Аксакова они были, кроме всего другого, и посмертным заветом великого художника. Правда, еще при жизни Гоголя, в 1840 году, Аксаков сделал «приступ» (употребляя его выражение) к запискам своей жизни, написав начало «Семейной хроники», но на этом и остановился, увлеченный работой над «Записками об уженье рыбы», а затем над «Записками ружейного охотника». Только в 1856 году, спустя пятнадцать лет после начатой работы, вышла в свет «Семейная хроника» (вместе с «Воспоминаниями»), а в начале 1858 года появились и «Детские годы Багрова-внука». Клонившаяся к закату жизнь старца поистине озарилась удивительной молодостью его творческого духа, чудным явлением искусства.
И это — при непритязательности самого содержания: передать семейные предания, рассказать о своем детстве так, как было. Но здесь и особенность Аксакова-художника. Все написанное им представляет собою не что иное, как развернутую, почти полную его автобиографию. Вымышленного нет в сочинениях Аксакова, сам он это называл своей «авторской тайной». «Заменить… действительность вымыслом я не в состоянии, — говорил он. — Я пробовал несколько раз писать вымышленное происшествие и вымышленных людей. Выходила совершенная дрянь, и мне самому становилось смешно»[20]. И еще не раз Аксаков повторял, что писать он может, «только стоя на почве действительности, идя за нитью истинного события». Впрочем, такая верность действительности была характерна и для многих других русских писателей, можно было бы привести множество высказываний их на этот счет. Невымышленность действия и лиц в «Семейной хронике» и «Детских годах Багрова-внука» так несомненна, что это вызывало в самом Аксакове опасение, как бы не оскорбились, узнав себя в теневых обстоятельствах воспоминаний, те, еще здравствовавшие члены семьи, которые им изображены. Поэтому реальные лица и места действия были заменены на вымышленные. Но это не помогло, многим современникам не требовалось особой догадки, чтобы увидеть за литературными персонажами реальных людей. Позднее сын писателя Иван Сергеевич сочтет нужным раскрыть псевдонимы действующих лиц. Вот этот ряд литературных героев «Семейной хроники», «Детских годов Багрова-внука» и стоящих за ними подлинных имен: Багров Степан Михайлович — в действительности Аксаков Степан Михайлович (дед писателя); Багрова Арина Васильевна — в действительности Аксакова Ирина Васильевна (бабка писателя); Багров Алексей Степанович — в действительности Аксаков Тимофей Степанович (отец писателя); Багрова Софья Николаевна — в действительности Аксакова Марья Николаевна (мать писателя); Багрова Надеженька — в действительности Аксакова Наташенька (сестра писателя); Куролесов Михаиле Максимович — в действительности Куроедов Михаиле Максимович. Герой «Детских годов Багрова-внука» Сережа Багров — это сам Сережа Аксаков, будущий писатель.
Однако это не значит, что перед нами фотографические снимки с реальных лиц. Нет, это прежде всего художественные образы, заключающие в себе нечто более, чем только частное, личное. И прежде в Аксакове был виден большой художник, уже в его «Буране», затем в «Записках об уженье», «Записках ружейного охотника», «Воспоминаниях» (писавшихся почти одновременно с последними главами «Семейной хроники»), но тогда автор как бы сдерживал свою изобразительную силу, а здесь, в «Семейной хронике», дал ей полную волю, и вот повеяло такой подлинностью жизни, за которой уже не замечается искусство. Таков первый же отрывок из «Семейной хроники», глава «Добрый день Степана Михайловича» (вошедшая потом в хрестоматии по русской литературе). Что, казалось бы, замечательного — день, проведенный дедом рассказчика, провинциальным помещиком, но столько здесь любовно выписанных подробностей деревенской жизни, столько бытовой точности, правды, «объективной теплоты» повествования (говоря словами сына писателя Ивана Сергеевича), что удивительным открытием мира становится для читателя этот ничем не примечательный день с пробуждением хозяина дома и домашних, с утренним чаем, поездкой в поле и осматриванием там отцветающей ржи («которая в человека вышиною стояла, как стена; дул легкий ветерок, и сине-лиловые волны ходили по ней, то светлее, то темнее отражаясь на солнце»); возвращением домой и обедом; послеобеденной (после сна) прогулкой на мельницу, где Степан Михайлович, «знаток всякого хозяйственного дела», замечает недостатки и ошибки в помоле, указывая помольщикам, как исправить их; опять возвращением домой, разговором с мужиками, ужином, «прохладительным» сидением на крыльце перед сном… «Летняя, короткая, чудная ночь обнимала всю природу. Еще не угас свет вечерней зари и не угаснет до начала соседней утренней зари! Час от часу темнела глубь небесного свода, час от часу ярче сверкали звезды, громче раздавались голоса и крики ночных птиц, как будто они приближались к человеку! Ближе шумела мельница и толкла толчея в ночном сыром тумане…Встал мой дедушка с своего крылечка, перекрестился раз-другой на звездное небо и лег почивать…» Один день из жизни героя, но воспринимается это как целый законченный цикл бытия, так это все крупно и целостно.
Вся «Семейная хроника» состоит из пяти сравнительно небольших отрывков, книга скромная по размеру, но остается ощущение полноты, обнимающей разнообразные события и множество людей, целую историческую эпоху.
Мир предстает у Аксакова в удивительном богатстве подробностей (к месту здесь вспомнить и слова Тургенева о том, что талант — это подробности). Благодаря этому, между прочим, мы имеем возможность, читая «Воспоминания» писателя, видеть как живых многих его известных современников — писателей, актеров, ученых. Иногда даже кажется, что автор излишне увлекается мелочами, вроде описания поездки в подмосковную вместе с приятелями Кокошкиным, Шаховским, Писаревым, Верстовским, со множеством подробностей, как они проводили там время, о чем говорили, как удили рыбу, что говорили, читали друг другу и т. д. Но откуда, как не из этих аксаковских воспоминаний, почерпнули бы мы такие детали, которые освещают портрет, характер человека так живо, что этого не заменить никакими общими характеристиками. Вот, например, приятель Сергея Тимофеевича за ловлей рыбы: «Кокошкин стоял на ногах, приняв театральную позу какого-то героя. Он с важностью и уверенностью держал в одной руке удилище, а другою подперся в бок; небольшая его фигурка в большой соломенной шляпе была очень забавна… Шаховской представлял из себя большую копну сена, на которой лежала голова, покрытая белой фуражкой, с длинным козырьком от солнца, из-под которого торчал длинный, птичий его нос, готовый, казалось, клюнуть подбородок; он не выпускал из рук удилища, но в маленьких прищуренных его глазах можно было заметить, что он думает не о рыбе, а скорее о каком-нибудь действующем лице в своих „Игроках“…»
Но если и в «Воспоминаниях» подробности, при некоторой иногда, может быть, перегруженности их, очень выразительны и содержательны, то в «Семейной хронике» и «Детских годах Багрова-внука» художественная значимость, емкость их достигают еще большей степени. Поразительна свежесть, непосредственность подробностей, связанных с восприятием предметов, явлений, людей пятилетним Сережей с его мирочувствованием. Незабываемы те старинные кожаные кресла с «медными шишечками», которые прежде всего кинулись в глаза мальчику, когда он переступил порог дедушкиной горницы, и которые тотчас же рассеяли страх перед дедушкой, сидевшим в этих креслах. Вернувшись к отцу и больной матери в соседнюю комнату, Сережа поспешил рассказать о своем пребывании у дедушки, «и кожаные кресла с медными шишечками также не были забыты; отец и даже мать не могли не улыбаться, слушая мое горячее и обстоятельное описание кресел». Даже и эти неодушевленные кресла с «медными пташечками» словно одушевлены в восприятии ребенка, переживаются не только им одним, но и как бы вовлечены в общее семейное переживание. А сколько других подробностей! И как Сережа с болезненной чуткостью вслушивается в звуки в доме, ожидая крика, плача по умиравшему дедушке, как «мнимые страхи» его «исчезли перед действительным испугом матери, увидевшей изуродованное от ушиба лицо сына. И как Сережа читает Псалтырь по умершему дедушке в его горнице («Мысеич представил мне низенькую дедушкину скамеечку, и я, стоя, принялся читать. Какое-то волненье стесняло мою грудь, я слышал биение моего сердца, и звонкий голос мой дрожал; но я скоро оправился и почувствовал неизъяснимое удовольствие»). А какая жизнь в описании природы: «Наконец, мы въехали в урему, в зеленую, цветущую и душистую урему. Веселое пение птичек неслось со всех сторон, но все голоса покрывались свистами, раскатами и щелканьем соловьев. Около деревьев в цвету вились и жужжали целые рои пчел, ос и шмелей. Боже мой, как было весело! Следы недавно сбывшей воды везде были приметны: сухие прутья, солома, облепленная илом и землей, уже высохшая от солнца, висели клочьями на зеленых кустах; стволы огромных деревьев высоко от корней были плотно как будто обмазаны также высохшей тиной и песком, который светился от солнечных лучей».
И как в природе все связано для маленького героя, как все объединяется — и земля, и реки, и люди, и все живое на земле. С крыльца дома в Уфе (где родился Сергей Тимофеевич) была видна река Белая, и мальчику не терпелось увидеть, как она вскроется. «И, наконец, пришел этот желанный день и час! Торопливо заглянул Евсеич в мою детскую и тревожно-радостным голосом сказал: „Белая тронулась!“ Мать позволила, и в одну минуту, тепло одетый, я уже стоял на крыльце и жадно следил глазами, как шла между неподвижных берегов огромная полоса синего, темного, а иногда и желтого льда. Далеко уже уплыла поперечная дорога, и какая-то несчастная черная корова бегала по ней, как безумная, от одного берега до другого. Стоявшие около меня женщины и девушки сопровождали жалобными восклицаниями каждое неудачное движение бегающего животного, которого рев долетал до ушей моих, и мне стало очень его жалко. Река на повороте загибалась за крутой утес — и скрылись за ним дорога и бегающая по ней черная корова. Вдруг две собаки показались на льду; но их суетливые прыжки возбудили не жалость, а смех в окружающих меня людях, ибо все были уверены, что собаки не утонут, а перепрыгнут или переплывут на берег. Я охотно этому верил и, позабыв бедную корову, сам смеялся вместе с другими. Собаки не замедлили оправдать общее ожидание и скоро перебрались на берег. Лед все еще шел крепкою, сплошною, неразрывною, бесконечною глыбою».
Так даже эта разбегающаяся ледоходная картина объединена удивительной для детского сознания цельностью мирочувствования. И не только природа, но и весь видимый, доступный пониманию ребенка мир воспринимается в его существенностях, а не в механической дробности. И это цельность не только героя — маленького Сережи, но и автора, самого Сергея Тимофеевича, созидающего свой художественный мир в целесообразности всех составляющих его сторон и частей, в полноте и завершенности. В художественном плане это тот тип положительного, без всяких эффектов, изображения и изложения, о котором так хорошо сказал сын писателя Иван Аксаков (в письме к отцу): «Все крикливое, шумливое, заносчивое, всякая выходка становится неуместною, неприличною, жалкою перед воздержанностью тона вашей книги, перед зрелостью суда, перед спокойствием изложения». Об особом характере реализма Аксакова говорил со свойственной ему резкостью К. Леонтьев: «Другое дело также простые, мужественные описания старика Аксакова в „Хронике“! Тут нет тех фальшивых звуков, взвизгиваний реализма, которыми богат Тургенев и которым платил дань и я… увы… под влиянием его и других». Нечего говорить, что Сергей Тимофеевич не согласился бы с таким умалением Тургенева, но в отношении самого Аксакова слова о «простом, мужественном» реализме справедливы.
Художественность — одна только сторона творческого, созидательного отношения к миру, которое уже тогда становилось злобой дня. В воздухе носилось то, что заставило Гоголя сказать в своем «Невском проспекте»: «Необыкновенная пестрота лиц привела его в совершенное замешательство; ему казалось, что какой-то демон искрошил весь мир на множество разных кусков и все эти куски без смысла, без толку смешал вместе». Эта раздробленность, расколотость мироощущения, бесовская мешанина разнородных «кусков» входили и в искусство. Речь шла не о сложности и противоречивости мира; как никто другой в мировой литературе XIX века, Достоевский будет чувствовать всю бездну этих противоречий, но при этом он сохранит цельность в главном: в нравственной позиции относительно борьбы добра и зла, в верности своему духовно-этическому идеалу. Без скрепляющего нравственного центра все действительно дробится и смешивается.
Мир действительно тесен, даже и во времени. Мир «кипит современными вопросами», как сказал один из великих русских писателей, современной борьбой, и в ней невольно участвуют и те, кого нет с нами. Участвуют своим творчеством. Как сам Сергей Тимофеевич говорил, что «здоровой натуре русского человека» чужда «черная немощь души», так мы о его книгах можем сказать, что им чужда всякая болезненная рефлективность, двусмысленность, поддельность чувств и помышлений. Нравственное здоровье их очищающе действует на читателя. Мир здесь не дробится на куски, а все подробности сплачиваются нравственно-эстетическим единством, цельностью авторского отношения.
Семья всегда была в русской литературе прообразом народной жизни: пушкинские Гриневы, тургеневские Калягины, толстовские Ростовы, до шолоховских Мелеховых, платоновских Ивановых. Семья Багровых занимает среди них особое место, ибо за нею стоит семья самих Аксаковых.
Семья — не только свои дети, но и родовое предание, родители, предки. Известный философ-богослов П. Флоренский писал: «Быть без чувства живой связи с дедами и прадедами — это значит не иметь себе точек опоры в истории. А мне хотелось бы быть в состоянии точно определить себе, что именно делал я, и где именно находился я в каждом из исторических моментов нашей Родины и всего мира, — я, конечно, в лице своих предков» (П. Флоренский «Детям моим. Воспоминания прошлых дней». М, 1992. С. 26). Поэтому он и назвал первую книгу «Семейная хроника», где выведены первое и второе поколения семьи Багровых — дедушка и родители маленького Сережи, а детству самого Сережи, продолжающего род Багровых в третьем поколении, посвящена вторая книга — «Детские годы Багрова-внука».
Без преданий — семейных ли, шире — народных — нет и не может быть исторической жизни[21]. И это чувство предания было сильно развито в прошлом у русских людей. Замечательный человек восемнадцатого века, служивший в молодости под началом самого Суворова, волею обстоятельств оказывавшийся в центре интересных событий, один из основоположников отечественной агрономической науки и лесоводства, Андрей Тимофеевич Болотов в своих воспоминаниях «Жизнь и приключения Андрея Болотова» рассказывает, как он был удручен тем, что ни отец, ни дед не оставили ему никаких записок о своей жизни. И сам он, Андрей Болотов, принялся писать записки о своей жизни вовсе не из писательского тщеславия, а единственно ради того, чтобы доставить удовольствие своим потомкам сведениями о нем, чтобы они могли знать, кто был их предок и как он жил. И только случайно эти рассчитанные на домашний архив записки были обнаружены и затем опубликованы спустя многие десятилетия после их написания. А сколько таких воспоминаний так и осталось семейным преданием, не найдя доступа к широкому читателю.
Но и домашние, семейные предания не оставались втуне, в них продолжали жить прежние поколения, входя в живую семью, обогащая ее духовно и нравственно. «Современник» Андрея Болотова, провинциальный помещик Степан Михайлович Багров не оставил никаких записок о себе по той простой причине, что не имел дарования на этот счет, он «не сочинитель и не писака», да и плохо знаком был с грамотой. Но чего недостает одному поколению — восполняется в другом. Старик Багров не силен был в писательстве, но он памятен как незаурядный характер, поистине эпической силы и цельности, да и в потомках «проглянул» (в правнуке Григории, о чем в своем месте уже приводился рассказ Сергея Тимофеевича). Кстати, ему-то, деду, обязан внук своим именем. Услышав как-то рассказ об одной знатной даме, ездившей в Троице-Сергиеву лавру и давшей обещание назвать своего ребенка Сергием, Степан Михайлович изъявил
«Семейная хроника», «Детские годы Багрова-внука» и явились как плод изустных семейных преданий, услышанных писателем от родителей (о себе рассказчик говорит как о «беспристрастном передавателе изустных преданий»). Как уже было сказано, главное лицо в «Семейной хронике» — Степан Михайлович Багров. Автор не идеализирует своего героя, а точнее говоря, своего деда. Старик Багров отмечен печатью времени, крепостнических порядков. Переселяясь из Симбирской губернии в Уфимское наместничество, за четыреста верст, на новокупленные земли, он снимает с места своих крестьян, всю деревню, и «потянулись в путь бедные переселенцы, обливаясь горькими слезами, навсегда прощаясь с стариною, с церковью, в которой крестились и венчались, с могилами дедов и отцов». Крут и самовластен Степан Михайлович в семье, где так боятся его гнева, делающего из этого, в сущности, добросердечного человека «дикого зверя» (ничто так не может распалить, вызвать гнев старика, как неправда, ложь).
В Багрове, как в крупном характере, крупны и недостатки, и достоинства. При всех своих противоречиях и поступках эта личность монолитная, цельная в своей нравственной основе. А эта основа несокрушима, и на ней зиждется мудрость его житейских правил. Он тверд в слове, «его обещание было крепче и святее всяких духовных и гражданских актов». Подобно тому как могучая грудь, необыкновенно широкие плечи, жилистые руки, мускулистое тело обличали силача в этом небольшого роста человеке, подобно тому, как лицо его с большими темно-голубыми глазами имело открытое и честное выражение, так всегдашняя его помощь другим, посредничество в спорах и тяжбах соседей, ревностная преданность правде в любом случае свидетельствовали о нравственной высоте его.
Софья Николаевна, невестка, быстро постигла «все его причуды», сделала «глубокую и тонкую оценку высоких качеств его». Так гордая, образованная женщина, презиравшая все деревенское и грубое, склонилась перед этим грубым на первый взгляд стариком, интуитивно почувствовав в нем те качества его, которые возвышали его над всеми другими.
В Багрове практические качества уравновешены нравственными, и в этом особенность его натуры. Он из людей практического склада, деятельных, способных на большие предпринимательские дела, но это не голое делячество, не знающее ради выгоды никаких моральных препятствий. У таких людей развитое нравственное сознание не оставляет их и в практической деятельности, иногда может вступать в жестокое противоречие с нею, но никогда не оправдает в себе неправедности поступка и тем самым уже исключает в себе ничем не ограниченное хищничество.
Но в том-то и дело, что такой характер, как Багров, не был только «преданьем старины глубокой». Почти одновременно с Багровым появился Русаков в пьесе Островского «Не в свои сани не садись», позже Чапурин в романах Мельникова-Печерского «В лесах» и «На горах»; оба эти героя характерами сродни Багрову.
Образ старика Багрова может быть поставлен в ряд эпических образов мировой литературы. Еще в прошлом столетии, сразу же по выходе «Семейной хроники», критика, желая похвалить автора, видела в нем «сходство с Вальтер-Скоттом», в частности, в понимании «исторической необходимости» прошлых обычаев, в строе мыслей Багрова «сообразно духу времени» (недостаточно, видно, была еще авторитетна тогда русская литература для критики, чтобы можно было из нее самой вывести эту «историческую необходимость»). Сила обобщения того же образа Багрова могла родиться только из такой «семейной хроники», где представлены не узкие рамки семейного быта, а целая Россия в главных своих качествах[23] (так и было, особенно в дальнейшем, когда уже в семье Сергея Тимофеевича с ее духовно-общественными интересами Россия постоянно присутствовала и в разговорах и в мыслях отца и детей).
И не только образ старика Багрова отличается такой поразительной силы художественным обобщением. В «Семейной хронике» с не меньшей, пожалуй, только отрицательной силой изображен Куролесов. Есть немало сходного у этих лиц. Тот и другой служили в полку. Оба — сильные натуры, отличные предприимчивые хозяева, которые не только превосходно устроили свои имения, но и улучшили благосостояние крестьян. Но уже при первом знакомстве, когда молодой Куролесов приехал к Багрову в деревню, чтобы попасть к нему в милость и добиться согласия на брак с его двоюродной сестрой Парашей, Степан Михайлович проникся недоверием и недобрым чувством к этому человеку: «У старика, кроме здравого ума и светлого взгляда, было это нравственное чутье людей честных, прямых и правдивых, которое чувствует с первого знакомства с человеком неизвестным кривду и неправду его, для других незаметную; которое слышит зло под благовидною наружностью и угадывает будущее его развитие». Это чутье не обмануло старика, и все дальнейшее только подтвердило его правоту. Женившись на Параше (в отсутствие уехавшего куда-то надолго ее опекуна Степана Михайловича), Куролесов выказал себя отменным хозяином, добившись чудес по устройству ее имения, дивил добрых людей тем, как он тешил, исполнял, предупреждал все желания своей молоденькой жены. Но это была внешняя, показная сторона его жизни, которую только и знала его жена, когда они жили вместе в одном из своих имений. Большую же часть времени Куролесов проводил в другом имении, один, без жены, и здесь-то и предавался он разгулу и диким своим страстям. Он пьянствовал и развратничал, чинил жестокую расправу над всеми, кто попадал под руку: своими дворовыми, соседями-помещиками, мелкими чиновниками. В портрете героя, который рисует С. Т. Аксаков, при отсутствии, казалось бы, анализа (в том роде, в каком, разлагая целое на его составные части, «выворачивают» нам человека, обнажают потаенные уголки его души и сознания Достоевский и Толстой), при всей целостности рисунка поражает в образе Куролесова психологическая глубина. Некоторые критики видели в Куролесове некоего бытового злодея, что подтверждается как будто и самой канвой сюжета: история женитьбы героя; обман жены; узнанная ею правда об истинном образе жизни мужа, когда она, прослышав об этом, решает отправиться в имение, где он жил, и своими глазами удостоверяется в правде слухов о его развратной жизни, тиранстве; злодейство Куролесова, убедившегося, что жена не простит ему и ему грозит лишение доверенности на управление имением, избивающего жену и запирающего ее в каменном подвале; освобождение пленницы Степаном Михайловичем и т. д.
Но за этой чуть ли не приключенческой историей скрыты не только бытовые черты, но и метафизические тайны характера героя. Об одной из них говорится: «Избалованный страхом и покорностью всех его окружающих людей, он скоро забылся и перестал знать меру своему бешеному своеволию». Вот что, оказывается, может разжигать «своеволие», «жестокость», «кровожадность» и все другое — и не только в случае с Куролесовым, и не только в его время. Из иных, как бы брошенных на ходу «изустных» замечаний повествователя Достоевский мог бы, кажется, извлечь материл для цепной психологической реакции. Куролесов наименовал три деревни, которые он заселил переведенными со старых мест крестьянами, названиями, составившими имя, отчество и фамилию его жены. «Это романическая затея в таком человеке, каким явится впоследствии Михаила Максимович, всегда меня удивляла».
Достигнув высшей степени разврата и лютости, Куролесов ревностно занялся построением каменной церкви в Парашине. Эти «бездны» в характере героя, «феномен» его кровожадности, противоречивость поступков настолько глубоко затронули что-то «необъяснимое» в «человеческой природе», что дало основание Аполлону Григорьеву сделать следующий вывод: «Эти типы последних времен нашей литературы, бросившие нежданно и внезапно свет на наши исторические типы, — этот Куролесов, например, „Семейной хроники“, многими чертами своими лучше теорий гг. Соловьева и Кавелина разъясняющий нам фигуру Грозного Ивана…» Такова сила психологического обобщения художника, позволяющая нам за выведенным лицом увидеть целый исторический тип, заставляющая нас задуматься о явлениях, не ограниченных рамками времени и места действия.
Может быть, нигде у С. Т. Аксакова художническая пристальность и полнота не проявляются так, как в образе матери, особенно в «Детских годах Багрова-внука». «Этот образ выносила в душе своей такая же любовь сыновняя, какая прежде у груди матери лелеяла сына», — справедливо писал один из современников писателя. И в самом деле, горячая любовь матери и страстная привязанность дитяти к ней составляют нераздельное целое. «Постоянное присутствие матери сливается с каждым моим воспоминанием, — говорит автор в самом же начале своих «Детских годов Багрова-внука». — Ее образ неразрывно соединяется с моим существованием». Болезненный ребенок был обречен, казалось, на смерть, и только чудом остался жить. И одной из этих чудесных сил, исцеливших его, была самоотверженная, безграничная материнская любовь, о которой сказано так: «Моя мать не давала потухнуть во мне догоравшему светильнику жизни; едва он начинал угасать, она питала его магнетическим излиянием собственной жизни, собственного дыханья». Все повествование освещено образом матери, бесконечно родной, любящей, готовой на любые жертвы, на любой подвиг ради своего Сереженьки. Материнское чувство психологически, кажется, неисчерпаемо: сколько переживаний, сколько душевных оттенков. Забывшаяся тревожным сном мать слышит голос больного своего маленького сына. «Мать вскочила, в испуге сначала, и потом обрадовалась, вслушавшись в мой крепкий голос и взглянув на мое посвежевшее лицо. Как она меня ласкала, какими называла именами, как радостно плакала… этого не расскажешь!» Это всего лишь один момент ее душевного состояния, и, собственно, вся жизнь ее в этом лежащем в глубине души, «беспредельном чувстве материальной любви», как говорит сам рассказчик. От первой до последней страницы книги, в каждом эпизоде, где показана мать, в самых разнообразных проявлениях — то страстных, то отчаянно-тревожных, то радостных, то светло-грустных — живет это удивительное чувство, открывая нам скрытые от мира тайны материнского сердца.
В литературе обычно поэтизируется любовь до семейной жизни, с началом ее как бы опускается занавес романтической истории и начинается проза быта. Ни у кого, пожалуй, из русских писателей семейная жизнь не раскрывается с такой поэтической содержательностью, как у С. Т. Аксакова в его «Семейной хронике» и «Детских годах Багрова-внука» в особенности. И это далеко не при гармоничном союзе между супругами (вспомним, что Софья Николаевна вышла замуж не по любви). Но столько в материнской любви богатства чувств, столько душевной «занятости», что уже одно это делает жизнь женщины глубоко осмысленной, дающей ей огромное нравственное удовлетворение, и маленький сын чувствует над собою «нравственную власть» матери. Такое материнское «однолюбие» было, видимо, таким же явлением русской жизни, как и постоянство пушкинской Татьяны с ее: «Но я другому отдана и буду век ему верна».
Поразительно то, что это материнское чувство во всей его первородности и чистоте донес до нас шестидесятипятилетний художник, как будто не было ни бремени охлаждающего душу житейского опыта, ни даже иной матери, когда с женитьбой сына она так переменилась в своих чувствах к нему, ревнуя его к семье: ничто оказалось не властным над силою той детской сыновней любви, которая сделалась святыней его души. Как бы инстинктивно чувствуя, чем он обязан матери, не раз вырывавшей его, казалось, из объятий смерти, Сережа отвечает ей страстной сыновней привязанностью, которая временами буквально потрясает его детскую душу. Такие потрясения переживает он во время болезни матери, приходя в недетский ужас при одной мысли, что она может умереть. «Мысль о смерти матери не входила мне в голову, и я думаю, что мои понятия стали путаться и что это было началом какого-то помешательства»[24].
В этом ужасе остаться без матери есть какая-то стихийная боязнь сиротства, не только сыновнего, но вообще сиротства на земле, и мать здесь как та наиболее близкая и доступная детскому сознанию опора, без которой ему так страшно в мире. Каким оцепенением поражает детскую душу болезнь матери и каким светом озаряется мир с ее выздоровлением. «Наконец, все мало-помалу утихло, и прежде всего я увидел, что в комнате ярко светло от утренней зари, а потом понял, что маменька жива, будет здорова, — и чувство невыразимого счастья наполнило мою душу! Это происходило 4 июня, на заре пред восходом солнца, следовательно, очень рано».
Любовь к матери глубже открывает Сереже самого себя. Он так предался впечатлениям пробуждающейся весенней природы, так («точно помешанный») поглощен был своими делами и заботами — послушать, поглядеть, что творится в роще, как развертываются листья, оживает всякая живность, как завивают гнезда птицы, — что забыл обо всем на свете и даже о матери. И мать с упреком напомнила ему об этом. Словно пелена спала с его глаз: он в самом деле мало думал о ней. Острое раскаяние укололо его в самое сердце, он чувствовал, как он виноват перед матерью, и просил прощения у нее. Мать же не сдержала своих чувств: «Мы с матерью предались пламенным излияниям взаимного раскаяния и восторженной любви; между нами исчезло расстояние лет и отношений, мы оба исступленно плакали и громко рыдали. Я раскаивался, что мало любил мать; она — что мало ценила такого сына и оскорбила его упреком».
Само нравственное развитие мальчика в значительной мере происходит под влиянием познания материнской любви. Эту любовь он особенно, «во всей силе», начинает понимать и чувствовать во время своей болезни. «Понятен испытанный ею мучительный страх — понятен и восторг, когда опасность миновалась. Я уже стал постарше и был способен понять этот восторг, понять любовь матери. Эта неделя много вразумила меня, много развила, и моя привязанность к матери, более сознательная, выросла гораздо выше моих лет». Мысли о матери, возбуждающие в сыне «тревожное состояние», заставляют его быть «в борьбе с самим собою». И само его «воображение, развитое не по летам», тоже во многом объясняется горячей привязанностью к матери, боязнью утратить ее. Таким образом, в детской психологии образ матери порождает нечто вроде «процесса чувств», «борьбы с самим собой» — явление как бы даже неожиданное при установившемся мнении о «безанализности» психологизма у С. Т. Аксакова.
И не только через мать идет рост детской души. Как содрогается эта детская душа, когда умирает дедушка, какой страх, какой ужас охватывает ее, как воспаляется детское воображение мыслями о смерти! По силе психологической выразительности этот страх поистине зародыш того страха смерти, который будет метаться в сознании героев Толстого, и эта же боязнь смерти, так рано, почти с младенчества узнанная Сергеем Тимофеевичем, видимо, не могла не оставить следа в дальнейшей его жизни, может быть, таилась в его душе, заглушаемая теми «страстишками», о которых говорил сам писатель, имея в виду свои семейные заботы, привязанность к природе и прочее. А рядом со смертью дедушки — появление на свет крошечного братца, вызывающего в Сереже какие-то особые бережные чувства. «В маленькой детской висела прекрасная люлька на медном кольце, ввернутая в потолок. Эту люльку подарил покойный дедушка Зубин, когда еще родилась старшая моя сестра, вскоре умершая; в ней качались и я и моя вторая сестрица. Подставили стул, я влез на него и, раскрыв зеленый шелковый положок, увидел спящего спеленанного младенца и заметил только, что у него на головке черные волоски. Сестрицу взяли на руки, и она также посмотрела на спящего братца — и мы остались очень довольны… Алена Максимовна, видя, что мы такие умные дети, ходим на цыпочках и говорим вполголоса, обещала всякий день пускать нас к братцу, именно тогда, когда она будет его мыть. Обрадованные такими приятными надеждами, мы весело пошли гулять и бегать сначала по двору, а потом и по саду». Семейное чувство, как бы разветвляясь, входит в душу мальчика, пронизывает все его существо, дает ему ощущение полноты и уверенности существования. Ему радостно знать, что он из того же рода, что его отец и дедушка. «Я один был с отцом; меня также обнимали и целовали, и я чувствовал какую-то гордость, что я внук моего дедушки. Я уже не дивился тому, что моего отца и меня все крестьяне так любят; я убедился, что это непременно так быть должно: мой отец — сын, а я — внук Степана Михайловича».
Семейное начало стало ведущим, определяющим в повествовании. Это нашло отражение и в самих названиях книг: «Семейная хроника», «Детские годы Багрова-внука». Хорошо сказал о книгах С. Т. Аксакова Андрей Платонов, увидевший их «бессмертную сущность» «в отношении ребенка к своим родителям и к своей Родине». По словам Андрея Платонова, «книги Аксакова воспитывают в читателях патриотизм и обнаруживают первоисточник патриотизма — семью», ибо «этому чувству Родины и любви к ней, патриотизму, человек первоначально обучается через ощущение матери и отца, то есть в семье». И сама любовь Аксакова к природе «является лишь продолжением, развитием, распространением тех чувств, которые зародились в нем, когда он в младенчестве прильнул к своей матери, и тех представлений, когда отец впервые взял с собою своего сына на рыбную ловлю и на ружейную охоту и показал ему большой, светлый мир, где ему придется затем долго существовать. И ребенок принимает этот мир с доверием и нежностью, потому что он введен в него рукой отца».
Природа — та вторая, после родительской, колыбель, которая поистине вскармливала и лелеяла детство художника. Одно из самых первых и сокровенных «отрывочных воспоминаний» автора «Детских годов Багрова-внука» — это болезнь и выздоровление в младенчестве. «Дорогой, довольно рано поутру, почувствовал я себя так дурно, так я ослабел, что принуждены были остановиться; вынесли меня из кареты, постлали постель в высокой траве лесной поляны, в тени дерев, и положили почти безжизненного. Я все видел и понимал, что около меня делали. Слышал, как плакал отец и утешал отчаянную мать, как горячо они молились, подняв руки к небу. Я все слышал и видел явственно, и не мог сказать ни одного слова, не мог пошевелиться — и вдруг точно проснулся и почувствовал себя лучше, крепче обыкновенного. Лес, тень, цветы, ароматный воздух мне так понравились, что я упросил не трогать меня с места. Так и простояли мы тут до вечера. Лошадей выпрягли и пустили на траву близехонько от меня, и мне это было приятно… Я не спал, но чувствовал необыкновенную бодрость и какое-то внутреннее удовольствие и спокойствие, или, вернее сказать, я не понимал, что чувствовал, но мне было хорошо… На другой день поутру я чувствовал себя также свежее и лучше против обыкновенного». «Двенадцатичасовое лежанье в траве на лесной поляне дало первый благотворный толчок моему расслабленному телесно организму». Так врачующе подействовала природа на ребенка, и с тех пор он до самозабвения полюбил ее.
Один из современников С. Т. Аксакова, охотник-литератор, шутя говорил, что его собака делает стойку перед «Записками ружейного охотника», так много в них жизни и правды. То же самое можно сказать и в отношении описания природы в «Семейной хронике» и «Детских годах Багрова-внука»: столько здесь жизненного, истинного, что забываешь всякую литературу и вместе с автором погружаешься в мир самой природы. Она оздоровляюще влияет даже на нас, читателей аксаковских книг[25], а что уж говорить о Сереже, живущем в ней. Для него она неиссякаемый источник радостей и наслаждений. Сколько тайн, сколько волнующих подробностей открывается ему повсюду в ней, сразу же за домом, где течет Бугуруслан и начинается грачовая роща: на рыбалке; в дороге, все той же самой, от Уфы до Багрова, и всегда захватывающе новой; на ночлеге в степи под открытым небом; в весеннем неистовстве соловьев при потухающей заре. И все это, и многое другое, все голоса, цветы, ароматы, «красоты природы» (любимое выражение самого писателя) как бы переливаются в детскую душу, ласкают ее, приводят в восторг, ширят ее, делают счастливой. И так же, как в любви к матери, проявляется вся гамма чувств, переживаний маленького героя, так в страстной привязанности к природе раскрывается не менее, пожалуй, богатая жизнь детской души.
Можно было бы много говорить о значении родного угла, природы в творческой судьбе С. Т. Аксакова, в частности и об уникальности в русской литературе, да и не только, видимо, в русской, а и в мировой — такого явления, когда скромные рамки события — детство, проведенное в оренбургском селе, — под пером художника наполняются вдруг такой жизненной подлинностью, содержательностью, значительностью, что мы невольно задумываемся о неисчерпаемости бытия и в самых малых «уголках земли». Впрочем, это и не должно нас удивлять, вспомним, например, что значил этот уголок земли для Пушкина, как обогатило его двухлетнее пребывание в Михайловском, какая поэзия, какие глубины народной жизни открылись ему — через сказки Арины Родионовны, рассказы крестьян, песни слепцов на ярмарках; именно отсюда, из этого «уголка земли» началось и пушкинское постижение русской истории, эпохи «Бориса Годунова» (сотворенного здесь), самой народности. И у каждого великого русского художника был свой «уголок земли», который связывал его с миром.
Отсюда же, из этого «уголка земли» ведет свое происхождение и язык писателя. «Семейная хроника» и «Детские годы Багрова-внука» впитали язык аксаковской родины, как вобрали они благоухание окружающей природы. Народность языка у С. Т. Аксакова не только в чисто народных словах, но и в самой правде выражения народной жизни, которую он хорошо знает. Живая речь, кажется, облегает все, чего ни касается, каждое явление, каждый предмет, каждую бытовую подробность, проникается тем неуловимым русским значением, которое дается самой непосредственной жизнью в национальной стихии. Изустная живость речи соединяется с удивительной пластичностью изображения, с такой зримостью, осязаемостью картин, особенно природы, что мы как бы входим в них, словно в реальный мир. Ни одного фальшивого тона, все просто и истинно. Уже сам язык очищающе действует на читателя не только в эстетическом, но и в нравственном отношении. Отпечаток мудрости, духовной ясности старца, его нравственной проникновенности проглядывает в слоге. Все сокровище души своей вложил художник в этот слог, в эту величавость русского слова, оттого и не убывает со временем красота и правда этого удивительного аксаковского языка, одарившего нас чудной илиадой детства русской жизни.
«Семейная хроника» и «Детские годы Багрова-внука» сразу же после своего выхода вызвали восторженные отзывы современников. И что удивительно, эти единогласные похвалы принадлежали людям разных убеждений, таким, как Хомяков и Тургенев, Толстой и Герцен, Шевырев и Щедрин, Погодин и Чернышевский, Анненков и Добролюбов и т. д. Правда, неодинаковые были причины для похвал. Так, Добролюбов (в своей статье «Деревенская жизнь помещика в старые годы, отразившаяся в „Детских годах Багрова-внука“») отметил, как самое важное в книге С. Т. Аксакова, все то, что связано с описанием «старого порядка», с «произволом» помещика в «семейных отношениях», с вторжением в его деревенскую жизнь крепостных отношений. «Конец концов, — пишет Добролюбов, — вся причина опять сводится к тому же главному источнику всех бывших у нас внутренних бедствий — крепостному владению людьми».
«Неразвитость нравственных чувств, извращение естественных понятий, грубость, ложь, невежество, отвращение от труда, своеволие, ничем не сдержанное, — представляется нам на каждом шагу в этом прошедшем, теперь уже странном, непонятном для нас и, скажем с радостью, невозвратном».
Для Толстого в «Детских годах Багрова-внука» «равномерно сладкая поэзия природы разлита по всему, вследствие чего может казаться иногда скучным, но зато необыкновенно успокоительно и поразительно ясностью, верностью и пропорциональностью отражения».
Щедрин признавался, что испытал на себе решительное влияние «прекрасных произведений» С. Т. Аксакова, потому и посвятил ему один из циклов «Губернских очерков» в журнальной публикации — «Богомольцы, странники и проезжие». Аксаковская эпическая просветленность коснулась такого беспощадно-язвительного сатирика, каким был Щедрин. И гораздо позднее, в его «Пошехонской старине» в главе «Воспитание нравственное», рассказывается, как герой (с автобиографическими чертами самого автора), возрастом уже за тридцать лет, впервые «почти с завистью» познакомился с «Детскими годами Багрова-внука» и вынес из этого чтения неизгладимые впечатления. Высоко ставил книги С. Т. Аксакова Достоевский, отмечая в них правду народного характера. Полемизируя с западниками, он писал: «Вы утверждаете, что чуть народ проявит деятельность, то сейчас он кулак. Это бесстыдно. Это неправда. Няня, переход через Волгу в „Семейной хронике“ и сто миллионов других фактов, деятельность самоотверженная, великодушная».
У каждого из знаменитых современников С. Т. Аксакова был свой взгляд на его книги, но все сходились в одном: в признании выдающихся художественных достоинств этих книг, редкого таланта их автора[26]. Сам же Сергей Тимофеевич, искренне удивляясь своему громкому авторскому успеху, с присущей ему «незаносчивостью» самолюбия объяснял дело просто: «Я прожил жизнь, сохранил теплоту и живость воображения, и вот отчего обыкновенный талант производит необыкновенное действие».
Выйдя в свет, «Детские годы Багрова-внука» сразу же стали хрестоматийным классическим произведением. Так, Мамин-Сибиряк (родившийся в 1852 году, за шесть лет до выхода книги Сергея Тимофеевича) писал в своей автобиографии, как он в раннем детстве «заслушивался» чтением «Детских годов Багрова-внука». И позднее другой будущий писатель (о чем расскажет сам Горький в повести «В людях») запомнит навсегда, как «Семейная хроника», «Записки охотника» Тургенева и другие произведения русской литературы «вымыли» его душу: «Я почувствовал, что такое хорошая книга, и понял ее необходимость для меня. От этих книг в душе спокойно сложилась стойкая уверенность: я не один на земле и — не пропаду!»
Книгами С. Т. Аксакова всегда будут «заслушиваться» потомки писателя, находя в них, как в мудрых народных преданиях, всегда живой, глубоко современный и вечный смысл.
По-прежнему тянуло к нему и людей почтенных лет, и молодых, и безвестных, и знаменитых. Не блистал Сергей Тимофеевич особой ученостью, не выставлял себя обладателем истины, дабы учительствовать, наставлять других; полный терпимости к мнениям, слабостям других (потому что знал за собою слабости), благожелательный к людям, способный сливаться своими интересами с их интересами, принимать в них близкое душевное участие, — старик Аксаков чуткой мудростью нравственно объединял общество, вносил в него свет своей доброты. И те, кто узнавал его еще ближе, не мог не отвечать ему той же приязнью.
Готовя третье издание своих книг «Записки об уженье рыбы» и «Записки ружейного охотника», Сергей Тимофеевич познакомился с человеком, ставшим вскоре же близким ему. Это был Карл Францевич Рулье, знаменитый тогда профессор Московского университета, крупный ученый-естествоиспытатель, который с восторгом встретил книги Аксакова и охотно написал к ним свои примечания. Рулье — француз по отцу, но считал себя истинно русским. Ведь и предки Даля из датчан, и сам Пушкин по матери из абиссинского рода Ганнибала, но разве оттого он перестает быть Пушкиным, самым русским из русских? Да и дети самого Сергея Тимофеевича — Константин и Иван — внуки турчанки, а найдешь ли русских патриотов горячее, чем они! Тем и велико обаяние русской народной жизни, русской культуры, что все, кто входит в нее, какой бы национальности они ни были, попадают в поле ее мощного притяжения, усваивают ее кровно и делаются кровными ее сынами.
Рулье был не только большой ученый, сделавший много важных биологических открытий, но и человек с живыми общественными интересами. Он был убежден, и оставался верным этому всю свою жизнь, что естествоиспытатель обязан изучать прежде всего растительный и животный мир своего отечества[27], а потом уже других стран. Сам он начал с изучения обитателей лесов и полей той местности, в которой жил, выпустив книгу «О животных Московской губернии». Рулье любил повторять слова Овидия: «Изучи свое отечество, а потом можешь путешествовать». Достойными осмеяния называл он тех биологов, которые почитают своей научной гордостью то, что они внесли новое название четвероногого в список животных Огненной Земли или Филиппинских островов, которые распишут вам «бразильского жука и новоголландских пташек» и не смущаются «перед смышленым крестьянином, перед последним продавцом живности», знающими о местных животных неизмеримо больше, чем эти ученые специалисты. «Не завидую, — писал Рулье, — ни одному путешественнику, он поехал далеко от родины оттого, что не занялся достаточно изучением своей родины, которая, конечно, его бы и заняла и привязала».
И сама наука была для Рулье не кабинетным занятием; а той живой сферой, в которой он хотел принести пользу сельскому хозяйству, крестьянам. Когда в 1846 году посевы озимой ржи в губерниях Центральной России были почти полностью уничтожены озимой совкой, Рулье, не будучи ботаником, немедленно взялся за отыскание средств борьбы с вредителем, чтобы не повторилось это же бедствие в будущем. Когда обсуждались причины тревожившего земледельцев вырождения картофеля, Рулье и здесь не остался в стороне, сказал свое авторитетное слово. Неоценимую услугу практике оказал он как деятельный член Московского общества сельского хозяйства, создатель Комитета акклиматизации животных и растений, как пропагандист достижений русского скотоводства. «Первой из первых наук, первым из первых искусств» считал Рулье сельское хозяйство, видя в нем начальный по древности человеческий труд, давший основу человеческим знаниям, наукам.
Сергею Тимофеевичу Рулье годился в сыновья (был только на три года старше Константина), но как знаток природы и всего живущего в ней был более чем вровень с ним, стариком. Рулье высоко оценил книги С. Т. Аксакова «Записки об уженье рыбы» и «Записки ружейного охотника». Сам Сергей Тимофеевич говорил, что «Рулье словесно и письменно восторгался» его «добросовестными наблюдениями» в этих книгах. Привлекало, конечно, ученого и то конкретное знание автором родной местности, вдоль и поперек исхоженной, изученной, обсмотренной (книга Аксакова и называлась: «Записки ружейного охотника Оренбургской губернии»), та обстоятельность вникания в мир животных, именно окружающих автора, в образ и условия их жизни, — свойство, которое Рулье всегда считал задачей «ученого труда первейших ученых», в отличие от поверхностных впечатлений путешествующих в «отдаленные страны». По словам Рулье, в книге Аксакова «во всем виден человек бывалый и страстно любящий свои занятия».
Сергею Тимофеевичу Карл Рулье был близок и как человек, своей простотой, живостью интересов, пониманием людей, чуткостью к народному слову. Хорошо знавший ученого драматург Н. А. Чаев, известный во времена А. Н. Островского, оставил в своих воспоминаниях живой облик Рулье в его общении с людьми. У его дома на Тверской-Ямской, где он жил вблизи постоялых дворов, рассказывает Чаев, избрал себе место калачник со своим лотком и сбитнем. «Карл Францевич любил посидеть с сигарою в летний вечер на лавочке у дома и подружился с калачником. Заметив, что калачника зовут приятели пить чай в трактир, Рулье обращался к нему обыкновенно со следующим предложением: «Вы, почтенный-любезный (поговорка К. Ф.), не стесняйтесь, идите пить ваш чай, я посижу тут и буду продавать отлично калачи и сбитень. Вы сколько берете за стакан? Цену калачей я слышал. Меня не обойдут, и я вас не надую». Калачник с благодарностью принимал услуги К. Ф. и уходил. «Как же ты сбитень-то и калачи оставил?» — спрашивали в трактире приятели. «У меня там профессор, дай бог здоровья, тут живет, торгует, — пресерьезно отвечал сбитеньщик». «Он был, — продолжает тот же автор, — приветлив со всеми, начиная от сторожа до ректора, но никто не умел так отделать, уничтожить противника, как Рулье, с его французским вежливым и добродушным юмором».
Карл Францевич стал домашним собеседником Сергея Тимофеевича, вскоре они уже были друзьями. И не только любовь к животному миру связывала их. Рулье был глубоким ценителем литературы, языка, театра. Любимым баснописцем называл он И. А. Крылова, цитируя его часто в своих произведениях. Оба вспоминали гениальную игру Мочалова, умершего около десяти лет тому назад, дарившего современников «минутами неописуемого счастья», по словам Рулье. Но если для Сергея Тимофеевича образцом театрального искусства оставался Щепкин, то для Рулье, пожалуй, более близок был П. М. Садовский, принесший на сцену правду образов Островского, их реалистичность, народность. Рулье сблизился с А. Н. Островским и его кружком. Новый этап в реалистическом развитии русского театра, связанный с драматургией Островского, искусством П. Садовского, не был, кажется, достаточно замечен Сергеем Тимофеевичем, остававшимся верным прежним театральным симпатиям.
Удовольствием для С. Т. Аксакова было слушать самую речь Рулье, не профессорски-гладкую, бесцветную, а живую, меткую, с народными присловиями и оборотами. Как в самой науке Рулье не терпел злоупотреблений иностранными терминами, заменяя их, где возможно, общепонятными русскими названиями, так в разговоре он был неподдельно прост и безыскусен. «Яйца курицу не учат», — говаривал Карл Францевич, имея в виду первородство народного начала в языке, да и не только в языке. Он говорил о «прелести слова, исшедшего из живого народного языка», и радовался, когда такое слово становилось достоянием языка и научной литературы. Было удивительным для многих, что этот знаменитый профессор-биолог к тому же еще и превосходный знаток народного языка, основательный филолог. Рулье участвовал в работе над словарем русского языка, готовившимся Академией наук, он занимался «исправлением определений слов по части зоологии». Но не только этим. Его интересовала народная речь в ее живых повсеместных фактах.
Сергею Тимофеевичу самому пришлось на деле убедиться, как глубоки и обширны познания Рулье в народном языке. Это было, когда они вместе готовили третье издание «Записок об уженье рыбы» и «Записок ружейного охотника». Рулье подобрал для них политипажи, изображения птиц и рыб, снабдил обе книги своими примечаниями. И теперь, спустя более столетия, открывая эти книги с именами С. Т. Аксакова и Рулье на титульных листах, испытываешь какое-то особое чувство при виде сотрудничества большого художника и большого ученого. Этих примечаний, набранных мелким шрифтом в виде сносок под чертой, как будто и не так много, но как они удивительно метки, какое замечательное знание жизни рыб, птиц, животных и вместе с тем народного языка! Рулье иногда поправляет автора; так, в описании Аксаковым гагары читаем: «три нижние пальца, соединенные между собой крепкими глухими препонами». Рулье уточняет: «не глухими, а расщепленными». После слов Аксакова: «Название гагары объяснить не умею», Рулье пишет: «Название галка, гусь, гагара, гагак, гагач, гоголь — звукоподражательны говору, гаму (го-го) этих птиц. Голк — шум, гул, голанить — шуметь (горло, гайло)». Часто Рулье ссылается на народное толкование: «гагары называются в народе нырцами (быстро ныряют)».
А какая свободная ориентация в тех народных названиях, определениях, которые бытуют в разных местах, областях обширной России и метко передают особенности характера, образа жизни хотя бы тех же птиц! Так, к отрывку о стрепете Рулье делает примечание: «В Малороссии хохотва, степная курица; на Каспии степной тетерев, трясучка — названия, верно характеризующие общий склад, голос и полет этой птицы». Куропатка полевая: «Куропатка в Камчатке; курохта, полевой, степной, рябчик в Сибири; каменный рябчик в Даурии» и т. д. Можно себе представить, как было интересно все это узнавать (и не только, конечно, из примечаний к своей книге, а из живого общения с ученым) Сергею Тимофеевичу, охотнику и знатоку преимущественно все-таки Оренбургской губернии.
Преждевременная смерть Карла Францевича Рулье в апреле 1858 года переживалась Аксаковым как большая личная потеря, он остался для Сергея Тимофеевича «незабвенным, так рано погибшим даровитым профессором».
Завязывались у Сергея Тимофеевича новые знакомства с писателями. Среди них был и Лев Николаевич Толстой. Аксаков познакомился с ним еще в январе 1856 года, вскоре после того, как Толстой вернулся из Севастополя, где был офицером батареи. Одетый в шубу, в артиллерийской фуражке, Толстой имел вид и выправку скорее человека военного, чем писателя, только по тому, как он цепко всматривался в собеседника, из глубины небольших серых, под нависшими бровями, глаз, можно было понять, как наблюдателен этот офицер. О нем уже ходила слава как об авторе «Детства», «Отрочества», «Севастопольских рассказов». Перед приездом в Москву он был в Петербурге, познакомился там с Тургеневым, Некрасовым, с писателями, сотрудничавшими в «Современнике», и успел заслужить у них репутацию не только большого художника, но и человека, склонного к противоречиям, к парадоксальным оценкам признанных вроде бы европейских знаменитостей, установившихся, казалось бы, истин.
Художник редкой психологической проницательности; уже в «Детстве» — какая тонкость душевных движений, оттенков детского сознания, какая оригинальность, свежесть подробностей, от эпизода с перчаткой перед танцами, провала маленького танцора и мучительного стыда его, страдания после этого — до таинственного чувства любви к Сонечке. Но в самом детском чувстве какая уже недетскость, какое самокопание, обнажение в себе, в маленьком существе, эгоистичного, самолюбивого.
Такова жуткая картина «прилично» соблюдаемого ребенком похоронного этикета при полнейшей душевной бесчувственности. Необычная для детства трезвость самопознания могла иметь два последствия для будущего великого художника. Во-первых, она открывала ему те тайны человеческой природы, личное переживание которых делало его глубоким психологом, тайновидцем человеческой души. Но это же — осознание гнездящегося в себе самом, мягко говоря, несовершенства могло решающим образом повлиять и на характер самоусовершенствования, о котором смолоду задумался писатель (повесть «Юность»). Открытие в самом себе такого жестокого бесчувствия, вообще потаенного зла могло убедить в слабости человеческой природы и, стало быть, в желательности более смиренного мнения о себе, принятия всего лучшего в других. Начало это есть в «Детстве». Но суть оставалась в том, что сам Толстой, так обостренно чувствовавший в себе и в других падшие стороны человеческой природы, не только не склонен был к самоумалению, но, напротив, стремился к сознанию исключительности своего призвания. И однажды он запишет в своем дневнике, что чувствует в себе силы быть создателем новой религии. Что это за религия — мы знаем: из четырех Евангелий Толстой составил «свое» Евангелие, с плоским этическим учением.
Таковы были некоторые особенности «Детства», произведшего большое впечатление на литературный мир. Сергей Тимофеевич Аксаков был также в числе поклонников таланта Толстого. Особый интерес должна была вызвать у него позднее вышедшая толстовская «Юность», теми особенно местами, где рассказывается о Казанском университете (перенесенном в повести в Москву). Толстой, так же как и Аксаков, когда-то учился в Казанском университете (не окончив его), и Сергею Тимофеевичу по старой памяти приятно было окунуться в студенческую среду, пусть нового поколения, почувствовать живую струю умственных интересов в стенах родного университета.
Но уже и тогда, читая «Детство» и другие автобиографические повести Толстого, автор будущих «Детских годов Багрова-внука» мог видеть, насколько иным будет повествование о детстве у него самого. И действительно, разница большая. На «Детство» Толстого оказала влияние «Исповедь» Руссо, которой никогда не был увлечен Сергей Тимофеевич и психологической рефлективности которой был глубоко чужд. Когда вышла повесть «Юность» Толстого, то Константин Аксаков в своем печатном отзыве отметил, что в ней «анализ принимает характер исповеди, беспощадного обличения всего, что копошится в душе человека», что «много верного подметил он в изгибах души человеческой, и это твердое желание обличения себя во имя правды само по себе уже есть заслуга и оставляет благое впечатление». Вместе с тем в критическом анализе и самоанализе Толстого Константин Аксаков увидел излишнюю «мелочность», «микроскопичность», при которой подмеченным случайным ощущениям («проходящим по душе как дым») придается преувеличенное значение; «микроскопическое» внимание к «мелочам душевного мира» может представить сам этот «душевный мир» в неверном, искаженном виде.
Сергей Тимофеевич в отличие от старшего сына не давал Толстому советов, но также не в его духе был тот самоанализ, которым терзает себя на каждом шагу герой автобиографических повестей Толстого. Нетрудно заметить, что сам Лев Николаевич, повествуя о детстве, подвергал столь подробному, беспощадному анализу каждое душевное движение Николеньки, укрупняя и осложняя его, держа в напряженности ум и чувство маленького героя, ведя его по пути нравственных исканий. В «Детских годах Багрова-внука» жизнь дана в восприятии ребенка, все видится его глазами и осмысливается его умом, каждое событие, встреча с человеком окрашены детской поэзией; здесь, говоря словами самого Сергея Тимофеевича, «нет никакой подделки под детский возраст и никаких нравоучений», читатель забывает о «взрослом» повествователе и слышит только голос маленького, Сережи Багрова. Видимо, надо было обладать младенческой чистотой души, чтобы так полно войти в состояние ребенка и зажить с ним одной жизнью, как это мы видим в случае с автором «Детских годов Багрова-внука».
Знакомство с Толстым пришлось по душе Сергею Тимофеевичу. Первая же встреча с ним обрадовала старика серьезностью интересов молодого писателя. «Он умен и серьезен, — делился Аксаков своими впечатлениями о Толстом, — он способен понимать строгие мысли, в какие бы пустяки ни вовлекла его пошлая сторона жизни… Я ставлю его очень высоко по задаткам, которые он дал нам, и, узнав его лично, еще более надеюсь на его будущую литературную деятельность». Вера Сергея Тимофеевича в «литературную деятельность» Толстого еще более укрепилась после того, как он познакомился с началом его «Севастопольских рассказов»: «Статью Толстого я прочел с восхищением и также мысленно кричал ура и сочинителю, и тому, что она напечатана», — писал Аксаков в одном из своих писем. Толстой только начинал, пора его величия как художника была еще впереди, и можно себе вообразить, как был бы счастлив Сергей Тимофеевич, доживи он до появления «Войны и мира», «Анны Карениной», с какой гордостью говорил бы он об этих гениальных книгах.
И Льву Николаевичу нравилось бывать у Аксаковых. «С Толстым мы видаемся часто и очень дружески, — сообщал Сергей Тимофеевич знакомому писателю. — Я полюбил его от души, кажется, и он нас любит». После раздражавших его петербургских литераторов типа Панаева Аксаковы умиротворяюще действовали на Толстого. Здесь не было никакой позы, никаких гримас самолюбия ни в ком и ни в чем (к чему так был болезненно чувствителен Толстой). Все было просто, тепло и строго. В Константине Аксакове чувствовались сила и глубина, самим им как бы и не подозреваемые: настолько он был благодушен и открыт. Толстой не любил, когда Константин Сергеевич начинал что-то проповедовать, но, странное дело, то, что вызвало бы у Толстого в разговоре с другим раздражение, желание противоречить, говорить вещи совершенно противоположные, — здесь выслушивалось спокойно, может быть, оттого, что не было решительно никакого повода для раздражительности гостя, очень чуткого ко всему фальшивому, самолюбивому в собеседнике. Случилось даже то, что Лев Николаевич сблизился с Константином Сергеевичем и тем самым мог набраться впрок (не только как художник) наблюдений насчет того, как, не философствуя о самосовершенствовании, человек на самом деле может жить высоконравственно. С именем Константина Сергеевича оказалось связанным последовавшее вскоре одно литературное дело: по его предложению Толстой был избран действительным членом Общества любителей российской словесности при Московском университете.
А с Сергеем Тимофеевичем молодому гордому Толстому и вовсе было покойно, не за что зацепиться: так был благожелателен старик, искренен и скромен. И вся семья была на виду — как ни изощрялся бы посторонний взгляд на отыскание в ней скрытой фальши, притворства, розни — он не нашел бы и намека на это, ни в какой другой семье не увидит Толстой те положительные русские начала, вообще ту национальную семейную почву, которая жила в самом писателе как общественный идеал, находя воплощение в его художественных образах вроде семьи Ростовых в «Войне и мире».
Бывая часто в доме Аксаковых, ну как было не послушать что-нибудь из сочинений старика Аксакова, тем более что в это время Сергей Тимофеевич работал над «Детскими годами Багрова-внука». И целых шесть вечеров подряд Толстой слушал чтение глав из этой книги. В январе 1857 года он записал в дневнике: «Чтение у С. Т. Аксакова. Детство прелестно!» Покорила Толстого правдивость тона повествования, которое ведет сам маленький Сережа Багров, разлитая по всему «равномерно сладкая поэзия природы». Впоследствии, сам став отцом, Лев Николаевич будет советовать своим старшим детям вслух читать и пересказывать «Семейную хронику» и «Детские годы Багрова-внука».
Знакомство Толстого с Сергеем Тимофеевичем, его старшим сыном Константином Сергеевичем будет продолжаться недолго: спустя три с несколькими месяцами года после первой их встречи не станет старика Аксакова, вскоре за ним последует его любимый первенец. В жизни Толстого, в его мировоззрении, в его философско-религиозных исканиях произойдет много событий; в лице младшего сына Сергея Тимофеевича — Ивана Аксакова Толстой встретит строгого, сурового критика «своего» Евангелия, своего «нового» религиозного учения. Постоянно склонный к противоречиям, к переоценкам всего и вся, Толстой мало кого жаловал, всегда ставя себя в независимость от какого бы то ни было влияния своих современников, кроме, пожалуй, «простых мужиков», о чем считал нужным заявлять. И тем примечательнее, что уже на закате жизни, как бы подводя итог ее, Лев Николаевич признавался: «Никто из русских не имел на меня, для моего духовного направления, воспитания такого влияния, как славянофилы, весь их строй мыслей, взгляд на народ: Аксаковы — отец и Константин, Иван — менее, Самарин, Киреевские, Хомяков».
Приводя эти слова, автор «Яснополянских записок» Д. Маковицкий добавляет: «О славянофилах Лев Николаевич говорил с воодушевлением, с таким уважением, с каким при мне он не говорил ни о ком, кроме как о русском народе».
В апреле 1858 года Сергея Тимофеевича посетил Михаил Евграфович Салтыков, только назначенный вице-губернатором Рязани, он же Щедрин, автор недавно появившихся и вызвавших такой огромный интерес «Губернских очерков». Гость был, видимо, не из тех, кто думает о выгодности производимого им первого впечатления на людей: нахмуренный, глядя прямо на хозяина своими выпуклыми серыми глазами, он глухим, даже каким-то сердитым голосом сразу приступил к делу, повторил все то, что написал недавно Сергею Тимофеевичу в письме: как он, Салтыков, ценит его «прекрасные произведения», значение которых — в сфере «разъяснения внутренней жизни русского народа», что они решительно повлияли на раздел его «Губернских очерков», где он намеревался «провести мысль о степени и образе проявления религиозного чувства в различных слоях нашего общества». В этих очерках он успел высказать взгляд простого народа, отчасти — купечества, но предстоит еще многое…
Михаил Евграфович как-то на мгновение посветлел взглядом, но тут же сделался угрюмым.
— Я вам признаюсь откровенно, почти с завистью прочитал ваши «Детские годы Багрова-внука», — каким-то ворчливым тоном продолжал Салтыков. — У вас было счастливое общение с природой, мать-природа лелеяла ваше детство, помогала вам заинтересоваться великой тайной вселенской жизни, а я только случайно и урывками знакомился в детстве с природой… И зверей, и птиц мы знали только в соленом, вареном и жареном виде…
Сергею Тимофеевичу стало даже жалко Михаила Евграфовича, так обделенного в детстве радостями общения с природой. А что он неравнодушен к ней, видно из «Губернских очерков», где он признается в любви к «бедной природе», с которой ему только и приходилось иметь дело. «Перенесите меня в Швейцарию, в Индию, в Бразилию, окружите какою хотите роскошною природой, накиньте на эту природу какое угодно прозрачное и синее небо, я все-таки найду милые мне серенькие тоны моей Родины, потому что я всюду и всегда ношу их в моем сердце, потому что душа моя хранит их, как лучшее свое достояние». И вообще, в этих «Губернских очерках» слышится временами голос, исполненный теплоты и участия к людям, особенно в разделе о странниках. Как хорош отставной солдат Пименов, с его приверженностью к «странническому делу», с его убеждением, что «надобно самому большую простоту в сердце иметь — тогда всякая вещь сама тебе объявится». С умилением, складом народного сказа повествуется о старой Пахомовне, идущей своей страннической дороженькой. Но зато уж как следует досталось «знакомцам» автора, чиновникам и обывателям Крутогорска (то есть Вятки), у многих из которых Михаил Евграфович бывал частенько в гостях, обедал, играл в карты, считался даже своим человеком, и немало озадачил их, возмутил «черной неблагодарностью», когда они по каким-то фактам, чертам узнавали себя в весьма непривлекательных героях «Губернских очерков». И глядя на меняющееся на глазах настроение гостя, немудрено было подумать, что и они, Аксаковы, не застрахованы от возможного недовольства его.
Константин Сергеевич заговорил с Салтыковым о «Губернских очерках», о которых он уже писал. Сочинение это имеет общественный интерес — вот главная причина его успеха. Но, сколько кажется ему, Константину Аксакову, это не произведение искусства, а ораторская речь, — и в час добрый, нам нужны такие речи. В его рассказе есть карикатурность, а она вредит делу, ибо дает неправде возможность сказать: это карикатура. Настораживает в его рассказах и ненужный цинизм, который тоже вредит делу, ибо производит сам по себе тоже отталкивающее впечатление и тем нарушает цельность внимания читателя. Кроме того, его рассказ — иногда уже чистый список действительности случайной, и потому ничего не дающий человеку, как анекдот. Интерес чисто анекдотический — не художественный, не гражданский, не общий. У Щедрина не все, впрочем, рассказы отрицательные, есть и положительные, они-то и более по душе ему, Константину Аксакову.
Слушая старшего сына старика Аксакова, Салтыков хмурился, дергал шеей, как будто ему мешал туго завязанный галстук, что-то ворчал про себя. Потом, обращаясь к Сергею Тимофеевичу, начал ругать петербургских литераторов, издателя одного журнала, напечатавшего фельетон, в котором его, Щедрина, выставил ниже другого писателя уже одним тем, что сначала упомянул о рассказе того писателя.
— Ведь эдакой скотина, все приставал ко мне, да что, скоро ли дадите мне хоть один очерк, и я не дал ему. Вот он теперь… ну да черт с ним. И все так в Петербурге — куда ни пойдешь, — видишь одни каторжные рыла, морды, на которые так и хочется харкнуть! В провинции не такие лица, там все вяленые судаки.
И Михаил Евграфович перекинулся на анекдоты о провинциальных нравах, о «крапивном племени». Наиболее забавной была история о вороне, разбившей стекло в городническом правлении, по случаю чего губернское правление предписало вставить стекло «на счет виновных». Городничий рапортовал, что виновница скрылась в неизвестном направлении, примет ее установить не удалось, а поэтому нельзя учинить публикаций о розыске… Было действительно что-то бодрое (бодрым называл Константин Аксаков талант) у автора «Губернских очерков» и в голосе, и в выражении лица Михаила Евграфовича, когда он рассказывал эти анекдоты, и даже нечто вроде вице-губернаторского распекания мерзавцев и подлецов (его любимые слова).
Из разговора выяснилось, что у обоих — у Сергея Тимофеевича и Михаила Евграфовича — общий близкий знакомый — Владимир Павлович Безобразов, совсем еще молодой, тридцати лет, человек, но уже известный экономист. Вскоре после этой встречи, в августе 1858 года, появится в «Русском вестнике» большая статья Безобразова «Письмо к С. Т. Аксакову по поводу крестьянского вопроса», в котором автор напомнит о «сочувственных беседах» с ним Сергея Тимофеевича. Безобразов был младшим лицейским товарищем Салтыкова, по возвращении из вятской ссылки в Петербург, в 1856 году, Салтыков дружески сошелся с ним, даже жили в одном доме. Прочитав еще в рукописи «Губернские очерки», Безобразов пришел в восхищение и помог провести их в «Русский вестник», где участвовал сам. Но недолго будет продолжаться дружба Салтыкова с бывшим младшим лицейским товарищем, и «либералу» Безобразову придется на себе испытать сатирическую желчь Щедрина, столь восхитившую его в свое время в «Губернских очерках».
Михаил Евграфович начал прощаться, и долго еще после необычного гостя не мог прийти в спокойное состояние духа старик Аксаков, который по страстной натуре своей даже и на склоне лет не в силах был относиться спокойно ко всякому горячему, общественному ли, литературному ли разговору, а здесь такой уж кипяток, что впору не обвариться бы.
Этот майский день 1857 года был на редкость приятным для семьи Аксаковых. Их дом посетил Федор Иванович Тютчев по просьбе Сергея Тимофеевича, пожелавшего его видеть. В комнату упругой твердой походкой вошел невысокого роста худой человек, седовласый, с рассеянным сквозь очки взглядом, и первые же фразы, сказанные им, внесли какой-то чудный настрой в беседу. Так показалось старику Аксакову, и в этом мнении о госте он мог быть, конечно, не одинок. Тютчева «разрывали на части», когда он бывал в Москве, приезжая сюда из Петербурга или из-за границы, и все, что считало себя в Москве просвещенным и культурным, спешило увидеться с Федором Ивановичем и насладиться беседой с этим европейски образованным человеком. Но не меньшим, если не большим наслаждением такие payты, беседы с интересными людьми были для самого Тютчева, который не мог дня прожить без светского общества, без общественных интересов, без того, что он называл «умными разговорами», в которых пленял собеседников меткими изречениями самой тонкой, художественной чеканки, чарующим остроумием, глубокой мыслью, неистощимыми оттенками ее. Если к этому прибавить его врожденную любезность сердца, по слову современника, деликатное внимание к мнению каждого, обаяние его личности — то понятен будет тот успех, каким неизменно пользовался в обществе этот дипломат и поэт.
Впечатление, производимое им на слушателей, было так ярко, что один из тогдашних известных поэтов писал, что из слов Тютчева, «как бы бессознательно спадавших с языка его», можно «нанизать драгоценную нить», можно составить по ним «Тютчевиану, прелестную, свежую, живую, современную антологию».
Но удивительнее было для Аксакова другое в этом человеке. Выехав в 1822 году девятнадцатилетним юношей из России после окончания Московского университета, он более двадцати лет провел за границей, на дипломатической службе, лишь изредка и ненадолго приезжая в Россию. Вся окружавшая его чужеземная среда, вплоть до домашнего быта (жена его, немка, не знала ни слова по-русски), должна, казалось, сделать из него иностранца. Да он внешне, как пересказывали полуслепому родителю Аксаковы-дети, и был как бы чистокровным порождением европеизма, с привычками, потребностями бытовыми и прочими, воспитываемыми западной цивилизацией, говорившим не иначе как на французском языке и т. д. И вот это-то и самое поразительное в Тютчеве: как «европеец» мог стать таким глубоко национальным великим поэтом? Сам факт говорит, конечно, о духовной мощи русской культуры, дававшей такую «закваску» взращенному в ней сознанию, что это уже не могло вытравиться никакими чужеземными влияниями. Но надо, конечно, было обладать еще и самобытными способностями. В чужой среде не только не ослабла, не стерлась, а, наоборот, еще глубже утвердилась в Тютчеве его духовная самобытность; десятилетиями живя в Европе, зная ее изнутри, как истый европеец, он мог уже иными глазами видеть свою страну (чем видели ее европейские туристы из русских), отчетливее были для него отличительные особенности этих двух миров, самобытность России. К чему пришла Европа, по мнению Тютчева? К самовластию человеческого «я», к разрушительным тенденциям в философии, социально-политических учениях, к умственной гордости, видящей в автономии человеческой личности высшую, абсолютную ценность. И совсем другое видится Тютчеву в русском народе:
Эти бедные селенья,
Эта скудная природа —
Край родной долготерпенья,
Край ты русского народа.
Не поймет и не заметит
Гордый взор иноплеменный,
Что сквозит и тайно светит
В наготе твоей смиренной.
Удрученный ношей крестной,
Всю тебя, земля родная,
В рабском виде Царь Небесный
Исходил, благословляя.
Да и в самом Тютчеве удивляло это же смирение. Не говоря уже о полном его равнодушии к поэтической известности, славе (стихи он писал без всякого расчета на их печатание, и только благодаря вниманию, усилию других они выходили в свет), он был лишен всякого тщеславия. Насколько ревнив был к своей популярности, например, Чаадаев, принимавший как должное поклонение своей личности, настолько безразличен был к этому предмету Тютчев. И для этого имелось у него философское основание: неприятие им — в какой бы то ни было форме — обожествления человека, абсолютизации его значимости. «Человек есть ложь», — мог бы повторить он древнее изречение. Да и глубоко жило в нем, Федоре Ивановиче, сознание своей духовной немощи (всегда тем глубже переживаемой выдающимися людьми, чем выше бывает у них подъем духа). Высоко может подняться человеческий дух, но подобно водомету, достигнув своей возможной высшей точки, он обессиливает и низвергается вниз. Немощью положен предел человеческой гордыне, хотя этого многие и не понимают. То, что он, Тютчев, знает о себе, не ослепляет его гордыней. Да и любовная история с Денисьевой, молодой женщиной, ставшей матерью его детей при прежней, с которой он живет, семье, история долгая, мучительная, поставившая ее в отверженное положение в обществе (тогда как сам он по-прежнему оставался любимцем этого общества, как бы не ведающего о его связи) — все это не очень-то должно было возвышать его в собственных глазах. Сергей Тимофеевич знал об этой истории, но не решился бы судить о ней, тем более кого-либо осуждать; судьба хранила его как семьянина, и он мог только пожалеть других, когда в их семейную жизнь врывались разрушительные страсти.
Разговор потек легкий и свободный, как будто они давно знали друг друга. Тютчеву нравилась Москва, в которой он бывал нечастыми наездами, здесь прошли его студенческие годы (он окончил Московский университет). Здесь его помнили и любили университетские друзья, среди них наиболее близкий ему Михаил Петрович Погодин, здесь были глубоко почитаемые им русские святыни, здесь же, в литературной среде, поражался он, по его словам, «возмужалостью русской мысли». И теперь между гостем и хозяином беседа как-то сама собою началась с первопрестольной, вызывавшей у обоих приятные воспоминания о далеком прошлом.
Тютчев говорил просто, немного задумчиво, это был не «жемчужноуст», нанизывающий драгоценную нить из блистательно остроумных метких выражений, приводящих в восхищение слушателей, перед Сергеем Тимофеевичем сидел казавшийся усталым человек, уже немолодой, откровенный и простой, каким он бывает, видимо, наедине с самим собою дома, с накинутым на спину пледом, или же в разговоре, не требующем условности. Старик Аксаков, видимо, располагал его к такому разговору. Что-то явно связывало их. Не то, конечно, что когда-то Аксаков, а сейчас Тютчев служили цензорами; оба глубоко чувствуют природу, хотя так разно: Тютчев — в дисгармоничности, в разладе с нею человека, Аксаков — в благодатности ее дара. Было другое: одинаково ревностное отношение к России, всепоглощающее чувство любви к ней, боль в тяжелую для нее годину, как это было в недавнюю Крымскую войну, когда у Тютчева вырвались полные горечи слова: «Теперь тебе не до стихов, о слово русское, родное», и когда «чисто литературные интересы побледнели» и для Аксакова, говоря его словами. И теперь, при первом же знакомстве, оба чувствовали родственность между собою в этом главном. Два с такими разными судьбами человека — дипломат, проживший не один десяток лет в Европе, обжитой им как истым европейцем, и неисправимый домосед, никогда не выезжавший из России, почитавший искренне свое Абрамцево милее всех чужеземных красот.
И было много общего у Федора Ивановича с другим собеседником, присутствовавшим тут, — можно догадаться, что речь идет о Константине Сергеевиче, неотступном попечителе больного Сергея Тимофеевича. Дорого было Константину Сергеевичу и то в Тютчеве, что тот, как и он, верил в великое историческое предназначение русского народа и, между прочим, также твердо различал «народ» и «публику», мнящую себя «цивилизованной», «которая является, в сущности, „накипью“ русского общества». Мало какие другие слова прозвучали бы более сладостно для слуха Константина Аксакова. Он, по обыкновению, не мог усидеть на месте, вскакивал с кресла, ходил, вспоминая, как, будучи молодым, в Германии, видел и восхищался там достижениями наук, бытовой культурой, а все-таки духовно русский народ богаче, это его убеждение. Любя Тютчева как поэта, видя силу его в чуткости к «таинственным глубинам и безднам души», Константин Сергеевич сейчас, в разговоре, более был расположен видеть в собеседнике другую сторону его стремлений: Тютчев «сочувствует историческому ходу человечества, он сочувствует народу, своему народу, его современности, грядущим судьбам, его назначению и призванию». Так выскажется вскоре печатно Константин Аксаков о Тютчеве, и теперь это было для него важнее всего в их разговоре.
Как жаль, думал Сергей Тимофеевич, любуясь гостем, что нет вместе с ними в этот замечательный день Ивана, который бродяжничает теперь по Европе, застрял в Париже. Как было бы ему интересно поговорить с Тютчевым о европейских и отечественных политических событиях. Ведь Федор Иванович большой знаток этих вопросов, недаром стали знамениты все три написанные им статьи, касающиеся России в ее отношении к Западу, их судеб. Революционные события в Европе автор этих статей считает признаком кризиса, крушения христианской веры, с этим согласны и его оппоненты, но их отталкивает консерватизм Тютчева, противопоставляющего Западу Россию с ее православным мессианством. Но, не соглашаясь с этим, те же прогрессисты не могли не признать превосходное знание Тютчевым социального, политического положения в Европе. Таким и был в разговоре этот человек, который мог от блестящей светской шутки перейти к серьезной теме, высказав при этом как бы мимоходом мысли, которые оставляли неизгладимый след в сознании слушателя. Да, досадовал старик Аксаков, что не было с ними тогда Ивана, но все было у Ивана Аксакова еще впереди на этот счет: и близкое знакомство с Тютчевым, перешедшее в родство, когда он женился на дочери поэта, Анне Федоровне; и дружба их, домашние времяпрепровождения, доставлявшие Тютчеву удовольствие своим семейным теплом, а более всего возможностью «наслаждаться умным разговором», по его словам. Глубокое взаимное уважение будет связывать тестя и зятя, а плодом почитания Иваном Сергеевичем близкого человека останется его замечательная книга «Федор Иванович Тютчев», где с такой любовью и пониманием будет воссоздан облик великого поэта и выразителя русского национального самосознания.
Тютчева растрогала встреча со стариком Аксаковым и его старшим сыном, большей приветливости и радушия нельзя было и пожелать. Он чувствовал себя как в своей семье среди этих «славнейших и добрейших людей». Уходя от них, он думал с добродушным юмором, умерявшим обычно торжественность его мыслей и высокого настроения: «Это симпатичный старец, несмотря на его несколько чудную наружность, благодаря длинной бороде, спадающей на грудь, и наряду, придающему ему вид старого заштатного дьякона».
Одним из тех, кто познакомился с Сергеем Тимофеевичем незадолго до его смерти, был и Тарас Григорьевич Шевченко. Это случилось в марте 1858 года. Шевченко остановился тогда в Москве у своего друга Михаила Семеновича Щепкина перед тем как отправиться в Петербург, куда ему был разрешен въезд после ссылки. Позади осталась десятилетняя ссылка в оренбургских, прикаспийских степях, снискавшая ему в. литературных кругах репутацию жертвы и мученика самодержавия.
Тарас Григорьевич еще в пору своего участия в Кирилло-Мефодиевском братстве выделялся среди более либеральных «братчиков» (Костомаров, Кулиш) своей непримиримостью к существующему строю. Для Шевченко средой, в которой он чувствовал себя как рыба в воде, так и останется до конца дней его именно простой народ, его интересы, потребности, сам язык. Его мечтой будет поселиться на родной украинской земле, в мужицкой хате и зажить как все хуторяне. Он и невесту будет искать не среди «образованных» барышень («как же себя связать с собачьей господской кровью», по его словам), а среди крестьянских девушек, сватаясь, к сожалению, неудачно то к батрачке, то к крепостной горничной. Таков был нрав Тараса Григорьевича, отличавший его от всех прочих бывших «братчиков» Кирилло-Мефодиевского общества. Когда начался арест членов общества, то у Шевченко обнаружили его рукописную поэму «Сон», которую он повсюду читал и давал читать другим, эта поэма и явилась главным пунктом предъявленного ему обвинения, как хула на царя и царскую семью. Царь здесь представлен как хищный медведь, все топчущий вокруг себя, загоняющий своим рыканьем в землю всех своих подданных, от «толстобрюхих, пузатых» до мелкой челяди. И уж без всяких медведей, напрямик о царе: «О, царь окаянный! царь проклятый и лукавый, аспид ненасытный!»; «людоед свирепый» и т. д.
Шевченко был приговорен к ссылке «с запрещением писать и рисовать» (это не касалось писем) и определен рядовым в отдельный Оренбургский корпус. Но на месте ссылки Шевченко продолжал и писать стихи, и рисовать на политические темы. Местное начальство сквозь пальцы смотрело на высочайшее запрещение, более того, комендант крепости, старик-генерал по-отечески принял ссыльного, разрешив ему жить не в солдатской казарме, а в наемной квартире; офицеры, по словам самого Шевченко, принимали его у себя на квартирах «как товарища». Новые друзья обеспечивали его хорошей бумагой, наборами акварельных красок, рисовальными принадлежностями, даже «аглицкими альбомами», «кистями Шериона» лучшей парижской фирмы и т. д. Большим удовлетворением для Тараса Шевченко было участие его в Аральской экспедиции в качестве художника для срисовывания берегов. Участники экспедиции, начальник ее, офицеры окружили Шевченко искренним вниманием, создав ему условия не только для выполнения его непосредственных обязанностей, но и чтобы он мог отвести душу как художник в своих пейзажах, бытовых картинках и т. д. Без преувеличения можно сказать, что история ссылки выдающегося сына украинского народа — это во многом история дружественного участия к нему со стороны русских людей, много делавших для смягчения его положения.
Потом, перед угрозой доноса в Петербург за такое послабление политическому ссыльному, надзор за Шевченко был усилен, он был переведен в отдельное Новопетровское укрепление на пустынном берегу Каспия, с солдатской службой, но и здесь находились добрые люди, поддерживавшие его. Он был всегда желанным гостем офицерского общества, без него, по свидетельству очевидца, не устраивалось ничего — «был ли то обед, или по какому-либо случаю любительский спектакль, поездка на охоту, простое какое-либо сборище холостяков или певческий хор». Известные люди, в том числе лица служебные, хлопотали об освобождении Шевченко, хотя и безуспешно.
Наконец кончились невзгоды и лишения десятилетней ссылки, наступила вожделенная свобода. Позади месячное плавание от Астрахани вверх по Волге, доставившее ему столько впечатлений, полугодовое пребывание в Нижнем Новгороде. И вот теперь с помощью своего незаменимого друга Щепкина Тарас Григорьевич знакомится с Москвой, с известными москвичами. «Радостнейший из радостных дней, — записал Шевченко в своем дневнике 22 марта 1858 года, — сегодня я видел человека, которого не надеялся увидеть в теперешнее мое пребывание в Москве. Человек этот — Сергей Тимофеевич Аксаков». До этого они заочно уже были знакомы. За время пребывания Шевченко в Нижнем Новгороде его навестил Щепкин и передал ему от Сергея Тимофеевича дарственный экземпляр «Семейной хроники» с дружеской надписью автора. Шевченко ответил Аксакову восторженным письмом, благодаря за подарок, за «высокое, сердечное наслаждение», которое он получил от чтения полученной книги. В другой раз через В. И. Даля, проживавшего в Нижнем Новгороде, Аксаков послал Шевченко свою новую книгу «Детские годы Багрова-внука». Для Тараса Григорьевича Аксаков как выдающийся художник был авторитетным ценителем произведений искусства. Еще в Новопетровском укреплении Шевченко начал писать повесть на русском языке «Прогулка с удовольствием и не без морали», часть ее он решил из Нижнего Новгорода послать Аксакову, желая знать его мнение. И похвалы Сергея Тимофеевича, а затем откровенные его критические замечания на присланную вторую часть повести Шевченко принял с одинаковой благодарностью, видя в «искреннем, благородном» отзыве Аксакова самые доброжелательные побуждения.
И вот наконец произошла личная встреча Шевченко с Аксаковым, как уже говорилось, в Москве, 22 марта 1858 года. Это свидание длилось всего несколько минут. Сергей Тимофеевич был болен, доктор наказал никого к нему не пускать, но, узнав о присутствии в доме Щепкина и Шевченко (которые пришли поклониться семейству Аксаковых), Сергей Тимофеевич просил их к себе. «Видно, много пришлось пережить этому человеку», — с сочувствием думал Сергей Тимофеевич, утомленный волнением первого знакомства. Обычно угрюмый, нелюдимый, Шевченко теперь рядом с Аксаковым казался другим человеком: смотрел по-доброму, с доверием, улыбался, Щепкин слушал их разговор довольный: можно было догадаться, сколько взаимно доброго наговорил он им друг о друге. «Какая прекрасная, благородная старческая наружность! — говорил с восхищением об Аксакове Тарас Григорьевич, когда они возвращались домой к Щепкину. — Эти несколько минут навсегда останутся в кругу моих самых светлых воспоминаний».
Через день Шевченко вновь навестил Аксакова. На этот раз Сергей Тимофеевич чувствовал себя лучше, он сидел в кресле, по-домашнему одетый в подобие зипуна, придававшего его внешности почти хуторскую простоту в глазах гостя. Умудренный болезнью взгляд старика был проникающе кроток, и Шевченко, уставшему от многолетнего тяжкого груза ненависти ко всему, что сделало его жизнь несчастной, было покойно от этого взгляда, и самого его коснулась выстраданность примирительного состояния. Среди близких друзей Сергея Тимофеевича было немало украинцев: М. А. Максимович, О. М. Бодянский, П. А. Кулиш, М. С. Щепкин, не говоря уже о Гоголе. И вот теперь — Шевченко, вызвавший в памяти все слышанное о Малороссии, жившее в душе поэтическим образом. Влюбленный в Малороссию, в ее села, утопающие в садах, в проселочные дороги между хлебов, в красоты южных ночей, все равно каких — безлунных или же полнолунных, Иван Сергеевич столько живого поведал отцу об украинской природе и быте, что теперь в разговоре с гостем обаяние всего этого встало перед Сергеем Тимофеевичем, и он поддался ему почти с молодым увлечением. Шевченко, слушая, светлел лицом, как будто вдыхал доносившийся с далеких родных полей запах хлеба. Но вдруг, задумавшись, нахмурился, метнул крутым исподлобья взглядом и громко проговорил: «Дюже богата и добра украинская земля и дюже жалок на ней поруганный, бессловесный смерд! Кто подает голос за этого бедного, опаскуженного раба?!» Тарас Григорьевич сделал резкий жест правой рукой, как будто сорвал шапку с головы и бросил ее на пол (что он всегда делал в патетические минуты, в пылу разговора). Тут же Шевченко вспомнил Салтыкова, его «Губернские очерки», от которых он был в восторге, и воскликнул: «Как бы возрадовался Гоголь, увидя вокруг себя гениальных учеников своих!» Произнесенное имя Гоголя только добавило теплоты разговору.
Перед уходом гостя старик Аксаков пригласил его на лето к себе в деревню, в Абрамцево, на что Шевченко отвечал, что, кажется, не устоит против такого искушения.
На следующий день Шевченко заехал к Аксаковым проститься. Больной спал, и Тарас Григорьевич «не имел счастья облобызать его седую прекрасную голову». Домашние, как и сам Сергей Тимофеевич, за короткий срок уже успели полюбить гостя, и среди этих милых, неподдельно искренних людей Тарас Григорьевич чувствовал себя как дома. Надежда Сергеевна «угостила» его украинскими народными песнями, и что более всего тронуло поэта — это то, что в семействе Аксаковых непритворно любили Малороссию, а вместе с нею — и его поэзию. «В Москве, — записал Шевченко в своем дневнике, — более всего радовало меня то, что я встретил в просвещенных москвичах самое теплое радушие лично ко мне и непритворное сочувствие к моей поэзии. Особенно в семействе С. Т. Аксакова».
Вплоть до последних лет в Сергее Тимофеевиче, больном, не выходящем из дому, не угасал живой интерес к людям, ко всему новому, значительному, что происходило в литературной жизни. Некоторые к нему шли, может быть, и с себялюбивой мыслью, но уходили с невольно испытываемым чувством душевного очищения, и это оставалось в людях помимо и глубже всех слов, на всю жизнь.
Какова жизнь, таков и венец ее. Что греха таить, пришлись ему по сердцу слова, сказанные о нем как о писателе одним критиком: «Только прекрасная, полная жизнь могла увенчаться такою силою и чистотою внутреннего зрения». Он почти слепец, и все же чистым внутренним оком смотрит на мир, на людей. Да и неоткуда, кажется, взяться душевной замутненности. Он не знал искривляющей внутреннее зрение ненависти, той ненависти, которой иные только и живут, вскармливают ее в себе как любимое дитя, лелеют и разжигают, даже не думая о том, что это дитя способно пожирать не только других, но и своего кормильца. Сколько он знал и знает людей, обуянных идейной ненавистью, презирающих все в жизни и саму ее за то, что она не укладывается в их теорию, не подчиняется их самоуверенной мысли. Судьба хранила его и от славолюбия, которое так же, как и властолюбие, извращает, отупляет человека. Никогда не был он томим ни тщеславием, ни завистью, попросту был семьянином и только, пожалуй, случайно, как он считал, стал писателем, «беспристрастным передавателем изустных преданий», по его словам. Мог бы и не быть им, и оттого не изменилась бы его жизнь, не потеряла бы своего смысла. Хотя и не дано ему было бы тогда знать ту радость самоотдачи, которую он испытал, слагая свою лебединую песнь. Кажется, не старости ли низвести в его душу покой и тишину, но нет, видно, не ему такая доля, ничто — ни болезни, ни годы не могли умиротворить его душу.
Дух по-прежнему тревожен,
Нет сердечной тишины,
Мир душевный невозможен
Посреди мирской волны!
Это он написал в стихотворении к старинному своему знакомому Михаилу Александровичу Дмитриеву, отвечая на его стихотворное послание, делясь с ним своими стариковскими недугами, признаваясь в раздражительности по поводу житейских мелочей, что тяжко переносить «сил телесных и духовных отвратительный разлад», но на его счастье
Есть, однако, примиритель
Вечно юный и живой,
Чудотворец и целитель, —
Ухожу к нему порой.
Ухожу я в мир природы,
Мир спокойствия, свободы,
В царство рыб и куликов,
На свои родные воды,
На простор степных лугов,
В тень прохладную лесов
И — в свои младые годы!
Тогда он был не таким еще старцем — было ему шестьдесят лет, когда писались эти стихи, и он мог чаще и дальше уходить в «мир природы». Теперь этот мир был все менее доступен ему, сузился до видимого из окна берега Вори, где любил под кустом, прикрытый зонтиком от осеннего дождя, согретый теплым зипуном, сидеть и ждать со страстным терпением, не спуская глаз с поплавка. Он глядел на берег Вори в окно, как пленник из тюрьмы, только мысленно еще в силах пойти туда, куда тянуло его, где все ему было знакомо до щемящей грусти, где живет и будет без него жить мир, пролившийся благодатью в его душу! Слухом, по-молодому чутким (и в этом была его сейчас вся связь с природой, вся жизнь в ней), впивал он звонкий свист синицы, резвившейся за окном, и вот уже чудился ему и скрип снегирей в невидимых кустах, и чоканье, визг слетевшихся в урему дроздов, куда манят их красные кисти рябины и калины, и гоготание белых гусей на озимях, и сам он как будто бы уже там, на изумрудном поле. Ему бы выйти сейчас, если бы не хворость, на балкон из гостиной, в который раз почувствовать себя стоящим на высокой горе, откуда открывается такой чудесный вид: слева лесистые холмы с где-то яснеющими далями; долина с извивающейся Ворей в кустах; золотистая роща. И увидев все это, тронуться бы в путь вниз под гору, по ее уступам, через цветники и сад выйти в рощу, к милой Воре, влиться вместе с нею в красоту этой скромной и бесконечно родной земли. В пяти верстах отсюда древний городок Радонеж, куда он любил ходить, испытывая всякий раз чувство какого-то особого значения разлитой повсюду в природе благодати. Как здесь все и прекрасно, и древне, и легко обозримо, и бесконечно, как сама жизнь с ее бессмертным, в сущности, смыслом.
Два «рая земных» дано было ему познать в жизни: Аксакове — колыбель детства, где ему открылись глаза на «чудеса природы»; и Абрамцево — пристанище его последних четырнадцати лет, насытившее его сполна зрелой радостью общения с природой, но и ранившее душу закатом ее красоты. Как уходило за край неба солнце, так, видно по всему, закатывалось для него Абрамцево, да и не только оно. В эту осеннюю непогоду, сидя в четырех стенах, слушая хлест мокрого ветра в затворенные окна, он с непривычной для себя покорностью вдруг понял и принял как должное, что захворал тяжело и от него теперь ничего не зависит. Что значим мы, жертвы внезапной хвори? Но он не ропщет, он враг докук. Не тряхнуть ли лучше стариной, своей «страстишкой» к стихам, может быть, это будет последнее его баловство стихами, его стихотворная лебединая песнь? Он так и назовет это стихотворение «17 октября»[28] — сегодняшним числом, днем поздней, глубокой осени, навеявшей на него невеселые мысли и грустные предчувствия.
Прощайте, горы и овраги,
Воды и леса красота,
Прощайте ж вы, мои «коряги»,
Мои «ершовые места».
Это было прощание с Абрамцевом. Тогда же, 17 октября 1857 года, Сергей Тимофеевич покинул его и переехал в Москву, где ему и предстояло доживать остаток своего земного срока — полтора с днями года.
Как мы видели, в Москве Сергей Тимофеевич не бездействовал, а был весьма деятелен умом и духом, принимая самое живое участие в обсуждении всего того, что относилось к предстоящей реформе. В начале 1858 года вышли в свет «Детские годы Багрова-внука», доставившие автору отрадное чувство лицезрения своего детища, в которое было положено много души. Болезнь, между тем, все более давала о себе знать. Когда-то ему казалось, уже на шестом десятке, что и конца не будет его крепости телесной, здоровью, закаленному охотой, рыбалкой, частыми прогулками. Но в возрасте пятидесяти трех лет он начал терять зрение, лишившись вскоре одного глаза, и принужден был большую часть времени вести сидячую жизнь, к чему так был непривычен и что тяжело действовало на него, расстраивая его организм. Но удивительно было то, что, несмотря на развивавшуюся болезнь, Сергей Тимофеевич продолжал по-прежнему бодрствовать, и ясность духа не покидала его. Весной 1858 года болезнь усилилась, причиняя ему жестокие мучения.
Самоотверженно ухаживавший за отцом Константин Сергеевич писал «Наблюдение болезни» Сергея Тимофеевича с мая 1858 года по конец апреля 1859 года, а также вел «Дневник болезни», отмечая подробности состояния, самочувствия больного. Из «Наблюдения болезни» мы узнаем, что у Сергея Тимофеевича «с трехлетнего возраста, после продолжительного жестокого поноса и непищеварения, осталась кислота в желудке, почему много терпел от раздутия живота… Целые десятки лет он очень часто подвергался сильным спазматическим головным болям… тринадцать лет назад он потерял левый глаз» от катаракты, но не глазная боль, когда-то доходившая до крайности, была теперь причиной его страдания. Жестокость болей, иногда невыносимую, доставляли рези в желудке и особенно воспалительные раздражения в мочевом канале с выходом крови. Он похудел так, что его нельзя было узнать, болезнь усугублялась нервным расстройством. Медицинские средства, оказывая иногда временное облегчение, не останавливали болезнь, которая со временем усиливалась. Как хотелось не отходившему от постели больного сыну, чтобы дело пошло на поправку. Иногда так и казалось, что выздоровление наступит, особенно вначале, летом 1858 года, и в «Дневнике болезни» то и дело повторяется: «Отесенька продолжал чувствовать себя порядочно», «проснувшись, отесенька чувствовал себя довольно хорошо», «ночь отесенька спал хорошо», «отесенька чувствует себя бодрее», хотя нельзя было отвернуться и от того, что «проснувшись, отесенька чувствовал раздражение», «после обеда отесенька почувствовал сильную боль», «отесенька чувствовал нервное состояние». Константин Сергеевич записывал, какое лекарство, по скольку капель было дано больному на ночь и утром, какие показатели воспалительного процесса, что для укрепления организма он пьет кобылье молоко и т. д. Отрадой было уже и то, что отец может ходить, и каждое его движенье, каждый шаг были как праздник для его сына. «Отесенька вышел на восточный балкон и ходил по балкону. Боли уменьшились… Выпив кобылье молоко, отесенька сошел с балкона, прошел до конца сада, сидел там на садовой скамейке, воротился… на балкон». «Отесенька вышел на восточный балкон, где чувствовал себя довольно хорошо. Выпив свое кобылье молоко, отесенька ходил по саду…» «Отесенька ходил по комнате и по балкону… Отесенька вышел в гостиную. На восточный балкон нельзя было выйти от чрезвычайно сильного ветра. Отесенька стал заниматься и диктовать в гостиной».
В начале мая 1858 года в письме к П. А. Плетневу Сергей Тимофеевич писал: «Конечно, великая отрада быть окружену такими попечениями, как я, но в то же время неотразимо прискорбно огорчать и печалить своим болезненным положением мое доброе семейство». Вся семья ушла в это попечение. Посетивший больного старика Аксакова Иван Сергеевич Тургенев говорил с удивлением о той самоотреченности, терпении, кротости, с которыми Константин Сергеевич, как сиделка, ходил за отцом.
В Петровском парке, где поселился Сергей Тимофеевич летом 1858 года, было ближе к лечившему его доктору да и к самой природе. Здесь же он вырвался — в последний раз! — пусть мысленно, в своем воображении, но со все той же, не угасавшей в нем свежестью впечатлений «на простор степных лугов… и в свои младые годы».
Произошло это так. Группа бывших студентов Казанского университета задумала издать «учено-литературный сборник» «в пользу недостаточных студентов этого заведения». Была послана покорнейшая просьба к «первому студенту» Казанского университета С. Т. Аксакову дать название сборнику и своим произведением украсить его страницы. Всегда отзывчивый на просьбы ближнего, готовый услужить чем мог, одолжить деньгами (только «под секретом», как он просил), Сергей Тимофеевич тем более рад был помочь нуждающимся студентам родного ему Казанского университета. Сборник он предложил назвать «Братчиной» и написал для него «рассказ из студентской жизни» «Собирание бабочек». Страдающий от приступов болезни, еле передвигающийся в запертой темной комнате, еле различающий одним глазом предметы (только по-прежнему ясны для него чувствуемые сердцем каждое движение, каждый поворот головы склонившейся над столом Веры, записывающей рассказ под диктовку отесеньки), немощный старец — что мог он вспомнить о каких-то бабочках, о собирании их более полувека тому назад? Но вот он, до того сидевший в кресле согнувшись, приподнял голову, уставился взглядом перед собою, умиление скользнуло по лицу, оживляя его внутренней теплотой воспоминания (как это было все знакомо и до боли близко Вере!), и заговорил… о нет! не тем голосом декламатора, как когда-то, а по-домашнему просто, с какой-то светлой, набирающей силу нотой, и что-то как будто влетело в комнату, распахнуло ее и властно позвало на воздух, на простор. «Как радостно первое появление бабочек! — слышался голос, казалось, звавший на этот простор. — Какое одушевление придают они природе, только что просыпающейся к жизни после жестокой, продолжительной зимы…» Он словно уже видел бабочку, радующую его взгляд, и следил неотрывно за нею, даже как будто уже шел к этому «порхающему цветку», видел себя уже бегущим за ним, как когда-то, более полувека назад, пятнадцатилетним студентом Казанского университета бегал он на поляне загородного сада, преследуя носящихся в воздухе мелькающих разноцветных бабочек и затем дрожащими от радости руками извлекая из мешочка рампетки добычу.
«Из всех насекомых, населяющих божий мир, из всех живых тварей, ползающих, прыгающих и летающих, — бабочка лучше, изящнее всех», — диктовал он, и как будто не воспоминание это было, а живое созерцание мелких тварей, трогательной вестницы недоступной уже ему природы. Как прекрасна жизнь, и сколько радости для глаз в гармонии цветов, узоров, испещряющих это милое, чистое создание, никому не делающее вреда, питающееся соком цветов, который сосет оно своим хоботком… Таким уж он рожден, и таким сойдет, видно, в могилу: достаточно прилепиться к чему-нибудь в природе, вот к этим же хотя бы бабочкам, и все для него в них, весь мир, средоточие всего живого на земле. И в нем самом оживает целый мир впечатлений, и от тех мест, где ловил бабочек, где провел много счастливых, блаженных часов, и от тех людей, с кем делил эту страсть, которая так быстро, но горячо прошла по душе его и оставила в нем незабываемый след. Так грустно от невозвратности того чудесного времени… но нужды нет! «Горы, леса и луга, по которым бродил я с рампеткою, вечера, когда я подкарауливал сумеречных бабочек, и ночи, когда на огонь приманивал я бабочек ночных, как будто не замечались мною: все внимание, казалось, было устремлено на драгоценную добычу; но природа, незаметно для меня самого, отражалась на душе моей вечными красотами своими, а такие впечатления, ярко и стройно возникающие впоследствии, — благодатны, и воспоминания о них вызывают отрадное чувство из глубины души человеческой».
И уже впоследствии, на одре мучительной болезни, за четыре месяца до смерти, находил он отраду хотя бы в мысленном воображаемом общении с природой, диктуя Вере «Очерк зимнего дня». Вспоминались ему зимний день, падение снега, почти полвека тому назад. Крестьяне, приунывшие было от бесснежья, сулившего бескормицу для скота, радовались, видя, как начал идти наконец-то снег, час от часу гуще и сильнее. И хотя ему, как страстному ружейному охотнику, было выгодно мелкоснежье, он, видя общее довольство в деревне, со всеми радовался снегу. «Чтобы вполне насладиться этой картиной, я вышел в поле, и чудное зрелище представилось глазам моим: все безграничное пространство вокруг меня представляло вид снежного потока, будто небеса разверзлись, рассыпались снежным пухом и наполнили весь воздух движением и поразительной тишиной. Наступали длинные зимние сумерки; падающий снег начинал закрывать все предметы и белым мраком одевал землю».
С поля в сумерках шел он домой, видя засветившиеся огоньки в крестьянских избах, предаваясь заботам и мечтам о завтрашней охоте… И подобно тому, как рано утром в начавшемся рассвете топившаяся печка освещала дверь и половину горницы каким-то веселым, отрадным и гостеприимным светом, так же веяло чем-то приветливым, светлым от самого голоса Сергея Тимофеевича, диктовавшего свое последнее произведение. И столько поразительной свежести и очарования, молодости чувств было в каждой его фразе, что невозможно было поверить, смириться с мыслью, что это пишет умирающий писатель.
Но и не диктуя, наедине с самим собою, с той же свежестью видел он свои любимые места. Временами нападало на него желание поехать в Абрамцево, где он не был уже более года. Походить бы по берегу Вори. Какой она была в нынешнем году? В прошедшем, дождливом году река три раза в продолжение лета наполнялась вровень с берегами, даже выходила из них, текла быстро и была очень мутна, так что во время «паводков» ему приходилось перестраивать удочки по-весеннему, но и в такой реке он выуживал и крупных ершей и язей. Кончилась для него с прошедшего года и «смиренная охота» — ходить по грибы, доставлявшая ему столько особенного интереса, нечаянных радостей, подстрекавших в ненастное время, к осени бродить по опушкам и голым горам, где, отдаляясь от деревьев, охотнее растут в ту пору грибы, на отскочихе, как выражается народ.
Минули для него все охоты, даже и «смиренная», осталась одна только «охота» — литература. И он помаленьку отводит в ней душу, когда отпускает хворость. Он ничего не может выдумывать, не может принимать в выдуманном живого участия, это ему кажется даже смешно, поэтому и пишет только о том, что сам видел, знал и пережил. Вот только что закончил «Встречу с мартинистами», воспоминание о полувековой давности истории, как его хотели втянуть в масонскую ложу, возглавляемую Лабзиным. Чутье здоровой натуры уберегло его, молодого человека, от ловушки, и в течение всей жизни он мог положиться на свое чутье, указующее ему, кто что значит. Как ни мягок, даже слаб иногда он был, как ни податлив на влияние — и это даже в зрелые годы, но в этой вере, преданности заветам отцов и дедов, в патриотических своих убеждениях он всегда был тверд и непреклонен, и никакие совратители не могли его столкнуть с этого пути.
По-прежнему держат его и семейные воспоминания, хотя, казалось, с ними вроде бы и покончено. Но нет, опять выплывают из тех же семейных преданий новые эпизоды, развертывается полнее жизнь знакомых лиц. Еще около трех лет тому назад, летом 1856 года, начал он писать повесть «Наташа», как бы продолжение «Семейной хроники».
Герои повести Болдухины — те же Багровы, или те же Аксаковы, отец и мать автора, а главная героиня Наташа — та самая «сестрица Наташенька», или «Надежинька», которую читатель знал по прежним произведениям писателя и в которой изображена его сестра Надежда Тимофеевна, по мужу Карташевская. История, рассказываемая в повести, самая непритязательная: шестнадцатилетняя Наташа, девушка удивительной красоты, душевной прелести, не без влияния матери дает согласие на замужество влюбленному в нее молодому помещику Шатову, но, ближе узнавая своего жениха, она испытывает смущение и разочарование. Этот рассказ о Наташе как жемчужная нитка вплетается в живописные картины быта (повесть так и названа «очерк помещичьего быта»). Но, начатая около трех лет назад, «Наташа» так и осталась неоконченной. И причина все та же: выдумывать он ничего не может, а написанная правда о ныне здравствующих родственниках может вызвать со стороны некоторых из них «оппозицию», те же самые опасения у него, что были и при работе над «Семейной хроникой», «Детскими годами Багрова-внука». Но многим и в таком виде приглянулась «Наташа». Константин на днях читал отрывок из нее на публичном заседании Общества любителей российской словесности. Пришел домой довольный, рассказывает об успехе, даже вроде повеселел…
И когда же придет конец его стариковским тяжким недугам? Мучается сам и мучает других. Больше всех достается Константину, сносящему с бесконечным терпением страдания, невыдержанность больного. Бедный Константин, тяжелее всего смотреть на него, что с ним станет после смерти отца? Страшно за него, он не перенесет, он не так воспитан… Тяжелые предчувствия овладевали Сергеем Тимофеевичем. Еще когда он полтора года назад, осенью 1858 года, вернулся из Абрамцева в Москву и поселился в доме на Кисловке, недалеко от Арбатской площади, то первые его слова были: «Какая у нас приходская церковь?» Ему ответили: «Бориса и Глеба». — «В этом доме я и умру, — сказал он, — в этом приходе отпевали Писарева, тут и меня будут отпевать».
Вот и подходит жизнь к той черте, о которой говорил в их доме Гоголь: «страшна минута смерти». И все видится иными глазами. Когда-то Гоголь пожелал ему «зренья духовного», узнав, что он слепнет. Это обидело его: он хотел живого участия, утешения, а не поученья. Он был весь ропот, волненье, и могло ли утешить его наставление находить отраду в потере «чувственного» зрения, помогающего человеку внешнему, телесному преобразиться в человека внутреннего, духовного? Теперь, на смертном одре, он чувствовал, как преобразилось в нем все, как другим стал мир, откуда должен был уходить. То, что когда-то скользило по его душе, остановилось перед его внутренним зреньем, обнажая бездны, от которых невозможно было отворотиться. Теперь ничто уже, никакие страстишки и привязанности не мешали ему идти навстречу ослепительному и страшному блеску, который рвался из глубин его духа…
30 апреля 1859 года, в третьем часу пополуночи, скончался Сергей Тимофеевич на руках своей любимой семьи. В воскресенье 3 мая в церковь Святых Бориса и Глеба, где отпевали покойного, проститься с ним пришли его многочисленные друзья, почти все здешние литераторы и ученые, люди всех званий. Прощались с дорогим, глубоко чтимым человеком и любимым писателем. Последний путь лежал до Симонова монастыря, здесь, по желанию самого писателя, его и должны были похоронить. При торжественном песнопении гроб Аксакова на руках был внесен в ворота монастыря… Весеннее солнце ласково грело землю, ликующе щебетали птицы. На деревьях распускалась нежная зелень. В воздухе чувствовалось первое дыхание весны, и было что-то невероятное в том, что с пробуждением природы замолк навеки тот, кто умел так радоваться всему живому в ней, кому как немногим была открыта чудная красота этого великого божьего мира.
Недалеко от восточной стены трапезной Никольской церкви Симонова монастыря и нашел свое упокоение С. Т. Аксаков. (В тридцатые годы XX столетия со сносом Симонова монастыря останки С. Т. Аксакова были перенесены на кладбище Новодевичьего монастыря. —
Когда в разверстую, залитую яркими весенними лучами солнца могилу опускали гроб отца, Константин Сергеевич как будто и не осознавал отчетливо, что происходит. Он стоял около матери и неподвижным взглядом смотрел перед собою, отрешенный от всего, что делалось вокруг.
Сергея Тимофеевича похоронили 3 мая, а уже в середине мая знакомые Константина Сергеевича, встречаясь с ним, не узнавали его. Он страшно изменился. От сильной исхудалости что-то удлиненное появилось в его лице и всей фигуре, пепельными стали борода и усы, и какая-то жуткая тихость во всем — в голосе и в самом взгляде, обращенном внутрь самого себя. Видя такую перемену и боясь за его жизнь, знакомые упрекали Константина Сергеевича, что он не удерживает себя от горя, дает ему волю и намеренно расстраивает себя. Но он просил не верить этому, добавляя: «а я просто не могу». Иной приглашал его в деревню, чтобы как-то рассеять его, и на этот привет он отвечал очень серьезно, но задумчиво, что, если бы приглашение было сделано при батюшке, тогда он с охотой бы поехал, но теперь все кончилось, ни удовольствие, ни радость жизни для него существовать не могли.
Всю зиму Константин Сергеевич чахнул, весной ему стало совсем худо, лето не принесло облегченья, и его отправили на лечение за границу. Тамошние врачи-знаменитости дивились чахотке этого богатыря, снедаемого тоской по умершему отцу, в этом и была его болезнь. Лекарства уже не были нужны, все, что могли сделать доктора, — это предписать ему употребление винограда, а главное — развлечение, чтобы не было «нравственного напряжения», чтобы странный русский больной поменьше замыкался в себе. Советовали вообще побольше пользоваться теми развлечениями, зрелищами, которыми так желанна Европа для иностранцев, поехать на «увеселительные воды», а еще лучше — в Париж, где к услугам больного разные гулянья и забавные водевили. Но не для Константина Сергеевича были эти затеи. Да и дни его уже были сочтены. «Если бы не постоянно сочащаяся рана сердца, — писал Иван Сергеевич домой, в Москву, — для которой нет заживления, да и не хочет он заживления, то, — без малейшего сомнения, он, как говорит Шкода, мог бы вполне выздороветь и возвратить себе прежнее здоровье». Но плохим душевным целителем был венский доктор Шкода. Последнее, что могли предложить врачи, — это теплый морской климат. И вот он вместе со своим братом Иваном Сергеевичем, сопровождавшим и опекавшим его, отправился на греческий остров Занте. Это было второе и последнее совместное путешествие братьев. Прошло десять лет, как они вместе ездили в Ростов Великий, Углич, тогда Иван желал ближе свести старшего брата с действительностью. Теперь в этом уже не было нужды, тут была уже действительность иная, перед которой смолкают все практические вопросы. Пароход вез их к неведомым берегам. Константин Сергеевич, глядя с невыразимой грустью в волны, говорил брату: «Неужели, однако, уж и кончено? Как не ожидал я. Но чтоб так уж скоро, кто бы думал?»
Пустынный остров и стал последним земным пристанищем Константина Сергеевича. Чувствуя, что приближается конец, он пожелал исповедаться и причаститься. Русского православного священника в этих местах не было, нашли священника-грека, с трудом говорившего по-французски. На языке, на котором он всю жизнь избегал говорить, и исповедался умирающий. Грек, пришедший наскоро справить требу, был изумлен, слушая исповедь, видя такую твердость духа в человеке перед кончиной. И долго потом не переставал он удивляться, все просил — может ли он повидать близких, а главное — мать покойного, ему хотелось передать ей — праведник скончался, еще не видывал он, исповедник, ничего подобного в жизни. Он все хотел узнать: кто же этот необыкновенный человек? Кто же умер перед ним? Ему отвечали, что это был Константин Сергеевич Аксаков. И что можно было к этому прибавить?
А бедная мать, не вынесшая разлуки с больным сыном и месяц тому назад приехавшая к нему на остров вместе с двумя старшими дочерьми Верою и Любовью, убитая горем, отправилась в обратное путешествие с гробом первенца; Иван и его сестры неотлучно были при ней в дороге.
Исполнилось предчувствие Сергея Тимофеевича: не перенес его смерти старший сын, пережив отца всего на год и семь месяцев. Вскоре опять они были рядом — в могилах в Симоновом монастыре.
А Ольге Семеновне предстояло жить без Сергея Тимофеевича и старшего сына, и самым тяжелым, невыносимым для нее стало воспоминание о прошедшем. Спустя два года после смерти мужа и совсем недавней кончины первенца она писала Ивану: «Нынче мы… с Надей поехали в Симонов… там стояли обедню и воротились в два часа. Вера слава Богу, но боюсь начать чтение: прошедшее так живо представляется и такое прекрасное, одушевленное, и слишком рано утраченное прошедшее, что душа не выносит воспоминания, — вижу, что можно держаться внешнею жизнию, а душу нельзя тревожить».
Еще при жизни Константина, в годовой день кончины отца, Иван Сергеевич писал матери из заграничного далека. «У меня здесь оба портрета отесенькины, но в памяти моей живет постоянно один живой образ, с таким мирным и ярко-светлым внутренним выражением, сияющим таким светом, изнутри исходящим… что многое мигом мне становится ясно, мирно разрешается, и сам я согреваюсь душевно и становлюсь в теплое отношение к жизни. Я знаю, что Константин относится иначе и стоит в отрицательном, разрушительном отношении к жизни, я не думаю ни спорить с ним, ни упрекать его, но мне кажется, что он мало вникает в духовность земного поприща отесеньки на земле…» Но нелегко дается такое умиротворение, хотя и спасительно, умилительно оно для души, потрясенной утратой.
Новый удар ждал Ивана Сергеевича, как и всю семью Аксаковых, в конце 1860 года: не стало Константина. С оцепенением в душе писал он Юрию Самарину: «Теперь в Москве, там, за городом, на поле, в симоновской глуши около него водворились страшный мир и страшная тишина, морозы сковали свежую землю, ветер то и дело заносит ее снегом… Есть что-то беззаконное в этой смерти, как бы она сама по себе ни была свята, какой бы святой жизни она ни была окончанием, беззаконною постольку, поскольку в ней участвовала воля умершего…» Не мог примириться младший брат с казавшейся ему своевольной смертью старшего брата, не нашедшего в себе сил жить после кончины отца «Еще трудно отрешиться от болезненных воспоминаний», — писал тогда же Иван Аксаков, и они не покидали, преследовали его и дома, и за границей, в славянских землях, куда он вскоре уехал и где в своей «записной книжке» отдавался мыслям о тоске, о ее месте, значении в литературе русской и европейской, о том, что «все вопли и стоны родной земли, поднимаясь как испарения к небу, образуют живую атмосферу тоски, которой поэт является избранным выражением, органом, передатчиком, истолкователем», и в этом смутном тягостном ощущении ясной для его сознания была тоска по брату.
Смерть отца, а затем старшего брата, имевших огромное влияние на него, глубоко ранили Ивана Сергеевича. Угас в нем, казалось, интерес к злободневным вопросам, общественной деятельности. Но он знал, что нельзя давать власти над собою унынию, ведь это он поучал Константина, удрученного смертью отца, что брат будет не прав, если постоянная горечь станет мешать его деятельности. В службе пользы общественной никакое личное горе в расчет не берется. И он знал, что его ждет эта служба, как бы тяжело ему ни было.
А между тем на пороге было уже новое, пореформенное время. Вступали в действие невиданные дотоле на Руси буржуазные силы. Было ясно, что современные требования неизбежно коснутся и славянофильства. И надо было избрать путь в соответствии с изменившимися историческими условиями. Для Ивана Аксакова началась новая эпоха его деятельности. Он начал издавать газету «День», затем «Москва», «Москвич», где уверенно вступил в реальные взаимоотношения с новой действительностью. Для него была свершившимся фактом новая экономическая жизнь в России. И он увидел свою цель в том, чтобы обратить эти изменения, как экономические, так и общественные, в обновленные доводы славянофильских идей. Мало кто, как он, понимал растущее значение промышленности в жизни страны. Ведь еще в поездке по украинским ярмаркам он познал вкус к изучению «материальных сил», экономики края. В пореформенной действительности роль «материальных сил» неизмеримо возрастала, и это он готов был только приветствовать. О железнодорожном строительстве он говорил языком поэта: «Всякая верста железной дороги просветительнее тысячи казенных учреждений и благодетельнее целого свода законов». И можно представить себе, каким благом была бы в глазах Ивана Аксакова построенная уже после его смерти великая сибирская железная дорога с тысячами мостов удивительного инженерного искусства, тоннелей, это чудо науки и техники XIX века, чудо русского строительного гения, возникшее за короткий срок и восхитившее мир.
У Ивана Сергеевича установились тесные связи с московским купечеством, которому импонировало в знаменитом публицисте то прежде всего, что он безоговорочно поддерживал национальную промышленность и торговлю в противовес иностранному капиталу. На паи таких купцов, как С. Морозов и его сыновья, Лямин, Солдатенков, Малютин, Третьяковы, Коншины, Шиловы, была основана газета «Москва», собственно для Ивана Аксакова, ставшего ее редактором. Создавая газету, купцы полагали, что ее редактор, почтенный Иван Сергеевич, будет в первую очередь пропагандировать их «дело», отстаивать их конкретные экономические интересы. Но не для того согласился быть редактором Иван Аксаков: ему нужно было проводить «общие воззрения», и газета была превращена им в личный печатный орган. И уже убедившись, что редактор занят вовсе не их, а своим делом, своими идеями, далекими от их нужд, полемикой, вызывавшей неудовольствие властей и приведшей наконец к закрытию газеты, купцы продолжали безгранично доверять Ивану Аксакову, вознамерившись после неудачи с изданием газеты поднести ему в знак солидарности с его действиями благодарственный адрес. Иван Сергеевич играл видную, хотя и негласную роль, в Московской думе. Ходила молва, что читаемые городским головой И. А. Ляминым речи изготовлены Иваном Аксаковым.
Но как бы ни был близок он к торгово-промышленному сословию, видя в нем общественную силу, как ни посягал и сам на деловую роль (он пожелал одно время стать директором железной дороги; по настоянию купцов, принял активнейшее участие в организации Московского купеческого общества взаимного кредита), он оставался всегда Аксаковым, «душеприказчиком» идейного наследия брата Константина и старших славянофилов. Так он благоговел перед памятью старшего брата, умаляя перед ним самостоятельность своей деятельности. Исключительная чуткость к происходящим изменениям делала его выступления событиями в публицистике, общественной жизни. Он смело и прямо высказывал взгляды, которые, по его мнению, диктовались духом времени и которые вызывали горячие споры. Сам старинный дворянин, он выступил за упразднение дворянства как привилегированного сословия, чем вызвал резкое возражение со стороны многих известных публицистов во главе с M. H. Катковым. Но эта идея Ивана Аксакова была, в сущности, итогом той борьбы, которую вел старший брат Константин, и он сам, ставя во главу угла крестьянство, народ, видя в нем главную нравственную силу, воплощение национальной самобытности, призывая к сближению с народом, с его историческими и духовными началами.
В литературе о славянофильстве принято считать, что Иван Аксаков — «практик» славянофильства. Грандиозная общественная деятельность Ивана Сергеевича действительно как бы закрывала собою творческое развитие им славянофильского учения, которое нашло свое выражение в его публицистике. Такова теория «общества», развитая в ряде его передовых статей, опубликованных в 1862 году в газете «День». Известно, что об «общественном мнении», как о «великом благе и великой силе», писал К. Аксаков. Но это была категория как бы отвлеченно-нравственная в отношении учения К. Аксакова о «Земле» («народе») и государстве. Иван Аксаков вводит третью силу, имеющую уже свое определенное место. «Что такое общество? и какое его значение у нас в России, между Землею и Государством?.. Общество, по нашему мнению, есть та среда, в которой совершается сознательная умственная деятельность известного народа; которая создается всеми духовными силами народа, разрабатывающими народное самосознание. Другими словами, общество
Проследим далее развитие мысли Ивана Аксакова. «Итак, мы имеем: с одной стороны — народ в его непосредственном бытии; с другой — государство, — как внешнее определение народа… наконец, между государством и народом —
Но каков, так сказать, состав «общества», кто, какие лица составляют его? Естественное условие, конечно, образование, «но не в значении известного количества «познаний», и даже не в значении одного умственного образования, а в значении личного духовного развития вообще, такого развития, которым нарушается однообразие и безличность непосредственного народного бытия, но нарушается именно тем, что дух народа сознается и самое единство народное ощущается — яснее и живее. <…> Общество образуется из людей всех сословий и состояний — аристократов самых кровных и крестьян самой обыкновенной породы, соединенных известным уровнем образования. Чем выше умственный и нравственный уровень, тем сильнее и общество» (там же, с. 38).
Как видим, в этом обществе нет места той духовной черни, которую Иван Аксаков с презрением всегда называл «так называемой интеллигенцией». Отличительная особенность этой «интеллигенции» — это ее «болезнь сознания» (там же, с. 661), духовная беспочвенность, язва нигилизма, космополизм, холуйство перед Западом. По словам Ивана Аксакова, «интеллигенты» (это слово всегда берется им в кавычки) «все превеликие мастера писать разные „взгляды“ и „нечто“, судить и рядить о судьбах человечества вообще, созидать и разрушать в теории человеческие общества (и не только в теории. —
Подводя итог изданию своей газеты «День», Иван Аксаков писал: «Заступничеством за права русского народа и народности, так, как мы их понимаем, мы и начали, и окончили свой тягостный, четырехлетний редакторский труд». Вместе с тем Иван Сергеевич не идолопоклонствовал перед народом. Дорожные впечатления во время многочисленных служебных поездок по России, непосредственное знакомство с сельскими жителями, их бытом открывали Ивану Сергеевичу и то далеко не идеальное в народе, что было скрыто от его старшего брата, восторженного народопоклонника.
Глубоко актуальный смысл придавал Иван Аксаков понятию патриотизма. В передовой статье газеты «День» «В чем недостаточность русского патриотизма?» он пишет, что «время и обстоятельства требует от нас патриотизма иного качества, нежели в прежние годины народных бедствий», что «надо уметь стоять за Россию не только
Иван Аксаков не раз подчеркивал, что «общество» — это не партия, не какая-то официальная корпорация образованных умов, а духовно-нравственное единение выразителей народного самосознания. Как редактор «Дня» он мог быть по-человечески великодушен к разным людям (сведя, например, на страницах «Дня» мытарившегося в Европе Печерина с другом его молодости), но был непреклонен в своих принципах, отказываясь печатать статьи, чуждые его убеждениям.
Но каковы взаимоотношения «общества» и «так называемой интеллигенции»? То, что составляет сущность мировоззрения «общества» — народность — для «интеллигенции» решительно пустой звук, атавизм. Ретроградами, реакционерами в глазах «интеллигенции» были и Достоевский с Иваном Аксаковым, которых родственно связывала идея русской народности. Главное для «интеллигенции» — «теории», очередные философские книжки, вывезенные из-за рубежа. Как в некрасовской поэме «Саша»:
Что ему книга последняя скажет,
То на душе его сверху и ляжет.
Прочитали или даже просто услышали о Вольтере, Дидро — и появились вольтерьянцы-просветители с масонской помесью. Узнали о Гегеле — расплодились гегельянцы. Познакомились с Сен-Симоном, Фурье — на арену вышли социалисты. Вслед за тем — ученики Фохта, Молешотта — с резаньем лягушек, культом естествознания, что только и сулило прогресс.
В статье «О деспотизме теории над жизнью» Иван Аксаков писал: «Из всех фасадов самый худший есть фасад либерализма». Либералы-интеллигенты слепо раболепствуют перед своим идолом — прогрессом. В другой аксаковской статье «Ответ на рукописную статью „Христианство и прогресс“» говорится: «Прежде всего о заглавии „Христианство и прогресс“. Слово „
Заискивание, раболепство перед «просвещенным» Западом сочеталось у «интеллигентской» черни с презрением, ненавистью к России. Считающая себя «солью земли» «интеллигенция» давно уже даже и выходцами из нее воспринимается как отрава народной почвы, как враг, губитель России. Философ-богослов С. Булгаков писал в своей статье в «Вехах» (как бы в продолжение мыслей Ивана Аксакова о разрушительной роли «интеллигенции»): «…для патриота, любящего свой народ и болеющего нуждами русской государственности, нет более захватывающей темы для размышлений, как о природе русской интеллигенции, и вместе с тем нет заботы более томительной и тревожной, как о том, поднимется ли на высоту своей задачи русская интеллигенция, получит ли Россия столь нужный ей образованный класс с русской душой, просвещенным разумом, твердой волей, ибо в противном случае интеллигенция… погубит Россию».
С годами имя Ивана Аксакова как общественного деятеля приобретало все больший авторитет. В 1872–1874 годах он был председателем Общества любителей российской словесности. Особенно прославился он на поприще председателя Славянского комитета. Еще во время путешествия по славянским землям, вскоре после смерти отца, он поставил своей задачей «упрочить дружественные связи со славянами и узнать поближе их дело и обстоятельства». В дальнейшем Иван Сергеевич очень много сделал для плодотворного развития этих связей, для помощи славянам. Расположенное к Ивану Аксакову московское купечество вносило через него в Славянский комитет крупные денежные суммы, которые шли на народные училища в славянских странах. На деньги купцов выплачивались стипендии студентам-славянам, учившимся в России.
Велика, действенна была роль Ивана Аксакова в защите славян от турецких поработителей. Он как руководитель Славянского комитета снарядил в Сербию генерала М. Г. Черняева и отправил туда добровольцев для борьбы с турками. Во время русско-турецкой войны 1877–1878 годов Иван Аксаков развернул энергичнейшую деятельность не только как публицист, но и как организатор; так, он участвовал в доставке оружия для болгарских дружин, имея связи с директорами железных дорог, добивался бесплатного провоза в Болгарию военного снаряжения и продовольствия. Современники считали, что народное движение за освобождение балканских славян нашло в лице Ивана Аксакова своего Минина[29].
В январе 1878 года русские войска, ведя безостановочное наступление, приблизились к стенам Константинополя. Не имея сил для сопротивления, турки признали свое поражение. 19 февраля (3 марта по новому стилю) 1878 года в занятом русскими войсками местечке Сан-Стефано, в 12 верстах от турецкой столицы, был подписан мирный договор, означавший, по признанию турецких уполномоченных, «смертный приговор Турции». По этому договору в большом объеме расширялась территория Болгарии, турецкие войска лишались права оставаться в ее пределах, полную суверенность получали Сербия, Черногория. Усиливалось положение России на Балканах. С этим не могли примириться Англия и Австрия, потребовавшие созыва конгресса для обсуждения условий мира между Россией и Турцией. На конгрессе, проходившем в Берлине в июне-июле 1878 года, непримиримую агрессивную позицию против России занял ее давний враг — премьер-министр Англии Дизраэли. Оказавшаяся в тяжелом положении Россия, которой в случае неуступчивости угрожала война с Англией, вынуждена была отказаться от плодов своих побед, потребовавших от нее стольких жертв.
«Берлинский трактат», отменивший Сан-Стефанский договор, произвел потрясающее действие на Ивана Аксакова, вызвал в нем негодование, боль. 22 июня 1878 года он выступил на заседании Московского славянского комитета со своей знаменитой речью по поводу «берлинского трактата», в которой со всей резкостью обрушился на малодушие, по его мнению, русской дипломатии, растерявшей все добытое русской кровью («Русь-победительница, сама добровольно разжаловавшая себя в побежденные»). Оратора возмущало, что «наглости Запада по отношению к России и вообще к Европе Восточной нет ни предела, ни меры». И несомненно было для него, что «весь конгресс не что иное, как открытый заговор против русского народа». За это выступление Иван Сергеевич был выслан из Москвы в село Варварино Владимирской губернии, принадлежащее родственникам его жены. Славянский комитет был закрыт.
Речь Ивана Аксакова произвела сильнейшее впечатление не только в России, но и в Европе, имела международный резонанс и даже вызвала хождение на Западе легенды о том, что восточный кризис 1875–1878 годов был «делом рук» Аксакова и его Славянского комитета. Славянские же народы видели в лице Ивана Аксакова своего заступника и верного друга. Популярность его в славянских странах, особенно в Болгарии, была столь велика, что патриотически настроенная болгарская молодежь выдвинула его кандидатуру на болгарский престол, что, впрочем, было отклонено Иваном Сергеевичем как простодушная выходка энтузиастов. Любовь болгар к Ивану Аксакову пережила его и продолжает жить в названии одной из центральных улиц Софии, а также улиц во многих городах Болгарии, деревни в Варненском округе.
Любовь к России, пламенное гражданское чувство, непреклонность убеждений, честность («честен, как Аксаков» — это было почти пословицей) делали Ивана Сергеевича выдающейся личностью, распространявшей вокруг себя сильное нравственное влияние. Его призыв к «русским быть русскими» ничего общего не имел с национальной исключительностью, а означал только то, что, как всякий человек любой национальности, русский должен иметь чувство национального достоинства, не быть духовным рабом, лакеем перед Западом. И сам он, Иван Аксаков, был примером в этом отношении, недаром один из современников признавался, что он сильнее всего чувствует себя русским в трех случаях: когда слушает древние песнопения, когда слышит русскую народную песню и когда читает речи и статьи Ивана Аксакова о «наших русских делах».
Вера в русский народ, идея необходимости преодолеть разрыв, существующий между народом и образованным слоем, была той почвой, на которой произошло сближение Ивана Ахсакова с Достоевским. Высшей точкой их единодушия стали дни Пушкинского праздника в начале июня 1880 года. Тогда, как известно, в Москве, в Благородном собрании, Достоевский произнес свою знаменитую речь о Пушкине, которая произвела потрясающее впечатление на всех присутствующих. С поистине пророческим вдохновением говорил Достоевский о Пушкине как всеобъемлющем гении русского духа, воплотившем в себе и такое свойство русского человека, как его всечеловеческая отзывчивость, чувство братства, тем самым сказавшем человечеству новое слово. После речи Достоевского должен был выступать Иван Аксаков, однако, взойдя на кафедру, он заявил, что отказывается от выступления: ему нечего сказать — все разъяснил в своей гениальной речи Федор Михайлович Достоевский. Правда, Ивану Сергеевичу, любимцу Москвы, все-таки пришлось выступить, его отказ не был принят, и выступил он, по обыкновению, с блестящим ораторским искусством, развивая мысль о народных началах в творчестве Пушкина, о значении для него его няни, Арины Родионовны.
Переживший на два с лишним десятилетия старшего брата, Иван Сергеевич видел, как меняется Россия, как любезные когда-то сердцу отца патриархальные нравы теснятся новым образом жизни негоциантов, не знающих иного идеала, кроме приобретательства. «Невольно вспоминаю я брата Константина и думаю, как было бы ему странно, горько и чуждо среди этого движения», — писал Иван Сергеевич одному из своих знакомых. Пришло время вспомнить не только отца и Константина. Не стало матери — Ольга Семеновна умерла в 1878 году. Скончались сестры — Ольга, Вера, Любовь, Надежда. Чаще других вспоминалась Вера, о ней Иван Сергеевич писал: «Она принадлежала всецело тому периоду времени, когда развивался и действовал брат Константин… Она свято хранила заветы и предания всей нашей школы. Она для меня служила руководительницею и поверкой». Остались в живых самые младшие сестры — Мария и София. В семейную аксаковскую хронику София вписала свою страницу: в 1870 году она продала С. И. Мамонтову Абрамцево, впрочем, усадьба попала в хорошие руки, и, как при Сергее Тимофеевиче здесь бывали известные писатели и общественные деятели, так при новом хозяине гостеприимный дом стал местом, где собирались художники, музыканты, где были созданы замечательные творения русской живописи.
Скромный, никогда не выделявший себя, всегда гордившийся своими знаменитыми братьями Константином и Иваном, Григорий Сергеевич служил вдалеке, сначала был оренбургским, а потом самарским губернатором.
Можно было бы и еще длить post scriptum к семейной аксаковской хронике, но мы закончим его прощанием с Иваном Сергеевичем, умершим в начале 1886 года. Его смерть вызвала широкую волну сочувственных откликов по всей России и за рубежом. Телеграмму из Москвы 27 января 1886 г., 12 час. ночи послал императору К. Победоносцев с сочувственным извещением о смерти И. Аксакова с такими словами: «Немного таких честных и чистых людей, с такою горячею любовью к России и всему русскому». Александр III ответил: «Действительно, потеря, в своем роде, незаменимая. Человек он был истинно русский, с чистою душою, и хотя и маньяк в некоторых вопросах, но защищающий везде и всегда русские интересы». А. Н. Островский сказал, узнав о его кончине: «Какой столп свалился!» И такое ощущение было у многих современников, к которым были обращены сказанные за три недели до смерти слова Ивана Аксакова: «Будем бодрствовать!.. Любовь к истине, любовь к своему народу и земле делают борьбу
1812–1826 — Жизнь в Ново-Аксакове, а затем, после семейного раздела, в селе Надеждине, близ Белебея, с наездами в Петербург и Москву.
«Записки об уженье» С. Аксакова. М.: Тип. Н. Степанова, 1847.
«Записки об уженье рыбы» С. Аксакова. 3-е изд., с политипажами и примечаниями К. Ф. Рулье. М., 1856.
«Записки ружейного охотника Оренбургской губернии» С. А…ва, М.: Тип. Н. Степанова, 1852.
«Записки ружейного охотника Оренбургской губернии» С. Аксакова. 5-е изд., с политипажами, латинскими названиями птиц и примечаниями К. Ф. Рулье. М., 1868.
«Семейная хроника и воспоминания» С. Аксакова. М.: Тип. Н. Степанова, 1856.
Разные сочинения С.Аксакова. М.: Тип. Н. Степанова, 1858.
«Детские годы Багрова-внука, служащие продолжением Семейной хроники» С. Аксакова, М.: Тип. Каткова, 1858.
«Детские годы Багрова-внука, служащие продолжением Семейной хроники» С. Т. Аксакова. Предисл. И. Аксакова. 2-е изд. М., 1874.
Полное собрание сочинений С. Т. Аксакова в 6 томах под ред. И. С. Аксакова и П. А. Ефремова с приложением очерка А. С. Хомякова и «Воспоминанием об Аксакове» M. H. Лонгинова. СПб.: Изд. Н. Г. Мартынова, 1886.
Полное собрание сочинений С. Т. Аксакова. В 6 т. 2-е изд. А. Карцева. М, 1897–1902.
«Записки ружейного охотника Оренбургской губернии» С. Аксакова с таблицами в красках и научными примечаниями проф. Мензбира. М., 1909.
Собрание сочинений С. Т. Аксакова. 6-е изд. М., 1911.
Избранные сочинения С. Т. Аксакова. М.; Л.: Гослитиздат, 1949.
Собрание сочинений С. Т. Аксакова. В 4 т. М.: Гослитиздат, 1955–1956.
Собрание сочинений С. Т. Аксакова. В 5 т. М.: Правда, 1966.
Избранные сочинения С. Т. Аксакова. М.: Московский рабочий, 1975.
Избранные сочинения С. Т. Аксакова. М.: Современник, 1985.
Иван Сергеевич Аксаков в его письмах (3 тома). М., 1888. В томе I — «Очерк семейного быта Аксаковых».
Дневник Веры Сергеевны Аксаковой. 1854–1855. СПб., 1913.
Сергей Тимофеевич Аксаков. Его жизнь и сочинения. Сборник историко-литературных статей. Сост. В. И. Покровский. 2-е изд., доп. М., 1912.
В книге использованы архивные материалы, хранящиеся в Центральном государственном архиве литературы и искусства (ЦГАЛИ), в архиве Института русской литературы Академии наук СССР (Пушкинский дом, ИРЛИ), в рукописном отделе Государственной библиотеки имени В. И.Ленина, в архиве Народной библиотеки имени Кирилла и Мефодия в Софии (Болгария).
С. Т. Аксаков.
Мария Николаевна Аксакова — мать писателя.
Вид мельницы на реке Бугуруслан, описанном в «Семейной хронике».
Тимофей Степанович Аксаков с сыновьями (?).
Родина Аксакова.
Дом в Знаменском (Аксакове), описанный в «Семейной хронике».
Невский проспект.
Дом Державина на Фонтанке.
И. А. Дмитриевский.
А. С. Яковлев.
А. С. Шишков.
Г. Р. Державин.
Ольга Семеновна Аксакова — жена писателя.
Сергей Тимофеевич Аксаков.
С. Н. Глинка.
Ф. Ф. Кокошкин.
Москва середины XIX века.
A. H. Верстовский.
П. С. Мочалов.
А. А. Шаховской.
М. Н. Загоскин.
H. A. Полевой.
О. M. Бодянский.
Москва. Дом в Афанасьевском переулке, где жили Аксаковы.
Москва. Дом Аксаковых в Левшинском переулке.
В. А. Жуковский.
Н. В. Гоголь.
А. И. Герцен.
Московский университет.
В. Г. Белинский.
К. С. Аксаков.
T. H. Грановский читает курс лекций в университете.
С. П. Шевырев читает курс древнерусской словесности в университете.
С. Т. Аксаков.
А. С. Хомяков.
И. В. Киреевский.
Салон Елагиных.
Москва. Дом Хомякова на Собачьем площадке.
Гостиная в доме Александра Степановича Хомякова — место встреч славянофилов и западников.
Ю. Ф. Самарин.
П. В. Киреевский.
П. Я. Чаадаев.
М. П. Погодин.
Дом Погодина на Новодевичьем поле.
Дом Аксаковых в Абрамцеве.
Дом на Никитском бульваре, в котором жил Гоголь.
H. В. Гоголь.
В. С. Аксакова.
Река Воря в абрамцевском парке.
И. С. Аксаков.
К. С. Аксаков.
Гоголевская аллея в абрамцевском парке.
И. С. Тургенев.
Л. Н. Толстой.
Т. Г. Шевченко.
M. С. Щепкин.
M. Е. Салтыков-Щедрин.
Ф. И. Тютчев.
К. Ф. Рульс.
Кабинет С. Т. Аксакова в Абрамцеве.
H. M. Языков.
M. A. Дмитриев.
Терраса дома в Абрамцеве.
Книги Аксакова.
Москва. Дом на Кисловке, в котором умер С. Т. Аксаков.
Симонов монастырь, где был похоронен С. Т. Аксаков.
С. Т. Аксаков.