Николай Лесков
Русское общество в Париже
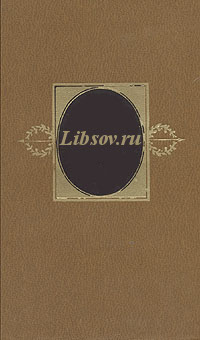
О Париже уже так много писано, что, как говорят, конца края написанному нет, и сказать о нем что-нибудь новое, способное еще хотя несколько заинтересовать и занять русского читателя, мне кажется необыкновенно как трудно. Я просто не знаю, о чем я стану писать в этих письмах, которых вы у меня так настойчиво просите, думая, что будет интересно, если я просто-напросто стану рассказывать о том, как живут в Париже наши русские. Свидетельствуюсь всею моею искренностью, что мне смерть как не хочется браться за эту материю и раскатывать свернутое и брошенное в архив моей памяти; но, исполняя данное мною вам обещание, все-таки сажусь описывать житье-бытье моих соотечественников в Париже, каким оно мне представлялось во время моего пребывания во французской столице, в 1863 году. Но при этом пусть между мною и вами будет одно условие: не претендуйте на меня, если письма эти выйдут вялы, тощи и бессвязны. Я их пишу почти что поневоле. Будьте снисходительны, и чур от меня не требовать ни художественной постановки лиц, ни округленных и законченных сцен, — словом, ничего того, что у нас называется «отделкою», «законченностью» и прочими словами несколько неопределенного значения. Я оговариваюсь так, собственно, не для вас — потому что вы сами знаете, как приятно писать о том, о чем писать не хочется, — а для читателей, если вы таки не откажетесь от мысли предать мои письма тиснению в вашем журнале. С читателем непременно нужно оговориться, потому что читатель по преимуществу фантазер: ему напишешь так, он пристанет: зачем не этак? а напиши ему этак, он опять придерется: зачем не так? На читателя никак угодить нельзя, потому что требования у него часто самые несообразные. Если вы найдете, что мои рассуждения о читателе могут ему показаться оскорбительными, могут задеть его амбицию, то вы вымарайте их из моего письма; но я вам по душе не советую этого делать, ибо читатель ни за что не вздумает обидеться моими невинными рассуждениями о его несообразительности. Наш читатель, как я вижу по возвращении моем на родину, привык даже не к таким комплиментам: его в эти прекрасные годы уж называли, как вам известно, и узколобым, и тупоголовым, и он ни за что подобное не обижался, и даже рьяно подписывался на издание, в котором его так трактовали. Такие любезности русскому читателю, к сожалению, не только не претят, но даже они ему как будто нравятся. Итак, задобривши таким манером и вас, и читателя, начинаю.
По моим соображениям, сначала должна идти
Россияне, находящиеся на постоянном жительстве в Париже и временно здесь обитающие, как с узаконенными письменными видами, так и без этих видов, разделяются на две главные группы. Люди одной группы называются елисеевцами, другие латинцами. Название, полученное первыми партизанами, не имеет ничего общего ни с купцом Елисеевым, продающим всякие насодательности, ни с литератором Елисеевым, который получил столь большую известность, обсуждая вопросы: мужики люди ли? женщины люди ли? и хорошо ли народ учить грамоте? Парижские елисеевцы получили свое прозвание потому, что они жительствуют или непосредственно в Champs-Elysées,[1] или в других улицах, неподалеку от place de la Concorde[2] или rue de Rivoli.[3] Латинцы называются этим именем от Латинского квартала, по которому они рассеялись во всех направлениях, от Сены до верхнего конца Люксембургского сада.
Это — два главных деления парижского русского общества. Есть и другие, более подробные и более мелкие деления; но мы до них дойдем в свое время и в своем месте.
Латинец или елисеевец — понятия общие и довольно широкие. Я вам говорил, что елисеевцы расселены по окрестностям Champs-Elysées, а латинцы в Латинском квартале; но одно расселение не делает еще всей характеристики этих парижских обитателей. Бывает так, что штука-другая отобьется от своего стада и забежит в чужое; но она все-таки считается единицею своего стада, и в чужом стаде ей всегда неловко. Латинец иногда отобьется на тот бок Сены и там поселится; но это случается или по неопытности, по незнанию условий парижской жизни, или по каким-нибудь другим ошибочным расчетам. Одному, например, вздумается вдруг предаться усиленным занятиям, и покажется ему, что в Латинском квартале ему мешает сообщество земляков: он и уйдет на rue de Richelieu или даже на Батиньоль. Елисеевец тоже, иной раз по неопытности, погонится за латинской дешевизной и приютится где-нибудь в rue de Saine или rue Dauphine; но обоим им не по сердцу, не по натуре эти переселения. Через два дня после переселения заблудный латинец бредет вечером в Café de la Rotonde или в Kloserie, а елисеевец с rue de Saine потянется в палерояльские кафе или в rue de la Croix, на поповку. А там, смотришь, неделя-другая, и заблудшийся елисеевец и отбившийся латинец попадут снова в свое место, т. е. в ту часть Парижа, где им и следует обитать, по силе их собственной конституции.
Елисеевцы и латинцы не имеют почти никакой солидарности. Общего у них между собою только одни русские паспорты и посольский швейцар, которого они в равной мере имеют право видеть во всякое время, когда они зачем-нибудь обратятся в свое посольство. Елисеевцы не совсем то же самое, что в Петербурге называется аристократиею, хотя между ними и очень много того, что называется в Петербурге аристократиею. Елисеевцы, по своему происхождению, принадлежат или к российскому поместному дворянству, или к высшему достаточному чиновничеству. Они ведут в Париже жизнь семейную в довольстве, а чаще всего даже в изобилии. Латинцы, наоборот, народ холостой, одинокий, роскоши не знает, довольствуется самыми умеренными средствами — от 300 до 500 франков в месяц, — а весьма часто живут самым непонятным образом, без всяких средств. Общество елисеевцев состоит из особей обоего пола; латинцы же исключительно мужчины. Это в некотором роде — запорожцы в Париже. Русские женщины ни за что не селятся в Латинском квартале; только в нынешнем году одна россиянка забрела в отель Марокко и прожила там некоторое время между нашими запорожцами, но и то поневоле. Впрочем, россиянки очень умно делают, что и не живут в Латинском квартале, ибо в них здесь не ощущается ни малейшей надобности и самим им здесь делать нечего.
Общество елисеевцев слагается из весьма разнородных представителей российской гражданственности. Здесь есть господа, гувернеры, учители, горничные, лакеи и даже кучера русского происхождения. Русский Латинского квартала всегда «сам помещик, сам боярин, сам холоп и сам крестьянин». Елисеевцы бывают всех возрастов, начиная от того, в котором человек не умеет утереть своего носа, до того, в котором человек чувствует желание утереть нос своему ближнему. Тут есть самые почтенные старцы и самые юные дети. Русские Латинского квартала всегда народ молодой, включительно от 25 до 40 лет. Это — студенты, молодые профессоры, корреспонденты газет и журналов и изредка художники. Женщин русских с ними никогда нет, и они, для усовершенствования себя в разговорном языке, живут большею частью с француженками: цветочницами, модистками и прочими подразделениями породы французских гризет.
Чувствую, что мне как-то не удается охарактеризовать парижское общество и репрезентировать его вам в кратком очерке; но полагаю, что и из сказанного все-таки можно понять, что латинцы и елисеевцы — люди совершенно разного сорта и что о тех и о других из этих сортов непременно нужно говорить отдельно.
Отдельною, самостоятельною жизнью живут только елисеевцы-господа. Елисеевцы, занимающие должности лакеев, нянек, горничных и кучеров, существуют без всякого заявления своего непосредственного существования. Они только самостоятельно скучают, жалуются и помышляют о вожделенном возвращении в любезное отечество. Елисеевцы-господа распадаются еще на два подразделения. Елисеевцы-аристократы, т. е. члены русского посольства, несколько придворных дам и два-три семейства древнего дворянского рода, составляют особый кружок. Лица этого кружка знакомы между собою, имеют общих знакомых в аристократическом французском обществе Парижа, и, по временам, некоторые из них появляются на придворных балах и раутах императора Наполеона III-го (о котором русская печать, под страхом кары и взысканий, обязана говорить не иначе, как со всею почтительностью, в то самое время, когда французская печать поносит дорогое русским имя нашего благородного Государя). С обыкновенными смертными российского происхождения люди высшего парижского общества сталкиваются только случайно в rue de la Croix, на поповке. Отсюда мы можем видеть, что недаром же религия учит нас верить, что перед Господом Богом все люди ровны. Елисеевцы второго разбора суть просто помещики. Эти подрукавные аристократики, удивляющие дома в глуши весь свой муравейник, здесь совсем затериваются и не видны. Они по большей части живут тихо, ни шатко, ни валко, ни на сторону. Они иногда видаются между собой, иногда появляются на поповке, но большею частью сидят дома и являют собой пример самой строгой умеренности и осторожности. Между этими елисеевцами и латинцами еще существуют нередко даже некоторые связи, т. е. знакомства, частью еще начатые в России, частью сделанные в Париже или других местах за границею. Потом даже между елисеевцами живут несколько русских очень небогатых дам, которые держатся местностей, занятых елисеевцами, только по неудобству жить в Латинском квартале или, пожалуй, скорее, по недостатку решимости жить там. Женщин этого сорта очень немного. Зимою 1863 года их насчитывали здесь до десяти: три из них жили очень скромно со своими детьми и занимались их воспитанием; две были русские писательницы, живущие своими трудами, а еще две барышни, одна орловская, а другая, если не ошибаюсь, тверская, нигилистничали, или, лучше сказать, одна из них нигилистничала: бегала с какими-то бумажонками, везде видела шпионов, все собиралась к Герцену, чтобы сообщить ему какой-то план, и жила с одним темным французом, о котором общая молва довольно громко говорила, что он каторжник, бежавший из Тулона и скрывающийся под чужим именем. Это же самое говорила о нем и кичившаяся такою связью сама тверская нигилистка, но я всегда думал, что со стороны молвы это была просто сплетня, а со стороны тверской барышни невинное хвастовство связью со страшным человеком. Я никак не умел себе представить, чтобы при бдительности парижской полиции мог долго скрываться человек с такою странною репутациею, и я не обманулся: последствия обнаружили, что тулонский каторжник, пользовавшийся любовью русской нигилистки, был просто-напросто парижский полицейский шпион (мушар). Впрочем, у нее, кроме этого каторжника, были и другие связи с кем попало, без всякого так называемого интереса. Другая же была посмысленнее и вела свои дела похитрее. Эта с орловскою лукавинкой смеялась в глаза над аристократиками, но минутами подпускала их к себе близко и брала с них деньги. Деньги эти платили ей очень охотно, ибо находили ее очень соленой, что отвечало слову пикантной. Пикантность ее заключалась в ее дерзости и действительно оригинальнейшем бесстыдстве. Впрочем, чтобы облагородить свои занятия, она деньги, ей собираемые, все намеревалась употребить на какое-то общее дело и говорила, что способ добывания ею этих денег известен по тот бок Ламанша и что она как будто имеет оттуда некое благословение поступать таким образом. Но как женщина эта постоянно лгала, на себя и на всех, то я хочу думать, что и в этом случае она также клеветала на наших лондонских русских. На г. Герцена тогда каждый красный дурак и дура спешили взваливать всякую свою глупость, как бы освящая ее герценовским авторитетом и поставляя тем вне всякой ответственности перед чувством и перед разумом.
Времяпрепровождение елисеевцев-аристократов не стоит никакого описания. Они живут, как живут парижские аристократы, утопая в бездельи и… ну да в чем хотите. Члены посольства вращаются в своей дипломатической среде, закрытой для нашего глаза, и потому о них я тоже ничего не буду писать.
Для меня, как и для весьма многих русских, вся русская амбасада может представляться главным образом только в лице посольского швейцара, отсылающего назад всякого русского, желающего проникнуть в посольство; потом в лице консульского сторожа, с которым русские сидят в передней консула и который обирает их паспорта и выносит им визы, да в лице угреватого консульского писаря, представляющего собою самую высшую особу, какую может быть удостоен русский увидеть из всей коллекции здешних представителей своей нации.
Но об этих членах русской дипломатической семьи буду говорить в своем месте.
Все, что я могу сказать о жизни елисеевцев-аристократов, будет касаться только их отношений к собственным детям и собственной прислуге, и сведения эти собраны мною частью посредством личного наблюдения, частью из расспросов учителей и горничных, которые охотно навещают своих «земляков» в «Карте Латень» и не отказывают себе в удовольствии позаняться с ними очистительною критикою.
Дети у парижских елисеевцев воспитываются чисто по-французски и смотрят чистыми французятами. Елисеевцы небогатые отдают своих детей во французские пансионы или лицеи и по-русски их или вовсе не учат, или же нанимают какого-нибудь латинца давать ребенку в неделю два урока русского языка в приемной комнате того пансиона или лицея, в котором это дитя живет. Пользы от этих уроков вообще очень мало; но все-таки, благодаря им, дети хоть не совсем забывают родной язык и хоть с трудом, хоть плохо, но говорят по-русски, напоминая своим говором говорящих скворцов и сорок. Это о мальчиках. Девочек, помещаемых в пансионы, здесь совсем не учат по-русски, и они растут парижанками. Любознательный патриот в то недалекое время, к которому относятся мои рассказы, мог видеть здесь двух совершеннолетних девушек, невест, которые вовсе не говорят по-русски, а одна из них даже не понимает ни одного слова и сочинения своего отца, известного русского литератора, читала только в безобразном французском переводе. У другой здесь живущей русской дамы, и также русской писательницы, есть двенадцатилетний сын. Ребенок этот когда-то и знал по-русски, живучи с отцом, но, перейдя в руки матери, позабыл все до последнего слова. Елисеевцы-аристократы и елисеевцы не совсем аристократы, но люди с хорошими доходами, воспитывают детей у себя дома и для обучения русскому языку ангажируют тех же латинцев. Дети елисеевцев последней категории гораздо более знакомы с русским языком, чем дети бедные, содержимые в пансионах и лицеях, но все-таки и эти относительно не знают русского языка и растут сущими невеждами по отношению ко всему отечественному. В этом поразительном невежестве столько же виноваты родители, сколько и русские учители, но, конечно, более родители, от которых зависит выбор учителей. Говорят, что пять-шесть лет тому назад оседлые русские жители Парижа вовсе не заботились об обучении русскому языку своего благородного потомства; но с воплощением некоторых новых идей в России и парижские россияне порешили, что детей российских дворян, как ни вертись, все-таки нужно немножечко поучивать русской грамоте, поучивать хоть настолько, чтобы отечественная письменность была им приурочена не менее, чем лавочному мальчишке, записывающему в серую тетрадь продажу свечей и мыла; чтобы каждый из этих подрастающих столпов отечества со временем мог собственноручно написать своему секретарю: «Сумлеваюсъ штоп я мох бить па балесни в засидании Совета».
В это же время, когда в Париже была сознана необходимость такого знания русского языка, там появился новый ассортимент:
Сюда стали наезжать люди, не имеющие никакого пособия из отечества, с твердой решимостью жить в Париже своими трудами. Из этого сорта латинцев берутся в русские дома учители. Сначала этих учителей было очень немного. Еще в 1861 году считалось в Латинском квартале, говорят, не более трех человек, проживающих своими уроками. Несмотря на всякое отсутствие педагогической подготовки в первых искателях русских уроков, им давали тогда очень хорошую плату — не менее десяти франков за урок, что составляет около трех рублей по нынешнему денежному курсу. Но к зиме 1863 года людей, ищущих русских уроков в Париже, набралось очень много, и плата за уроки, вследствие конкуренции, стала падать и наконец понизилась до 1 рубля 50 коп., т. е. до 6 франков за урок. Но и при этой плате человек аккуратный и трудолюбивый может еще без нужды жить в Париже и иметь время слушать лекции в Collège de France или в какой-нибудь из высших специальных школ. Я знал много поляков и двух русских, которые жили таким образом и сами учились медицине или правам, а один наш политический эмигрант, Сахновский, даже приготовлялся к сдаче экзаменов в высшую военную школу в Меце.
О достоинстве парижских русских учителей нельзя сказать ничего хорошего или, по крайней мере, очень мало. Они более достойны внимания как смельчаки, решившиеся ехать в Париж с одною русскою надеждою на авось; но как педагоги они ничего не стоят. Светлое исключение составлял в мое время некто одессец родом, г. Чербаджиоглу, которому я вовсе не хочу делать рекламы, но о котором не могу не упомянуть как о хорошем, способном учителе. Он имел очень много терпения, сноровки, довольно светлые понятия и безукоризненно-добросовестно занимался своим делом. Но это один-единственный человек, которого можно было указать во всем Париже; а из других «профессоров», которых я знал наперечет, я бы ни одного не решился порекомендовать никакому человеку, не желающему уродовать своих детей. Это — бездарность, наглость, ненасытимое корыстолюбие и ко всему этому нередко глубочайшая нравственная испорченность. Я не говорю этого обо всех (обо всех огулом я только решаюсь сказать, что они из рук вон плохи и учить детей неспособны), но говорю, что есть таковые и что они все-таки воспитывают русских детей, т. е. обучают их русскому языку и объясняют им русскую жизнь и историю. Если бы я мог показать некоторых из этих господ честному и благомыслящему читателю, то он или бы расплакался до слез, или бы расхохотался до колотья в подреберьи. Из не злых, но бесполезных учителей тут есть, например, почтамтский чиновник, которого мы звали в шутку «Северным Почтальоном», не подозревая тогда, что кличка эта на Руси вскоре гораздо более пригодится другим людям, ведомства не почтамтского. Наш «Северный Почтальон» пренаивно рассказывал, что он приехал в Париж сделать себе отсюда карьеру в России.
— Как же вы ее будете делать? какую карьеру?
— Протекцией.
— А протекцию где возьмете?
— Уроки найду; ну а там сойдусь, понравлюсь.
— Чему же вы будете учить?
— По-русски-с буду учить.
— Вы учили когда-нибудь?
— Нет-с.
— Как же вы это надумали?
— Протекции никакой нет-с в России: там куда же я, почтамтский чиновник, сунусь? Я сюда и приехал.
— Да ведь вы здесь пропадете.
— Нет-с, ничего-с. Я протекцию нашел.
Я просто диву дался.
— Какая же это протекция вам в Париже?
— Я у батюшки был-с.
— У которого?
— У отца Иосифа.
— И что же?
— Обещал устроить-с на уроки.
Прошел месяц, встречаю я опять этого же господина и спрашиваю: «Ну что? как вам живется?»
— Ничего-с, хорошо.
— Есть уроки?
— Слава Богу-с, шесть уроков в неделю.
— Почем же?
— По пяти франков-с!
— Что ж! Это хорошо.
— Ничего-с.
— А о протекции-то уж забыли.
— Нет-с. Как же можно-с. Я у князя Z. даю уроки-с. Буду просить письмо-с. Их брат большое лицо в Петербурге. Графиня Y. тоже-с обещала писать обо мне.
— Долго же вы теперь останетесь за границей?
— Пока, Бог даст, улажусь.
Я оставил этого господина в Париже. На лето он собирался выехать со своей графиней в Ниццу, а там уж, верно, уладится и приедет с готовой протекцией в Петербург и подлезет к большому человеку.
Этот учитель только дурачок и пролаза, лакейчик, искатель протекции. Таких есть, с небольшими оттенками, еще человек пять-шесть. Все они круглые невежды и люди самые пошленькие, натурки самые обыденные; но еще они не крайняя степень гадости в парижском педагогическом русском мире.
А есть в ряду учителей люди, которых и к собакам пустить нельзя: собак развратят и погубят. Есть такой господин П. А. Ко—ч. Ему в 1863 году было от роду всего двадцать два года, но он уже прошел, как говорится, через огонь и воды и медные трубы. Все видел и всего откушал. Был в университете, исключен, по требованию товарищей, за безнравственное поведение; был подносчиком в публичном доме; был на попечении у старой чухонки в Петербурге; был мизераблем; встретил своего монсиньора Бьенвеню в лице молодого русского литератора В—ва. Тот его одел, обрядил, поместил с другим подобным же молодым мизераблем в особой чистой комнатке и стал заниматься их нравственным развитем и умственным образованием. Но тут мизерабли занялись таким видом эпикуреизма, что русский монсиньор Бьенвеню, застав их на поличном, наградил каждого десятью рублями и выгнал из дома. Отсюда мой парижский знакомец потянулся в Киев, прослыл там Фейербахом и, залучивши в свои руки некоторую капитальную сумму, унесся в Европу. В Париже он нанял две комнаты, завелся баронессой, под чужим именем давал сомнительные денежные расписки, простоял несколько неприятных минут перед судом сенского префекта и наконец, по рекомендациям с поповки, сделался учителем в аристократических русских домах в Париже. Его ласкали и отец Васильев, и отец Прилежаев, и, вероятно, считали это в своих обязанностях, ибо не смущались слухами, распространенными о Ко—че. Историю же его трудно было не знать: ее, с самыми мелочными подробностями, знал целый Латинский квартал. Одни шутили над ним и называли его «madame Поль», другие от него просто отворачивались, но никто о нем не думал иначе, как о дряни, не стоящей никакого внимания. Вдруг наш Поль получает 700 франков в месяц за уроки и бывает в домах самых заметных елисеевцев-аристократов.
Этот Поль был человек удивительно наглый. Он очень любил выставлять на вид свои успехи и колоть ими глаза бедным латинским труженикам, сходящимся по вечерам в Café de la Rotonde потолковать о новостях, почитать газеты и выпить по кружке пива. С 700 франков в кармане, он ходил всякий вечер в Café, садился, громко требовал американские гроги и заводил задорные разговоры.
— Как это вы обделываете ваши делишки, Поль? — спросит его кто-нибудь.
— Еще бы! — ответит. — На наш век дураков-то хватит.
— Да где вы их отыскиваете?
— А поповка на что! Там только будь смирен яко агнец, так все будет.
И захохочет.
Искусство обделывать свои делишки и обставлять себя в Павле Ко—че было необычайное.
Впоследствии этот господин так оскандализировался в Париже, что русские сделали сходку и положили на этой сходке обсудить, что сделать с этим человеком, который, называя себя студентом, посланным от Киевского университета, не предъявляет никаких доказательств, что он послан от университета, а, между тем, ест в ресторанах по-хлестаковски на счет датского короля; дает фальшивые расписки; обирает гризет; приобрел себе фавор у известных бугроманов и наконец проворовался и распускает слух, что он тайный агент русского правительства в Париже. Чтобы придать этой сходке более солидный характер, русские послали извещение нашим священникам, консулу и его угреватому писарю, прося их, не удостоят ли они почтить своим посещением сходку, которую русские нашлись вынужденными сделать в квартире гвардейского офицера Лукошкова, чтобы решить, что сделать с Ко—чем, который марает русское имя и за которого мы уже не раз платили деньги из своих тощих кошельков, чтобы только не всплывали наружу его мелкие и грязные делишки, позорящие русское имя и правительство, которого Ко—ч стал рекомендовать себя тайным агентом.
Ни священники, ни консул, ни его угреватый писарь, никто не удостоил выслушать, что было сказано на этой сходке. Никто не приехал, и этого мало, что никто не приехал, но хозяин квартиры, где была сходка, г. Лукошков, был приглашен в дом посольства, где ему одним из членов консульской канцелярии вменено в вину дозволение сходки русских в его квартире и взято с него слово впредь ни под каким предлогом такого бесчинства не допускать. Тогда русские решились просить нашего посла, г. Будберга, об удалении почтенного соотчича за границу Франции, но, поохлажденные опытными людьми в своих упованиях на способность русского посольства снизойти до внимания к делам чести частных русских людей, просто положили не знать г. Ко—ча и отречься от всякого с ним общения.
(Теперь это все, говорят, не так. Корреспондент газеты «Голос» г. Щербань нашим посольством нахвалиться не может. Просто русское сердце замирает от радости, как читаешь, что за участливость являет ныне русским это посольство; но в мое время было так, как я рассказываю.)
Но обо всей этой истории с Ко—чем будет рассказано подробно, при описании российских скандалов в Париже. До последнего же казуса сказанный господин обучал детей и являлся всякую неделю со смиренным видом на благодеявшую ему поповку.
Есть, наконец, еще четыре учителя, просто люди плохонькие, но добрые и весьма оригинальные. Весь вред их преподавания ограничивается тем, что они утомляют детское терпение и не приносят детям никакой пользы; но они, по крайней мере, не развращают детей, как милый Поль и ему подобные русские смельчаки в Париже.
В числе этих невинных учителей есть один удивительнейший оригинал. Он служил когда-то в одной петербургской канцелярии писцом. Долго и крепко трудился, переписывал всякую бестолочь и за этой работой погубил последний смысл, которого природа и без того отпустила ему скупою мерою и аптечным весом. В это время начался набор людей на Варшавскую железную дорогу. Он сунулся проситься туда — ему отказали за незнание французского языка. Такое обстоятельство имело сильное и решительное влияние на отвергнутого соискателя. С ним случилось частное помешательство. Он вывел, что все его несчастия происходят от незнания французского языка, и положил, во что бы то ни стало, замалевать этот пробел на чистом фоне своих знаний. Решение, как видите, весьма похвальное; но соотечественник наш преоригинально его выполнил.
Он не купил самоучителя, составленного по Робертсону, не стал ходить к какому-нибудь учителю, а продал шубенку, часы, еще кое-какие мелочи из своей движимости и умчался в Париж, поклявшись не возвращаться в Петербург, пока не совладеет с французским языком.
В Париже он устроился самым оригинальным образом. Сначала он мыкал очень тяжелое горе и почти не имел где преклонить головы. Но это продолжалось всего с месяц. К концу этого месяца в одном из парижских пассажей он встретился с пожилою и довольно безобразною француженкою, мозольною операторшею из rue Lavoisier, которой показался заслуживающим довольно теплого участия. У него явился угол; а потом, приютясь в этом угле, он устремил свои взоры на поповку — и поповка его пристроила. Сначала он поступил в хор, тянул там баском «всемирную славу о человеке прозябшую», а потом его зарекомендовали в наставники, и он теперь обучает младых парижских россиян. Это премилая, теплая, наивная и преоригинальная личность, но, при всем том, довольно круглый и крупный невежда. О русской литературе, истории, праве он ничего не знает; с русскою жизнью вовсе не знаком. Россия для него значит Петербург, за заставами которого болота, а на тех болотах сидят «соважи» и поют:
Эх, дубинушка, ухнем!
Эх, зеленая, подернем!
Подернем, подернем!
Поооодеррнем!
О науках и вообще о человеческих знаниях у него необыкновенно странные понятия.
Он взирает с рабским богопочитанием на людей, бегло говорящих на нескольких языках, и языкознание рассматривает не как вспомогательное средство самообразованию, а как цель человеческого труда. Он, проживши много лет в Париже, кажется, не прочел еще ни одной книги, не знает разницы между Корнелем и Дюма, Мюссе и поэтами, сочиняющими песни гризеток, а все практикуется, все вострится во «французском диалекте». Но и тут охота смертная, а участь горькая. Ломит он по-французски таким языком, что моя хозяйка, с которой он любил беседовать, только руки врозь разводила. Года три ему здесь было прекрасно, но теперь становится хуже: учителей все наезжает больше и больше; цену сбивают и бесхитростного лингвиста вовсе отлучают от уроков. У него целую прошлую зиму было только по два трехфранковых урока в неделю, и те должны были на лето прекратиться. Но он не падал духом и стал заниматься перепискою бумаг по одному франку с листа. Этой работы в Париже тоже очень немного, и ею существовать невозможно; но лингвист непреклонен. Он все-таки остается в Париже.
— Пока не буду говорить как француз, ни за что, — говорит, — не уеду.
— Да ведь вам уж очень плохо.
— Что ж делать! А если не буду знать французского языка настоящим образом, так в России еще хуже будет.
Начнем его, бывало, урезонивать, чтобы ехал домой, тем более что он иногда ужасно скучает, тяготится своей мозольной операторшей; но уговорить его оставить Францию все-таки невозможно. Куда там! И слова не дает выговорить.
— Ведь вы уже хорошо знаете французский язык, — говорим ему. — Чего же вам больше?
— Нет, прононс еще не хорош.
— Да не в прононсе дело: ведь нужно, чтобы только вас понимали.
— Как можно! Прононс необходим.
— Да уж вы его не выработаете больше.
— Поживу еще — выработается. Я с этой хозяйкой… с этой с мозольной операторшей… все целые дни нарочно разговариваю. Нет, прононс выработается.
Станем, бывало, манить его с собою в Россию, соблазняем обещаниями общими силами искать ему места, даже ручательства представляли — не верит.
— Как это можно! Поеду я теперь! Как бы не так! Это значит опять пропадай там с голоду.
— Ну а как прононс-то свой выработаете, тогда что ж, прибудете?
— Как же! Тогда другое дело совсем. Я на иностранца буду похож, тогда уж мне в Петербурге всякий начальник в месте отказать постыдится. Да-с, как это можно! Тогда уж все совсем другое.
Так он и остался, со своей отвратительнейшей француженкой, в своей rue Lavoisier.
Не подумайте однако, что елисеевцам не из чего выбирать учителей. Напротив, людей способных и готовых заниматься обучением русских детей в Латинском квартале очень много, но их никто не ищет и никто не приглашает. В дом елисеевца, в качестве учителя, можно дойти только через поповку, а в rue de la Croix дорогу не все знают, и те, которые могли бы быть хорошими, полезными воспитателями русских детей, именно не ходят и не хотят идти этой дорогой. Отчего? Зачем они избегают всякого знакомства с поповкой? — отвечать трудно. Я много слыхал разных язвительных толков о различных обитателях нашей парижской поповки, но не даю этим толкам никакой веры, и уклонение лучших молодых людей от всякого столкновения с поповкой мне представляется и всегда представлялось странным и несколько болезненным прюдеризмом. Русские в Париже часто злы и часто имеют основания быть злыми на нашу амбасаду, где русским нет ни ответа, ни привета, ни дрянной скамьи для того, чтобы присесть и отдохнуть, пока сторож обделывает паспортную визу. Это, конечно, несказанно сердит и обижает русских, и на них в силу этого в былое время (это все о былом времени) нападает, бывало, пассия ругать где попало все свое посольство; а на поповке не только не принято осуждать амбасаду, но даже принято не слыхать, когда на нее жалуются.
Конечно, глядя на это дело с очень возвышенной, так сказать, философской точки зрения, отцов нашей поповки похвалить за это равнодушие не за что, и они, может быть, гораздо лучше сделали бы, если бы довели до чьего следует ведома, что так ни в одном посольстве со своими соотечественниками не обращаются, как в нашем; но ведь нельзя же требовать от всех людей какого-то рыцарства и героизма. Нужно же помнить, что посольские попы некоторым образом такие же посольские чиновники, и нужно помнить среду, в которой эти священнодействующие чиновники выросли и созрели. Нельзя забывать человеческой страсти крепко держаться своими зоологическими и дипломатическими руками за раковину, к которой человек прирос и в которой ему тепло и безопасно. А парижская поповка есть во всех отношениях место злачно и спокойно, где Ирида хотя и катает свое золотое яблочко, но где все-таки каждый живет без печали и воздыхания, да еще и впереди видит для себя жизнь бесконечную.
Парижский приход, как говорят духовные люди, — «приход маленький, да веселенький». От амбасады поповка зависима, и елисеевцы в Господа Бога веруют и служителей Его почитают, ну и понятно, что уши служителей парижского православного алтаря закрыты от неуважительных речей об амбасаде, а сердца горячее лежат к елисеевцам, чем к латинцам, которых отношения к Господу Богу на поповке совершенно не известны, а почтения служителям с их стороны никакого не усматривается. Да если бы и оказалось это почтение, так что же из него? Все это были бы только словеса да словеса; а на поповке есть детишки, и им нужно молочишко. Так еще слава тебе, Господи, что наша парижская поповка такая, какая она есть. Она могла бы быть даже несколько хуже, и тогда еще, вспомнив наши «жестокие нравы», ее все-таки нельзя бы осуждать строго.
К этому я должен прибавить, что латинская молодежь иногда напрасно строго относится к безучастию поповки к самым горячим отечественным вопросам. Поповку нельзя упрекать ни в индифферентизме, ни в равнодушии. Ее симпатии, напротив, очень ясны, и вводить ее в искушение расспросами может только человек зеленый и при том крайне несообразительный. Поповка парижская все равно что поповка рождественная, гостомельская и всякая другая поповка. Идя туда, конечно, надо помнить, что за чем пойдешь, то и найдешь. Разговор обыкновенно какой, и участие к вопросам соответственное, иначе и быть не может. Входит NN, рекомендуется: «Я русский». Ну и довольно. «Прошу садиться. Чаю не прикажете ли?» Входит ММ — та же история, и так до X, до Y и до Z. Всем честь и место. А кто их ведает, этих иксов, игреков и зетов, насколько можно доверяться им и пускаться с ними в интимности о начальстве. Все ведь это алгебраические величины неизвестные, ну посему все и приводится к уравнению с неизвестными.
Поповка — место, в которое все идут, и я опять повторяю: это поповка, и толковать о ней Бог знает что — нечего; а люди там живут не лихие и на посильное добро готовые и за это добро не требующие никакого непосильного возмездия. Русское же парижское общество так конституировано, что заработка русскому человеку у русских, минуя поповки, отыскать весьма трудно, да и почти невозможно. Заработок весь состоит в уроках или в переписке; а все нуждающиеся в учителе или в переписке обыкновенно обращаются к отцу Иосифу Васильеву, или к отцу Прилежаеву, или, наконец, в редких случаях, к дьякону. Оттого эти люди и имеют средства пристроить русского пролетария. А кто находит неудобным пристроить себя к работе с их посредством, тот не находит и совсем никакой работы. Многие считают этот путь для себя совсем неудобным и терпеливо сносят самую ужасающую нужду, не желая получить работу через поповку. Нынешней зимой в Париже жил казанский студент Степан Шил—ий, человек в высшей степени чистый, безупречный и ангельски добрый, но чересчур строгий к себе и даже немного прюдерист. В спокойном и гордом молчании он нес страшную нужду, нужду превыше всяких описаний, но ни под каким видом не хотел принять занятий по рекомендации, сказанной на поповке. Тяжкая болезнь и совершенная беспомощность не заставили его ни на минуту поступиться. «У меня нет ничего общего с поповкой и не может быть ничего общего с теми, кто собирает рекомендации с поповки», — говорил он. А между тем, у него не было солидарности и с русскими ярыми либералами, хотя он сам был либерал, провел долгое время в ссылке в Перми за казанскую историю (в Бездне) и едва спас в Перми свою жизнь от преследований г. Ло—ва. Шил—ий был до такой степени чист, что даже считал несовместным со своим достоинством напечатать в «Колоколе» историю своих пермских страданий от г. Ло—ва, ибо не был уверен, найдет ли тот средства оправдываться тем же путем. Это был просто прекрасный, чистый человек, и поповка ему представлялась местом, с которым у людей ему подобных не может быть ничего общего. Он никогда не порицал поповки, но отвергал ее и таким образом отвергал от себя занятия, без которых ему нечем было существовать. И людей, избегающих сношений с поповкою, в Латинском квартале немало. Я в течение зимы был четыре раза у отца Васильева и три раза у отца Прилежаева и ни разу не встретил у них ни одного из лучших русских людей Латинского квартала. От этого-то уроки достаются, во-первых, самим священникам, дьякону и дьячкам, а потом знакомым и приятелям священников, дьякона и дьячков. От этого и в среде учителей все «плохие музыканты». Чему могут выучить отец Васильев, Прилежаев и от<ец> дьякон, про то Господь Бог один знает; но уж чему могут учить дьячки, то уж это и я знаю — ничему. Или, как говорят, могут поучить на собак лаять. Конечно, они обучались там разным наукам: и гомилетике, и герменевтике, и патристике, и нотному пению. Но, помилуйте, что ж это за учители! Они ведь, может быть, прелестнейшие люди, но музыканты-то прегадчайшие. Чтобы вам дать пример даровитости этого рода учителей, довольно сказать, что один из них, проживающий около двадцати лет в Париже и женатый на француженке, до сих пор не выучился сколько-нибудь терпимо выражаться по-французски и говорит без артиклей, неопределенными наклонениями и именительными падежами, хуже, чем негр из любого café.
Такова педагогическая парижская поповка, и таково положение вопроса об обучении русских детей в Париже — вопроса, поставляемого родительскою слепотою, трусостью и беспечностью в прямую и непосредственную зависимость от поповки.
Если вы станете здесь в России отыскивать около себя трусов и ретроградов, то вы не найдете, я думаю, ни одного такого рельефного экземпляра, какие на каждом шагу можете встретить между россиянами Елисейских полей, особенно между теми из них, которые получают от правительства более или менее значительные суммы на воспитание детей. Если бы Петр I встал из своей могилы и посмотрел на этих россиян, то глаза бы его сверкнули своим грозным блеском и дубинка зашевелилась бы в его нигилистической руке. Смеху и жалости подобно, как здесь смотрят на образование своих детей. Получая деньги от правительства, здесь думают только о том, чтобы видимым образом соблюсти правительственные требования, и берут русского учителя единственно для того, чтобы показать, будто не все правительственные деньги розданы французским камердинерам. Учителя русского боятся как чумы. Выбирают что ни есть самого плохонького, абы смиренства было больше. От университетских студентов бежат как от огня, и дьячков и всяких господ с поповки или зарекомендованных поповкою предпочитают всякому образованному человеку.
Вообще, для сведения моих молодых соотчичей, рискующих ехать в Париж, рассчитывая жить там уроками, я решаюсь вывести такую формулу: человек образованный, желающий получить уроки без протекции с поповки и смотрящий на обучение детей как на дело серьезное, пусть откажется от своего намерения, ибо его наверняка ждет в Париже участь честного Степана Шил—кого, и он прежде попадет в госпиталь для бедных, чем куда-нибудь на уроки. Человек образованный и даже честный, но понимающий, что il faut prendre le monde comme il est, pas comme il doit etre;[4] человек, умеющий где следует держать язык за зубами и примиряться с необходимостью, пусть едет и тотчас по приезде идет в rue de la Croix, на поповку, и чистосердечно расскажет, что ему нужно. Там его пристроят непременно и не потребуют от него ничего особенно неприятного или шокирующего. Ходят глупые и нелепые слухи, что на поповке обращают русского пролетария в фискала за русскою братиею, живущею в трущобах Латинского квартала. Это чистейший вздор. Во-первых, население поповки не снизойдет до этого, а во-вторых, им и дела нет до латинских санкюлотов. Их очи смотрят горé. Пусть мне верят. Я знаю поповку, хотя сам на ней ничем не одолжался, и могу поручиться, что распускаемые о ней темные и двусмысленные толки есть чистый вздор, плод болезненно настроенного воображения красных дурачков, любящих считать себя всегда и везде в опасном положении. Затем всем дуракам, невеждам и лакеям с классными чинами смело можно ехать в Париж. Им и совета давать не нужно: они там сейчас же осмотрятся, поймут, что им делать, и через два месяца будут получать около 600 франков, а через два года возвратятся на родину с протекциями, каких им, здесь живучи, никогда для себя не устроить.
Есть дома, в которых учить детей можно с удовольствием для себя и с пользой для учеников. Таков, например, аристократический дом княгиня Д., которая тщательно заботится сделать своих детей русскими и сама наблюдает, чтобы дети учились; учителей не трактует зауряд с лакеями; сама нередко присутствует при уроках, но не вмешивается в систему преподавания и не смотрит на учение глазами княгини К—ой, которая платит учителю деньги через горничную и приходит в классную только для того, чтобы дать заметить учителю свое полнейшее пренебрежение к русским урокам.
— Вы, пожалуйста, не давайте длинных уроков, — сказала она при детях одному учителю, — этому мужичьему языку и всем глупостям, которые на нем написаны, они всегда еще успеют научиться, а здесь пусть учатся по-французски.
Но справедливость требует сказать, что и при таких родителях все-таки всегда можно принести детям свою долю пользы, ибо русские дети за границей необыкновенно радостно встречают каждого русского и страшно привязываются к своим учителям. От детских расспросов о России не знаешь как освободиться. Хоть пять часов не выходи из классной комнаты, они охотно, даже радостно будут сидеть и приставать: «Голубчик, расскажите еще что-нибудь!» Дети К—ой, нанимающей русского учителя только для того, чтобы показать, что она учит детей по-русски, а в душе презирающей и это учение и всю Россию, так пристрастились к русскому чтению, что мать и ее французские камердинеры не успевают ловить их на преступном чтении русских книг. Рассказывают, что один из этих детей, мальчик лет одиннадцати, читает ночью у спальной лампочки, читает утром на зорьке, скорчившись на коленях на подоконнике в своей спальне; словом, читает везде, где надеется, что ни мать, ни ее французские камердинеры не вырвут из его маленьких рук преступную книгу, напечатанную безобразной кириллицей. А еще спросите, кто учил этих детей? Madame Поль Ко—ч. Другой, порядочный человек ведь не вынес бы и доли этого униженного состояния или работал бы разве только из любви к детям, оскорбляемым в самых святых своих чувствах, например, в любви к родине и в нежнейшей привязанности к отцу. А для madame Павла Алексеевича это тем лучше: ему чем где гаже, тем глаже.
Но довольно уже об учителях. Всего о них не расскажешь. Чтобы отделаться сразу от елисеевцев, мне еще остается рассказать, как здесь живет
Русская прислуга в Париже состоит преимущественно из женщин: нянек и горничных. Лакеев русских здесь очень мало, поваров еще меньше, а кучеров всего, кажется, два. Так, по крайней мере, говорят латинские старожилы. С мужской прислугою я вовсе не знаком и только говаривал со старым поваром княгини Д., но женщин многих знаю и вел с ними отношения самые дружественные. Судя по их рассказам, им живется плохо, и все они на чем свет стоит ругают себя, что согласились ехать за границу. Недовольство их главным образом происходит от одиночества среди людей совершенно им чуждых и говорящих непонятным для них языком. У некоторых из моих знакомых женщин-служанок развивалась чистая Nostalgia (тоска по родине). Они, приходя ко мне, плакали навзрыд, кляли себя, час своего отъезда и своих господ, соблазнивших их на эту поездку. Уговорить, утешить молодую патриотку с Кузнецкого моста или с Гороховой нет никакой возможности. Нужно дать ей выплакать свою тоску, нарыдаться у земляка, и тогда она сама начнет говорить: «Ну какая я дура, право! Ведь брошу, уеду, да и вся недолга!»
Русская прислуга в Париже, с которою мне удалось перезнакомиться, вся как на подбор состояла из личностей необыкновенно приятных, довольно рассудительных и честных. Это и понятно, потому что дурного или не испытанного человека никто с собою в такую даль и не повезет. Все, кого я видел и знал здесь из русской прислуги, держали себя с таким достоинством, что и желать, кажется, более нечего. Я ни разу не увлекся во время погасшего разгара народничанья в русской литературе, когда Успенский со своим «чифирем», а Якушкин со своими мужиками, едущими «сечься», ставились выше Шекспира, и не увлекаюсь теперь, в эпоху безобразной литературной реакции против народа. Я смело, даже, может быть, дерзко, думаю, что я знаю русского человека в самую его глубь, и не ставлю себе этого ни в какую заслугу. Я не изучал народ по разговорам с петербургскими извозчиками, а я вырос в народе на гостомельском выгоне с казанком в руке, я спал с ним на росистой траве ночного, под теплым овчинным тулупом, да на замашной панинской толчее за кругами пыльных замашек, так мне непристойно ни поднимать народ на ходули, ни класть его себе под ноги. Я с народом был свой человек, и у меня есть в нем много кумовьев и приятелей, особенно на Гостомле, где живут бородачи, которых я, стоя на своих детских коленях, в оные, былые времена, отмаливал своими детскими слезами от палок и розог. Я был этим людям ближе всех поповичей нашей поповки, ловивших у крестьян кур и поросят во время хождения по приходу. Я стоял между мужиком и связанными на него розгами, с которыми, благодаря Александра II, уже не будут знакомы дети моих гостомльских лапотных приятелей. Я не верю, чтобы попович знал крестьянина короче, чем может его знать сын простого, бедного помещика. Я не понимаю, почему пейзанские рассказы Григоровича подвергаются осмеянию, а рассказы целой толпы позднейших народников, напечатанные в самом огромном количестве и прошедшие без всякого следа и значения, считаются чем-то полезным. По-моему, пейзаны Григоровича не только гораздо поэтичнее, но и гораздо живее, чем сахарные добродетельные мужички Небольсина, или дураки Успенского, или ядовитые халдеи Левитова и многих позднейших рассказчиков. Все эти люди сочиненные, или уж не в меру опоэтизированные, или не в меру охаянные без проникновения в их Святая Святых. Я перенес много упреков за недостаток какого-то неизвестного мне уважения к народу, другими словами, за неспособность лгать о народе. Я равнодушен к этим упрекам, не потому, что с тех пор, как я пишу, меня только ругают, и я привык знать, что эта ругань значит и сколько она стоит; но насчет упреков в так называемом нечестном отношении к народу я равнодушествую не по привычке равнодушествовать к лаю, раздающемуся вслед за каждым моим словом из всех литературных нор и трущоб, приютивших издыхающих нигилистов, а потому, что имею уверенность, что нисколько не обижаю русского народа, не скрывая его мерзостей и гадостей, от которых он не свободен, как и всякий другой народ. Возводить его в перл создания нечего, да и не для чего: всякий кулик свое болото хвалит. Англичане утверждают, что первый народ они; французы кричат то же самое о себе; то же самое о себе думаем и мы, и немцы, а кто из этих четырех первых будет самым первым — Бог весть. Один ученый химик сказал, что и «будущность принадлежит грязи». А посему нечего смущаться, что у нас есть пороки, и именно одним нам свойственные пороки. Гадости нашего человека не гаже других гадостей, и, говоря о них, я не осуждаю, а только рассуждаю о них по мере моего крайнего понимания. Я и теперь не хочу обидеть русских людей, не бывавших за границей, когда скажу, что мне не доводилось дома встречать сплошь и рядом такого количества прекрасных русских простолюдинов, каких я узнал в Берлине, Ницце и Париже. Скрывай не скрывай, а сознаться должно, что мы, во-первых, большие мастера и еще большие охотники воровать. «Нонче народ вор», «нонче народ шельма», слышится беспрестанно из уст самого народа. «Плохо не клади, слуги в грех не вводи», говорят барыни и барышни всего волжского бассейна. А в Париже о таких художествах, как воровство, и помину нет. Здесь ни господа не позволяют себе ежечасной оскорбительной подозрительности, ни слуги не подают ни повода, ни права к подозрению. Русская прислуга, переехавши границу полночного царства, как бы прозревает. Видя обращение своих принципалов с туземными служителями в отелях, вокзалах и гарнированных комнатах, русский человек находит, что именно такие отношения и должны существовать между им и его хозяином. Слуга становится горячим прогрессистом и стремится к водворению между собой и своим принципалом таких же точно новых отношений, а его принципал, бывший дома неукротимым прогрессистом, здесь, наоборот, делается консерватором и неотразимо стремится удержать за границею отношения, установившиеся к слугам на святой Руси. Соревнование в русском служащем человеке просто чудеса производит. Он во что бы то ни стало желает за пояс заткнуть заграничного человека во всем: в деле, в поведении и в рассудительности, и действительно затыкает его за пояс; но зато, чуть только он заметит, что все это не изменяет ни его положения, ни установившегося на него взгляда, сейчас начинает дуться. Здесь начинается борьба, выражающаяся со стороны наемника косвенным протестом в виде отговорок, кривых мин, упорного молчания и всего того, что с различными оттенками на русском общехозяйственном языке называется «грубостями», «грубиянством». Замечательно, что русская горничная, нянька или лакей никогда не скажут прямо: «Я живу так же честно, как Жан или Луиза, и тружусь еще более их, а потому и я хочу, чтобы со мною обращались точно так же, как с Жаном или с Луизой». Нет, он начнет работать как вол, один за десятерых; честности его не будет меры и пределов; он доведет эту честность до какой-то болезненной щепетильности, но все будет молчать, все будет оттерпливаться и выжидать, что его поймут и оценят. Потом, когда это не достигнуто, слуга супится, и с этих пор начинается его молчаливое и упорное недовольство на принципалов. Недовольство это есть не что иное, как оскорбленное самолюбие. Это неудовольствие растет по мере того, как с другой стороны продолжается невнимание; потом, при первых упреках со стороны господина или госпожи, оно вдруг и совершенно неожиданно проявляется резкими ответами, порывистыми движениями, горячечным усердием в исполнении своих обязанностей и в то же время пересудами своих господ со встречным и поперечным. В дальнейшем развитии этих недоразумений начинаются жалобы нанимателя на то, что слуга забывается, и упреки, делаемые ему самому, но упреки, делаемые, впрочем, пока в более или менее мягкой форме. Первые упреки слуге со стороны его хозяина обыкновенно можно считать сигналом к окончательному разрыву между русским туристом и его русским слугою или служанкою. Последние охотно, даже с каким-то злобным удовольствием поднимают брошенную им перчатку, и начинается домашняя война, в которой труд ничего не хочет уступить капиталу и работник мстит капиталисту самым жестоким образом. Слуга для своего мщения находит несметное число мелких, но весьма ядовитых средств. Прямые средства этой мстительности заключаются вот именно в том, что называется «грубиянством» и чего никак не могут снести господа, выросшие среди безмолвно-покорной крепостной прислуги и считающие себя очень умеренными, требуя от всех только «преданности и уважения, уважения и преданности». Косвенным путем мстительность избирает переносы и злословие за домашним порогом. Отыскивается какой-нибудь земляк, не непременно слуга, собрат по профессии, а также студент или так себе молодой человек, но только «душевный». Сейчас знакомство, своего рода приязнь (особенно у горничных с молодыми людьми): ну и пойдут жалобы, рассказы и такая едкая очистительная критика каждого хозяйского шага, что принципалам и в голову не придет, как тонко и метко расценивают их по мелочам, по деталям, по суставчикам. У русских больших людей вообще есть необъяснимое и во всем своем объеме едва ли не им одним свойственное равнодушие к мнениям тех, которые стоят несколько пониже их на лестнице современной гражданственности, а у людей той породы, из которой большею частью выходят парижские елисеевцы, это равнодушие равняется в некотором роде олимпийскому высокомерию. Это, пожалуй, в известном смысле и хорошо;
Но, быть может, человеку,
Меж зверьми аристократу,
Знать полезно, как о нем
Рассуждают там, пониже,
В низших обществах звериных,
В сферах жалости достойных,
Где кишат и замышляют
Гордость, нищенство и злоба.
О, запад, запад! О, язва гниющая! Все от тебя идет. Ты развращаешь нам даже нашу чернь, ты вселяешь ей в два месяца столько безобразных понятий о праве, сколько она не захватила бы дома в три с половиною года, живя в Петербурге, или в двадцать семь лет, живя на Сивцевом Вражке, в Москве. Ты делаешь их не цивилизованной прислугой, а зверями, медведями зубастыми, вольнодумными Атта-Троллями, и они, как Атта-Тролль, вертясь на ложе,
Не покрытом простынею,
Так ворчат: «Надейтесь, дети,
Дети — будущее наше!»
Будущее, по их заграничным понятиям, какое-то невозможное, невероятное и, конечно, неприличное для нашей культуры время, — время, в которое даже
И жиды, как все граждане,
Будут пользоваться правом,
Предоставленным законом,
Наравне со всякой тварью.
Через два, много три месяца по приезде в Париж или в Ниццу каждый Прохор из села Заовражья, каждая Маша с Рождественки или невская Оля начинают касаться вопросов, крайне им несвойственных, и с совершенно несвойственною им звериною дерзостью вопрошают людей, держащих при себе человека:
Чем же вы нас, люди, выше?
Тем, что задрали высоко
Ваши головы? Но в них-то
Мысли низкие родятся.
Я вам говорю, что нет поступка, нет движения, нет шага, который бы здесь не был предметом самого тонкого разбора. И это делается совсем не с целью сплетничать просто по любви к этому благородному искусству, на которое имеют всесветную привилегию слабонервные уездные дворянки, обмирающие купчихи и сморкающиеся в свой шейный платок дьяконицы и дьячихи; нет. Это делается в высших соображениях саморазвития, уяснения себе темных или непонятных явлений общественной жизни и, наконец, из любви к критическому процессу и из желания уяснить себе свое я, отрешенное от домашних традиций немецко-русского квазипатриархального быта. Московский слон[5] напрасно упрекает в западничестве русских парижан благородного звания и парижан с поповки. Первейшие западники за границей — это русский plebs, русские простолюдины, т, е. русская прислуга. Они не веселятся в Западной Европе, не считают ее землей обетованной и всей душой стремятся к своей холодной родине; но — увы! — уже не тем они возвращаются сюда, на свою Русь, чем были до рокового дня своего отъезда за границу. Увы! они возвращаются страшными, неисправимыми западниками. Вы, может быть, заметите мне, что простолюдины, возвратившиеся из-за границы, любят трунить и подсмеиваться то над немцем, то над французом, и в особенности над французинкой. Это все так, но это ничего не значит. Это подтрунивание — ничего больше, как только шутка, смех, изредка патриотический задор, но отнюдь не сознание, что у нас лучше. Холодное, обдуманное чувство во всех этих подтруниваниях не участвует нимало. Оттого и самый предмет этих подтруниваний всегда вертится около самого ограниченного числа вопросов: как за границей едят? да как спят? как одеваются? как моются? и тому подобное. Тут у нашего побывавшего за границею плебея выйдет, что супротив русского человека ни одной нации не суметь ни наесться, ни умыться, ни выспаться. Неопытному человеку может показаться, что в этом подтрунивании, в самом деле, проявляется глубокое презрение русского простолюдина ко всему виденному им за границею. А снимите ваши перчатки и копнитесь глубже в душу этого же самого человека; постучитесь в нее не с той стороны, к которой он приваливает всякую дребедень, всякий вздор и хлам; а в ту, с которой у него сердце занывает, — и аскультация с этой стороны даст вам совсем иные тона. Вы услышите, что этот русский простолюдин, говоря языком прессы, — западник, или, говоря простым и ясным человеческим языком, он человек, свободный от всякого одностороннего затеса, от всяких теорий и утопий. Русский простолюдин внимательно всматривается в положение своего брата иностранного простолюдина за границей, соображает это положение со своим положением, делает сравнительные выводы и сопоставления, в которых его домашнее положение в России вдруг открывается ему во всей своей скудости и безобразии. Он смотрит, как сравнительно хорошо жить работнику в Париже, сколь его парижская нищета богаче московского довольства нашего слуги, и симпатии его всегда высказываются в пользу иностранного положения. Он не изменяет своей любви к отчизне, восхваляя чужое, а ему просто нравится то, что лучше, что справедливее. Он не гонится за идеальною справедливостью и за идеальным осчастливлением всего человеческого рода огулом, за один прием, потому что он не теоретик, ни «Современника», ни «Русского слова» не читал; но он желает только того, что считает возможным, а возможным считает, чтобы ему жилось, например, не хуже меньше его работающего и лучше его устроенного человека парижского или берлинского.
Русский простолюдин, уезжая со своими русскими господами за границу, питает то убеждение, что за границей люди, что называется, с голоду пухнут и что сытая и довольная жизнь возможна только у нас, где, мол, даже свиней кочерыжками кормят. Но вот он едет, едет по чужеземщине и видит людей живых, хорошо одетых и здоровых. Где же это нищие, пухнущие с голоду? Их нет: они прибраны и приютены своими приходами. На станциях поезда не осаждают оборванцы, целые версты бегающие вдогонку у нас по московско-харьковскому шоссе; нет отвратительных калек и уродов, украшающих паперти церквей нашей самохвальной России, нет изуродованных лошадей со сбитыми маслаками, и даже свиньи едят не только кочерыжки, которыми не прочь лакомиться любой наш крестьянин, а чистый хлеб, которого во многих местах империи крестьянин наш не всегда может предложить даже своим детям. Но вот слуга-турист приезжает в самую столицу Франции; вот он ориентируется в Париже, где уже он надеялся показать себя французам на славу, потому что он, отъезжая, взял себе и жалованье, по его мнению, очень большое, да и выговорил себе и льготы разные, и помещение и всем этим рассчитывал далеко превозвыситься надо всяким слугою-французом — а видит совсем не то, что ожидал увидеть. Он видит, что особая комната для каждого слуги здесь не только не считается роскошью, но что здесь даже немыслимо иметь слугу без предоставления ему удобного человеческого помещения. Он видит, что не только всякий лакей, горничная или нянька, а каждый поденный работник, грабарь и мусорщик, идучи на работу, не только напьется кофе, но и непременно выпьет стакан абсента, за обедом опять выпьет полбутылки, а то так и целую бутылку вина, а вечером опять абсента. Он слышит, что здесь с каждым слугою, с каждым увриером говорят на вы, соблюдая притом всю вежливость и деликатность, предписываемые людям образованного общества, и спрашивает себя: «А у нас-то где же все это? А ведь это совсем не вредило бы, чай, и нашему брату?» И он взглядывает исподлобья на своих принципалов и спрашивает: «А вы-то что же, голубчики, о себе думаете? Вы как с нами обращаетесь?» У русского простолюдина за границею во всех его огорчениях всегда виноваты его принципалы, а отнюдь не страна, где он гостит, и не конкурирующие с ним слуги-туземцы. Туземцев они иногда ненавидят, но исключительно только за то, что последние, сталкиваясь с ними, стоят в отношениях несравненно выгоднейших. Здесь, впрочем, не столько играют роль материальные выгоды (помещение, стол, плата и подарки), сколько нравственное преимущество, даваемое русскими господами своим слугам-иностранцам перед своими русскими слугами. Жалобы на материальные невыгоды (неудобство помещения и плохой стол) уже последствия неудовольствий, возникших между слугою и его хозяином, а причина всегда лежит в оскорблении непризнанного нравственного достоинства. Русский слуга не может перенести самого малейшего предпочтения слуге из иностранцев. Вам этого никогда в глаза не скажет ни один слуга, потому что он стыдится сознать перед кем бы то ни было, что он прежде этого не понимал. Он не станет говорить, что он вот отбросил от себя некоторые гадкие привычки, возгнушался холопскими пороками, живет по чести, благородно, душу свою готов был положить за господина или госпожу, «не так, как француз или французинка», а этого не заметили: с французинкой все-таки по-иному, а с ним по-иному, и он ругается и грубит оттого, что ему хочется плакать слезами впервые, может быть, прочувствованной боли от оскорбления сознанного в себе достоинства и жгучей бессильной злобы. Но если вам этого не скажет русский заграничный слуга, то, уж конечно, вам этого не скажут, да и не поверят, ни одна слабонервная русская туристка и ни один барин из елисеевских либералов, крепостников и нигилистов.
А если вы сами вникнете в это дело и войдете в более или менее близкие сношения с заграничной русской прислугой, то едва ли скажете, что я на сей раз сколько-нибудь увлекаюсь.
Я был знаком с Матреной Ананьевной, нянькой одного небогатого, но, впрочем, все-таки довольно зажиточного русского семейства с rue de Rivoli. Матрене Ананьевне от роду лет сорок или сорок пять. Она субъект очень крупный, здоровый и живой; характера несколько нервного, но беспечного и веселого; добра от природы, рассудительна, много на своем веку видела и многое научилась понимать не холопским пониманием. Матрена Ананьевна образец честности и гордости, развившейся за границею до болезненной способности во всем видеть со стороны своих господ покушение оскорбить ее или унизить. Знакомство наше началось в Тюльерийском саду, где я услыхал ее, кричавшую по-русски на своего «князенка», а потом Матрена Ананьевна сама приехала ко мне в гости и стала навещать меня довольно часто. Поведет, бывало, своего «князенка» в Тюльерийский сад, а заведет в Люксембургский, неподалеку которого жил я, и является толстая, высокая, с лицом веселым и от природы скроенным для смеха и улыбки, но носящим отпечаток какой-то беспрерывной готовности отпозировать. Вваливается, бывало, Матрена Ананьевна, таща за ручонку своего четырехлетнего «князенка».
— Здравствуйте, батюшка!
— Здравствуйте, Матрена Ананьевна.
— Работаете?
— Да, помаленьку.
— Чай, помешала я вам.
— Нет, пожалуйста. — И, уже зная щекотливое самолюбие этой землячки, спешишь наговорить ей всяких приятных для ее самолюбия вещей, вроде того, что и рад-то ей, и без нее-то соскучился.
— То-то. А я ведь что! Ветчины это вот купила да думаю: что одной-то мне есть: я ведь не попадья. Пойду к земляку: вдвоем пофриштыкаем.
— И отлично, Матрена Ананьевна!
— Да, а то что же. Не умирать ведь, в самом деле!
Вынет Матрена Ананьевна свою ветчину из бумажки; я достану горчицы, присядем к столику, и начнем «фриштыкать», и «князька» кормим.
— С чего умирать-то собираетесь, Матрена Ананьевна? Какая хворость вас застигла? — скажешь ей, продолжая разговор на заведенную тему.
— Да как же, батюшка мой, не хворость? Голодом уже совсем заморили.
— Ну!
— Да право. Бульонную говядину покупают. Черт ли по ней, по погани-то этакой! Я вот это иду, да и думаю: не буду я есть вашей бульонной говядины. Дай-ка, говорю лавочнику, мне, мусье, деми ливр дю жанбон, да вот и пришла душу отвести.
Это Матрена Ананьевна сочиняет. Она, действительно, пришла отвести душу, но не жанбоном, а ей поговорить хочется, пожаловаться на свою недолю. Жанбон тут предлог: во-первых, попотчевать земляка, потому что у Матрены Ананьевны смертная страсть потчевать — хлебосольна она, а во-вторых, с жанбона удобно перейти к «маронам», которыми ее господа сами кормятся и ее якобы заморили. Разуверить ее, что она совсем не заморена и сердится вовсе не на мароны, нет никакой возможности.
— Помилуйте, скажите! Да у меня совсем уж нутрё-то все под спину подобрало, — ответит она, указывая на свое круглое и весьма видное чрево.
— Ну, Матрена Ананьевна, такое нутрё, как у вас, еще дай Бог каждому человеку.
— Что, укладисто, что ль?
— Слава те Господи!
Расхохочется и уйдет веселая, словно невесть как вы ее утешили.
В воскресенье опять приезжает Матрена Ананьевна.
— Не мешаю? — спрашивает.
— Нет, нет, нисколько.
— То-то. Наши нынче у той, у Сайги-то проклятой; я и махнула к вам: думаю себе, не пригласить ли земляка пообедать с собой.
— Пойдемте, пойдемте, Матрена Ананьевна.
— Я шучу.
— Чего шутить, пойдемте.
— Ну вас; вы небось нынче с Алексей Иванычем пойдете?
У меня был приятель живописец, которого звали Алексеем Ивановичем.
— Да, — говорю, — с ним.
— Ну а он ведь небось со своей мамзелью?
— Да это что ж вам мешает?
— Да мне ничего. Только скажите, сделайте милость, это она действительно не надо мною смеется?
— Полноте, — скажешь, — Матрена Ананьевна! Над чем же над вами можно смеяться?
— То-то. Я и сама так думаю, что ничего во мне смешного нет.
— Да ничего же, решительно ничего.
— И я говорю, что ничего.
— Ну и пойдемте.
— Только я два франка-то сама заплачу. Это уж так: у меня деньги есть. Я только по карте у них, у чертей, так выбирать не умею.
И не два франка, а пять франков уж у нее в уголке белого платочка завязаны, и она непременно сама свой «едисьен» заплатит, и еще бутылку вина купит, а на обратном пути в фруктовую заскочит, наберет «мандиану», закупит целый картуз и пошла угощать, и меня, и живописца, и его француженку, а сама так и шелушит миндальные орешки, так и расплевывает во все стороны скорлупки, точно у себя дома о Пасхе под качелями. Земляк тут нужен для компании, для удобнейшего объяснения с гарсоном при заказе обеда да главным образом для выслушания горьких жалоб, накопившихся в душе Матрены Ананьевны за прошлую неделю.
Какое же горе великое одолевает Матрену Ананьевну? А вот не успеет ей гарсон у Тиссо в Пале-Рояле поставить мелкую тарелку с жидким бульоном, она сейчас хлебнет ложку-другую и начинает:
— А у нас теперь от этой бульонной говядины хоть с голоду умри.
Засмеешься.
— Что вы это, матушка Матрена Ананьевна, говорите? Будто вы в самом деле едунья такая, что вам много надо! Ведь вот вы и тарелки одной не докушали.
— Нет, право, — уверяет Матрена Ананьевна. — Мароны да бульонная говядина — только и видим, и сами-то только жрут, да одну курицу на пятерых. А в Петербурге только, бывало, поваров, черти этакие, меняют.
— А в Ницце?
— Ну, в Ницце.
Матрена Ананьевна засмеется и говорить не станет.
А в Ницце такое было дело. Жила там Матрена Ананьевна с тою же молоденькой княгиней и с тем же маленьким четырехлетним «князьком». Княгиня была больна; муж хлопотал где-то о делах и высылал жене только по четыреста франков в месяц. Большая часть этих маленьких денег шла на лекарство, жили в одной комнате, ели, в самом деле, одни мароны; но Матрена Ананьевна умирала возле своей княгини; на шаг от нее не отходила, и нутря ей к спине тогда при всем этом не подтягивало; всем она тогда была довольна. Теперь же она живет с беспримерно бόльшими выгодами, имеет особую комнату и обыкновенный парижский обед, домашний, которого по сытности нельзя сравнить с трактирным обедом у Тиссо, где подадут всякой нечисти под воздушным гарниром; но, к досаде Матрены Ананьевны, ныне с нею вместе живет француженка горничная m-le Армантина, черноглазая вертушка, отрекомендованная княгине ее теткою, которую Матрена Ананьевна называет Сайгой. Эта Армантина поперек горла стоит у Матрены Ананьевны.
— Помилуйте-с! В кофте, как барышня. Идет, все экскюзе[6] да пардон фон-барон. Кринолин с версту, белоручка, белоличка, и ей всякий почет. Сам-то наш, когда случится, идет в халате, сейчас ей «экскюзе», это Армантине-то, и она ему свое «экскюзе».
— Да что ж, это хорошо.
— Что это хорошо-то? Панибратство-то это, что ли, хорошо, по-вашему?
— Да, — говорю, — хорошо, что при девушке неряхой не ходит; а то вон, говорю, писали, что наши петербургские актеры наехали в Варшаву, так первым делом всех служащих панн из ресторанов своим карячеством повыгоняли.
— Хорошо! Ну согласна я; ну пускай это и точно хорошо. Я и не говорю, что это худое что-нибудь, и совсем не к тому, чтобы у них что-нибудь с собой было, а ведь вон он — в Петербурге же сколько у нас бывало горничных, ничем ее, Армантинки этой, не хуже — он им ни одной же не говорил «экскюзе».
— И вам тоже?
— Мне тоже. Да я что! Я, батюшка, человек старый; мне вот чтоб только хоть с голоду не морили. А то та Сайга приедет сейчас: «Армантин! Эт ву контан иси?».[7] А свою русскую небось не спросит, что, может, на свой, на кровный грош купит, да и поест. Французинки-то они, небось, они себя знают, как держать, не то, что мы, глупые да простодушные. У них: свое дело делает и уж свое себе спрашивает, а то сейчас тебе, хоть ты князь, хоть граф, она покажет, как с нанятым человеком должно обращаться. Они не то, что мы; они наших-то бар обшколивают — спасибо им хоть за это — а мы-то? У нас куда пойдешь? Везде они, черти, одинаковы… Суда-то на них ищи, как журавля в небе. Завезет, да и морит голодом.
Матрена Ананьевна страдала от честолюбия и сознания бессилия и неуменья стать на такую ногу, на которую так просто умеет становиться парижская французская прислуга. Матрене Ананьевне платят 80 франков в месяц жалованья, и у нее было все, что ей на потребу; но она не могла придумать, отчего у нас прислуге не так, как в Париже. Как этому помочь? Как обшколить чертей? И она уехала в Россию. У нее есть женатый сын в Кронштадте, получает сорок пять рублей в месяц; она у него и поселилась. Недавно мы с ней встретились. Рассказывает, что живет нуждаясь и терпит много от несогласий с невесткой.
— Что ж, — говорю, — вы, Матрена Ананьевна, на место не поступите?
— Ну их! — говорит. — Надоело, батюшка, да и нетерпелива, правду сказать, очень стала. Не могу служить. Служила; будет с меня. Наслужилась вволю, а не выслужила ни угла, ни почета. У нас ведь не то, что за границею, где добрую слугу берегут и ценят, и пенсионы всякие для старых слуг, и все выдумано; а у нас что? Одно слово, живи в лесу как дулеба, да под пнем и не дохни.
Такая западница стала, что беда.
— Сама, — говорит, — батюшка, знаю, что мне теперь трудно будет жить, поглядевши, как у людей-то за границей живут. Ах, в Париже-то — я вот это дочери уж рассказываю, рассказываю — вот, говорю, в Париже, как, Дуняша, господа-то все как обшколены. Прелесть! Хотя ты и слуга и служишь за деньги, а уж…
И пойдет Матрена Ананьевна расписывать с таким упоением, что нельзя не видать, как она сгнила на этом западе.
Конечно, о ткацком вопросе в Лионе Матрена Ананьевна никогда ничего не слыхала и «L'ouvrière»[8] Жюля Симона не читывала, но что она видела, насколько ей западное житье показалось лучше восточного, настолько она в огромной прогрессии возненавидела восток и возлюбила запад, заштукатуренных пятен которого она не заметила, да и не могла заметить.
А то были у меня в Париже две знакомые русские горничные: одна — Саша, белокурая, прехорошенькая девушка лет восемнадцати; другая — Лена, брюнетка, также очень молодых лет. Саша была белошвейка; она родилась в курной избе в Кромском уезде Орловской губернии и училась в Москве, на Кузнецком мосту, у Бастид, и весною прошлого года приехала в Париж, с тою княгиней, которая вырывает из рук своего сына русские книги. Лена, дворовая девушка чистой крови, состоит при собственной барыне гардербной барышней. Саша хорошенькая, откровенная и развеселая девочка, что называется «размое-мое»; Лена — правильная античная красавица, молчаливая, задумчивая и с виду несколько суровая и очень скрытная. Они были между собой приятельницами и навещали меня всего чаще вдвоем. Париж им обеим не нравился; они обе здесь скучали и рвались всеми силами домой.
— Чем же вам так дурно, Саша?
— Гадко.
— Да чем?
— Гадко, да и все.
— Это еще ничего не значит.
— Нет, значит, скучно.
— Вы влюбитесь.
— Не в кого.
— Вот тебе раз! Вы такая красавица, что кто от вашей любви откажется? «На тебя заглядеться не диво; полюбить тебя каждый не прочь».
— Да влюбляться-то, — жалуется, — не в кого.
Литератора Авенариуса, который недавно так хорошо писал о своей красоте, рассказывая, как в него повсеместно влюбляются иностранки, я не мог рекомендовать Саше, потому что еще не был и сам тогда о его красоте достаточно наслышан, и потому заметил ей просто, что охотницы влюбляться имеют перед собой постоянно большой выбор.
— В француза, что ль, влюбляться-то? — запытала девушка.
— Да, а что ж вы думаете: отчего же не заполучить и француза?
— Легко ли дело-то!
— Да отчего ж?
— Чтоб они не дождались…
— Этой чести?
— Да-с. А то, думаете, не честь?
— Ну в своего.
— Свои все с французинками не натешатся!
— А вам досадно?
— Да как же не досадно. Не досадно, а гадко, скверности и ничего больше.
— Хороши уж очень француженки-то?
— Легко ли, добро-то. Всю веретеном встряхнуть можно — так это, по-вашему, значит хороша? Руку ей от всего сердца пожмешь, так и то «са ма фе маль»,[9] кричит, — и это тоже значит хороша?
— Да уж нечего, Саша, спорить: хороши, хороши; это всеми признано, что они хороши.
— Вся в полоскательной чашке вымоется, да и хороша, вам нравится.
И Лена даже засмеется, взглянувши на Сашину гримасу при рассказе, как «французинка» вся в полоскательной чашке моется.
— Ну, а французы каковы, Саша?
Саша плюнет и ничего не скажет.
— Хорошие есть, красивые, нежные, ласковые.
Саша расхохочется и начнет шептать Лене на ухо. Та все только отворачивается и говорит: «Да ну, будет. Полно. Знаю, знаю». А Саша все ловит ее за ухо и все шепчет, пока не скажет вслух: «Ей Богу, правда!» и при этом плюнет.
— Право; а им, нашим господам, это даже очень мило.
— Что это, Саша?
— Да гадости-то всякие.
— А вы почему знаете, что бывают какие гадости?
— Потому что нет поганей народа, как наши господа. Им все равно, потому что сами поганые, вон как наша. Теперь уж Пьера отпускает: нового камердинера где-то наглядела. Помилуйте, ведь низость это!
— Что вы выдумываете, Саша, на вашу барыню!
— Нет-с, это верно.
— Вздор, вздор! Ни за что не поверю.
— Нет-с, верно. Уж вы со мной не спорьте. Я лгать не стану.
— Да это вам так кажется.
— Скажите, пожалуйста! Кажется. У меня ведь глаза и уши есть… Господи! Мерзость-то этакую, чтоб барыня, дама этакая, могла себя до лакейской ласки допустить.
— А барин может допустить?
Саша засмеется.
— И барин не должен.
— А может?
— Ну уж это другое дело. Наша сестра, по крайней мере, и в грехе знает, как себя вести. Встретится и виду не подаст при людях; а эти — что женщина, что мужчина — все наголо. «Ма матрес»,[10] да «мон аман».[11] Даже вот плюнул бы, этакой Пьер — ну лакей, ведь лакей же он, хоть и француз, а и он сейчас знак даст, что он при немаленькой должности… — Саша делает соблазнительную гримасу и, вся покраснев до ушей, начинает с неистовым азартом: — Нет! Нет, нет! Вы мне ничего и не говорите, потому я и сама этому верить не хотела, но не могу больше не верить, не могу. Этот Петрушка сам хвалился. Я ему и тогда не верила; ну а уж глазам своим должна я поверить или нет?
Мы с Леной молчали, а Саша еще более разгорячилась.
— Барыни! И это дамы благородные называются! Ну уж не я буду, если я в Россию вернусь да не расскажу всего, зачем они сюда ездят. Говорят, встарь люди такие же были! Совсем неправда, я никому теперь в этом с собой спорить не позволю. Матрена Ананьевна при нашей покойнице барыне в горничных из Карачевского имения были даны, когда барыню за генерала, за Ивана Матвеевича выдали. Барыня его, разумеется, не любила, потому он очень был стар и гадок: они другого любили — хорошенького — соседний там помещик, за тридцать верст жил, — ну так вот это можно чести приписать, что благородно было. Пусть-ка вам Матрена Ананьевна когда-нибудь об этом порасскажет. У него мать была, престрогая-строгая была дама. Только он и мог что в поле ездить, даром что тридцатый год имел. Так он, бывало, поедет ночью поля объезжать — лошадь у него отличная была, черкесская, — он поедет на ней на поля, да и махнет к нашей барыне; а барыня уложит мужа да выйдет на балкон вольным воздухом подышать и Матрену Ананьевну с собой возьмет. «Не отходи, — говорит, — от меня, Матреша». Не то чтобы нарочно куда заслать, а говорит: «Не отходи». Матрена Ананьевна и не отходит. Он тридцать-то верст проскачет, подъедет к балкону, барыня ему свою ручку через решетку балкона спустят, а он ее, эту ручку, поцелует, два слова между собой перемолвятся, да и опять тридцать верст домой скачет, чтобы мать не знала. Так вот это любовь, это и наша сестра холопка понимает, что любовь называется; а этакие барыни, что вот как наша либо что Сайга… Ах, ах скверности! Ах, ах гадости! Наша говорит ей, что ей надо с каким-то начальником пофигурить, да не знает, как его к себе обратить; а та говорит: ты с его секретарем поамурься: через него многие этого достигали, многие. Ей-Богу, хуже баб крестьянских, что к барчукам хаживали… Нет, нет, а что коснется если до этого ее Петрушки, то вот будь я не я, а самая подлая девка, если он со мною еще когда меня станет затрагивать, я ему плюху, потому я уж ему третьего дня сказала: «Мусье Пьер, я вас прошу, чтоб вы меня за талию трогать не смели: а то я так крикну, что и сама барыня услышит».
——
Вот вам и первое письмо о русских парижанах. Теперь я отделался от елисеевцев, о которых мне трудно рассказать что-нибудь, кроме общих черт; а их нужно бы разобрать по суставчикам, как разбирали их Саша или Матрена Ананьевна. Но я этого сделать не могу: мало их видел, мало их знаю и мало о том сожалею, что и мало их видел и что мало их знаю. В следующем письме начну рассказывать, что знаю про латинцев, в среде которых протекла моя парижская жизнь, расскажу вам их нравы, отношения внутренние (по кварталу) и внешние (к Елисейским полям), повожу вас с читателем по кое-каким закоулкам, расскажу скандалы, произведенные в Париже нашими компатриотками, а там, может быть, зайдем на минутку и в камеру швейцара русского посольства, и на поповку.
Первое письмо о жизни русских в Париже я закончил обещанием в следующем письме или в следующих письмах заняться латинцами, среди которых протекла моя парижская жизнь; рассказать их житье-бытье, их нравы и отношения, пройтись с читателем по кое-каким закоулкам, позабавить скандальчиками, сочиненными в Париже нашими соотечественниками, а там, может быть, завернуть и в камеру посольского швейцара, и на поповку.
Исполняю мои обещания в том постепенном порядке, в каком они высказаны.
Прежде всего
Русское народонаселение Латинского квартала в Париже, как я уже сказал в первом моем письме, состоит преимущественно из одних молодых мужчин, включительно от 20 до 40 лет. Большая часть этих людей состоит из молодежи, приехавшей в Париж слушать лекции известных профессоров. Тут есть медики, ветеринары, филологи, историки и юристы. Последних менее, чем всех прочих.
Из молодых людей, живших зиму 1863 года в Париже для собственного образования, часть послана в Европу на счет министерства народного просвещения; остальные жили на свои собственные средства. Все это народ не только небогатый, но даже очень нуждающийся и еле-еле сводящий концы с концами. Кроме того, здесь же в квартале живут все небогатые люди, приезжающие пожуировать в Париже. Жуиры — люди, имеющие право сделаться елисеевцами, но молодость, пламенное стремление вкусить как можно больше парижских буржуазных наслаждений и подкупающие внимание заезжего человека пикантные гризеты Латинского квартала загоняют их в окрестности Café de la Rotonde. Здесь эти жуиры начинают жить прямо на демократическую ногу, в одной комнате, и даже скряжничают. Расходы их не превышают расходов самого скромнейшего обитателя Латинского картье, и разница между теми и другими здесь заключается единственно в том, что одни каждый месяц дней по десяти бывают без денег и друг с другом всегда делятся, а у других всегда есть деньги, и они никогда ими ни с кем не поделятся. Но во всем прочем они ничем не отличаются от людей, по самой силе обстоятельств обязанных держаться почти исключительно одного Латинского квартала Парижа.
Из русских дам в Латинском квартале жила в этом году только одна г-жа В., у которой двенадцатилетний сын учился в лицее, на Севастопольском бульваре. Она хотела быть ближе к своему ребенку и жила в rue de Seine.
Замечательно, как эта женщина устроила русские уроки своему сыну. Она жила с самыми ограниченными средствами. Сестра присылала ей что-то около 200 франков в месяц. Нужно было самой жить на эту сумму, равняющуюся нашим 50 рублям, и еще платить из нее в лицей за сына; а г-же В., кроме того, непременно хотелось, чтобы сын ее брал не менее четырех русских уроков в неделю. Она предложила двум молодым русским латинцам учить их по-английски, с тем чтобы те, урок за урок, учили ее сына по-русски. Дело так и устроилось. Я всякое воскресенье встречал этого мальчика у его матери: он говорил по-русски не смело, но правильно, и трудно было догадаться, что это русское дитя, которое совсем не видело России.
Русские в Латинском квартале живут или в отелях, или в chambres garnies.[12] В других частях Парижа живут еще в так называемых «пансионах», т. е. в меблированных квартирах, при которых устроен общий столовый зал, а иногда и большая приемная комната вроде гостиной. Тут платится огулом за все: за квартиру, стол, белье, прислугу и чай или кофе. Житье в таких «пансионах» нельзя назвать особенно неудобным: у каждого жильца есть своя независимая комната и, кроме того, есть две общие комнаты, которыми он может пользоваться наравне с прочими жильцами. Но тут нужно в определенный час брать свой кофе, в определенный час завтракать или обедать и возвращаться ночью домой непременно одному или, по крайней мере, как говорится здесь — «в одном поле». Два же пола вместе нетерпимы; а это стесняет человека, приехавшего в Париж с тем, чтобы пожить в свое удовольствие. Вообще в этих «пансионах» есть действительно очень много «пансионского», и из русских в них живут почти только одни одинокие женщины. Житье такого рода не в нравах русского латинца.
Более всего русских живет всегда в большом отеле Corneille против театра Одеон. Об этом отеле досужие русские люди тогдашних времен говорили, что это приют шпионов, следящих за русскими; но тогда была такая пора, когда не нужно было никаких оснований, чтобы объявить кого бы то ни было шпионом. Под кличками шпионов целые годы были известны имена честных людей, и, по чьему-то счастливому замечанию, тогда только одни настоящие шпионы слыли часто за честных людей и мучеников или оставались навсегда неизвестными. Чтобы заслужить эту кличку, не требовалось никакого повода, и я не знаю, есть ли какое-нибудь основание для такой репутация отеля Корнеля: я даже думаю, что это вздор и что на это нет никаких оснований. Я не видел ничего шпионского в этом отеле, да и вообще не ощущал нигде стесняющего присутствия русских политических шпионов, а между теми, которых так нагло обзывали этим именем, напротив, знал очень много честнейших людей. Этим именем звали некоего Артура Бенни, высланного впоследствии, по решению сената, за пределы государства за передержательство у себя в течение дня эмигранта Василия Кельсиева, и это же имя усиливаются ныне приснастить к имени самого В. Кельсиева, потому только, что мелким, безнатурным людям резонирующего нигилизма непонятно, как этот искренний человек, с глубокою натурою, мог сознать свои заблуждения и почему он, стосковавшись по России, вверил судьбу свою великодушию простившего его Государя. Им нужно замарать честное имя Кельсиева, и они распускают слух, что пребывание Кельсиева за границею было просто соглядатайство. Но возвращаемся к своему предмету. Затем множество русских живут здесь и в других, меньших отелях всего Латинского квартала. Остальные занимают комнаты у съемщиц квартир, или, по-нашему, «квартирных хозяек». Я жил таким именно образом, и нахожу его самым удобным во всех решительно отношениях.
За комнату, чисто и удобно мебелированную, с мягкой и всегда опрятной постелью наши русские обыкновенно платят от 30 до 40 франков в месяц (т. е. от 7 до 10 рублей). В такой комнате всегда есть двуспальная кровать с двумя матрацами, жесткими с испода и мягкими сверху, и с пологом; комод, шифоньерка с выдвижною доскою для письма (секретарь); два шкафа в самой стене, один с полками, другой с вешалками; шесть стульев, два кресла, бронзовые часы на камине (которые, однако, очень часто не ходят); умывальник на столике из серого мрамора и такой же ночной столик со всеми удобствами у кровати: подсвечники, чернильница и даже пресс-папье и различные фарфоровые и бронзовые безделушки для письменного стола или для женского туалета. Всегда все рассчитано на парочку, ибо почти каждый парижский студент всегда живет с гризетой: швеей, корсетницей, перчаточницей или цветочницей. В Париже понимают, что не благо быть человеку одному.
Наши русские в Латинском квартале довольно редко живут бобылями, а большею частью, по местному обычаю, тоже женятся на гризетах. Это всеми почти признается очень удобным, ибо в сожительстве с французской гризетой, действительно, есть очень много своих, так сказать, хороших хозяйственных сторон для человека, не знающего Парижа. Она делается его другом и попечительницею и не только полезна в отношении экономическом (ибо хорошая гризета почти ничего не стоит, а держит еще в руках размашистую русскую натуру), но благодетельно действует и в отношении нравственном. Мы почти все получали из России одинаковые средства (от 300 до 500 фр<анков> в месяц), но замечательно, что наиболее и наичаще терпели недостаток бобыли, тогда как женатые всегда проживали на те же деньги совершенно безнужно. Парижская гризета — человек удивительно приспособленный к парижской жизни: она практична, экономна и всегда так мастерски сообразит свой семейный бюджет с средствами своего сожителя, что никогда не зарвется, и в день нового получения денег в кармане ее кокетливого передничка еще, верно, будет 10–15 франков, убереженных на случай, если бы новое получение денег почему-нибудь затянулось. Бобыль живет гораздо бестолковее; он проводит свое время не веселее соотчича, живущего с рабочей гризетой, но каждое его удовольствие ему обходится во сто раз дороже: так называемые «свободные гризеты», с которыми он беспрестанно сталкивается, хотя и не такие кровопийцы, как лореты с rue Cadet или Boulevard des Italiens,[13] но все-таки не входят в положение своего односуточного приятеля и не жалеют его. Вообще это уже женщины избалованные и испорченные, которые живут только сегодняшним днем. У нас много раз рассказывали, что в Париже совсем выводится милая порода гризет, что теперешние парижские гризеты в своих нравах ничем не отличаются от лорет. Совершенно понятно, как могло составиться такое мнение у русских о гризетах Латинского квартала.
Русские давно живут в Париже в довольно большом числе; но, до последних лет, русского очень редко можно было встретить в Латинском квартале. Все они держались на той стороне Сены, около ruе de Rivoli и Елисейских полей, где даже вследствие зтого устроился и русский трактир. Мировая известность гризет заманивала прежнего русского обитателя Парижа в кафе и на бальные вечера Латинского квартала, и он здесь набегом искал знакомства с гризетами и, разумеется, в первый же заход сближался с одной из очаровательных «дочерей девиц», а потом, встретив ее на другой вечер с другим, пожалуй, своим же компатриотом, рассказывал: «Нет уже этих честных гризет! Вывелись они. Теперешние гризеты те же лоретки, даже чуть-чуть не вечерние „крючки“». Недавно, через три года после того, как появились в первый раз в печати эти письма, такое мнение еще раз высказал один путешествующий русский романист г. Б—ин. Но это все-таки неправда. Это вздор. Гризеты, настоящие польдекоковские гризеты, существуют в Париже; но хорошую женщину вообще гораздо труднее отыскать, чем худую, и потому не побежит же она сама на такого человека, которому «все едино, абы баба была». С путными гризетами нельзя вести себя, как любят себя вести многие наши туристы. С ними нельзя сводить близкого знакомства таким простым и коротким манером как пробовали это делать наши компатриоты назад тому лет пять. Эти люди, не способные к изучению вглубь чего бы то ни было, а тем менее женщины, судят о женщинах по одной какой-нибудь женщине. Изучая гризет, люди такого сорта обыкновенно ищут связишки с гризетой, и связишки, состроенной кое-как, наскоро. Такие связишки, разумеется, составляются очень легко везде, а в Париже они составляются еще легче, чем где-либо; но и здесь, конечно, скорые и легкие связи составляются с женщинами легкими и общедоступными, с женщинами, составляющими общественную собственность и лишь только по виду сохраняющими некоторую благопристойность. Благопристойность эта так обманчива, что гулящая девочка Латинского квартала ничем, по-видимому, не отличается от всех молодых женщин здешней местности, и поверхностный человек как нельзя легче принимает ее за гризету; но вот обнаруживается ее привычная легкость поведения, и обманутый в своей находке турист начинает сетовать и утверждать, что гризет нет более и что все они обратились в однодневных девчонок. Это столь же достойно внимания, как достойна внимания жалоба человека на неверность женщины, сделавшей измену без борьбы для него самого. Как будто для женщины, изменяющей спокойно одному, не все равно изменить через несколько времени и другому? Как будто ей не все равно переставлять данные множители, лишь бы получалось желанное произведение? Но следует ли из этого, что невозможная или тягостная для многих женщин серьезность чувства уже абсолютно невозможна для всех женщин и что женщина, изменившая раз нелюбимому человеку, непременно изменит и любимому? Эти отзывы о нравах гризет мне напоминают еще хохла, у которого на ярмарке украли сало и который, возвратясь домой, рассказывал, что на ярмарках бывает только «пропажа на салы». Внимательный же человек, живущий и ныне в Латинском квартале, непременно и ныне знает там гризет честных, веселых, работящих и вовсе собою не торгующих. Как ему отрицать это, когда это факт, когда половина французских студентов до сего дня живут с такими женщинами и когда, при всей ветрености характера французского и при всей распущенности русского нрава, гризеты в невозможно короткое время так привязывают к себе своего сожителя, что ему и в ум не приходит расстаться с своей подругою? Она с ним везде, они почти неразлучны дома днем, вечером в кафе или в театре, ночью на бале или в маскараде; но это его нимало не тяготит. Гризета как-то так устраивает, что сожителю ее без нее скучно; он без нее как будто не умеет собою распорядиться. Она сама ведет жизнь чисто парижскую и полночного варвара разом повернет на эту жизнь, так что он покряхтывает, пожимается, но не противоречит и через две недели отлично пляшет под дудку своей Режины или Констанс. Я не касаюсь того, что такое это будет за любовь и можно ли ее даже называть любовью, по классическим понятиям об этом чувстве, но все-таки любовную связь гризеты было бы жестко назвать развратом, не смягчаемым никакими другими хорошими чувствами. Я хочу сказать, что этого нельзя по крайней мере сравнивать с петербургским житьем с содержанкой. Немного требовательному человеку, пристроившемуся к хорошей гризете, живется хорошо, потому что он будет и весел, и сохранен от множства бесполезных трат и невознаградимого ущерба здоровью, которым принебрегает молодость и о котором вздыхает согбенная старость. Он немножко, или даже и не немножко, «в руках», но ручки эти очень хорошенькие и весьма ловко держащие забранные раз вожжи.
Только, опять повторяю, это не те гризеты, с которыми можно в один прием познакомиться до nес plus ultra.[14] Это тоже «дочери девиц», тоже женщины, прошедшие не через одни руки; но они преходили все руки, которые трогались за них прежде вашей руки, вовсе не из денежного расчета, а из сознания неотразимой французской надобности «faire l'amour».[15] Эти гризеты на вид те же самые гризеты, из легкого знакомства с которыми возникло убеждение, что гризеты переродились в лорет; но в основании их нравов, характера и взгляда на жизнь лежит огромная разница. Они так же веселы, остроумны, легки, грациозны и пикантны, как гризета, которую можно пригласить прямо с бала поужинать к Вашету; но их поужинать не пригласите, или если пригласите, то услышите всегда милый, вежливый, но весьма решительный отказ, после которого никакая настойчивость, никакие убеждения места иметь не могут. Гризета, и самая верная своему другу, не обидится, если вы, встретясь с нею на бале и перекинувшись тремя-четырьмя фразами, попотчуете ее тут же стаканом вина или канетом пива: она его здесь выпьет с удовольствием. Она будет очень довольна, если вы предложите ей букет цветов в 50 сантимов; она возьмет его и подумает: какой polisson.[16] Но более ничего, ни, ни, ни. Рабочая гризета на бале и в кафе всегда непременно или со своим «другом», который где-нибудь тут же в двух шагах от нее, или с подругой, которая имеет друга; но она во всяком случае всегда с кавалером. Свободная же гризета редко выходит с бала с тем кавалером, с которым вошла; она часто входит не с тем, с которым выходит, и еще чаще входит совсем одна, а выходит сам-друг сегодня не с тем, с кем вышла вчера, и не с тем, с кем пойдет завтра.
Набегая в Латинский квартал из-за Сены, только и можно достичь короткого знакомства с гризетами одного этого разбора, и по них-то составлено мнение, что гризет более не существует.
Близкие отношения настоящих гризет, т. е. рабочих француженок, с русскими начались только в очень недавнее время, именно с тех пор, как в Париже появился новый ассортимент людей, поставленных в необходимость селиться исключительно в Латинском квартале и жить ни шатко, ни валко, ни на сторону. Люди этого сорта прежде вовсе не ездили за границу и до того мало приготовлены к жизни во Франции, что многие из них с приезда в Париж едва-едва объясняются по-французски и только здесь навостриваются говорить бойко и свободно. Это, сравнительно с прежними русскими посетителями Парижа, все бедняки: неволя сближает их с жизнью Quartier Latin[17] и делает их членами, не чуждыми жизни и всех абитюдов этого своеобычного квартала старого Парижа. Эти русские так не похожи на все то, что до сих пор приезжало сюда из России, что вы беспрестанно слышите удивляющихся гарсонов и лорет:
— Как это все там переменилось у вас в России? — говорят. — Прежде все русские были такие богатые, жили прекрасно, отлично говорили по-французски, а теперь все живут в Латинском квартале, точно как наши студенты, экономничают с гризетами и говорят ужасно плохо.
А дело это самое простое. В Латинском квартале теперь живут русские люди происхождения самого скромного, воспитания казенного, при котором лингвстика не щеголяла, и притом люди средств столь ограниченных, что в доброе старое время, когда один паспорт стоил дороже, чем нынче дорога до Парижа, с этими средствами и подумать было невозможно о житье в Париже.
Что ни время, то и птицы,
Что ни птицы, то и песни.
——
Одновременно с тем, когда в Латинском квартале, завелось население русских бедняков, завелись и не прежние, мимолетные, а прочные, дружественные отношения с ними и молодых французов Латинского квартала и здешних гризет. А стоит заслужить себе хорошую репутацию в мнении одной гризеты, это значит volens-nolens[18] попасть под ее покровительство. Покровительство гризеты может быть выражено разными способами: заботою об устройстве вам удобной квартирки, даже хлопотами о доставлении вам работы, если, это в ее силах, но, во всяком случае (и это прежде всего), о том, чтобы пристроить вас к женщине. Из-под этой опеки она не выпустит вас, пока не «пристроит».
В Quartier живут только гризеты «свободные» да гризеты, имеющие сожителей. «Холостая» гризета рабочая, не желающая и в одиночестве своем сделаться une femme parfaitement libre,[19] а надеющаяся еще иметь «друга», одна почти никогда не живет здесь. Потеряв «друга» или расставшись с ним, она сейчас же почти уходит и из Quartier. Одной ей здесь и дорого, да и неудобно жить. Живучи здесь одна, гризета боится и долгов, и того, чтобы ее занапрасно не сочли femme parfaitement libre. Овдовевшая гризета всегда переселяется или на Batignoles, или в rue St. Jacques, или наконец в faubourg St. Antoine,[20] и оттуда, по инфантерии, ходит ежедневно работать в магазины на boulevard des Italiens или в лавчонки к Nôtre-Dame-de-Lorette.
Эта жизнь несносна француженке. Ей тяжело ходить; у нее Бог знает где уголок, в котором нельзя и повернуться: день ее проходит в скучном магазине, где нельзя смеяться и петь скабрезную песенку; заработок идет на скудную пищу; башмачки носятся; ножки устают; любить некого, не над кем «хозяйничать» — и она плачет, плачет и сквозь свои дробненькие, французские слезы обнимает и целует свою подругу, с которой вдвоем платят десять франков за чердак, неспособный дать свободного помещения одной собаке. Вот тут-то и зарождается мысль о новом счастье сам-друг в Латинском квартале.
В эти каторжные батиньольские норы парижской красоты и бедности не заходит филантропия, потому что тут живут «женщины, способные работать»; но сюда ааходят порок и торговля чужим телом. Порок, идя в эти дощатые стойла, тоже кокетничает; он одевается всегда очень доброй старушкой, но иногда две дружные гризеты узнают его и выгоняют его с позором, а чаще он берет их за руки и, поманивая легким кусочком хлеба, ведет на позор их самих.
Мне иногда кажется, будто Гейне думал об этом положении, когда говорил об одной скверной истории, вспоминая которую всякий раз можно плакать, если лучшего ничего не умеешь сделать. Поверьте, что это сквернейшая из скверных историй, и судя по тому, что эта история так же точно расписывается всякий день в Петербурге, я вижу, что он действительно окно Европы и нимало не остается в долгу у европейской цивилизации с ее экономистами, исправительными заведениями и писателями, наводящими картинами бедствий ужас, после которого остается будто только одно: не оставлять камня на камне (как полагает между прочим и мой литературный приятель Всеволод Крестовский, роман которого «Петербургские трущобы» осмеивается нигилистами единственно по их бестолковости или по слепой зависти, что из них самих никто не сумел написать такой бойкой и так хорошо отвечающей их тенденциям «книги о сытых и голодных»).
Попавшим на Батиньоль одиноким гризетам приходилось бы там и пропадать или попадать в известные заведения; но французы, уничтожив брак в смысле нашего брака, не уничтожили в самих женщинах прирожденной большинству женщин страсти паровать людей, «сватать». У гризеты, плачущей на мансарде в Batignolles или в rue St. Jacques, остались друзья в Латинском квартале, которых очередь плакать пока еще впереди. У людей, с которыми живут эти друзья плачущей гризеты, есть знакомые. В число этих знакомых вдруг поступает новоприбывший русак или другой иностранец. Вечером он встречается на бале в Валантино или в Прадо с гризетою своего нового парижского знакомого. Они ходят, гуляют под руку, болтают. К ним подходят сотни гризет, с своим обыкновенным парижским остроумием и каламбуризмом. Разговор, канеты, кутеж на два франка.
— А где же ваша дама? — спрашивает ветреная и до сих пор не осмотревшаяся подруга вашего нового знакомого.
— Какая дама? У меня нет никакой дамы, — отвечаете вы.
— Никакой дамы? — восклицает нараспев удивленная приятельница вашего знакомого: — Никакой дамы?
— Никакой, — отвечаете вы.
— Vraiment?[21]
— Ну да, никакой.
— Voilà un pauvre diable![22] Режина! Режина! поди, мой друг, сюда! — кричит ваша собеседница.
— Что? — спрашивает, подскакивая, воздушная «дочь девицы».
— У тебя откололась косыночка. Повернись задом.
Гризета поворачивается задом к подруге, а к вам оборачивает свое личико.
Все это делается так просто, так очаровательно ловко, что вам и в ум не приходит, отчего ваша собеседница так долго не может приколоть вовсе нисколько и не откалывавшейся косынки. В вашей славянской голове и мысли нет о том, что это такое затевается, а под маленьким романским черепом явился, созрел и уже приводится в исполнение целый план насчет «устройства» вашего благополучия.
План этот быстр, как быстры и легки все французские соображения, а логика есть давно приготовленная раз и навсегда. Вот эта логика: он знакомый моего друга, следовательно, он хороший человек. Он русский, следовательно, у него есть около четьрехсот франков в месяц: на четыреста франков в месяц можно прожить вдвоем. У него нет дамы, следовательно, он не знает ни одной хорошей гризеты. Режина теперь одна, она хороша как ангел и страдает, а он молод, и его можно целовать с удовольствием — ergo:[23] я их заставлю полюбить друг друга, и нам всем будет еще веселее, чем теперь.
Думаете, что это решение слишком рискованно? Ничуть не бывало. В двадцати случаях это девятнадцать раз удается. Вас не выпустят из-под опеки, а Режину заставят по уши влюбиться в вас латинской любовью: любовью французской гризеты, которая если не осудите за сравнение, имеет все-таки нечто наивное, нечто чистое и общее с любовью русской институтки. Французская женщина вообще очень влюбчива, а сердце гризеты, живущее беспрерывной мыслью о любви, воспламеняется как порох. Не смейтесь над этой любовью; над этим «faire l'amour».[24] В ней мало сознательного; она не имеет основы в признании достоинств любимого человека; она не так глубока, как любовь хорошей, сильно любящей женщины русской; она не расходует сердца, а дает ему в жизни еще десять, даже двадцать раз полюбить и разлюбить таким же точно образом. Но поверьте, что эта женщина не холодно приступает к новому чувству. Оно загорелось в ней оттого, что ей три дня твердит ее подруга: «Бедная Режина! как ты похудела! как ты его любишь! Люби его, дружок мой: он милый такой, и я вижу, как он тебя любит». На четвертый день у Режины уж нет сил мучиться; она уже сама чувствует, что похудала и что она влюблена ужасно. А ее любят или нет? Не знать этого, сомневаться в этом — это ей несносно; она колет иглою свои ручки, наконец с досадой бросит иглу, схватит перышко и напишет на клочке бумажки:
Mousieur!
Si vous pouvez venir me voir au café chantan (rue Dauphine) à 8 h. s., vous me ferez bien plaisir, si non, venez donc chez moi, rue Boudebrie 6, sur le boulevard St. Germain.
Je vous attends ce soir.
Благодаря тому обстоятельству, что в Париже городская почта передает письма очень скоро, этот клочок попадает в руки того, кому он адресован, через полчаса после того, как ему подруга нового знакомого только в десятый раз сказала, что бедная Режиночка исхудала и что она прелестнейшее создание, умница, нетребовательна и, когда не больна, зарабатывает восемьдесят франков в месяц. Вы не поверите, как пугливо вздрогнет эта Режиночка, когда увидит в распахнувшейся двери кафе призванную самой ею мужскую голову, и как маковым цветом вспыхнут ее щечки, когда глаза этой головы станут против ее глаз, а рука пожмет ее крошечную, исколотую иголкой, но все-таки хорошенькую ручку. А если вы не хотите поверить искренности этого испуга и этого румянца стыда и страсти в женщине, любящей Бог знает в который раз, то где же вам поверить упоению тех доказательств ее любви, которые она представит своему новому другу, прежде чем завтра, в десять часов утра, перенесет к нему все свои вещи, т. е. подушечку для шитья, корзиночку с нитками, иголками, ножницами и наперсточком, корзиночку, с которой бегают за печеньем; корзиночку с двумя переменами белья и желтенькую кошечку или черненькую собачку. Все это вместе весит десять фунтов и (кроме кошечки или собачки) прячется на одну полку стенного шкафа так удобно, что прибытие новой жилицы замечается только по кошечке или по собачке да по швейной подушке, привинченной к доске столика или секретаря.
Гризета, значит, переехала и тотчас вступает в хозяйство. Общая страсть их сейчас входить в ваши дела.
Начинается прежде всего расспрос: «Сколько ты получаешь денег? В какие сроки? Сколько у тебя есть? Сколько платишь за комнату, прачке, за лекцию, за вино?» Составляется смета, сколько можно тратить по вечерам. Деньги, нужные на житье, отбираются каким-то таким способом, что рассказать его никак нельзя. Знаю только, что это делается без всяких требований; но, как бы вы ни были круты, упрямы, это все так непременно сделается. Как французы говорят: женщина сделает «крак!», и человек сломан. Недаром Матрена Ананьевна, насмотревшись на француженок, говорила: «Они небось: они не такие, как мы, глупые да простодушные».
Начинается «женатая жизнь» русского латинца, к которой человек привыкает необыкновенно скоро и которою никогда почти не тяготится. По крайней мере, я слышал жалобы на такую жизнь только от одного своего соотчича, тверского помещика, которого мы звали «Собакевичем» и который, действительно, должен непременно доводиться сродни гоголевскому Собакевичу. Ему было непереносимо, что жившая с ним гризета любила Францию, тогда как он любил Палестину и любил рассказывать, что в Иерусалиме отлично моют белье.
Жизнь с гризетой вообще очень легка. Нужно обладать только одним гризетам свойственной натурой, чтобы приручить к себе самого неуломного медведя, взять его на короткие поводья, привязать к себе донельзя более, наполнить собою всю его жизнь, изгоняя из его головы всякую мысль о возможности другой жизни, и в то же время, никогда не поселить в человеке сколько-нибудь глубокого, серьезного чувства, какое способна вызывать у человека с натурою хорошая славянская женщина. Француженка не создает в человеке той любви, при которой любимая женщина становится для нас душой и силой, и сама для себя никогда не поймет той любви, которая слезой немощного покаяния выливается поздней ночью пред одинокой лампадой супружеской спальни и которой никто не видит, которую еще ставят в укор. Ставят в укор и порицание не только люди старые, отжившие, которые говорят: «Зачем увлекалась? поделом мучится, и пустые это страдания», но ставят в укор и те новые люди, которые думают, что чувства, влечения и долг находятся в комбинациях самых простых и несложных; что теория может утешить, когда разрывается сердце, во имя своих теорий требуют от женщины столько геройства, сколько его нет в них самих.
——
Но, кажется, я уже слишком расписался о парижских подругах русской молодежи Латинского квартала и увлекся рассуждениями по поводу новых требований, заявляемых нашей современной женщине новыми русскими людьми. Пора к концу, пора бы кончить с гризетами; но, решившись противоречить людям, утверждавшим, что порода гризет, из которой вышла прелестная гризета Eugène Sue' Rigolette,[26] выродилась в корень и следа не оставила, я должен сказать еще несколько слов о характере нынешних неделимых этой до сих пор существующей породы.
Гризета вообще весела, никогда почти не смотрит вперед и относится к будущему с какою-то отчаянною беспечностью.
— Что ты будешь делать, когда постареешь? — спросил однажды при мне гризету один мой соотечественник.
— Это еще нескоро, мой друг.
— Однако?
— Умру.
— А пока умрешь?
— Пойду в госпиталь.
— А если будешь здорова и стара?
— Ах, какой скучный! Ну, куплю угольев.
Спокойствие, с которым это говорится, вас поражает. Стараясь прозреть, что кроется за этим спокойствием, вы видите только одно — что женщине скучно. Эта ваша робость за ее будущее ее утомляет. Откуда это? Вероятно, от навыка, что вся робость эта и вся заботливость эта есть не заботливость, а добрая фраза, которая действительно очень противна человеку, который понимает, что все это и останется фразой. Гризете больше нравится, чтобы вы никогда не касались в разговорах с нею этих больных вопросов, и она сама этих вопросов не заводит и считает даже такой разговор неделикатностью. Из деликатности же она и вам не говорит прямо, что ей не нравится ваш разговор о старости и о смерти, а только отделывается от этого разговора.
Гризета вообще деликатна необыкновенно и в речах, и в жизни. Она, например, ни за что не стеснит собой: работает тихо или мурлыча себе под нос песенку; вещей ни за что не разбросает; комнату держит в строгом порядке. Не любит, чтобы ее друг работал ночью, потому что это портит ее парижские привычки: с вечера просидеть в шумном кафе, издержать во все время два франка на двух; с полночи спать, задернувшись пологом, чтобы не было капли света. Это ее абитюды, которых ей не соблюдать невозможно. Она всегда очень расчетлива и даже, вернее сказать, немножко скупа. Их считают очень обидчивыми; но и это не верно. Шуткой гризета почти никогда не обижается и прекрасно понимает шутку. Но у нее есть много капризов, и часто совершенно детских капризов: так, она, например, терпеть не может, чтобы при ней говорили на непонятном ей языке, а ей непонятны все языки, кроме французского. Ей не чуждо некоторое знакомство с литературою. Так, она любит, например, читать Виктора Гюго; гордится, если ее русский друг до знакомства с нею гадко говорил по-французски, а живя с нею начал говорить лучше, и она любит его поправлять, особенно при француженках. Вспыльчива, но никогда не дерзка и, вспылив, прежде всего заплачет и надуется. Извинитесь — она не будет знать, как нарадоваться; не извинитесь — подуется часочком долее, подойдет и сама скажет: «Ну полно! Это глупо. Давай помиримся», и опять заплачет, уж Бог знает для чего. Заплакать ей так же легко, как легко утереть ее слезы: одно извинение, одно ласковое слово — и все кончено. Но гризету можно разозлить до неистовства, до бешенства, не говоря ни одного слова. По своей живой натуре она не может долго сердиться и, вспылив, тотчас же сама ищет случая помириться. Равнодушие ее бесит. Это для нее мука, которой она никак не может перенести. Она вся вскипятится, но все-таки дерзости ни за что не скажет. Крайняя степень беснования выразится словами: «изменю».
— А, так ты так! Ты не обращаешь внимания на мои слезы. Хорошо! Я ж тебе изменю.
Промолчите — плакать будет без конца.
Но иногда иных людей это выводит из терпения, и эти иные люди говорят: «Да ну изменяй! изменяй! Кто же тебе мешает?»
Гризета сейчас вон из комнаты. Хлопнет дверью, побежит в одном платье, обежит переулок и через десять минут возвратится, рассказывая, что к ней на улице пристал какой-то негодяй, а в заключение скажет: «Ну полно! Это глупо. Давай помиримся».
Гризета добродушна и легковерна, но в то же время подозрительна и ревнива; но и в ревности своей и в подозрительности она опять-таки тот же милый и жалкий ребенок. Она спокойно отпускает своего друга утром, даже прогоняет его на лекцию или просто поболтаться, потому что терпеть не может, чтобы кто-нибудь вертелся у ней перед глазами, когда она будет «делать комнату». Тут у нее дым коромыслом, и она хочет быть в это время (около часа) непременно одна. Ей, кажется, и в головку не входит, что в это время можно идти совсем не на лекцию.
— Иди, иди вон, — пристает она, пока прогонит-таки человека, несмотря на все его отмаливанья, и пойдет все перетирать да перемывать, чтобы сесть за работу во всем чистеньком. А не придите к завтраку, с которым она ждет в 2 часа, или, Боже спаси, не явитесь в 6 часов, когда нужно идти обедать… ревность, слезы, упреки и все: чего хочешь, того просишь. Этой обиды ей просто снести нельзя. Весь день ваш: посылайте ее куда хотите — она побежит и губки не надует; но к вечеру будьте с ней, а то она несчастна. Очень несчастна, так несчастна, что вы себе этого и представить не можете.
Настоящая рабочая гризета никогда не изменяет своему сожителю, особенно такая, которая говорит: «изменю». Эта уж ни за что не изменит. Да и вообще измена считается редкой вещью. Это все равно что надеть шляпу, т. е. стать на одну ногу с лоретой или «крючком», т. е. женщиной, затрагивающей на улице проходящих мужчин. Но «отбить» человека у подруги, не имея своего, — это можно.
Поэтому гризеты, живущие с русскими, страшно не любят допускать сближения своих сожителей с «холостыми» рабочими гризетами и особенно враждебно относятся к навещающим квартал молодым русским девушкам, горничным елисеевок.
— Не говори на этом дурацком языке, — приставала при мне к своему другу одна гризета, услышав первое русское слово с вошедшей русской девушкой Сашей, о которой я уже нечто рассказывал.
— Полно, пожалуйста, — отбивался компатриот.
— Зачем ты не говоришь по-французски?
— Потому что она не говорит по-французски.
— Она говорит.
— Не говорит.
— Нет, говорит. Все говорят по-французски. Весь мир говорит по-французски.
— Говорите вы, Саша, по-французски?
— Нон, — отвечала землячка.
— Ну, видишь! она понимает. Говори ты по-французски, пусть она отвечает тебе по-вашему.
Начнете разговор; но, разумеется, он не идет, и вы поневоле собьетесь опять на русский. Гризета сейчас поднимается на хитрости.
— Хотите кофе? — спросит гризета Сашу.
— Нон, мерси бьен. Же сюи расазье,[27] — ответит простодушная Саша.
— Ah! ah! Voilà.[28] Вы не хотите при мне говорить; вы надо мною смеетесь; вы обо мне говорите.
Доказать, что кофе по-русски называется так же, как и по-французски, не сразу удастся; но зато всегда можно довести гризету до того, что она извинится перед нашей Сашей, расцелует ее и, пожалуй, еще подарит чепчичек собственной работы.
Я уж вам говорил, что они, кажется, вовсе неспособны к дерзостям, к сожалению, так обыкновенным в некоторых наших женщинах и так в них противным. Много-много что гризета надуется и расплачется, а там опять шелковая.
Раз я видел целую коалицию гризет против одной русской девочки, причем они дошли до верха дерзости, возможной им при их отесаных натурах.
У знакомой читателям Матрены Ананьевны была protégée — Даша, девочка лет восемнадцати. Ее привезла одна княгиня Т—ая в По, разгневалась там на нее за что-то и прогнала. Девочке было хоть в воду, так в ту же пору.
Узнала об этом Матрена Ананьевна и составила лигу из русской прислуги. Составив эту лигу, Матрена Ананьевна причепурилась и является к г-же Т—ой.
— Этак, — говорит, — сударыня, не по-человечески невозможно с женщиною поступать.
Та вспыхнула и на порог Матрене Ананьевне показала; но Матрена Ананьевна не оробела.
— Дайте, — говорит, — сейчас ей денег на дорогу в Россию, или мы все, сколько нас тут есть, пойдем к русскому консулу или напишем письмо к русскому посланнику.
Матрена Ананьевна слыхала нечто о посольствах и думала, что так вот стоит ей обратиться в русское посольство, там сейчас так и слушать ее станут, словно как в прусском выслушивают немца, в английском англичанина, в молдавском молдаванина или волоха. Матрена Ананьевна это преглупо рассуждала, не имея понятия о величии, которое окружает некоторые наши посольства, но, на ее счастье, дама, которой она угрожала посольством, была еще глупее ее: ей тоже померещилось, что иное и русское посольство иногда может вступиться за русского. И вот как она ни смела была, но побоялась скандала и дала 200 франков. Но Дашу с 200 фр. отправить было невозможно, потому что девушка эта не знала ни одного языка и переменять билетов на беспрерывно перекрещивающихся линиях железных дорог не могла, а русского попутчика не случилось. Матрена Ананьевна взяла ее под свое крылышко и нашла ей место у другой русской барыни. Даша приехала в Париж; Матрена Ананьевна, уж тут пристроив ее, приняла о ней родительские попечения и взяла над нею родительскую власть. Она начала называть Дашу «дочкой», на свои деньги ее экипировала, не позволяла никому о ней иначе говорить, как с уважением, и сама беспрестанно называла ее дурой и даже угрожала ей подзагривками. Даша девочка миленькая, жить ей хочется, и она видимо скучает.
— Сведите, батюшка, Дашу мою на бал, — говорит мне Матрена Ананьевна. — Я ее принаряжу: вам стыдно не будет.
— Отчего же нет, сведу, Матрена Ананьевна, с удовольствием сведу.
Приходит Даша вечером — пава павою. Шелковое, тяжелое, густое платье с заткаными лиловыми цветочками — видно, с княжеского плеча; чепчик с лентами, пояс шире Млечного Пути. Ну, думаю себе, потешишь, родная, «французинок»! А знаю, что если сказать это Матрене Ананьевне, обидится страшно. «Что мол, я господ, что ли, хороших не видала, не знаю, что ли, что к чему принадлежит и как надевается».
Как я ввел мою даму, так и пошли оборачиваться.
«Ах, вы, черт вас возьми!» — думаю себе. Усадил ее и потребовал канет. Одна, другая, третья знакомые обсели. Вижу, хотят раззудить меня; а Даша, на несчастье, уже понимала-таки много по-французски.
— Это русская? — спрашивает одна гризета.
— Русская.
— У вас все такие?
— Все.
— О, несчастный!
— Послушайте, mesdames! Это бедная девочка, у ней чужое платье, она скучает, а вы, просвещенные француженки, в вашем Прадо, о котором думают: «вот тут-то деликатности!», вы не умеете или не хотите обласкать ее! — А, думаю себе, была не была, допущу даже политику: — Вот вы бы, — говорю, — посмотрели, как мы принимаем ваших, с какою радостью, с какою любовью! А вам это не стыдно? А вам это не совестно? Чем же, — говорю, — вы лучше англичанки какой-нибудь?
Гризеты переконфузились. У одной была бонбоньерка: апельсин, сигареты. Все, все сейчас Даше, и обласкали ее так, что она сейчас же начала с ними ломить по-французски.
Вообще они народ очень добрый и, что всего милее, народ необыкновенно великодушный и деликатный.
Судя по гризетам, я полагаю, что у французов есть врожденные полицейские способности, и нимало не удивляюсь неподражаемому искусству наполеоновской полиции. Я сказал, что гризета очень подозрительна и ревнива; но в то же время она чрезвычайно легкомысленна и детски хвастлива. Ей мало, что она забрала в руки «варвара»: ей еще нужно показать другим, похвастаться, как она забрала вожжи от крутой славянской морды. Подруги ее навещать станут и станут думать: «А ну мне бы его, чем же я хуже или глупее?» — А там ручку пожать, а там письмо, адресованное в Café de la Rotonde, да и… разное бывает. Имея друга, гризета изменять ему не охотница, но, будучи «холостою», влюбиться готова как порох и наставит рожки приятельнице в одно мгновенье. Особенно с русским, поляком или испанцем. В Латинском Quartier всякого народа молодого гибель, гостей со всех волостей. Целую европейскую этнографию изучить можно.
Англичан гризеты терпеть не могут и только смеются над ними — это старая народная ненависть. Итальянцев тоже очень не любят, а немцев просто не могут переносить: немецкая точность и пунктуальность француза возмущают, и немцы так уж и держатся rue Jacob, где живут эльзасцы.
Гризета, беспрестанно подозревая своего сожителя, нередко пускается шпионить и доходит в этом искусстве до артистизма.
У меня теперь в руке письмо, глядя на которое я хочу вам рассказать некоторое курьезное событие, характеризующее отчасти нравы обитателей Латинского квартала. У меня был приятель, очень хороший молодой человек, лет двадцати восьми или девяти. Он жил с гризетою Габриель, рисовальщицею. Она раскрашивала литографии преимущественно в детских книжках. Девушка была очень милая и довольно умная, но подозрительная до крайности. Жили они вместе в одной комнате уже с полгода, и Габриель держала моего приятеля на коротких вожжах. Он, кажется, от нее не шалил; да и грешно бы было: Габриель была едва ли не самая красивая женщина на всей rue de l'École de Médecine.
Но вдруг к Габриель приехала из Лиона ее младшая сестра Анет, прехорошенькая девочка лет шестнадцати. Как там относился мой земляк к Анете — я не знаю; но они ходили обедать втроем, по вечерам сидели втроем, и жила Анета у них в той же комнате: диванчик там был — ну и довольно. Только на пятый или шестой день по приезде Анеты мой земляк получает по городской почте письмо, и письмо, как вы сейчас увидите, весьма горячее. Дело было часов в 12 дня. Письмо получено при Габриель, но без Анеты, которая в этот день с утра пошла к своей тетке.
Вот что прочел мой земляк в полученном им письме:
Vendredi 10 heures du soir.
Comme je suis triste, mon Dieu! Ami, ce n'est pourtant que depuis trois jours seulement, que je ne vous ai pas vu, et il me semble qu'il у a un siècle que je ne vous ai vu! L'idée, que vous êtes si loin de moi, me fait trouver le temps si long, que je ne garde qu'un vague souvenir de notre relation. Je vous ai connu si peu de temps, que je doute fort que réellement il puisse éxister une vraie et durable amitié entre nos deux coeurs, non, que je vous oublie; mais vous?.. pour le moment vous pensez à moi, mais d'autres relations, le changement des femmes, les nouvelles diversions de vos études, tout cela vous fera bien vite oublier la pauvre N….. Je ne vous en fais pas de reproche, vous avez déja trop fait pour moi. Enfin je ne sais quel est le sort qui m'attend — je suis toute prète à m'y soummettre. Pensez seulement, ami que vous m'avez promis de me rappeler près de vous, que cela soit le plustôt possible, vous me verrez toujours prète à votre voix.
Je suis sûre que vous vous demandez, si j'ai de l'amour pour vous? Je l'ignore je ne sais si le sentiment que j'éprouve pour vous pourrait s'appeler de l'amour, mais je ressentais une grande affection pour vous qui s'augmentait de jour en jour. Vous si bon, si expansif, comment ne pas vous aimer, ah! comme une femme doit être heureuse avec vous! Prenez moi, ami, je vous en prie, je serai si gentille que vous ne vous en repentirez pas, je vous aimerai tant…
C'est drôle tout de mème, je crois, Dieu me pardonne, que maintenant je suis amoureuse de vous. Je me rends bien compte maintenant pourquoi j'était avec vous d'un caractère toujours inégal, — c'est que je vous craignais et vous respectais; l'idée que je m'étais faite que je ne serai jamais votre maîtresse m'avait fait vous considerer comme mon ange tutélaire, — ah! si vous saviez comme je me faisais de douces ullusions!.. presque toute ma poèsie de mes 16 ans m'était revenue… réves et chimères que tout cela!..
Avant de terminer mon ange aimé dites moi le sens de ce mot, que vous avez proponcé plusieurs fois entre vos amis: «Je ne la comprends pas». — Que veux dire ceci, ami, je ne vous comprends pas, expliquez moi — Qu'avez vous à craindre de moi? Nous pouvons parfaitement être heureux ensemble. J'attends donc, cher ami, que vous veuillez bien m'expliquer tous les petits mystères que vous me cachiez et à mon tour je vous dirai bien des choses auquelles je pensais ne vous voyant près de moi.
Vous yoyez que je n'ai aucune idée de vous oublier. Ah! si vraiment vous m'aimez, je ne serai pas longtemps loin de vous…
Enfin je ne peux pas rester sans vous. Si vous avez quelque pitié de moi, ami, mon ange — vous viendrez demain (Samedi) de 4 à 5 heures — au Café des nations en face de l'hotel du Louvre — rue St. Honoré.
Je dois vous у voir!..
Adieu, ami, je voudrais encore vous écrire; mais je baisse pavillon devant ma feuille de papier que ne veut pas me donner de place pour placer mes mots.
Je vous embrasse de tout coeur; à vous pour la vie
Письмо, как вы видите, такого содержания, что надо быть до известной степени стоиком, чтобы не шевельнулось желание пойти. Француз или даже опытный русский латинец, разумеется, не пошел бы — он ждал бы чего-нибудь более основательного — или пошел бы с опасочкой, чтобы, если это окажется шуткою, то иметь шансы отлавировать от нее и выйти не осмеянным; но мы, простоплеты, на все ловимся. И мой приятель, живший в Париже с гризетой, в урочной половине восьмого и ну собираться: «Обедай, — говорит, — Габриель, одна: мне нужно в наше посольство».
— Иди, милый! — говорит Габриель.
Приятель на омнибус, да в Café des nations. Разлетелся в одну залу, в другую: все незнакомые женщины.
Анеты нет. Он далее и наконец в самой дальней, полуосвещенной зале его встретила и обняла… хохочущая Габриель.
— Здравствуй! Здоров ли ваш посланник?
История!
— Обед для двух по четыре франка, — скомандовала Габриель. — Я с тобой обедаю в последний раз и жалеть тебя не хочу. — Слезы.
Земляк просит прощения.
Поплакала и простила.
Конечно, неприятно попасться в такую смешную переделку; но здесь, по крайней мере, хоть есть во всем своя веселость: кто-то черт знает о чем плачет хорошенькими глазками; у кого-то прощения в чем-то просят; далее примиренье, вино, поцелуи, объятья. Все это человеку под старость даже, пожалуй, некоторым образом мило будет вспомнить. А то вот у нас, дома, четыре года спустя после того, как в первый раз были напечатаны эти письма, какая-то веселая компания вздумала помистифицировать одного литератора, бывшего специалистом по женской части при «Отечественных записках». Этот писатель имел привычку думать, что его будто бы где-то кто-то хвалит.
То «один», то «одна» постоянно его превозносили, и наконец эти мифические одни совсем сбили его с толку.
И вот, в видах поощрения его таланта, какие-то забавники начали его хвалить в адресуемых к нему письмах от разных несуществующих женщин. Что специалист по женской части ни напишет — ему похвалы на всех языках, не исключая ни английского, ни персидского; кричат его слову и из сумасшедших домов, и из азиатских посольств; букеты ему присылают, как какой-нибудь хорошенькой танцовщице; фотографий его у него выпрашивают; а он все не догадывается, что его обрядили в шуты, и все это производимое над ним дурачество принимает за чистую монету. Наконец дело дошло до того, что уже инкогнитные дамы на rendez vous[30] его стали приглашать, да еще разом в один и тот же день и в один и тот же час в три пункта — он и тут ничего не понял. Он бегал на эти rendez vous и наткнулся там на толпу каких-то романистов, беллетристов и на какую-то «Печенку», которую ощупывал собственными руками. От всех этих романистов, беллетристов, точно так же, как и от Печенки, он не получил ни радости, ни привета, ни поцелуя, и так и ушел разряженный гороховым шутом.
Сопоставьте с этим случаем русской мистификации французскую мистификацию Габриели, и вы непременно увидите, насколько это грациознее и веселее производится во Франции.
Но от заинтригованного русского специалиста по женской части еще на минуту к гризетам.
Я хочу сказать два слова о гардеробе гризеты: у нее всегда одно платье — или черное шелковое (глясе), или хорошее мериносовое, два летних и драповый бурнус. Платье, сшитое всегда прелестно, с лифом под душу; шелковый передник и сетка на голове или треугольная тюлевая наколочка, пришпиленная у начала пробора и у ушей. Это вам, как говорится, весь туалет.
Потребности гризеты самые умеренные. Ей нужно окно, у которого можно работать; нужно платить прачке за ее белье и в трактире за ее обед. Итого около пятидесяти франков в месяц, т. е. около 12–15 рублей серебром. Есть у вас деньги купить ей башмаки или платьице — прекрасно; а нет — и не нужно. Это уж она сама заработает и этого вовсе не требует и даже не ждет.
День в Латинском квартале начинается очень рано. Зимою в шесть часов по тротуарам раздается уже тяжелое хлопанье деревянных башмаков работников, отправляющихся к своим занятиям. Стук этот меня будил постоянно во все время моего пребывания в Париже. Потом часа с полтора в квартале очень тихо. В это время эписьеры встают, моются, одеваются и открывают свои лавки: мясные, хлебные, рыбные и бакалейные. Вслед за последними запоздавшими работниками, торопливо пробегающими по пустым еще улицам, в дверях домов показываются стереотипные лица толстых привратниц в высоких чепцах, с грязными метлами в руках, а затем по тротуарам, грациозно приподняв юбочки, осторожно, но скоро несутся гризеты. У каждой на руке красивая тростниковая корзиночка с такой же плетеной крышкой. В эту корзину гризета кладет все, что нужно на целый день ей, ее сожителю и ее кошке. На 2 су снятого молока кошке, на 80 сантимов бутылку красного вина, на 30 сантимов хлеба и на 6 су сыра. Это завтрак на всю семью. Гризета вообще встает почти в одно время с торговцами, т. е. как улицы огласятся стуком деревянных работничьих башмаков уврьеров. Туалет гризеты делается очень нескоро. Мытью, перемываниям и перетираниям у нее нет числа. Потом начинается прическа, на вид очень простая, но на самом деле требующая большого мастерства и вкуса; потом осмотреть свое платье; подкрепить что худо или угрожает худобою; наконец развести огня в камине и поставить на уголья кофейник с водою. Все это берет у гризеты времени с шести часов до восьми. К восьми часам она с корзинкою в руке готова к выходу за провизией и только тут будит своего друга. С этого времени, т. е. часов с 8, и начинается утро латинца. Гризета, возвращаясь с провизией, непременно застает его полуокончившим свой туалет, из которого самое неприятное — это умывание, или лучше сказать, обтирание лица, плеч, груди, рук и спины мокрою губкою из одной полоскательной чашки воды. Но однако скоро как-то привыкаешь и к этому и даже находишь такое утреннее обтирание над полоскательною чашкою довольно удобным. Посуда, в которой дают воду для обтирания, не совсем, впрочем, наша полоскательная чашка — их наши русские женщины, смеясь над француженками, так прозвали, — а в самом деле это тазики фарфоровые, но только очень маленькие. В десятом часу или много что в девять, выпив наскоро стакан кофе, латинцы разбегаются по лекциям. Медики уходят из дому ранее всех других, потому что им нужно до теоретических лекций прежде попасть на лекции клинические. До 12 часов в квартирах одиноких Латинцев нет никого; а в квартирах фамильных одни гризеты. В 12 часов русские сходятся завтракать или в Café de la Rotonde и у Martin, или же в двух маленьких трактирчиках на rue Monsieur le Prince или на rue de l'École de Médecine. В час снова расходятся; некоторые забегают домой, а другие прямо на лекции, или в музеи, или куда следует в другие места по роду своих занятий. В пять часов все стягиваются домой. Тут опять кусочек сыра и стакан вина, пока гризета свернет и спрячет сделанную днем работу. Затем под руки и вдвоем обедать. Обеды есть разные. В Quartier есть обед в 4–5 блюд с графином вина ценой за 80 сантимов (около 16 копеек); но я только раз мог есть такой обед: он очень гадок. Французы же очень многие и француженки едят его постоянно и не жалуются, хотя все четыре блюда этого обеда, по удачному выражению одной гризеты, суть «кролики во всех видах». Да иначе этого и быть не может при такой дешевой цене, за которую не пообедаешь у нас в обжорном ряду, а не только в теплом и чистеньком ресторанчике. Обыкновенно русские едят обед в своем квартале по одному франку 50 сантимов у Martin (где я часто ел свой обед, сидя рядом с Мерославским, и где потом этот генерал получил свою политическую оплеуху) или в Palais Royal у Tisso no 2 франка с вином. Обедать в русском трактире нам невозможно. Положим, что езда, при удобстве и дешевизне парижских омнибусов (курс 3 су), не составляет в этом случае никакого препятствия; но в русском трактире слишком русские цены, например 7 франков обед (около 1 р. 75 коп.) Где же русским латинцам платить такую цену! Я только всего раз там обедал. Обед ничего себе, но не русский: блюда здешние только слегка напоминают русские. Квас похож на лимонад, борщ Бог знает на что похож (потому что нет квасу хорошего, без которого нельзя приготовить борща), а черный хлеб уж, кажется, ни на что не похож. Но каша, расстегаи и котлеты были недурны. Прислуга по-русски не говорит. Польских трактиров два: один в Латинском квартале, а другой около rue Richelieu. Первый называется «Ianek truciciel» (Ян-отравитель), второй «Andzejek». У Яна-отравителя есть нельзя: дешево, но скверно до невозможности. Впрочем, бедные студенты-поляки едят. Блюда хотя гадко приготовлены и из дурной провизии, но чисто польской стряпни. Хозяйка сама прислуживает и говорит обыкновенно по-польски; но дочь ее, девочка лет двенадцати, сидящая нередко за буфетом, уже едва говорит на своем родном языке и охотнее объясняется по-французски. Из русских здесь постоянно ел только один наш Собакевич с своей гризетой. Ресторану Андрея, что говорится, нужно «чести приписать». Выбор блюд большой, цена умеренная, провизия отличная, повар — артист своего дела, хотя уже очень старенький. Рассказывают, что он был поваром не то у гр. Браницкого, не то у Чарторижского или у другого какого-то польского магната; заехал сюда случайно в Париж, здесь и остался. Теперь он уже очень стар и имеет помощника француза. Кроме этого старика здесь никто не говорит по-польски; но гарсон Франсуа, молодой, веселый французик, многое понимает и любит ввертывать польские слова. Все у нас умели копировать, как он выкрикивал: «багщ», «зрази с кошон» (вместо zrazy z kasczą) и «полентвица». Человеку, который любит поесть борща, каши и хорошо зажаренного в соку мяса, нигде нельзя так хорошо и дешево есть, как у madame André. За два франка здесь дают четыре сытные польские блюда, с полубутылкой вина или английского портера, и все это дают прекрасно. Я здесь начал обедать через две недели по приезде в Париж, но к концу моего пребывания в Париже должен был отказаться от этого удовольствия, потому что оно стало сопрягаться с неудовольствиями, о которых расскажу ниже. К четырем блюдам обеда вместо пикантной приправы появились политика, косые мины и задорные, оскорбительные для русского национального чувства речи. После обеда русские, как и французы, обыкновенно почти ничего не делают. С 8 часов все или у знакомых в Елисейских полях, или в театрах, или — всего чаще — в кафе, за пивом и газетами.
Самый центральный пункт русского латинства — это Café de la Rotonde, где левый угол за конторкою так уж отвоеван русскими, что французы там почти и не садятся. Второй бильярд наверху тоже называется русским. Приходят сюда и поляки; но они садятся всегда в самый угол, играют в шахматы и никогда с нами ни на слово не сходятся.
В Café de la Rotonde вечером собираются почти все русские Латинского квартала, исключая трех, четырех человек, имеющих зазнобы в Елисейских полях. Шапочно, т. е. на поклонах, мы, русские, между собою почти все были знакомы. А нас было человек пятьдесят, если не более. Но близкое знакомство держалось по кружкам, состоящим человек из семи, из десяти. Как и почему сгруппировались эти кружки — определить невозможно. Ни местность, ни солидарность убеждений, ни однородность занятий не играли в этой группировке никакой роли. Напротив, в каждом маленьком кружке были свои политические враги и люди совершенно различных характеров. Так собьется себе как-то кружочек, и уж друг друга держатся. Наш кружок состоял из десяти человек: я, один депутат тверского дворянства, один ветеринар из Харькова, два молдаванина, московские студенты, казанский студент Ш—ий, студент петербургского лицея Р., Собакевич, студент Се—ков да один скучнейший резонер, либерал и пустозвон, чиновник X—в. Потом с нами были ближе других два университетских профессора да один профессор семинарский; но первый уехал, второй отбился в Елисейские поля, а третий захворал и слег надолго в лазарет.
Обыкновенно мы сходились в café в восемь часов вечера, и сначала все усаживаемся, бывало, внизу, в своем русском (левом) углу. Тут пьем чай или кто хочет проходится по легкому грогу, который стоит не дороже чая, но несравненно лучше гадкого, пареного французского чая. С час идет чтение русских, польских и французских газет. Из русских газет в Café de la Rotonde были «Северная пчела» и «Колокол». В 1863 году выписаны сюда, кроме того, «Московские» и «Петербургские ведомости»; из польских один краковский «Czas», а французские, разумеется, почти все. Русских газет обыкновенно вечером добиться трудно, и их читает кто-нибудь один из своего кружка и рассказывает своим, что прочел. Польский «Czas» всегда читал я, потому что кроме меня из нашего десятка никто не знал по-польски; сведения из всех разноцветных французских газет излагались чаще всего с разных точек зрения Р. и Ш—м. Политические мнения Р. отличались пламенностью, а мнения Ш. — крайнею беспристрастностью и практичностью; к тому же он перечитывал за день решительно все, что с утра до вечера выболтают парижские публицисты. Мы все скоро пристали к мнениям Ш., и на стороне Р. остался он сам да один студент — Се—в. Таким образом, и у нас, в составе десяти человек, явились свои постепеновцы и свои нетерпеливцы.
Споры о теориях бывали жаркие и задушевные, доходившие до того, что беспредельно правдивый и искренний Ш. достиг до дипломатического разрыва с Р., объявив, что «между мнениями их такая разница, что согласить их невозможно». Но повторяю, что это был разрыв дипломатический, потому что Р., при известии о болезни, постигшей Ш—го, был чрезвычайно огорчен и скорбел о нем, и Ш—ий, когда возник один русский скандал, в прекращении которого мы считали нужным принять общее участие, тотчас же пошел к своему дипломатическому врагу. Солидарность полнейшая и решительная, впрочем, выразилась один раз, когда Ш. впервые изложил ясно заявленные газетами покушения на раздробление России с северно-западной стороны и с Украйны… «Домой! Домой ехать! — заговорили все. — Этому не бывать; это уже через край хвачено».
Но что всего оригинальнее, что к этому же патриотическому мнению пристал, и едва ли не жарче всех нас, молодой эмигрант Сахновский.
— Как же вы поедете, Сахновский?
— Как придется.
— Вас ведь поймают, сошлют или расстреляют.
— Нет, меня не узнают. А если и поймают, так все-таки послужу России.
— Да ведь в России то же самое правительство, против которого вы шли?
— Э! да Бог с ним правительство! теперь не время считаться с правительством, когда обижают Россию.
Жил он с двумя поляками — на другой же день разъехался. «Терпенья, — говорит, — нет. Они клевещут на Россию».
Какой-то польский комитет выдавал ему некоторое пособие в вознаграждение за то, что он будто бы отказался стрелять в поляков, — он, при всей своей крайнейшей бедности, даже от этой субсидии отказался.
И как любил тебя, родная Русь, в эти минуты всеобщего на тебя ополчения этот заблудившийся и осужденный сын твой! Как жарко и искренно он хотел умереть за тебя! Как честно он негодовал на себя за свои прошлые увлечения и какими хорошими слезами он плакал о своей отчужденности! Я как теперь его вижу. Он стоял, прислонясь лбом к холодному окошечку своей мансарды, откуда видны были только раскачивавшиеся маковки обнаженных зимними ветрами деревьев Люксембургского сада, и, глотая бежавшие по лицу ручьи слез, говорил о счастье жить на родине; о своем старике-отце, оставшемся при двух дочерях в глухом городке Королевце, и о братишке-кадете.
— Пусть бы дали послужить России в эти минуты и после казнили б, — заключил он, утирая свои честные слезы, на которые ему отвечало только мое слабое слово о надежде, в которую сам я не верил, да завывание ветвей Люксембургского сада.
Дивна, право, ты, матушка натура русского человека!
Воистину велик твой Бог, земля русская!
Наш знакомый кружок, впрочем, был составлен, кажется, в некотором смысле гораздо лучше многих. У нас вовсе не было ни одного из тех скучных и опошлевших донельзя людей, которые в простоте слова не скажут — все с ужимкой, все с жалобами на «опасное положение» со стороны русского жандармского корпуса — положение, жалобы на которое и тогда уже представлялись в значительной степени пошлостью. Не было у нас и смешных трусов, которые во всех и во всем видят покушение на их безопасность в отечестве. Людей первого разбора, конечно, гораздо более; но есть и второй разбор.
Был, например, меж нас один медик, которому нужно было переписать диссертацию.
— Кому бы, — говорит, — отдать? Кто бы взялся за эту работу?
На дворе было — 12 R., а Сахновский ходил в одном сюртучке и, откинув пособие поляков, терпел нужду великую. Я ему дал носить мое дорожное пальто, сшитое евреем в Пинске из косматой польской байки; но в этом пальто решительно невозможно было ходить по Парижу. Сахновскому необходим был хоть какой-нибудь заработок.
— Вот, — говорю, — есть один нуждающийся русский — он не возьмется ли?
Медик переговорил с Сахновским, и условились. Через два дня встречает меня этот медик весь встревоженный.
— Не могу, — говорит, — отдать работы этому господину.
— Отчего?
— Он эмигрант?
— Да.
— Не могу, боюсь.
— Да вам-то чего ж бояться? Ведь обедают же русские у эмигранта Яна. Что же тут общего с политикой, что он вам диссертацию перепишет?
— Не могу — теперь-то оно, знаете, как будто и все ничего, а после думать будешь всякое — не могу.
Так и не отдал.
Но как здесь уже зашла речь о Сахновском, то я думаю рассказать вам, какой он эмигрант. Я, конечно, следственного дела о нем не читал, а буду это рассказывать с живых речей. Выскочив офицериком из кадетского корпуса, не зная ни духа русского солдата, ни народного направления, Сахновский попал в батальон, где солдатикам пробовали давать читать «Полярные звезды». Это, если не ошибаюсь, был расположенный где-то в Польше или в Западном крае второй, кажется, саперный батальон. В этом батальоне собрались три дальновидных и многоопытных офицера: Арнгольд, Сахновский и Сливицкий. Чтобы не отстать от общего в тогдашнее время мечтания «разрушить связь времен», эти молодые офицеры задумали начать со своего батальона освобождение России от ее Государя, правительства и привычки иметь собственность. Вышло, конечно, то, что должно было выйти: солдаты их выдали точно так же, как некогда выдали Шевченку мужики, которым он изъяснял с своей точки зрения тайну зачатия Иисуса Христа. Начался военный суд, приговоривший всех этих трех революционеров к расстрелянию. Арнгольд и Сливицкий расстреляны, а Сахновскому, который был в отпуску во время открытия их заговора, удалось бежать, при посредстве поляков, за границу, и он очутился в Париже. Никаких определенных революционных планов у него не было, и он и его погибшие товарищи, очевидно, были орудием польской партии. Он сам никогда не был врагом России, да и не мог быть им, и все мы, имевшие случай узнать этого человека, этому совершенно верили. Сахновский просто молодой человек, из того несчастливого разбора, который прежде всего и более всего хлопочет заявить, что «он оппозиция». Политической теории он никакой не держится: если поговорить с ним долго, то в голове остается какой-то сумбур. Он самый типичный экземпляр из русских революционеров 1862–1865 годов: он думает, чтобы быть честным, необходимо враждовать против всего устоявшегося, признанного и существующего. Какое хотите создайте идеальное правительство, какие угодно идеальные порядки водворите — все равно: как только это правительство будет признано, станет править и оберегать порядки, люди, к разряду которых принадлежал тогдашний Сахновский, станут ему оппозициею. Когда он раз договорился, каких бы именно порядков он желал на Руси, один из русских преспокойно ему заметил, что он считает его, Сахновского, человеком совершенно безвредным, ибо все, что он говорит, очень уже нелепо, и что самым жестоким дли него наказанием было бы приказать ему произнести все его слова перед его бывшею ротою или перед народом.
— Что ж, вы полагаете, что меня побили бы камнями, как архидиакона Стефана? — спросил Сахновский.
— Нет, вас бы поколотили просто, без всякого соотношения к диакону Стефану, а потом взвязали бы на веревку да и отвели бы к приставу, как отвели Шевченку, который был в тысячу раз вас народнее.
Сахновский немножко рассердился, но вскоре сознался, что читать «Полярные звезды» солдатам было дело действительно весьма неудобное и что бунтовать против нынешнего Государя мужикам и солдатам не из чего, ибо им так хорошо никогда еще не было, и всем этим они обязаны Государю. Из легкомысленных чудачеств, совершенных Сахновским самым спокойным образом, можно составить целый ряд анекдотов. Так вдруг, ни с того ни с сего, вздумал он однажды идти к священникам просить уроков.
— Помилуйте, — говорили ему, — вы только подумайте, Сахновский, в какое положение поставите вы посольских священников? Ведь вы политический преступник!
— Ничего, — говорит, — я знаю, что делаю.
Кажется, еще заподозрил нас в недоброжелательстве, посоветовался с приснопоминаемым П. Ко—чем, и пошли оба к дьякону. Разумеется, ничего из этого не вышло, потому что дьякон, узнав, кто такой Сахновский, указал им порог, и Сахновский долго молчал о своей экскурсии в rue de la Croix; но когда об этом узнали, то он ужасно сердился и обижался на, может быть, и неуместный, но неудержимый смех.
Был еще один чудак, который находил невозможным обедать в одном ресторанчике (у Martin) оттого, что там постоянно обедал Мерославский.
— Да ведь там триста человек обедает.
— Все таки-с, как хотите, а под одной кровлей! под одной кровлей!
— Как вы еще решаетесь жить в Париже? Это тоже не безопасно.
Часам к десяти русские передвигаются к бильярду и играют чаще всего на американские гроги. В это время ни ученых, ни политических споров уже нет. У нас пятеро всегда играли, а остальные сидели у столика вблизи бильярда и потягивали гроги. Кутежей безобразных здесь, собственно, не бывает. Все ведут жизнь довольно трезвую и только изредка бывают в положении «веселом бесконечно».
Раз только я помню вечерок немного пьянее прочих. Это случилось перед выездом одного из наших молдаван, почтеннейшего, милого и благороднейшего Лео—ра. Вечер этот мне памятен по смешной размолвке отъезжавшего с своим земляком. Они все время были большими друзьями и жили вместе в молдавском отеле, у фонтана св. Михаила. Засидевшись в этот вечер, уезжавший подпил, как и все, и после долгих в этот раз разговоров о скуке одинокой жизни замечтался о том, как хорошо человеку жениться, иметь дочь, самому ее воспитывать и, еще не будучи стариком, ходить под руку с семнадцатилетней дочерью. Вдруг ему показалось, что земляк его едко улыбнулся. Он оскорбился «за свою дочь».
— Да ведь у вас еще нет дочери.
— Нет, господа! ведь это ж нечестно с его стороны? Зачем же смеяться над девушкой? Я этого, как отец, снести не могу.
— Да опомнитесь, где же эта девушка? Вы прежде женитесь.
— Нет, как же? Я ее отец. Я должен ее защищать, пока у нее не будет другого защитника. Что он думает, что он мой друг, так ему все можно? Дочь мне ближе всех друзей, и я требую удовлетворения! Да, я удовлетворения требую!
Насилу урезонили нежного родителя, выпили еще за здоровье его будущей дочери, оскорбленной в семнадцатилетнем возрасте, по крайней мере за год до своего рождения, и расстались.
Когда нет маскарадных балов, русские тянутся домой обыкновенно часов в 12 или в час; а когда есть эти бешеные балы, тогда нередко засыпаешь под стук работничьих, деревянных башмаков, возвещающих наступление нового дня.
Что делает русская молодежь за границею вообще — вы частью можете видеть из отчетов, которые она доставляет в министерство народного просвещения и которые министерство и опубликовывает. Без дела не живет никто, и некоторые занимаются даже очень пристально, особенно медики. Но чтобы судить, кто сколько успевает, для этого нужны наблюдательность и многостороннее знакомство с науками, которого я не имею. Знаю, что все мы были одного мнения, что в Париже, кроме Лабуле, слушать было некого. Словно детям читают или выезжают на либеральных фразочках. Медики в этом случае были гораздо счастливее всех прочих; наш ветеринар тоже, кажется, провел свое время в Париже не даром для себя и для ведомства, на счет которого он приехал.
Закоулками я хочу называть дешевенькие балы, трактирчик Андрея, камеру сторожа или швейцара консульской канцелярии и рабочий квартал. О рабочем квартале я буду говорить в совершенно отдельной статье. Вопрос о рабочем населении Парижа, сколько я знаю, из всех бывших в одно со мною время русских более всех интересовал одного меня, и я, пока не знал Парижа, ходил в захолустья рабочего квартала с одним давно живущим здесь поляком, а потом с другим. Но как ни тот, ни другой не переносили долгого пребывания в атмосфере уврьерских таверн, то я, разуверившись в слухах, ходящих об опасности этих притонов нищеты и порока, ходил туда один. Что мне удалось наблюдать там, то нимало не касается русского общества в Париже и составляет предмет совершенно независимый. Я просто хотел изучить и знать рабочий Париж для самого себя, для уяснения себе многих социальных вопросов, в решении которых я колебался.
Балы в Прадо, Валантино и Казино шумны, бешены, на первый раз одуряют, но в миллион раз пристойнее и живее нашего петербургского «Хуторка» и «Минералок», где бывает пьяно и пьяниссимо, но никогда не весело. Рассказывать о парижских баликах я не стану, а те, которых они интересуют, могут прочесть о них статью Ивана Ивановича Панаева, признанного специалистом в делах этого рода. В трактире Андрея мы кормились; но оттуда нас стали выживать поляки. Сделалось это без всякого с нашей стороны повода в то время, как до Парижа дошли довольно ранние слухи о польском восстании. Первые неприятности и неуместные выходки против русских сделал здесь некий поляк, бывший за границею на счет русского министерства народного просвещения. Я помню хорошо эти глупые выходки, и помню и его самого, и помню, как, встретив один раз меня у профессора Ходзько, он очень сконфузился, когда при мне назвали его фамилию. Почтенного профессора Ходзько не хвалит молодая польская партия за его сочувствие панславизму и совершенно спокойное чтение лекций; но все-таки очень многие и из самых молодых людей уважают его как прекрасного человека. Старик встречает поляков, сербов, чехов и русских всегда очень мило, приветливо и необыкновенно радушно. Он представил меня своей жене, и я провел один очень приятный вечер в его почтенном и прелестном семействе. Здесь в тот вечер были чешский поэт Фрич (впоследствии мой хороший приятель) и серб Светозор Антич. Разговор шел о судьбах славянства, и, не помню как, здесь же мы задумали и решились взяться за издание в Париже общеславянского словаря, которого еще нет до сих пор. Старый профессор соглашался принять главную редакцию этого издания и польский отдел, а мы, каждый, отдел своего родного языка. Чтобы издание это было пригодно и для иностранцев, первую колонну хотели писать французскую, вторую русскую, третью польскую, потом сербскую и чешскую. Нейтральный язык, на котором мы все, кроме Антича, говорили в этот вечер, был родной язык хозяина, т. е. польский. В этот вечер я видел первого поляка-панслависта и никогда его не забуду и отовсюду шлю ему мой привет и почтение его честным сединам.
Самый крупный скандал сочинил в Париже П. А. К—ч, называвший себя кандидатом К—ского университета. Он задолжался кругом и, получая хорошие деньги, не хотел платить своих долгов бедным француженкам, у которых жил и которые ему добродушно верили. Он давал самые неблаговидные расписки; назывался чужими именами, употребляя для легчайшего обмана чужие визитные карточки; прибил публично одну гризету, которая не хотела с ним жить; оклеветал одного петербургского литератора Н. Н. Во—ва в гадком поступке, который сделал сам; вел странное знакомство с французской полицией; прибил приюченного в Париже г. Лукошковым бездомного русского студента Сер—ова, в то время когда этот больной бедняк лежал в постели и не мог не только защититься, но не мог даже кликнуть гарсона; наконец, напоил обманом одну четырнадцатилетнюю девочку допьяна и поступил с ней с пьяною, как трущобный князь Шадурский с Бераевой. Так как последнюю историю знал уже весь отель, а следовательно, и все окольные гризеты, то долготерпение русских лопнуло. Они написали пригласительные письма к своим, кого знали, прося их собраться в квартиру этого же нашего офицера г. Лукошкова; а чтобы сходка эта не имела никакого сомнительного характера и не походила на тайное сборище, русские послали также приглашения нашему консулу, его угреватому писарю, обоим священникам, о. Васильеву и о. Прилежаеву, и самому обвиняемому. Консул и его угреватый чиновник, а равно и священники не приехали; обвиняемый тоже не пришел. Сходке был предложен заранее формулированный обвинительный акт. Чиновник X—в, сам первый протестовавший против всякого общения с Ко—чем, взялся быть его адвокатом и, упражняясь в пустом словоизвержении, задал на петербургском либерально-чиновничьем красноречии самый скверный концерт на различные темы о невменяемости. Черт знает как вспомнишь, как рано у нас начались эти концертанты, способные в одно и то же время и нигилистничать и присягать на верность службы, носить и форменный вицмундир и в нем социалистические прокламации. После концерта, данного X—м, начали рассуждать, как быть, как от этого Ко—ча избавиться. Пошли голоса. Одни хотели выбрать депутацию и послать ее к барону Будбергу, с просьбой: силою его власти и положения избавить парижских русских от такого соотчича; другие говорили, что барон Будберг не имеет привычки вступаться в дела русских и что обращаться к нему будет совершенно напрасно, а что Ко—ч за последнее дело просто должен быть отдан французскому суду; третьи, наконец, были такого мнения, что не стоит вовсе затевать никакой истории, а просто попросить Ко—ча уехать из Парижа, и если у него нет денег, то сложиться и дать ему на дорогу. Но в это время кто-то напомнил о его долгах, на которые в руках сходки было расписок франков на 800. За что же потеряют бедные люди, когда он уедет? Пока рассуждали, как все это уладить, является гарсон и вносит деревянный ящичек, запечатанный и адресованный хозяину квартиры, у которого собралась сходка. Что такое? Одни говорят: «не вскрывайте», другие — «вскройте». Распечатали ящик и там нашли самое ругательное, самое гнусное письмо, написанное рукою Ко—ча, и старый осметок сапога. «Посылаю, говорит, к вам, вместо себя, вот мой отопток и вместе с тем доношу посольству, что вы устраиваете суд, на который не имеете права, и собираете в Париже сходку без ведома полиции, что французским законом запрещено». Русские, собранные на сходке, выбрали трех депутатов и поручили им пойти и объявить Ко—чу, что «русские, собравшиеся по его делу, определили считать его подлецом», а хозяина квартиры, где была эта сходка, попросили утром ехать в наше посольство к консулу и к отцу Васильеву и всем им рассказать грязные дела Ко—ча. Депутация исполнила свое поручение, а г-н Лукошков свое. К—ч стал от русских прятаться, а потом и совсем исчез из Парижа. Какое здесь участие приняло посольство и заплатил ли K°—ч хоть часть своих долгов — не знаю. Но он, однако, не сробел, не упал духом и не пропал. Не успели мы повозвращаться в Россию, как он дал сюда голосок из Гамбурга. Он прислал одному из возвратившихся в Петербург членов сходки письмо, в котором извещает, «что, благодаря парижским историям, он очутился в Гамбурге и, досчитывая тридцатую тысячу франков на своем столе, вздумал написать друзьям, выславшим его из Парижа, что славная вещь эта рулетка». Потом он вспомнил обо мне. Не знаю, уж чем я обязан этой внимательности, потому что я его знал менее прочих и в деле его особенно горячего участия не принимал. Но достойно замечания не то, что он меня вспомнил, а как он вспомнил. Достоин замечания самый прием, с которым он ко мне отнесся. Он знал, что я жил в Париже корреспонденциями в политическую газету, — словом, знал, что я литераторствую. Ко—ч был человек совершенно необразованный и неначитанный. Все, что он читал в России, это было «Русское слово» да «Искра», которые во время польского восстания развозились вслед за нашими полками по всему западному краю. Ко—ч не знал духа русских литературных партий. Он думал, что всякий литераторствующий человек в России непременно должен поляковать и исповедовать писаревский принцип: «бей направо и налево, — что уцелеет, то останется». Но если он не знал литературных партий, то он зато отлично знал русские почтовые порядки, при которых никто не может клясться, что полученное им письмо не прочитано почтовым чиновником прежде доставления его адресату. И вот Ко—чу блеснула счастливая мысль компрометировать меня перед правительством посредством письма, в котором будет написано что-то о каких-то выдуманных им моих общих делах с поляками. Он это и сделал: я получил такое письмо. Не знаю, было ли оно вскрыто и прочитано; но я его получил благополучно в те приснопамятные для меня дни, когда я писал начавший уже выходить в журнале роман «Некуда». В то время, когда здесь поборники насильственного переворота печатно и устно упрекали меня в сочинении «подлого» романа, заказанного мне будто бы шефом жандармов, а тогдашняя цензура с ожесточением стригла этот самый роман, вымарывая из него целые главы, получение письма, бросавшего на меня подозрение в революционном общении с поляками, было для меня весьма утешительно: я мог, по крайней мере, смеяться, — смеяться над этим письмом, смеяться над гнусными толками о том, что роман «Некуда» внушен мне известным правительственным учреждением, которое будто купило мое перо для правительства (как будто мое перо не всегда принадлежало России), и радоваться за безграничную либеральность другого учреждения, члены которого, служа правительству, поступали не в одинаковой степени толерантно по отношению ко мне, написавшему роман, неприятный партии беспорядка, и по отношению к писателям, служащим этой партии. Преисполняясь всякого уважения к снисходительности этих лиц по отношению к писателям, исходившим из принципа: «ломай направо и налево», когда они, забывая всякие границы благопристойности, оскорбляли меня за мой роман, я не мог надивиться сугубой строгости, обращенной к моему роману, который удостоился такого внимания, что был отдан на цензуру не одному цензору, а целым трем, и из этих трех каждый усердстовал один за троих. Годы, которые прошли с тех пор, как я оттерзался с романом «Некуда», не помогли мне уяснить себе этих неблаговолений цензуры к моему роману. Напротив, я все становлюсь более и более в тупик, когда шесть честных изданий, из коих два издаются людьми, сидящими за неполитические дела в тюрьмах, до сих пор твердят, что роман «Некуда» есть роман бесчестный, доносчичий и внушенный правительством; когда за границею издана честными людьми этого же сорта книжка, где доказывается, что «Россия была близка к счастливому социально-демократическому перевороту, если бы гнусные и подкупные писатели Писемский и Стебницкий не повредили этому делу, представив нравы и стремления молодого поколения в опошленном виде». А я даже при втором издании «Некуда», в 1866 году, встретил невозможность восстановить места, исключенные цензурою при первом издании!!!
Пусть Бог и более справедливое, более беспристрастное потомство рассудят, что все это должно было значить и как следует подобные явления истолковывать; а мы опять возвратимся к нашему парижскому скандалисту.
Я уже рассказал вам, что Ко—ч не упал духом и ничего не потерпел от изгнания его из Парижа; теперь мне остается вам рассказать, как он потом устроился. Усилия русских довести о поведении этого человека до ведома нашего посольства в Париже не повредили ему нимало в глазах правительственных людей. Напротив, не успел он возвратиться из-за границы, как его сделали помощником секретаря одного из самых высших учреждений в государстве. Ко—чу, будь он терпеливее и умнее, следовало бы только немножко поприудержать себя на новом посту и не давать воли своим способностям, пока он не достигнет степеней известных, на которых и размах шире и кругозор обширнее; но он не утерпел и заявил свои способности очень скоро. Его поймали на ловком деле и как мелкого и нетерпеливого плутишку выгнали вон. Он начал с единому Богу ведомыми целями скупать безнадежные векселя и акции кнауфских горных заводов. Думалось, что уже он совсем пропал; но он налетел на нашего известного художника Мик—на, заполучил ловким образом около двадцати тысяч рублей принадлежавших тому денег и исчез за границею, откуда доднесь о нем нет ни слуха ни духа.
Читая беспрестанно повторяющиеся последнее время случаи самых дерзких преступлений, совершаемых так называемыми образованными людьми, я при каждом таком событии припоминаю Ко—ча, как прототип новых людей этого сорта, и защищавшего его на сходке чиновника X—ва — как образцовый экземпляр бестолковых людей нашего общества, улавливаемых и уловленных злонамеренными людьми на удочку чахлого либерализма, во имя которого на Руси стали бояться быть справедливыми.
Но довольно о Ко—че; перейдем к другому.
Скандальная историйка в трактире вдовы André была таким образом: хожу я туда обедать неделю, другую, месяц, другой, третий и четвертый — все ничего, все прекрасно. Слышу различные толки и вкривь и вкось про Россию, но не вмешиваюсь ни в какие разговоры, съем свой обед, заплачу деньги и иду читать газеты в кабинет Calignani или на Boulevard des Italiens в «литературный зал». Иногда я хаживал в трактирчик André с одним моим знакомым из Польши, который меня и свел первый раз в этот трактир. Ходючи туда вместе, мы за обедом обыкновенно преспокойно разговаривали о самых обыкновенных вещах; но как оба мы говорили между собой по-польски, то нас обоих, вероятно, считали за поляков, и, благодаря тому, никто не обращал на нас никакого особого внимания. Но вдруг из России приехал один русский университетский профессор, большой едун. Как-то раз, разговорясь с ним о том, о сем, добрались мы и до речей об обеде. Я рассказал, что у меня славный и дешевый обед. «Сведите и меня туда», — пристал профессор. Пошли. Мне и в голову не вступало, что мы можем попасть в трактир вдовы André в камфлет со своим русским языком. Войдя, мы это оба почувствовали сейчас же и, усевшись за особый столик, стали говорить как можно тише и как можно меньше. Я заметил, что гости, не раз видавшие меня здесь за обедом, стали вдруг на меня коситься; но мы наскоро пообедали и оба вместе пошли к Calignani. На другой или на третий день, часу в 6-м, мы как-то совершенно случайно сошлись человек пять у одного нашего земляка, и вздумалось всем нам вместе ехать есть борщ к André. Мы и поехали. Сидя на империале омнибуса, мы условились, как придем в трактир, тотчас же взять себе особую комнату, чтобы не стеснять поляков своим присутствием; но все особые комнаты, как назло, были уже заняты, и лишь одна верхняя зала была совершенно пуста. Мы там и сели. В половине нашего обеда за другой стол сели три поляка и, перебросившись между собой двумя, тремя ничтожными фразами, стали хранить мертвое молчание. Они нас слушали. Мы это заметили, но пообедали, не прекращая своего русского разговора, и ушли. Дня через два я опять обедал здесь, один, и, уходя, забыл на столе данный мне чешским поэтом Фричем последний номер чешской газеты «Narodni Listy».[31] Надо полагать, что болтливый Франсуа, найдя мою газету, показывал ее кому-нибудь из своих постоянных посетителей и что по поводу этого было немало толков и соображений, ибо на другой день произошло вот что. Только что я сажусь обедать, все как-то неприятно смолкло и стало внимательно на меня смотреть. Франсуа достал из-за буфета забытую мною вчера газету и подал мне. Я поблагодарил его, пообедал, заплатил деньги и вышел. Выйдя, я тотчас взял направо и зашел в табачную лавку, купил себе сигару и закурил ее. Едва я начал раскуривать сигару, смотрю, возле меня с незажженною сигарою стоит господин, которого я почти всякий день встречал в трактире.
— Позвольте мне огня, — сказал он мне по-польски.
Я передал ему шнурок с газовым рожочком и вышел. Господин нагоняет меня шагов через пятнадцать.
— Извините, пожалуйста, — говорит он по-французски.
— Что прикажете? — отвечал я на том же языке.
— Вы чех?
— Нет, я не чех.
— Поляк?
— И не поляк.
— Но вы говорите по-польски?
— Да… Что вам угодно?
Спутник мой очень затруднялся, как начать объяснение.
— Пусть вас не удивляет то, что я скажу вам.
— Что такое?
— Вы, вероятно, русский? — спросил он опять, после паузы, по-польски.
— Вы отгадали, — отвечал я тоже по-польски, — я русский.
— Отчего вы говорите по-польски? Pan pewno z Zabranego kraja?[32]
— Я из Украины.
— Но вы русский?
— Да, русский, русский.
— Для чего же вы?.. Что вам нравится…
Поляк замялся.
— Сделайте милость, не стесняйтесь. Вас удивляет, зачем я обедаю в польском трактире?
— Да.
— Мне здешний стол нравится. Но, впрочем, я имел бы право на это вам и вовсе не отвечать.
Мы продолжали идти несколько минут молча, по направлению к rue de Rivoli.
Это становилось тяжело и глупо. Я уже думал, не хочет ли мой сопутник взять с меня podatki на польскую справу, по примеру того, как они уже были один раз с меня взяты, в количестве десяти злотых (1 р. 50 к.), в Кракове.
Вошли ко мне утром в номер гостиницы три человека: двое стали у дверей, а третий предъявил мне разграфленную книжку, в которой было написано: «№ 9-й (это был номер, в котором я жил) платит десять злотых». Я спросил: за что это?
— Так следует, — коротко отвечал мне стоявший предо мной гайдук.
Я подумал, что это требуется по какому-нибудь городскому положению, и заплатил.
Гайдук вырвал мне из книги листочек, на котором значилось только одно слово: «Zapłacono»,[33] и со всею своею командою удалился.
По удалении этой честной компании, на досуге я рассмотрел на обороте оставленного мне листка синий штемпель: «Rzond Narodowy»[34] и понял, что с меня взяты podatki na Sprawą polską.[35]
Но в Кракове и в Варшаве такие штуки можно было проделывать, и они проделывались не с одним со мною: такая же штука, сколько мне известно, была сыграна в одном из этих двух городов с уважаемым русским писателем Николаем Васильевичем Бергом. Но ведь все это ловко было делать в городах польских, где все заодно, как сборщики податков, так и слуги отеля, в глаза уверявшие меня, что ко мне никто не приходил; но в Париже, на улице, при ярком газовом освещении… Это невозможно!
«Чего же он хочет? чего он будет добиваться?» — размышлял я, идучи бок о бок с моим молчащим сопутником; но он заговорил, и дело объяснилось.
— Послушайте, — начал мой сопутник, — вы можете меня слушать не обижаясь?
— Извольте.
— Нам это неприятно, что русские ходят в наш ресторанчик.
— Я, — говорю, — не совсем вас понимаю. Что же, мы вам мешаем?
— Это наш трактир.
— Я думаю, что это трактир madame André, и я, и вы, и мои, и ваши соотечественники имеем совершенно одинаковое право быть там. Бывают же там и чехи, и французы, которых я там нередко встречаю.
— Нет, французы здесь хозяева, чехи наши друзья; но русские… Мы ведь к вам не ходим; оставьте же и вы нас в покое. Передайте это вашим соотечественникам. Я вам это советую, и я вас об этом прошу: пусть не выходит неприятностей.
— Я не обещаю вам молчать о вашей странной просьбе и желал бы знать, что вас к ней вынудило.
— Мне кажется, что я говорю с порядочным (porządnym) человеком.
Я вынул мою карточку и подал моему сопутнику, который сунул ее в карман, кажется, даже не взглянув на нее, хотя на тротуаре было очень светло.
— Вы напрасно думаете услыхать что-нибудь интересное: нам просто неприятно, нам неловко быть вместе с русскими; мы там привыкли быть одни и думать, что нас в Москве не слышат.
— Laskawy Panie![36] — сказал я сухо. — Ни я, ни мои земляки, уверяю вас, вовсе не имеем миссии, на которую вы намекаете, и хорошо знаем, что кроме устных ругательств России вы ничего не можете прибавить к статьям «L'Opinion Nationale». Повторяю, мы просто есть ходим, и лучшим доказательством справедливости моих слов служит то, что мы всегда сами от вас удаляемся по углам, куда даже не доходит разговор общей залы.
— Верю; но… все-таки.
— Но что же?
— Выберите себе другое место для обеда. Мы вас просим! Мы вас в избежание неприятностей просим.
Что было еще толковать. Я сказал:
— Хорошо. Я ходить сюда более не буду; но до других мне дела нет.
— Вам угодно знать мое имя?
— Это вовсе не нужно, — отвечал я, и мы раскланялись и разошлись.
После этого курьезного объяснения я уже ни разу не был в польском трактире. Русские, которым я об этом рассказывал, смеялись; некоторые хотели нарочно ходить к Андре, не обращая ни на что внимания, но никто этого, впрочем, не делал.
Вообще в отношении деликатности парижские поляки всегда оставались у нас в долгу и давали нам постоянно превосходить их в политической терпимости. Поляки даже не оставили без «kpinek»[37] наших русских, заказавших себе ужин под новый год у Janka truciciela (Яна-отравителя). Те не знали, куда деться из-за собственного стола.
Говорят, что в «Дне» и «Московских ведомостях» или «Русском вестнике» был рассказан скандал, устроенный одному русскому французскими студентами на балу в Прадо. Я не читал этого рассказа ни в «Дне», ни в «Московских ведомостях», ни в «Колоколе», откуда, говорят, этот рассказ был перепечатан; но, по словам всех читавших это сказание, я вижу, что дело идет о происшествии, которое мне очень известно. Вернувшись в Россию, я уже много раз слышал здесь разуверение в том, что французы сильно косятся на нас за поляков. Здесь, в Петербурге, мне рта не позволяли об этом разинуть и, улыбаясь, твердили мне, что все это вздор, выдумка, клевета на очаровательных французов. Вероятность же события, о котором я поведу речь, наиболее отрицается милыми устами милых русских защитниц всего парижского. Я много раз устно повторял эту историю и называл по именам людей, которые ее видели так же, как и я; но это все не помогало. Теперь я хочу рассказать это печатно, скрепив моею подписью.
Был в Прадо маскарадный бал, как обыкновенно, очень шумный и очень людный. Русских было довольно много: человек двадцать или более; были наши соотечественники, которых я даже не знал и с которыми здесь встретился в первый раз. Около полуночи, когда бал шел во весь парижский разгар, я сидел за левою колоннадою у столика с одним земляком Р. и с двумя нашими знакомыми француженками. Мы пили чай. Одна наша дама встала пройтись и через минуту возвратилась к нам, говоря: «Смотрите, смотрите: с каким-то вашим русским скандал». Она указала на густую кучку кричавших во все горло студентов. Это было шагах в десяти, и я не понимаю, как мы этого прежде не заметили сами. Мы оба встали и бросились в эту кучку.
— Вон! Вон! Варвар! Скот! Вон его! В окно его! — раздавалось в кучке, а ничего не было видно; да и разобрать-то, в чем именно дело, никак было невозможно. Я стал на соломенный табурет и, держась за колонну, увидел следующее.
Тоненький, рыжеватенький человек, весь в поту, с растрепанной прической, вертясь во все стороны, крестился, прижимал к сердцу руки и в чем-то кого-то уверял и клялся; но его не слушали и все поталкивали. Более всех наступал на него огромный студент, одетый мельником. Он попеременно то дергал рыжеватенького человека, то махал у него кулаком перед носом.
— Что он говорит? Что он говорит, Бенуа? — крикнул один громкий голос.
— Он все врет, — отвечал высокий студент. — Он теперь говорит, что он не русский.
— Кто же он?
— Он уже говорит, что он поляк.
— А! Это другое дело. Зачем же он называл себя русским?
— Зачем вы называли себя русским? — загремел высокий студент. — Кто вы, наконец?
— Я поляк, — отвечал рыженький человек.
— Врете!
— Dalibóg polak, polak![38] — заговорил рыженький, прескверно произнося даже эти простые, самые нетрудные польские слова.
— Так вы поляк?
— Polak, jestem polka,[39] — лепетал ободренный рыженький.
— Так к двери же поляка, который называется русским и шляется по балам в такое время, когда надо умирать за родину! — рявкнул студент.
— К двери! К двери негодяя! — подхватила толпа и неудержимою волною погнала рыженького через всю залу, сквозь всех, весьма спокойно, впрочем, стоявших жандармов и выпихнула его за дверь.
Я уверен, что это вовсе не был русский, потому что его никто из всех бывших тут русских не знал. Всего вернее, это был кто-нибудь из батиньольских поляков, родившихся от эмигрантов в Париже. Эти люди, сколько мне удалось встречать их, вообще говорят по-польски очень худо, и именно с тем акцентом, которым говорил прадовский рыженький incognito. Вопрос был только в том, что за мысль ему пришла назваться русским? Дело это я объясняю себе так: разговор, в котором он объявил себя русским, по рассказам, завелся у него с какой-то камелией. Зная, что парижские камелии падки на русские карманы и, вследствие того, оказывают русскому некоторое предпочтение и доверие, ему вздумалось объявить себя русским и пофигурировать с этим именем, рассчитывая воспользоваться легковерием французской камелии и увезти ее; а там пусть, мол, ругает, «przeckletych moskali».[40] А тут подвернулись пьяные студенты со своим политическим задором — ну и пошла история.
Справедливость требует сказать, что почти все соорудившие этот скандал французы были пьянее вина. Все это, говорят, было напечатано в «Колоколе», «Дне» и «Московских ведомостях». А вот чего еще нигде не было напечатано и что также небезынтересно для характеристики очаровательного французского demi-mond'a.[41]
Не успели мы усесться за оставленный нами чай, к нам подходит тот же огромный студент, одетый мельником, и, опершись руками о наш стол, спрашивает:
— А вы кто? Вы какой нации?
Мы посмотрели на него молча.
— Какой вы нации? — возвысив голос, повторил студент.
— Мы русские, — спокойно отвечал ему мой товарищ.
— Га! Русские.
— Да, русские, — подтвердил Р. — Нас тут сто человек. А что такое?
— Ничего.
— Напрасно беспокоились, значит. Да, нас сто человек.
Студент отошел и стал возле ближайшей колонны.
— Фу ты, Господи! — подумали мы. — Да что же это такое в самом деле?
И один из нас подошел к студенту.
— Monsieur!
— Monsieur.
— Что вам было от нас угодно?
— Знать, русские ли вы.
— И только?
— И только. Я ненавижу вас и хотел вам сказать это.
— Благодарим за внимание; но если вы имеете что-нибудь к нашему правительству, то за этим вам следовало бы отнестись не к нам, а к барону Будбергу: он гораздо ответственнее нас за правительство, которого мы не имеем чести представлять.
— Вы угнетаете Польшу.
— Мы вот пьем чай да слушаем лекции. Польша имеет дело с правительством, к которому я только что имел честь вам рекомендовать обратиться через кого следует. Если вы найдете это удобным, то это гораздо действительнее, чем делать дерзости людям, которые вам ничего худого не сделали.
— Всякое правительство всегда впору своему народу.
— Это давно сказано вашим мыслителем, и я нахожу, что это, по отношению к теперешней Франции, весьма справедливо.
Француз отвернулся и ушел.
Через час один из наших стоял в другом углу залы с русским поляком X. и каким-то русским врачом, фамилии которого я не знаю. Мимо них прошел тот же высокий студент, и вслед за этим раздался хохот нескольких человек.
— Вас обсыпали сзади мукою, — сказал одному из них X—ий, несколько довольный, кажется, предчувствием нового скандала.
Но человек, над которым подшутили, знал хорошо нравы публики балов Латинского квартала. Оставаться обсыпанному мукой было невозможно; направляться к выходу, чтобы уйти, значило вызвать свистки, общий хохот и аплодисменты, которые только возвеселят компанию русофоба, потребовать у него объяснения — или дуэль из-за вздора, или гадкая, скандальная ссора. К тому же обидчик мог отпереться, что это не он сделал, и тогда наш соотчич был бы только смешон со своею претензией. На эту парижскую выходку он ответил по-парижски. Он снял с себя сюртук и, держа его в одной руке, преспокойно стал, не спеша, другою обивать платком брошенную в него сзади горсть муки.
— Браво! Браво! — крикнули несколько человек, и дело тем кончилось, к неудовольствию X—го и к удовольствию другого моего земляка.
В этот же вечер студенты оскорбили молоденькую гризету, жившую с одним русским, который вздумал нарядить ее мальчиком в свою красную канаусовую рубашку с косым воротом и в бархатные русские шаровары. Ее выгнали в этом наряде. Этим заканчивается перечень бальных скандалов и вообще перечень всех известных мне парижских скандалов. Еще самый последний скандальчик, который мне вспоминается, был с одним барином, который завез сюда, в качестве гувернера, студента Серова, да здесь и бросил; но тут вступился отец Васильев, погонял барина, говорят, хорошенько, а студенту собрал около 300 франков и отправил его в Россию, где он ныне и обретается. Вообще отцу Васильеву дай Бог здоровья, и что бы о нем ни говорили, а он преполезнейший человек для запропадающего на чужбине соотечественника.
Теперь два слова по поводу одного письма г. Касьянова, которое я прочел в русской газете, живучи в Париже. По мнению г. Касьянова, выходит, кажется, что русское духовенство парижской православной церкви должно бы одеваться здесь, как обыкновенно одевается наше духовенство в России, т. е. в подрясник, рясу и шляпу с широкими полями. Дома наши парижские священники и без того носят рясы; но требовать, чтобы они в них ходили по улицам Парижа, совсем нерезонно. Здесь был русский священник, из Галиции, доктор медицины, отец Терлецкий, человек очень просвещенный, но упрямый чудак. Он нигде не расстается со своей рясой, которая приводит в ярость галицких поляков, и он не расстался с ней в Париже. И что же из этого вышло? Это приносило ему здесь только одни неприятности, конечно, небольшие и неважные, а все-таки неприятности, над ним хохотали и уличные мальчики, и взрослые люди, не привыкшие к одежде греческого духовенства. Что же за расчет всему этому подвергаться? И что такое этим могло быть достигнуто? Полагаю, ничего полезного. Г-ну Касьянову стоит принять во внимание, что англичане, живущие в Париже, отказываются от своих шапочек и пледов, чтобы не быть посмешищем для уличных гаменов, удержать которых нет никакой возможности, и он, верно, согласится, что русское духовенство в Париже имеет основание одеваться так, как оно теперь одевается, т. е. как вы, и я, и целый свет.
Когда я писал первое письмо о русском обществе в Париже, я думал второе письмо написать совсем не так, как я его написал; а писавши второе, я уже совсем не рассчитывал писать третье. Я думал, что сказанного мною довольно для того, чтобы письма мои успели надокучить читателям; но простым, безыскусным письмам моим посчастливилось. Многие из читавших мои письма недовольны, что я остановился с моими рассказами о русском обществе в Париже. «Наобещал, — говорят, — много, а на деле одного чуть коснулся, а о другом совсем ничего не сказал. Где же поповка? Где житье елисеевцев? Мы хотим об этом слышать: пусть допишет и про поповку, и про елисеевцев, и про то, как барыни наши там живут, и как русские теперь с поляками встречаются, и про все, про все». С одной стороны, я рад, что некоторые читатели удостоили мои письма такого приятного внимания, а с другой — мне грустно, что я, при большом с моей стороны желании отвечать на все их вопросы о русском обществе в Париже, никак не могу этого сделать в той мере, в которой им этого желательно. Пусть не винят меня в том, в чем я вовсе не виноват. Я бы душой рад тешить их рассказами о наших безобразниках хоть целые годы, да боюсь вконец раздразнить некоторых парижских гусей, которые и то уже подняли довольно громкий гогот и грозятся мне пощипать меня из своего прекрасного далека. А начать разводить все водою, так и напишешь такую же белиберду, которая в год десять раз заводится то в том, то в другом изданьице под рубриками: «Наши безобразники», «Дома и за границею» и вообще разнообразным пошлым и скучно-глупым враньем в этом роде. Терпеть не могу этих бессодержательных и до конца лживых очерков и не понимаю, как находятся охотники угощать ими благосклонного читателя. Вы, может быть, не поверите, что все это наполовину пишется с давным-давно бродящих за границею анекдотов о русских; а между тем, это верно как 2*2=4. Ну что же это за очерки? Что в них может хоть мало-мальски знакомить домоседа-русака с действительным житьем наших соотчичей за границею? Разумеется, ничего. Это кучерявый вздор, которого, послонявшись по свету с записною книжечкою или с хорошею памятью, можно писать без конца; а читатель, между тем, не берет и в расчет, что самым простым образом рассказать о деяниях русского общества в Париже или где бы то ни было гораздо неудобнее, чем изобразить, как вечный русский купец вечно бьет у Вашета зеркала и потом влюбляется в благонравную девицу, проматывает с нею некоторую почтенную сумму и в заключение узнает, что она камелия с Итальянского бульвара. Поверьте, что если бы наши старики, бывшие лет двадцать тому назад за границею, не ленились писать, то они могли бы удостоверить, что описанные в прошлом и позапрошлом годах «наши безобразники в Париже» безобразничали Бог весть когда и о их безобразиях наши старики слышали уже сто раз, прежде чем их в прошлом году записал подвернувшийся в Париже литературщик. Оттого здесь, дома, у людей, не бывавших за границею, но интересующихся знать, как живут за границею наши русские, вовсе нет об этой жизни даже сколько-нибудь приблизительно верного представления. В настоящем письме, которого я не рассчитывал вовсе писать и которое прошу читателей считать последним, я постараюсь, по мере возможности, удовлетворить вопросам, возникшим со стороны читателей журнала, а по собственному побуждению прибавлю только пару слов о том, чего русское общество не делает в Париже. Это не менее важно для его характеристики, чем самые подробные описания его многоразличных деяний.
Начну ответом:
Я ехал в Париж в первый раз, не имея там ни одного знакомого человека, кроме отца Васильева, с которым лет за пять или за шесть до моей поездки случайно встретился у покойной игуменьи орловского девичьего монастыря. Тогда о. Васильев любезно приглашал меня навестить его, если случится быть в Париже, куда я давно порывался; но сборы мои за границу задерживались тысячью неблагоприятных случайностей, и я имел полнейшее право думать, что земляк мой, отец Васильев, давным-давно забыл о нашем мимолетном знакомстве и о своем любезном приглашении. У меня также не было никаких рекомендаций, кроме письма к сыну одного евангелического пастора, очень молодому господину, учащемуся в Париже медицине. Я ехал в Париж около трех месяцев. При существующих теперь путях сообщения, когда из Петербурга в Париж ездят в два дня, это довольно долго; но это было так. У меня был маршрут, может быть, очень странный и смешной, и во всяком случае маршрут, которым обыкновенно никто до Парижа не следует. Он лежал через всю Литву, по которой я тянулся Бог знает как долго, останавливаясь в Вильне, в Беловеже, Пинске и Домбровице; потом с остановками же я проехал Волынь и перевалился за границу в Радзивилове. Отсюда опять дорога моя лежала не прямо на Вену, как ездят все добрые люди, а на Тарнов, Ясло, Дуклю, Кашау, Эпериес, Мишкольц, Дебречин, Токай, Сольнок, Цеглед, Пешт, Штульвайсенбург, Прагергоф, Лайбах и Триест. Потом мне приходилось колесить по Галиции, западной Польше и Богемии. Я несколько изменял мой маршрут, но все-таки пропутался очень долго и попал месяца через полтора после выезда из Петербурга только в чешскую Прагу. С самого Пинска до Праги я решительно не встречал ни одного русского человека, кроме малороссийских крестьян на Волыни, и постоянно был в сообществе поляков. Тогда время было еще тихое, и даже в воздухе не пахло разразившимися через полгода событиями. Случалось, правда, сталкиваться с людьми, весьма нерасположенными к России и к русским, приходилось видеть и косые мины, и подчас слышать задорные, а всего чаще обидно сухие речи; но, проведя половину моей юности в польском кружке, я всегда умел брать себе положение довольно удобное и избегать щекотливых вопросов. Предчувствие близости революции на всей Литве мне выразил ясно только один человек: это был старый крестьянин, взявшийся перевезти меня с моим товарищем, польским поэтом В. Кор—ским, из Пинска в Домбровицу. Едучи пустынной болотистой дорогой, старик часто вступал с нами в некоторые собеседования и однажды обратился к Кор—скому с вопросом:
— А скажите, будьте ласковы, пане: чи не знаете вы чего, от се нам по селах казакив понаставляли?
— Того понаставляли, — отвечал мой спутник, — что вы все со своими панами (т. е. против своих панов) бунтуетесь, оброков не платите, на панщизну ходить не хотите.
Мужик подумал, почесался, перевалил с плеча на плечо свой колтун и заговорил:
— Нет, се здаетця, пане, щось буцим що не так.
— А как же? — запытал поэт.
— Як? А ось воно як: се наши паны по костелах Бог зна що спивают, а нарочито на нас жалуются, що мы бунтуемось, а у Москви, дила того не разобравши, нам казакив ставят, щоб последнего порося або курку у мужика спонивадили.
— Але даремна то пратца (напрасный труд), — продолжал с энергией старик, оборачивая к нам свое лицо. — Не треба сюда ни яких казакив, ни гармат (пушек); только нам цыкнули бы, мы бы сами всех сих панов наших в мешки бы попаковали да прямо в Москву, або в Питер живых и представили. Нехай их там в образцовый полк, або куда знают, и определят.
Сидя рядом с поляком, которого я имел много оснований уважать за известные мне хорошие стороны его характера, мне было несколько неловко слушать этот проект расправы с его одноплеменниками. Кор—ский же сделал вид, что он этих слов мужика и вовсе не слышит.
В 1862 году я не был свободен от той сентиментальности, которую тогда почти все у нас соблюдали по отношению к наплевавшей нам за наши добрые чувства Польше. Сентиментальности этой во мне не было, пока я десять лет жил в заднепровской Украйне; обзавелся этою сентиментальностью я здесь, в некоторых кружках Петербурга, и жил с нею долгонько, а может быть, дожил бы с нею и до сих пор, если бы видел и знал не более, чем многие другие. Петербургская сентиментальность по отношению к Польше во мне впервые поколебалась во Львове и совсем исчезла в Париже. Во Львове я имел случай наблюдать сильную вражду польской народности к тамошним русским, и здесь мое положение было очень неловко. Русские очень меня обласкали, и я все время моего пребывания во Львове держался исключительно общества, группирующегося около «русского кассино» и редакции львовского «Слова». Редактор «Слова», Богдан Дедицкий, почтенный Яков Федорович Головацкий, отец Терлецкий, бывший редактор прекратившейся уже в то время газеты «Галицкая заря», познакомились со мною в первый же день моего приезда, и — быль не укор, не постыжусь признаться — тогдашние сентиментальные взгляды мои на Польшу немало удивляли этих почтенных людей. Находясь под влиянием тогдашних петербургских веяний, я был склонен думать, что прямое достоинство России в самом деле требует,
Чтобы Финляндию шведам,
А Польшу Замойским отдать.
В первый же день моего приезда во Львов мы вечером долго ходили по Львовскому бульвару с Дедицким, Головацким и Терлецким, и много я, должно быть, дивил этих честных людей, рассказывая им задушевные стремления наших литературных партий. Я говорил им одну святую, чистую правду; но им, с их русскими душами, вероятно, трудно было верить моей правде. Дедицкий и Терлецкий, а в особенности редактор «Галицкой зари» (фамилию которого я решительно не могу вспомнить), советовали мне не спешить на романский Запад, а погостить подольше в славянщине, чтобы поприсмотреться к делам и людям.
— И мы уверяем вас, — говорили они, — что вы станете думать о многом иначе.
Я послушался их: прожил во Львове долее, чем думал, и не жалею об этом. Беспредельно мягкий и симпатичный Головацкий, Дедицкий и кипучий редактор «Галицкой зари» образовывали мой новый взгляд на польский вопрос с мастерством, терпением и любовью людей, привычных иметь дело с человеческими убеждениями. Они снарядили мне провожатого студента, который повел меня во львовский университет, когда там назначены были две пробные лекции: одна на польском, а другая на русском языке. Я пришел и занял с моим провожатым местечко в битком набитой аудитории. Обе лекции сначала прочитаны были по-немецки (для присутствующих здесь профессоров немцев); потом первый из читавших доцентов прочел ту же свою лекцию по-польски. Русские студенты прослушали эту лекцию с полным уважением и к месту и к читающему лицу. Началась лекция русская. При первом же русском слове студенты-поляки зашумели, засуетились и начали толпами выходить из аудитории. Чтения было не слышно, и читавший доцент приостановился, пока за дверьми исчез последний польский студент. Русские были очень обижены, и я с ними.
Я с ранней юности моей жил между поляками, в крае, где польская цивилизация тогда очень уважалась, но где все-таки поляки, хотя по-видимому, не были господами. По крайней мере, они хотя не смели публично обижать русский язык и русскую народность, и мне было незнакомо чувство жгучей боли, когда я увидел их нахальное презрение ко всему этому во Львове. Я дрожал от негодования и от злости.
Вечером, когда я пришел к Дедицкому, он, ничего не говоря, подал мне книжку «Современника» с известною всем статьею «Национальная бестактность». Я знал эту статью, и теперь при одном взгляде на ее заглавие мне стало стыдно. «Национальная бестактность» очевидно принадлежала нам, а не галицким русским. Тут же я прочел корректуру статьи Дедицкого, которая должна была появиться завтрашний день в «Слове». Она касалась польских выходок того дня в университете и дышала такою простотою и такою прямотою стремлений, что я поневоле позавидовал счастью быть писателем, не шатающимся за теориями, а согретым теплотою здорового чувства. Тут не было ни той ловкости, ни того витийства, ни тех иллюзионных намеков, которыми отличалась наша тонкая публицистика тогдашней поры, но был смысл прямой, простой и опирающийся на святые заботы об интересах своего народа. Статьи уважаемого Ив. Серг. Аксакова никогда меня так не согревали, хотя кто же смеет думать, что это статьи не самые искренние. Но мне после часто приходилось чувствовать то же самое, и, конечно, еще с гораздо большею силою, при некоторых горячих статьях Каткова.
Пока я еще оставался во Львове, я начитался там полемики «Gazety Narodowoj» с русским «Словом» (конечно, не с тем, которое издавал г. Благосветлов, а с «Словом» Дедицкого). Гнуснее этой полемики я знаю только полемику двух русских тротуарных листков, редакторы которых называли друг друга жуликами и мазуриками. Интересны также были в читанных мною нумерах «Gazety Narodowoj» письма из Москвы, где рассказывалось, что будто наше духовенство на неделе Пасхи, перепившись допьяна, пляшет в Москве на Красной площади и что в этих оргиях не безучастными остаются сами архиереи и чуть ли не митрополит. Это пренаглая и прелживая газетчонка.
Я познакомился также со многими людьми и украйнофильской партии (между которыми тогда был, кажется, и г. Ливчак). Эта партия мне не понравилась. Все люди этой партии, преимущественно очень молодые, копировали отца Терлецкого, не имея ни ума, ни образованности, ни опытности, ни замечательных дарований этого замечательного человека.
Так то с теми, то с другими я во Львове жил все с людьми русскими, и (как мне сдавалось) я здесь за десять или за двенадцать дней обрусел более, чем за 28 лет жизни в моей теоретической России. Зато с минуты моего отъезда из Львова я опять очутился в исключительном обществе поляков. В самом вагоне шедшего в Краков поезда я познакомился с Б. З—ским; в Кракове жил с ним в одном отеле и с ним же доехал до Праги, где опять жили вместе. Благодаря ему, я познакомился в Праге с г. Грегером, редактором газеты «Narodni Listy», который тогда тоже приполяковывал, как и все, и с иезуитом ксендзом-каноником Штульцем, редактором «Pozora», газеты, которая уже совсем была польско-клерикальным органом на чешском языке. Оба эти редактора, и Штульц и Грегер, тогда уже были присуждены австрийским правительством к тюремному заключению, но еще находились на свободе. Через них я уже перезнакомился с другими чешскими литераторами: Тонером, Колером, Эрбеном, Паляцким, старичком Пуркиньи, профессором Запом, известным русофилом Иезберою, одною весьма замечательною молодою чешскою девушкою Жозефиною Моурек (знающею наш русский язык) и со многими другими более или менее замечательными людьми чешской Праги. Обжился я здесь очень скоро, ходил пешком в горы с Тонером, редактором «Oswiaty» (которого фамилию теперь забыл) и молодым князем Кауницем, который в это время был искреннейшим чехом и молодецки осушал с нами кружки вкусного чешского пива, восклицая: «Niech zyje mater nascza Slawa!».[42] Молодой аристократ князь Кауниц находился тогда в переделке, из рода тех переделок, каким у нас подвергались в это же время многие сыновья и дочери князей, графов, сенаторов и откупщиков, т. е. их добрые люди взялись перегинать на другой салтык. Но было бы оскорбительно и для князя Кауница, и для демократической компании, с которой он водился, чтобы сказать, что с ними его друзья делали как раз то же, что проделывали наши демократы с князем Гол—ым и с княжною Дол—кою. Тут нет ничего и подобного. Демократизм чешский — истинный демократизм, и притом чехи — демократы, которые, по гейновскому выражению, уже успели «вычесаться и сходить в баню»; а это, как известно, весьма много значит. Чехи такие истинные демократы, что им не нужны уже никакие форменные отлички: они не боятся ни чистых рук, ни длинных женских волос, ни красиво сшитых платьев, ни отвлеченных наук. Молодой князь Кауниц, попав в кружок таких вымытых и образованных демократов, почувствовал некоторый вкус к демократизму и во все время, когда я знал его, всею душою прилежал к народной партии чешской (которая всегда есть партия демократическая). Князь Кауниц в то время видимо находился под сильным влиянием своего молодого воспитателя чеха, с которым был в приятельских отношениях мой знакомый литератор Тонер. Молодого Кауница научили любить чешский народ, но не научили его ни манкировать семейными отношениями, ни глумиться над прошедшею карьерою его высоких в австрийской иерархии предков; ни смеяться над верованиями его религиозной матери. Словом, переделывая этого юного аристократа в демократы, в нем оставили все то, что должно составлять человека, к какой бы он ни принадлежал партии (кроме разве партии Тугов, или душителей).
По возвращении своем из пешего путешествия с Кауницем, Тонером и редактором «Oswiaty», я опять еще долго жил в Праге; бывал всякий вечер в «мещанской чешской беседе», учился по-чешски, перевел две небольшие вещицы с чешского языка на русский и напечатал их в одном из петербургских изданий, — словом, я сжился с чехами и к отъезду из Праги в Париж имел уже возможность располагать несколькими рекомендациями отсюда к чехам и полякам, живущим в Париже. Польские рекомендации были даны мне к лицам аристократически-клерикального кружка; но как я к людям этого кружка непреодолимого влечения не чувствую, то доставил эти письма через вторые руки и сам не являлся к особам, которым меня рекомендовали. Был я с рекомендательным письмом от каноника Штульца у одной дамы, которая называется дюшессой Залесской, но встретил ее выходившею из дома с молитвенником. Я подал ей письмо каноника Штульца, она его пробежала и просила меня бывать у нее, но я у нее ни разу не был. Одно, что я могу сказать об этой дюшессе Залесской, что это была красавица, которой не только равной, но даже подобной, я думаю, невозможно встретить на свете. Глядя на эту высокую, стройную женщину, с огромными, как у Титании Оберона, голубыми глазами и детскими русыми кудрями около неописуемой красоты лица, пока она, опершись рукою о балюстраду лестницы, пробегала поданную мной записку пражского иезуита, я молился ей как гению красоты. Это был небесный ангел, слетевший на землю, и, я думаю, созерцай ее сам Базаров, он заметил бы в ней не одно только «богатое тело», остановившее на себе его внимание в Одинцовой.
Дорогая родина моя! Прости мне мою измену, мою зависть злейшим и довечным врагам твоим! Созерцая дам твоей холодной столицы, я никогда не могу без зависти вспоминать красоту женщин знакомых мне самых маленьких городков Польши и, слушая умные речи некоторых твоих официальных людей, не могу не завидовать горячему и простому патриотизму усатого, застенкового польского шляхтича.
От первой зависти моей я надеюсь скоро освободиться, потому что зоркий глаз скоро уже станет замечать серебряные нити, начинающие сверкать в висках моих; но вторая… Боюсь, что мне не суждено дожить до того, чтобы увидать в людях страны моей столько же любви к существующей России, сколько есть этой любви в сердце каждого поляка для его несуществующей Польши. Великий Бог земли русской! Дай мне в этом ошибиться во славу страны моей.
В Париже я опять зазнал многих поляков, и волею-неволею, живучи с некоторыми из них в близком соседстве, я знал многое, что у них делается. Не нужно было иметь особой проницательности, чтобы не видать, что все мои соседи, и сами, и посещающие их гости, люди политические. Беспрестанные приезды и отъезды, беспрестанно прибывавшие новые люди из России и из Польши, посылка гарсона в русское посольство для визирования вечно одних и тех же двух или трех русских паспортов, с которыми один познанский поляк уедет, другой, галицкий, приедет, образцы сборных ружей и пуль, — все это утверждало меня в том мнении, что соседи мои живут в Париже не для лекций и не для удовольствий. Впоследствии, через год после моего возвращения в Россию, я имел случай в этом положительно удостовериться, прочитав в газетах приговор о сыне пастора Маврикие Ла—ре, который был одно время революционным начальником города Варшавы. В Париже этот молодой человек (кандидат Петербургского университета) был самым ближайшим моим соседом, и его-то я менее всех из знаемых мною поляков мог считать годным для революции. Правда, что он к России относился недружелюбно, но это уж у них было общее правило; но он был неженка, селадон и щеголь и вдобавок ко всему этому, будучи сам лютеранином, терпеть не мог католическое духовенство. С чехами я сошелся в Париже скорее, чем со всеми, и, как они, несмотря на свое, неприятное полякам, тяготение к общеславянской федерации, обыкновенно близко держатся польского общества и ласкают поляков, то все-таки вышло так, что, прежде чем сойтись с русским обществом в Париже, я опять и здесь через чехов сошелся еще больше с поляками. Отсюда мое знакомство со многими парижскими обитателями этих двух народностей, на основании которого я изложу вам мои наблюдения сначала об отношении наших к полякам, а потом, кстати, и к чехам и к другим славянам, имеющим своих представителей в Париже.
Я не могу ничего говорить об отношениях Чарторыжского, Замойского и других представителей аристократической Польши к дипломатическим представителям русских интересов в Париже, потому что не знаю. Слухи большею частью утверждали большое значение князя Чарторыжского при дворе Наполеона и малозначительность при этом дворе барона Будберга. Это мнение поляков поддерживали и французы, обыкновенно противопоставлявшие значению нынешнего русского посла значение гр. Киселева, которого имя здесь до сих пор произносится с большим уважением. Впрочем, и эти слухи очень редки. Они обыкновенно расходятся после какого-нибудь раута в тюльерийском дворце. В основание толков обыкновенно берутся поклон, улыбка, ласковое слово, сказанное императором Наполеоном Чарторыжскому, и те же проявления в его отношениях к русскому послу. Весьма понятно, что все это очень часто преувеличивается в ту или другую сторону — смотря по симпатиям распространяющего новость, — и на этих завиральных пустяках строятся разнообразные политические предположения, столь же мало понятные, сколь непонятны улыбки, появляющиеся на бледном, безжизненном лице тюльерийского хозяина. Я видел лицо французского императора два раза, и один из этих двух раз, при церемонии, с которою он открывал бульвар принца Евгения, я видел Наполеона III весьма близко. Я не сводил моих глаз с его лица и должен признаться, что никогда не видал ничего столь страшного, как лицо этого государя. Это лицо кадавра с открытыми глазами, которые смотрят устало и в то же время пронзительно. Ни одна тонкая черта этого лица не движется; ни один его мускул не шевелится. По этому-то лицу поляки определяют повороты политики в свою или не в свою сторону, точно Наполеон только о них и думает. Улыбнулся Наполеон, ус пальцами тронул, все уже это слагается универсально в пользу Польши. Прежде всех эти тоненькие значки наполеоновского расположения, в котором он всех приучил беспрестанно ошибаться, телеграфируются из тюльерийских апартаментов полякам. Еще ни одна парижская газета не успеет сказать, чтό было вчера на бале у императора, а уж поляки, даже в нашем Латинском квартале знают jak и со[43] было вчера в «Тюлериях», как они называют обыкновенно Тюльери. Русские узнают придворные новости или из вечерних газет, на другой день после бала, или же от знакомых поляков. Сами наши русские, по обыкновению, всем подобным очень мало интересуются. Сведения газетные, конечно, бывают гораздо тоще и скромнее устных толков, при которых на всякую тему являются тысячи вариаций, а из каждой вариации возникают, в свою очередь, тысячи предположений. Судя по этим новостям, несчастная страсть поляков обращать свои взоры на тюрьерийский флюгер то разгорается огнем самых пламенных надежд, то раскаливается сдержанною злобою, но никогда совсем не угасает. Я знаю очень мало поляков, не верующих в искреннее сочувствие Наполеона Польше и в его готовность помочь польским национальным интересам; большинство же парижских поляков не сводят своих мысленных очей с французского императора, и если иногда приходят в отчаяние и в этом отчаянии говорят: «Бог с ним! Ничего он для нас не сделает!», то это говорят только под минутным впечатлением. Малейшего атома самой казенной теплоты в выражении французского «Монитера» по какому-нибудь польскому вопросу совершенно довольно, чтобы заставить всех этих людей снова стать бонапартистами, жарче коренных бонапартистов императорской Франции. Сколько светлых и великих умов, обсуждая высокое значение Мицкевича в истории славянской литературы, становились в тупик перед его «Ad Napoleonem III, Caesarem Augustum ode in Bomersundum captum»![44]
Поистине все это непостижимо, и если такое направление в Мицкевиче можно изъяснять вообще его странным мистическим настроением в последние годы его жизни, то чем же изъяснить наследственное увлечение всей нации? А кто бы что ни говорил, увлечение это слишком сильно, и — что всего страннее — от него не свободны даже те, которые говорят и пишут, что им не следует ни на кого надеяться кроме себя, а на Наполеона III всех менее. Мои соседи, например, все были люди молодые и большею частью весьма хорошо воспитанные. К Франции они стремились всей душой, но о Наполеоне говорить не могли без ругательной приправы. Такого глубокого презрения и такого искреннего желания галльскому цезарю всех зол и напастей я не слыхал ни от одного парижского студента, когда зимою 1863 года стоял в числе любопытных в толпе, передние ряды которой неукротимыми волнами напирали на дверь École de Médecine,[45] угрожая сбросить бюст Августа. А между тем я слышал, как и в моих соседях дрогнула наполеоновская польская жилка. Вы, я думаю, помните слухи, разнесшиеся в Париже по поводу отсрочки дня, назначенного для открытия бульвара принца Евгения. Помнится, я читал об этом какую-то корреспонденцию в одной из петербургских газет. Об этом заговорили в один прекрасный вечер, часу в пятом, а часу в седьмом ко мне входит моя хозяйка, добрейшая и честнейшая старуха, женщина весьма умная и осторожная, но крайняя республиканка и демократка.
— Слышали? — говорит, а сама вся, вижу, в восторженной ажитации.
— Что такое?
— Подкопались под то место, где будет стоять император при открытии бульвара, и подкатили восемь бочонков пороха.
Я было не верил.
— Нет, — уверяет, — это верно: потому и открытие бульвара отложено.
Вечером я был в кафе: там только об этом и шептались. Правда ли это была или нет, я до сих пор ничего не знаю, да и узнать этого невозможно; но что-то все эти толки о пороховой мине под императора очень скоро затихли, и бульвар открылся совершенно благополучно. Единственным злополучием при этом торжестве был арест нашего чудотвора Поля Ко—ча, учинившего при сем торжестве скандал. Многие умеющие понимать парижские мистерии по едва заметным приметам полагали, однако, что в это время что-то такое да в самом деле было неладно насчет императорского спокойствия. В спокойно-ловкой наружной парижской полиции заметна была какая-то особенно оживленная внимательность: число загадочных личностей с рюмкообразными бородками по кафе и ресторанам заметно возрастало, и вдруг узнаем, что ночью произведено несколько обысков и нескольков лиц арестовано. Так как поляки обыкновенно прежде всех и лучше всех знают подробности подобных новостей, то я сейчас же отправлялся к моим соседям.
Поляки были очень не в духе и не разговорчивы.
— Ничего, — говорят, — не знаем: были аресты, но более ничего не известно.
Заходит ко мне один земляк и рассказывает, что в числе арестованных есть несколько поляков, не помню теперь — пять, не то шесть человек. Этим известием мне объяснилось нерасположение моих соседей к разговору об арестах. Три-четыре человека поляков, которых мне случилось видеть в этот же день, позже, тоже были очень грустны: но потом к вечеру вдруг все просияло. Разошелся слух, что обыск у поляков был произведен по ходатайству русского посла, что у одного из обысканных найдены значительная общественная сумма и важные бумаги, вследствие которых и произведены все аресты. Об этом говорили много и долго, и даже, кажется, писали, не то в галицийских, не то в богемских газетах. Но вдруг опять из других источников оказывается, что распущенный слух про участие в этом деле барона Будберга есть слух ложный. Слух этот сочинили и распустили сами поляки, на что у них вообще необыкновенно быстрые способности. На самом же деле вышло, что арестованные поляки взяты за обнаруженное участие их в каком-то чисто французском заговорчике против императора Наполеона. Поляки опять приуныли, и мои соседи в том числе. «Это черт знает что за болваны, чтоб так вредить своему делу!» — заговорили они об арестованных.
— За что вы их браните? Ведь они действовали в ваших интересах, — отвечаешь, бывало, на эти замечания.
— Помилуйте, какое нам дело до Наполеона! Мы здесь гости, мы пилигримы, и одна Франция дает нам угол.
— Да ведь вы же любите Францию?
— Да.
— Считаете народ французский своим прирожденным союзником?
— Ну да, да! Потому-то мы и должны беречь Наполеона.
— Но ведь этот самый Наполеон лишает французский народ и возможности устроить свое счастье, и возможности стать за ваше дело?
— Да… то есть, как сказать? Ну да, лишает.
— Ну, вот они хотели устранить Наполеона и как врага французского народа, и как препятствие к выигрышу вашего дела.
— Нет, помилуйте! Что нам за дело до Наполеона! Мы здесь пилигримы, мы гости! Что нам мешаться не в свое! Зачем вредить себе в общественном мнении!
Но в заботах об общественном мнении, собственно, нет страха о том, что подумает французское общество. Такой страх был бы смешон, и ему не поверит человек, проживший в Париже хоть один месяц. Всякий знает, что император давно не пользуется сочувствием всех просвещенных людей своей страны и что число его доброжелателей гораздо малочисленнее великого числа его молчащих и осторожных врагов. Заботы поляков были собственно о мнении Наполеона, и хотя это, мне кажется, не требует много доказательств, но в подкрепление моих слов я могу кое-что рассказать. Как только разнесся новый слух, что арестованные, через несколько же дней после их ареста, были французским правительством благополучно отвезены за границу и пущены на все четыре стороны, поляки совсем успокоились насчет общественного мнения и даже находили неудобным говорить о Наполеоне в том тоне, в котором говорили до этого события. Тут после этой истории нередко приходилось слышать кое-что и о Чарторыжском и о пользе его близких отношений с тюльерийским двором. Многие приписывали непосредственному влиянию Чарторыжского счастливый для арестантов оборот дела и опять рассказывали о каких-то столкновениях его с русским послом; но я ничего этого хорошенько не помню и более ничего не знаю о кружке Чарторыжского, составляющем, так сказать, представительство революционной аристократической Польши при дворе французского императора. Как они встречаются с русскими дипломатами — про то нашему брату по штату знать не положено. А с русскими людьми, не имеющими официального, и при том выгодного официального положения, едва ли у поляков этого круга могут быть хоть какие-нибудь отношения.
Русских обитателей Парижа по местностям, в которых они располагаются, я делил на елисеевцев и латинцев. Поляков нельзя делить на такое небольшое количество групп: поляков можно встретить живущими почти во всех концах Парижа, но наиболее густое польское население находится преимущественно на Батиньоле; около Пале-рояля, где живет принц Наполеон; в Латинском квартале и, наконец, в предместье Святого Антония. В Батиньоле очень много поляков; в Латинском квартале их значительно менее; около Пале-рояля присутствие их чувствуется еще менее, и они тут живут разбросанно и по весьма неблизким местностям той стороны, например, от quai d'Orléans[46] до rue Chaillot, а в предместье Св. Антония они живут тесно, смешиваясь с французами, и даже утрачивают здесь многие отличительные черты своей национальности. В Батиньоле помещается известная польская школа, содержащаяся на счет французского правительства. Около этой школы живут поляки-ученики, поляки-родители, воспитывающие детей в батиньольской школе, молодежь, окончившая курс и ожидающая каких-нибудь занятий, старички, присевшие раз в Батиньоле, да так тут и оставшиеся, и вообще все поляки самого недостаточного состояния, пробивающиеся в Париже с самыми ограниченными средствами, доходящими minimum до тридцати франков (около 7 р.) в месяц. Батиньольские поляки без всякого сравнения беднее русских и особенно польских латинцев. Польский кружок, тяготеющий к Пале-роялю, состоит исключительно из заезжих или прочно здесь водворившихся польских магнатов, находящихся или в непосредственных сношениях с принцем Наполеоном, или, по крайней мере, в отношениях, близких к людям, окружающим принца Наполеона. Кроме магнатов здесь живет тот ассортимент польского общества, из которого состоят наши елисеевцы, т. е. зажиточные польские помещики. Кто из них побогаче, те держатся ближе к Пале-Роялю, по улицам Ришелье и Риволи, а кто живет с меньшими достатками, те размещаются подальше, но все-таки постоянно тяготея к Пале-роялю. В Латинском квартале селится постоянно одна молодежь, слушающая лекции в Collège de France, École du Droit[47] или École de Médecine да хорошо обеспеченные, а иногда и довольно богатые праздные польские «kawalery».[48] Это праздные холостяки из ожиревшей усатой шляхты, включительно от двадцати пяти до пятидесяти пяти лет. Они почти все крепостники, секуны и развратники, эмигрировавшие в «землю — мать людской свободы» не по политическим причинам, а потому, что в России, где они нажили свои деньги, нельзя стало продавать и покупать людей, нельзя их сечь и бить по-прежнему и нельзя по-прежнему устраивать крепостных гаремов. В Cour du Commerce у Janka Truciciela[49] бывают еще странные, испитые, бледные личности, которых обыкновенно нигде не встречаешь среди дня — ни в аудиториях, ни на улицах, ни в кафе. Это польские студенты, не имеющие решительно никаких собственных средств и живущие пособиями польского комитета о бедных соотчичах, да люди, которых неблагоприятные обстоятельства тяжелой пилигримской жизни заставили на старости лет учиться жить непривычным и плохо вознаграждаемым трудом. Тут есть позолотчики и чаще всего переплетчики, держащиеся польской книжной торговли в rue de Seine да прекрасной польской библиотеки на Орлеанской набережной. Кроме того здесь же можно встретить несколько бедных поляков, занимающихся секретною продажею вразноску папирос, которые они делают из контрабандного турецкого табаку. Турецкого табаку в открытой торговле нет в Париже, и он продается здесь контрабандным образом прислугою одного восточного посланника, и более его достать негде. Впрочем, хотя торговля эта под посольским флагом идет безданно-беспошлинно, но турецкий табак самого невысокого сорта в Париже все-таки продается по десяти франков за ливр. Тяжелых работ никто из неимущих поляков Латинского квартала не исполняет, и больше пробиваются субсидиями да «гандлем» (торгашеством). Зато тяжелые работы составляют исключительную профессию поляков предместья St. Antoine. Это совсем настоящие работники, в поте лица своего ядущие хлеб свой. О них мы в свое время поговорим, ибо быт их представляет очень много интересного. Еще есть одна польская группа, собранная около St. Sulpice, но эта по преимуществу женская группа не очень велика, и к тому же эти польские мироносицы не принадлежат миру сему, а отцам-иезуитам, так что о них и распространяться нечего. Это или лицемерные ханжи, или искренние фанатички, каких часто производит католицизм иезуитский, парящий над rue Ferou, Canivet, Servandoni и Caserne.
Таким образом, по-моему, польское общество в Париже, не считая биготок Св. Сульпиция, можно делить на четыре главные группы: а) пале-рояльская, b) батинъолъская, с) латинская и d) полъские работники в предместье Св. Антония.
Самое положение этих групп показывает, что отношения их к русскому обществу в Париже не могут быть одинаковы. Об отношениях пале-рояльских поляков (разумея здесь магнатство и богатейшие из фамилий, живущих на тюльерийской стороне Сены) я уже говорил в начале письма и снова возвращаться к ним не считаю нужным. Об отношениях польских богачей меньшей руки к нашим елисеевцам тоже нельзя распространиться. Сколько я знаю, знакомства эти чрезвычайно редки и чрезвычайно сухи. Поводами к таким знакомствам в Париже бывают только какие-нибудь старые связи; да и то поляки поддерживают их или воровским образом, чтобы никто из своих не знал об этом, или же придавая своим отношениям оттенок какой-то особой таинственной миссии. Но как наши елисеевцы народ самый стереотипный, то сколько-нибудь характеристических черт в их отношениях к небольшому числу их польских знакомых отыскать невозможно. Поляки нередко заходят к ним от нечего делать; а они всегда рады хоть кому бы то ни было, чтобы разогнать невыносимую скуку, смертельно давящую всех русских обезьян на парижской почве. В существе этих отношений нет ничего, кроме ничтожного битья языком, и если уж непременно нужно определительно характеризовать эти отношения, то я нахожу всего удобнее сказать, что главный их характер — совершенная бесхарактерность и сухость. Правилом у наших второстепенных бар за границею только положено одно: не быть русскими, тогда как поляк и полька всегда и везде хотят оставаться сами собой, т. е. поляками. Следовательно, тут поразуметься мудрено; но наши знают одну службу отстаивать, что они хотя и русские, но им до этого дела нет, и по них черт бы ее побрал совсем всю эту Россию. Поляки их за это в глаза хвалят и называют «poczciwymi moskaliami»,[50] а за глаза ослами и дураками. Они лебезят перед поляками, ласкаются к ним и уверяют, что если бы у нас был собран земский собор, то собор этот непременно решил бы «Финляндию шведам, а Польшу Замойским отдать». Поляки и в этом случае оказываются сообразительнее и никогда этому не верят.
Поведение наших здешних либеральных людей подрукавной аристокрастии — поведение смешное и бестактное: это болтуны, крепостники и конституционисты, которых все их близко знающие так, впрочем, и знают только за болтунов, ибо в этом болтовстве уже сами собой заключаются и все их крепостничество, и весь их конституционизм. Беднейшие и дельнейшие из поляков засенской стороны ведут жизнь действительно деловую и вовсе не сходятся с русскими. Из этих поляков многие имеют довольно громкие имена, известные не только в сторонах польских, но и во всем славянском мире и даже у самих галлов. Из всех поляков этого разбора я встретил раз в одном русском доме г. Клячко, ученого члена польской библиотеки, что на Quai d'Orléans; но и то это дом был не русский, а малороссийский, где в тогдашнее время бредили отторжением Малороссии от Великой России. Клячко этот мне показался большим блягёром. Он не только рисовался своим мученичеством, когда немилосердно лгал на русское жестокосердие; но он даже молча умел чем-то кичиться и хвастать.
Батинъольская группа и польские работники в предместье Св. Антония вовсе не имеют никаких сношений с русским обществом в Париже. Батиньольским слишком далеко до мест, обыкновенно обитаемых русскими, а польские работники (вторая генерация польских эмигрантов), во-первых, не находят в русском обществе людей, равных им по званию, состоянию и общественному положению, а во-вторых, они не только не имеют средств сходиться с людьми праздными или людьми, имеющими, по крайней мере, легкий и прибыльный заработок, но им в пору подумать о завтрашнем куске хлеба. Они ведут жизнь тяжелую, полную труда, лишений и общефранцузских уврьерских забот. У них совсем не в голове ни племенные, ни исторические вопросы. Это чистые уврьеры, преследующие одни чисто уврьерские интересы. Они не только забыли думать о существовании какого бы то ни было русского общества, но забыли и о самой России, да и о Польше вспоминают так, как мы, например, вспоминаем о России, изображенной в «Севернорусских народоправствах» Николая Ивановича Костомарова, или, пожалуй, даже в былинах и песнях рыбниковского сборника. Для них все это «когда-то было, да быльем поросло». Это парижские уврьеры польского происхождения, и ничего более. У них потеряно все польское, кроме красивых заломов в углах глаз, аристократических лбов и исковерканного галлицизмами польского языка. Это дети изгнания, стремящегося ассимилироваться с парижскими уврьерами, вне которых для них нет никакой, хоть мало-мальски подходящей, среды.
Дети этой генерации уже забывают польский язык и едва объясняются по-польски, а дети нынешних детей, вероятно, уже будут чистыми французскими парижанами.
Таскаясь по уврьерским тавернам предместья Св. Антония, я довольно часто встречал поляков-блузников, которых сплошь и рядом принимал за чистейших французов.
Взрослые польские уврьеры предместья Св. Антония, кажется, совсем далеки от принятия к сердцу вопросов, касающихся их родины, и даже не стремятся заявлять своего польского происхождения. Дети же, хотя не знают польского языка, но чаще дорожат случаем сказать, что они поляки (из чего, впрочем, не следует выводить, что они, подросши, не сделаются французами).
Польский язык вообще не в большом ходу даже и в семействах польских работников. Это тем понятнее, что многие из этих семейств уже только наполовину польские. Работники польского происхождения часто женятся на француженках церковным браком и еще чаще сходятся с рабочими гризетками Антониевского предместья и, живя с ними в парижском браке, приживают детей, а эти дети, вырастая под надзором матери-француженки, уже становятся чистыми французами, даже не помышляющими об отечестве своих отцов. Здесь, разумеется, нет ничего удивительного; но мне доводилось видеть детей, рожденных в faubourg[51] St. Antoine от чисто польских супружеств, и многие из детей такого происхождения тоже едва могли кое-как с грехом пополам объясняться по-польски, а некоторые даже не умели хорошо отличить польского языка от языков других славянских племен. Такой оригинальный пример я встретил один раз вместе с моим земляком Е. де Р—ти. Вздумали мы один раз с де Ре—ти увеличить теплоту в его комнате. Занявшись печным мастерством, мы так ловко приладили в камине нечто вроде вьюшки, что к восьми часам вечера оба лежали совсем без голов от страшного угара. В восемь часов вечера мы кое-как поднялись и, дойдя до Одеона, сели на омнибус. Поездка нас как будто облегчила, и потому мы, доехав до Итальянского бульвара, пересели на другой омнибус, который идет вдоль всех бульваров: boulevard Montmartre, b-lv. Poissonière, b-lv. Bonne Nouvelle, b-lv. St. Denis, b-lv. St. Martin, b-lv. du Temple, b-lv. du Calvaire и b-lv. Beaumarchais, до самой бастильской колонны. Это необыкновенно дешевая и очень удобная прогулка. За три су едешь, едешь, да и надоест. На place de la Bastille[52] нас застал маленький зимний парижский дождичек. В ожидании отъезда очередного обратного омнибуса мы стали в дверях омнибусной конторы. На мокрых тротуарах, блестящих от света, падающего на них из соседних окон, как лягушки в теплый дождик, беспрестанно невесть откуда вырастали гамены. Под навесом у дверей омнибусного бюро их собралась порядочная кучка; они все были очень веселы, отряхивали свои смокшие под дождем блузки, друг над другом острили и смеялись. У одних мальчиков на груди висели ящички с простыми лесными орехами и леденцами, а другие, верно, несостоятельные к производству независимой коммерции, держали руки в карманах своих подобранных штанишек и со смешною важностью карапузого парижского гамена корчили из себя уврьеров. Из толпы маленьких коммерсантов один мальчик лет двенадцати беспрестанно приставал к ожидавшим очереди пассажирам с предложением: «Купите орехов! Купите леденцов!»
— Купите орехов, господа! — пристал он к нам. Пожалуйста, купите!
— Надо в самом деле купить орехов, — сказал я моему товарищу. — Орехи, говорят, полезно грызть во время угара.
— Nu, prosze z panstwo kupic orzechów,[53] — отозвался вдруг ребенок, услыхав произнесенное по-русски слово «орехов», весьма подобное по звуку с польским «orzech».
— А вы поляк? — спросил мой товарищ карапуза.
— Qui! Jestem polak,[54] — отвечал мальчик.
— Что ж вы здесь делаете? Как вы попали сюда во Францию?
Мальчик подумал и, пожав плечами, с сожалительной гримасой отвечал: «Не понимаю».
— Откуда вы? — спросил я ребенка по-польски.
— С rue des Terres, — отвечал мальчик и сейчас же добавил: — no prosze z pana kupic orzechów.
Я дал мальчику пятьдесят сантимов, а мой товарищ целый франк. Ребенок запрыгал от радости и все приставал то по-польски, то по-французски, чтобы мы взяли у него за наши деньги орехов. Мы взяли по горсти орехов и, видя, что очередь наша сесть в омнибус еще слишком далека, а небо разъяснилось, пошли пешком. Гамен не расставался и шел за нами. Сначала его сопровождала целая кучка любопытных товарищей, штук с пятнадцать, очевидно удивлявшаяся странности звуков непонятного им языка, которым с ними никогда не говорил их товарищ. Но потом кучка эта мало-помалу отстала, и только один наш знакомец все шел с нами и тащил за ручонку другого блузника лет шести или семи.
— Это что за мальчик с вами? — осведомился я.
— Это мой брат.
— Ты иззяб, бедный? — спросил я младшего ребенка по-польски.
Брат сейчас же поспешил повторить ему мой вопрос по-французски, и маленький мальчик, дрожа всем тельцем, отвечал по-французски, что ему не холодно.
— Разве брат ваш не понимает по-польски?
— Нет, он не понимает.
— Кто ваш отец?
— Работник.
— А мать?
— Тоже ходит на фабрику.
— Отец ваш поляк?
— Поляк.
— А мать?
— И мать поляк.
— Как же вы говорите дома? На каком языке?
— Мы по-французски говорим и по-польски.
— Отчего же брат ваш не понимает по-польски?
— Он молитвы только знает по-польски.
— А мать с вами как говорит?
— Она… она с нами не говорит.
— Отчего же?
— Она придет — мы спим ночью, а уйдет рано на работу — мы тоже спим. Она только в воскресенье нас моет, потому что в воскресенье она делает вареный обед.
— Тебе скучно целый день без мамы? — спросил мой товарищ младшего хлопчика.
Мальчик отрицательно мотнул головой.
— Не скучно?
— Нет, не скучно.
— Отчего же так не скучно? А я думал, что вы одни дома скучаете?
— Nous avons un mineau apprivoisé,[55] — пресерьезно отвечало дитя.
Ручной воробей заменяет маленькому парижскому полячку отсутствующую мать.
— Почему вы отгадали, что мы поляки? — спросил я старшего мальчика, прощаясь с ним на углу boul-d Beaumarchais V rue St. Sébastien.
— Га! я догадался.
— Каким же образом вы догадались?
— Rżecz to bardzo prosta: jak pan rozmaniał avec ce monsieur…[56]
— To jest z tym panem?[57] — подсказал я.
— Tak jest: pan z nim rozmaviał po polsku.[58]
Бедный полячек, едва-едва набирающий родных слов для того, чтобы связать полуфранцузскую фразу, принял наш русский разговор за польский.
Другого подобного же гамена встретили мы один раз у главной конторы омнибусов против Пале-Рояля. Преследуемые за нищенство полицией, они обыкновенно вертятся по вечерам в этих бойких местах и, вслушиваясь в разговор толпы, чуть только заслышат славянские звуки, тотчас пускают в ход скудный остаток уцелевших в их памяти польских слов, чтобы мольбою на языке польском выпросить десятью су более, чем можно выпросить, для спасения себя от голода, на языке французском.
Таким образом, выходит, что из трех польских групп в Париже — две — батиньолъская группа и группа предместья Св. Антония — вовсе не имеют никаких отношений к русским, а третья, пале-рояльская, чрез весьма немногих своих представителей самым ничтожным образом соприкасается иногда с некоторыми из елисеевцев, но эти соприкосновения так редки и далеки, что по ним нельзя составить понятия, как парижское общество поляков относится к русскому обществу в Париже. Можно сказать только одно — что большинство поляков, знающих некоторых из наших елисеевцев, несмотря на все куртизанство сих последних пред польскими тенденциями, не питают к этим людям никаких симпатий. Они не входят с ними ни в какие искренние отношения и смотрят на них как на людей, которым в известном смысле мало дано и, следовательно, мало с них и спросится, а над куртизанством их перед Польшею только потешаются. К чести поляков должно сказать, что они никаких изменников своей национальности не уважают, и если изменникам влиятельным льстят и называют их и почтенными, и либеральными, и просветленными, то всю русскую мелюзгу, заигрывающую с Польшею, прямо и откровенно презирают.
О ханжащем польском кружке Св. Сульпиция мы уже положили не говорить, и потому нам остаются теперь одни только польские латинцы.
Из польских латинцев все «kawalery», живущие в Париже без определенных целей (как живут наши елисеевцы), тоже не имеют с русскими никаких отношений. Несмотря на то что они постоянно встречаются с русскими a café de la Rotonde и иногда, сидя по соседству, передают друг другу из рук в руки одни и те же газеты, нередко останавливая свое исключительное внимание на одних и тех же местах данного листа, но никогда не перемолвятся между собой ни одним словом. Учащиеся же поляки волей-неволей знакомы с русскими той же категории, и я постараюсь очертить вам характер их знакомства.
Парижский поляк Латинского квартала по отношению к своим русским знакомым совершенно иной человек дома и иной на улице или в каком бы то ни было общественном месте. Дома поляк всегда верен своей хорошей народной черте: он утонченно вежлив, предупредителен, любезный хозяин и приятный, деликатный сожитель, если случай пошлет его вам в соседи. На улице же, в café или на бале, при встрече со своим русским знакомцем он весь точно на иголках. Врожденная польская деликатность, приходя в столкновение с положениями политического польского катехизиса, взаимно борются друг с другом и попеременно взаимно друг друга одолевают. Поляк радушно вас приветствует — и в то же самое время как заяц смотрит по сторонам, не видит ли кто-нибудь из его соотчичей, что он беседует с русским? Он жмет вам руку — и выдумывает благовидный предлог, чтобы дать от вас поскорей стрекача, чтобы не идти с вами, не сидеть или не стоять вместе. Вообще поляк Латинского квартала находит позволительным сходиться с русским как человек с человеком, но трепещет, чтобы через него мир не заподозрил польского общества в какой бы то ни было солидарности или даже близости с русским обществом. Уважая многие хорошие стороны польского народного характера и высоко почитая много отдельных личностей, остающихся у меня в памяти и в сердце, я никак не мог понять целесообразности повсюду внушаемого поляками и ревностно поддерживаемого ими разъединения молодого поколения польского с молодым поколением нашим, русским, в оны дни так чистосердечно протягивавшим своим польским сверстникам братскую руку и даже до некоторого унижения напрашивавшимся на польскую снисходительную дружбу. Я не знаю, видели ли поляки в возможности такого сближения какую-нибудь опасность со стороны идеи панславизма, которого они, тяготея к Западной Европе, сильно боятся, и к тому же не находят себе приличного места в общеславянской федерации, или это уж та несчастная национальная кичливость, которая прорывается везде, где ничто не мешает ей проявиться, — это или польский секрет, или польское безрассудство. Но только забавно, что парижские поляки неустанно блюдут, да не прикоснутся жидове к самарянам. В некоторых случаях эта сарматская щепетильность достигает пределов крайне смешных, а иногда и до последней степени нелепых и даже просто гадких. Один пример такого безумного прюдеризма известен почти всем русским, жившим 1861–1862 годы в Гейдельберге, где также всегда очень много поляков и довольно много русских.
Русские и поляки в Гейдельберге в эти годы, которых касаются мои воспоминания, жили между собою точь-в-точь в таких же отношениях, какие существовали в мое время между русскими и поляками в Латинском квартале Парижа. Нет, я думаю, нужды рассказывать, что наша тогдашняя русская молодежь была вовсе не похожа на молодежь, описанную в некоторых из так называемых «исторических» русских романов первой половины и особенно первой четверти текущего столетия. Ни в речах, ни в поступках нашей молодежи шестидесятых годов XIX столетия не ощущалось ни прежнего самохвальства, ни прежнего пустого и бессмысленного задора; а уж о какой-нибудь политической неделикатности к кому бы то ни было и говорить нечего.
Наша заграничная молодежь тогда скорее страдала, как и доднесь страждет, индифферентизмом, а не политическим задором. Молодые россияне наши тогда сходились со всеми и всячески старались деликатно щадить всякое национальное чувство, и особенно польское. Знакомясь с поляками, наши молодые люди избегали всякого мало-мальски щекотливого для поляков разговора. Это было так не только до начала польского восстания, но и начавшееся восстание не сделало заграничных русских нимало строже и суровее к полякам. А наши нигилисты, как известно всем их знающим, даже считали революционных поляков своими прямыми союзниками и доныне, кажется, не понимают, что если бы в Польше восторжествовали не русские, а поляки, то это равнялось бы торжеству аристократических и проприетерских привилегий над началами демократическими и гуманными, во имя которых действовала в Польше Россия. Но случай польской неблагодарности за все куртизанства русских с поляками, который я хочу рассказать, касается дела иного сорта. Он касается честнейшего лица в Европе — Гарибальди, к которому без различия наций одинаково несутся симпатии всех людей, способных уважать человека, полагающего душу свою за независимость родины и за ее свободу. Поляки столкнулись с русскими на Гарибальди, и опять при этом столкновении русские вышли толстоносыми простофилями, а поляки вековечными каверзниками и фанфаронами. Случай этот произошел в Гейдельберге гораздо ранее польского восстания, когда русские все зауряд набивались в дружбу к полякам, а те от них отбрыкивались.
В Гейдельберге поляки с русскими пили по вечерам пиво в одной и той же пивной; ухаживали за одними и теми же немочками и даже совокупно соорудили один кошачий концерт русскому генералу Пут—ину, последствием чего была печальная потеря одним польским студентом уха, отрубленного в схватке с семью солдатами, составляющими гейдельбергский гарнизон. Во всех таких делишках в Гейдельберге поляки русским были товарищи. Но чуть коснулось дело гласного сотоварищества, польские товарищи прочь от русских товарищей. Ранили Гарибальди. Европа ахнула. В Париже всех щенят, ощенившихся в это время время, окликали «Паловичинами». В Лондоне находили, что собаки еще слишком благородные животные для того, чтобы называть их таким именем. Вести о здоровье благородного героя итальянского единства и свободы ожидались с нетерпением и переходили из уст в уста с быстротою электрической искры. Сердились на лекарей; медицинские студенты получали за пивными столами самые первые места; их расспрашивали, выслушивали их мнения о ране генерала и ничего не понимали. А Гарибальди все болел. — «Когда б к нему спосылать нашего Пирогова!» — заговорили вдруг в Гейдельберге. — «Да, вот бы в самом деле попросить съездить нашего Николая Ивановича!» — И русский Гейдельберг засуетился. Партридж и Пирогов едут. Нужны были по этому случаю некоторые деньги. Не знаю, на что именно, но были нужны. Наши снарядили молодого господина Хл—ва, знающего итальянский язык, переводчиком, и сейчас тормошить свои тощие кошельки, и при этой складчине вздумали, что не будет ли оскорблением для поляков, что они не приглашены к участию в этом деле, где речь идет о Гарибальди, которому поляки сочувствовали, кажется, более, чем всякий другой народ на свете. Так и решили. В одну из русских сходок, на которой рассуждалось об этом предмете, пригласили депутата от поляков. Польский депутат пришел, выслушал приглашение русских участвовать с ними в деле, касающемся итальянского героя, но не выразил никакого собственного мнения и объявил, что он передаст все это своим и в следующий день сообщит их ответ русским. Русские, по бестактности своей, приняли ничтоже сумняся и это, а на другой день польский депутат объявил им, что поляки очень благодарят за сделанную им честь но… не могут со своей стороны принять в этом никакого участия, ибо вообще им нельзя участвовать ни в каком деле вместе с русскими. Съевши такой орех, русские, разумеется, обошлись и без польского содействия, которое вызывалось собственно из дурно оцененной деликатности.
Но что же вы думаете: оплеванные ляхами соотчичи наши намотали себе это на ус и дали почувствовать, что этот поступок с ними не пройдет бесследно?
Ничуть не бывало. Русская молодежь не только не озлилась на это, но даже молчала об этой проделке, и молчала вовсе не из ложного стыда, а по побуждениям самого утонченного свойства: как же, мол, мы будем выражать неудовольствие на поляков, когда они с нами воевать хотят? Это значило бы возбуждать против них общественное мнение в России — это нечестно.
Спутанность понятий о политической честности и бесчестности, не очистившаяся еще и до настоящего времени, тогда была ужасна и непостижима. Сами к своим русским людям наши политические деятели не знали никакой деликатности, а к врагам не только правительства, но и самого народа русского наблюдали эту деликатность до подлости. Это за границею делала молодежь, а дома этим же занимались старички, разлиберальничавшиеся до того, что стали напоминать собою того анекдотического короля, который хотел, чтобы всем равно хорошо было, и на представление своего министра, что пусть хоть разбойникам скверно будет, отвечал: «Нет; зачем же их обижать? Кто же у нас без них будет потом честных людей резать?» В это комическое время, ему же край и предел сам Ты, единый Господи, веси, Русь походила неким образом на сварливую бабу, которая поедом ест свою семью, а чуть предстал перед ней вор, плут, разбойник, да не свойский, а захожий, пришедший поругаться и поглумиться над ее же порядками, она сейчас и залебезила… Вот, мол, смотрите, какая я либеральная Федора: пусть там кто хочет чем дорожит; а я и сама себя не жалею: мне все нипочем!
Нас, бывало, и иностранцы крошат, а свои родные нигилисты еще лучше обрабатывают; а мы ломаем головы: довлеет ли нашими устами сказать плутам и лжецам, что они лжецы и плуты, — и решим, что не довлеет. Пусть усиливаются, но не говорят, что мы варвары, как будто есть где варвары более тех, которые не умею любить своей родины и ее счастья? Что бы ни затевалось врагами правительства, все это нравственность того времени обязывала щадить, и люди, под страхом прослыть не честными, считали обязанностью мирволить каждому, кто за свои противоправительственные действия подлежал преследованию законов страны. Исключения составляли только те случаи, когда вор крал шинель или салоп у самих социалистов. Тогда только, в этих великих случаях, великая теория откидывалась в сторону, и не признающие собственности владелец шинели или владелица салопа подавали объявление в полицию и гнались вместе с квартальными надзирателями за вором. Воры же, обкрадывавшие и обкрадывающие поднесь целость, спокойствие и доброе имя государства, признавались заслуживающими всякого уважения… Но пусть история произнесет свой суд над этим комическим временем,
Когда бездарность и прогресс
В России стали синонимом,
И здравый смысл из ней исчез,
Тургеневским рассеясь дымом.
Возвращаемся к нашей истории.
Мы в Париже о рассказанной выше гейдельбергской каверзе поляков узнали, только когда один русский, возвратясь с славянского празднества, происходившего в Вене, начал рассказывать про поляков, что они не только не заявили своего сочувствия сборному празднику сошедшихся представителей славянщины, но даже внесли с собою элемент, неблагоприятный этому торжеству. Тут только пошли толковать: «Что же это в самом деле? Что это за славянские аристократы такие! Мы к ним всей душой, а они всеми копытами. Ведь это что ж? Нам если так, так и Бог с ними совсем». Тут-то узнали и про гейдельбергскую историю, а отсюда уже чаще и чаще стало слышаться: «Да Бог с ними! Что ж нам с людьми, которые за нашу вежливость только ломаются да рожи нам строят!» Но в глаза полякам опять-таки ничего не говорилось, да и вообще думали, что и между своими об этом надо было говорить как можно тише, чтобы поляки не сказали, что мы им враги.
Черт знает почему всем казалось, что поляк даже может отказаться от прямой человеческой помощи всякому человеку, нимало не соделываясь тем гадким в глазах самого развитого существа.
Я говорил в начале письма, что торжественное открытие императором Наполеоном бульвара принца Евгения было омрачено только взятием в чижовку малороссийского помещика Павла Ко—ча. Ко—ч был арестован за обычное в России ослушание против полиции и за дерзости, сказанные городскому сержанту, требовавшему от него исполнения известных правил, — одним словом, за русскую привычку не слушаться полиции даже тогда, когда ее требования совершенно справедливы и резонны. В то время я еще не был знаком с Ко—чем, а другие знали его за шалуна, мальчика, но никак не хуже. История его с сержантами произошла в густой, почти непроницаемой толпе и не сделала никакого громкого скандала, а потому осталась никем не замеченною. Из русских никто не знал, что малороссийский дворянин сидит в парижской чижовке.
На третий день после открытия бульвара заходит ко мне Че—гло и рассказывает несчастье арестованного Ко—ча. Арестант нашел средство известить Че—гло, что он находится в violon[59] и что его завтра поведут в префектуру на разбирательство и суд. В записке, писанной по-французски (вероятно, солдатик, взявшийся доставить записку арестанта, хотел знать, что в ней заключается, и требовал, чтобы записка была писана на доступном ему языке), было сказано, что «я арестован ни за что, не знаю, что мне делать, и прошу немедленно навестить меня». Че—гло был уже у Ко—ча и пришел к нам, чтобы найти кого-нибудь из русских, знающих французские законы, кто бы взялся защищать Ко—ча в префектуре, так как находчивый Ко—ч, уже находясь под арестом, очень находчиво растолковал, что он ничего не говорит и ничего не понимает по-французски. Штука была придумана артистически. Ко—ч держался того, что он не хотел сказать сержанту cochon,[60] а звал, глядя через его голову, cocher.[61] Опасность была только в том, не уловлен ли K°—ч во лжи посредством своего письма, присланного из violon. У меня в это время дверь о дверь жил прекрасный юрист, прежде студент петербургского университета, а ныне студент École de Droit, поляк Ла—р, о котором я уже вспоминал несколько выше. Мы с ним были довольно хороши, и я ни на минуту не сомневался, что он не откажется попытать себя в адвокатуре и пойдет защищать Ко—ча, так как юридические студенты вообще дорожат случаями попрактиковаться в адвокатуре. С полнейшей уверенностью я обратился к Ла—ру с моею просьбою и получил преполнейший афронт. По мере того как я развивал ценность услуги, которую Ла—р, петербургский студент, таким образом мог оказать всем нам, русским, защитив бедного мальчика (как считали тогда Ко—ча), юрист глядел как-то все гаже, гаже, и наконец лицо его облеклось в такую отвратительную, надменную гримасу, что я не хотел бы иметь ни этого прекрасного лба, ни правильных углов глаз, если все это может выразить такую дьявольскую гадость. «Помилуйте! что это вы говорите? что за услуга от нас русским? У нас есть свои дела!» — ответил мне Ла—р.
— Но он не знает языка, не знает французского права, и к тому же вся защита — дело одного часа, и потом ведь защита против пустого обвинения. Вы не политического деятеля России пойдете защищать, а просто бедного мальчика — шалуна, который попался и которого защитить некому, — убеждал я.
— О, помилуйте! Это все равно. Что же мне? Мало ли людей нуждаются в помощи! У нас есть свои дела.
Я забылся и сказал Ла—ру очень крупную резкость; но он все-таки не пошел. Ко—ча защищал сын пастора Карл Бенни, которому я был рекомендован из Петербурга его братом Артуром.
Польские латинцы, знакомые с русскими латинцами, очень редко навещают друг друга, и если они не живут в соседстве, т. е. в разных комнатах одной и той же квартиры, то видаются только в публичных местах. Живя же в соседстве, поляки нередко сходятся под вечерок с русскими у камина, угощаются чаями, даже зачастую делятся деньжонками, и вообще живут по-приятельски.
Так было до начала восстания, и так осталось во все время инсуррекции. Все молодые поляки, которые были более или менее знакомы с русскими, здесь держали себя прекрасно. (Я говорю о домашней жизни и прошу не видать в этом противоречия тому, что я говорил о польских отношениях к русским в жизни общественной.) Наш эмигрант Сахновский жаловался, что ему тяжело было жить с поляками, с которыми он жил до первых вестей о восстании; но я даже и этого не могу сказать. Может быть, потому, что я никогда не финтил с поляками, ибо, прожив между ними всю свою юность, знал, что нам с ними тесно сходиться не на чем; но они меня не стесняли. По обе стороны моей комнаты жили поляки. В одной из соседних комнат жильцы беспрестанно сменялись: один поляк, уезжая, непременно передавал ее другому; но меня не только не выживали, как из трактира madame André, а я не чувствовал даже ни малейшей неловкости от моего соседства. Поляки не искали с нами ничего общего и ни в чем на нас не рассчитывали, а следовательно, с ними всегда можно было устроиться так, чтобы они не трогали и нас. О политике польской они говорили с нами мало, и я не думаю, чтобы они подбивали на измену отечеству какого-нибудь русского, который сам всеусерднейше не напрашивался в изменники. Когда за границею распространился слух, что в рядах польских инсургентов есть много людей чисто русского происхождения, парижские поляки, правда, распространяли этот слух с большим торжеством, но в интимном разговоре никогда не удерживались от выражения крайнего удивления, что такое движет этими изменниками. Поляки великие патриоты и никак не могут себе представить человека, сражающегося против своих. «Да и зачем они это делают? — говорили сами поляки. — Мы очень благодарны за сочувствие и самопожертвование в пользу нашего дела, но не понимаем возможности бить своих и, право, не видим никакого смысла и никакой пользы в жертве, которую русские приносят, переходя в ряды наших инсургентов. У русских своего дела много, пусть о себе думают да у себя в одно и то же время поднимают революцию — вот это будет благоразумно: а нам их не надо». Чтобы у нас дома началась своя внутренняя сумятица, этого полякам необыкновенно хотелось. Но они никогда не думали об успехе русской революции, и даже можно полагать, что они вперед знали, что революция эта с нигилистами, которые, впятером живучи, составляют пять партий, выйдет не революциею, а шутовством; но их хлопоты шли только о том, чтобы раздроблять внимание правительства и не давать ему сосредоточиваться на одной волнующейся Польше. Поляки не скрывали, что имеют друзей в составе лиц некоторых высших русских учреждений, и этими влиятельными русскими друзьями Польши дорожили; но чтобы поляки подбивали русских в ряды польской инсуррекции — этого я не думаю или, по крайней мере, ничего такого не видал и не слыхал. Я видал молодых галицийских поляков, приезжавших в Париж из рядов инсуррекции, и полагаю, что они приезжали по каким-нибудь более или менее важным делам революции. С некоторыми из них я говаривал, хотя и очень мало, но обязан сказать, что при всех этих разговорах ни один из них ни волоском не задевал меня. Это все были молодые люди, довольно благовоспитанные и способные прекрасно относиться к чувству народной гордости, которой так много в них самих. С моими соседями по квартире во все время революции я виделся почти всякий вечер, пред отходом ко сну. Несмотря на резню, терзающую в эту пору польские области, мы здесь нередко предавались самым мирным занятиям. Так, например, мы в несколько приемов вместе прочли «Lettres et mémoires sur la politique de la Russie vis-à-vis des peuples slaves et de l'Europe occidentale, par M. Pogodine».[62] Автор этого сочинения очень понравился полякам; по их определению, это «rzadky moskal».[63] Потом мы разновременно прочли всего Лермонтова, которого они не знали и который им очень понравился. Особенно когда я читал «Мцыри», изъясняя оригинал против неудачного перевода, сделанного Вл. Сырокомлею «Laik Klasztorny» (см. Соwedy i rymy ulotne Wladyslawa Syrokomli, poczęt nowy, 1854 roku).[64] Разумеется, ни искренности, ни теплоты, ни приятельской задушевности в наших беседах никогда не было. Поляки всегда держались так, что вы могли ясно видеть расстояние, которое между вами отмерено и которое ни за что сокращено быть не может. Хлопоты наших куртизанов с Польшею о сокращении этого расстояния совершенно напрасны. Поляк самый мягкосердный все-таки думает, что он интеллигенция, а русские это черт знает что. Рассуждая при случае о ком-нибудь из русских, поляк преспокойно говорит: «On nic sobie — ale moskal!» или «On czlowiek poczcivy i dosec swiatly, ale ma sie rozumiec, jak moskal».[65]
Увлекать русских к измене России тогда, впрочем, не было никакой и необходимости. Поляки, занятые своею революциею, имели каждый кучу хлопот более важных, чем приобретение русского изменника; а изменники эти сами тогда нарождались, как грибы после теплого дождика, и сами напрашивались якшаться с поляками. Не отказываться же было полякам от людей, лезших за их, чужое дело и под штык и в изгнанье! Они только принимали русских в свои банды. Позволяли они русским и гаерничать за себя перед Европою и даже затягивали их в эти гаерства; но опять-таки русские, от своего безделья, сами на все это лезли. Раз наши русские на моих глазах просто упрашивались на польскую панихиду по убитым полякам. Ну, их пустили, а на другой день в «Opinion Nationale» объявили, что «панихида происходила при большом стечении русских, сочувствующих польскому делу». Русских это нимало не конфузило. Куда! напротив! В эти года, так удачно названные комическим временем в России, всякая измена России в пользу Польши считалась делом высшей чести и признаком отменного развития. Страх прослыть русским, желающим России мирного, а не головорезного прогресса, имел на пустые головы такое могучее влияние, что известных трусов доводил до подвигов некоторого самоотверждения. Так, например, погиб жертвою этого ложного страха обиженный способностями и совсем лишенный характера юноша Андрей Ничипоренко и множество ему подобных людей, не имевших никакого значения у тех, кто их знал близко, но получивших большое значение у нигилистов и даже у самого Герцена, в числе несчастий которого должно считать его совершенное неумение выбирать людей. Позволяли люди с собой проделывать вот какие уморительные и в то же время возмутительные вещи: читают как-то раз в «Opinion Nationale», что наши донские казаки, придя отрядом в какое-то польское селение и не найдя на том селе никакой вины, выжгли его до конца, пожитки поселян разграбили, детей побили, а женщин предали насилию. Такое известие, как хотите, каждого передернет. Правда ли это, или неправда — поверять нечем; русские подцензурные газеты поверкою служить не могут, а к тому же и в нашей «Пчеле» тоже писали о казаке, даже расстрелянном за грабеж и насилие, да и, наконец, что же тут невероятного, что донские казаки по-казачьи побалуются в Польше? Они и русским городам потачки не давали, и на моей памяти православный Киев, который они были призваны оберегать, не знал, куда ему деться от этих спасителей. Но, как бы там ни было, кто верит, кто не верит, все негодовали на беспричинное разграбление селения и на насилие женщин, и когда началась складка в пользу пострадавших жителей этого селения, то и многие русские не отказались дать по нескольку франков «на погорелое». Дело было самое простое: имущий свободный франк дает его погоревшим; но поляки, по страсти к интриге, развернули это дело совсем иначе. Не успела походить по рукам эта подписка на погорелое, как С—кий, имевший знакомство между сотрудниками «Opinion Nationale», сообщает мне, что там будет скоро статья, в которой будет заявлено о пожертвованиях русских, живущих в Париже, «в пользу польского восстания». Хорошо понимая, чем может пахнуть эта польская шалость для русских, имевших неосторожность кинуть несколько франков погоревшим, когда милостыню эту объявят пожертвованием на революцию, я передал все сказанное мне С—м тем из моих знакомых, которые попались в эту интригу, и на другое утро я, Лук—ов и студент Сер—ов пошли к чеху, собиравшему деньги погоревшим, потребовать наши франки назад, объявив прямо, что мы дали на погорелое, а не жертвовали на восстание. Когда нам возразили против нашего требования, что тут вышло недоразумение, но что во всяком случае это дело пустое и поправлять его и поздно и не стоит, то мы отвечали, что объявим в другой газете, что мы вовлечена в эту подписку обманом и раскроем, как было все дело. Тогда, видя нашу непреклонность, нам возвратили наши гроши, но посмотрели на нас как на людей, которые Бог знает сделали какую непристойность. Справедливость опять требует сказать, что несколько мнений за наш поступок мне привелось слышать только от поляков, издевавшихся над глупостью русских, невольно попавших в число жертвователей на польское восстание. Эта последняя польская выходка, вследствие которой, десяток-другой русских ни в чем неповинных людей могли стать в положение, в котором пришлось бы выбирать между экспатриацией или риском тяжелой ответственности по возвращении на родину, окончательно оттолкнула меня от поляков, и с тех пор я уже позволял себе открыто говорить всем о неудобстве для нас всякого общения с ними. Голос мой, впрочем, конечно, был голосом вопиющего в пустыне, и баловство с поляками и после этой, рассказанной мной проделки оставалось в моде. Наглые поступки поляков и лебезенье с ними нашей «русской оппозиции» (как называли поляки русских, презиравших Россию) становились все пошлее и пошлее, все ненавистней и ненавистней. Поляки не только в глаза издевались над уверениями их в преданности и уважении — уважении и преданности, — но даже печатно глумились над этими чувствами. В Париже издавался польский журнал «Baczność» («Осмотрительность»). Журнал этот стал на страже, чтобы не допускать поляков увлекаться симпатиями к русским прогрессивным людям, и черным по белому выписывал, что все эти русские прогрессивные люди чепуха и ложь; что они не знают самих себя и своей родины; что они «за своих апостолов» и за тех заступиться не умели; что вся их образованность заключается в пяти прочтенных ими книжках безбожных писателей, «не понимающих даже простых прав собственности». Потом вышла книжка «Rzut oka» В. Z. («Взгляд» — Залесского), в которой тоже опять устанавливалась точка зрения на наших революционных людей. Этот автор говорил спокойнее, чем журнал «Осмотрительность»: он не шельмовал польских поклонников в России, а, лаская их, говорил, что они очень милые дикари; что с ними образованным людям вместе нечего делать; что их послушать так страшно; что у них «нет даже и простых понятий о собственности» и что ни в умах их, ни в характерах нет никакой подготовки к свободе, а все направлено к «разбойническому своеволию». (Niema swobody, ale swowola, со w ieh spiewach nod Wolgą spiewają.[66]) И когда все это печаталось на заграничных польских станках и распространялось против наших социалистов и революционеров, эти последние из кожи лезли быть польскими друзьями. Читая только «пять умных книжек», которые были им рекомендованы для их библиотек, они оставались в милейшем невежестве насчет многого, что людям, преследующим политические задачи, знать совершенно необходимо, и продолжали разыгрывать у поляков шутов, над которыми, в часы досуга, для развлечения своего, потешалась польская интрига.
Смешно и жалко рассказывать, до чего иногда доходило это издевательство поляков над своими русскими политическими друзьями. Сколь ни нагла и дерзка была проделка польского пана, угощавшего нашего казачьего офицера поданною на блюде головою пана Твардовского, но то, что сделал однажды с неким русским кружком один познанский поляк, — перед этим в некотором смысле бледнеет и «Вечер на Хопре», и всякий другой рассказ в фантастическом роде. Поляк этот чуть не каждую неделю шнырял из Парижа в Лондон и обратно. Что у него там были за дела — Бог его знает. Этого наверное не знал никто. По крайней мере, из русских, я уверен, что никто не знал, что за миссию правил этот веселый человек; но как наши непривычные к революционным делам люди думали, что революцию делать это значит разговоры с г. Герценом разговаривать, и как, по их мнению, г. Герцен главный вождь всякой революции, то они в своей священной простоте решили, что этот поляк все ездит к Герцену. «Так, мол, приедет, соскучится без разговоров с Александром Ивановичем, да и опять к нему поедет». Веселый поляк их в этом и не разочаровывал, а, напротив, утверждал их в том, что он действительно все только к Герцену ездит; а им и в ум не приходило сообразить, что поляки не только на словах считали Герцена особою статьею и человеком, с которым им сообща делать нечего, но даже печатали это в своей «Bacznośći» («Осмотрительности»). И вот один раз этот веселый поляк возвратился из одной из своих поездок и вошел, совершенно нежданный, в кафе. Он в этот раз был озабоченнее, чем когда-либо, присел на минуту к кучке сидевших тут поляков и тотчас же стал собираться вон. Ясно было, что ему не до гулянок и не до разговоров и что он пришел сюда только за своими; но некий любопытный земляк наш ничего этого не сообразил, схватил поляка за пуговицу и пошел выпытывать, есть ли какие русские новости и какие именно эти новости? Поляк его утешил. Он сообщил ему секрет, который тот таил целую ночь, но наконец долее не выдержал и пошел трезвонить.
— Вы знаете, — сообщил он на другой день встреченному им земляку, — в Лондоне будут скоро присягу принимать.
— Какую присягу?
— На верность, присягу на верность.
— Да кому же присягу-то?
— Царю.
— Какому царю? Александру Николаевичу?
— Нет, другому, народному царю. Свободные русские себе за границею другого царя народного выбирают, чтоб было около кого группироваться; чтоб и раскольники и все эти элементы, понимаете… чтоб центр был?
Собеседник так со смеху и надселся; а тот даже обиделся, что его не понимают.
— Ну кого же выбрали в народные цари-то? — выпытал наконец оправившийся собеседник.
— Это еще пока неизвестно. Хотели, разумеется, Герцена; только…
— У него фамилия немецкая, что ль?
— Нет, не то, что фамилия! фамилия пустяки, а…
— Да; чтό он в Бога не верует.
— Нет, и это не то. Что вера! Это пустяки: этого никто и не заметит; да наконец можно обряды и исполнять; а наружность, черт ее возьми, наружность его подгадила; наружность… мал ростом… брюшко, батюшка, при малом-то росте… он не идет к этому.
Собеседник на этот раз удержался от душившего его смеха и с серьезною миною отвечал:
— Да, он точно мал ростом — он не годится.
— Да, надо быть, выберут Огарева или Бакунина. Верно, Бакунина, потому что этот ведь страсть.
— Бакунин здоровее всех.
— Страсть! Этого раскольник-мужик увидит, так в ноги и повалится! Так и завопит: батюшка, помилосердуй!
— Отлично, — отвечает ему соотчич, — отлично; только зачем же присяга-то? Как же будут присягать Герцен и Огарев: ведь они атеисты?
— Это ничего. Будто нельзя как-нибудь присягнуть для виду?
— И то, мол, правда.
— Да разумеется. И ведь это все, понимаете, только для вида, потому что как он придет с народом в Россию, так ничего этого и не надо — сейчас и республика.
И думаете, это рассказывалось в шутку? Ничуть не бывало. Это говорилось с полным доверием, что все это там где-то делается и когда-то сделается. И говорилось об этом и день и два, а потом, по русской привычке, разумеется, и позабывалось как дело очень маловажное.
А то еще раз тот же сочинитель сказал, что будто Герцен в беседе с ним выразил ту мысль, что он имеет план, как отучить русский народ от привязанности его к церкви; что он думает оставить нынешние церковные обряды во всем их значении, но, пользуясь безграмотностью народа, вписывать в святцы вместо святых, почитаемых церковью, имена известных революционеров и во главе их первого «отца нашего Марата парижского и всея вселенныя чудотворца» и петь ему молебны.
Эта непроходимая глупость, превосходящая своею глупостью все сказанное от века, кажется, должна бы прямо в лоб ударить, и задуматься над нею непростительно ни одной минуты, ни одной секунды; а и над нею задумывались, и с нею носились.
Просто это комическое время было какое-то повальное умопомрачение, от которого, бывало, невольно посылаешься к Смутному времени на Руси и начинаешь понимать, как тогда могли расходиться самые нелепейшие слухи и как русские люди наоболмашь ими увлекались и верили им.
Чего удивляться подобным вещам в том давнем времени, когда во время, к которому относятся наши воспоминания, нельзя было выдумать столь нелепой глупости, которая бы не стала расходиться и обсуждаться?
И на все эти глупости и шутовства заочно низводилась санкция несчастнейшего Герцена, который хотя и мог, увлекшись, объявить себя «бородатой Прозерпиной», которую хочет похитить русское правительство, но г. Герцен все-таки так умен и образован, что не мог предлагать глупостей, распространяемых многими молившимися на него в оно время дурачками.
Одно поистине непонятно: это отношение к подобным революционерам самого Герцена! Чем бы кто себе ни представлял этого раба своих величайших заблуждений, он все-таки человек с далеко недюжинным умом, с замечательным остроумием, с начитанностью и даже с некоторым философским образованием. У него бездна вкуса, он полон глубоких и сильных симпатий; отрешаясь от своего яростного революционного ража, он являет в своем характере черты голубиной нежности; он верный друг своих друзей; он человек, знакомый с великодушием; холодные листы бумаги, на которых его рукою описана скорбная утрата им и его женою их утонувшего ребенка, обливались ручьями слез неплаксивых людей, читавших эту историю. И этот самый человек ставил себе в честь сделаться центром жалких и ничтожных, деревянных людишек, утративших в себе не только зрак искры Божией, но стремившихся опозорить собою и внешний образ Божьего подобия! Что могло быть общего между ним и этими жалчайшими обезьянами? Неужто он вправду с ними, с их помощью хотел совершить какое-то святое народное дело? Неужто — еще хуже того — он шутил этим делом и издевался и над ними? Или он дорожил численностью протестантов против правительства, не входя ни в какое обсуждение достоинств этих протестантов? Мог ли поступать так Герцен, столь художественно приводивший однажды на память своим читателям библейского Гедеона, разбивающего сосуд свой? Мог ли сам он забыть другую часть библейского рассказа, где тот же Гедеон бросил целые сотни людей, пивших горстями, и пошел с одними лакавшими по-песьи?
Но мы еще будем иметь случай возвратиться к Герцену, когда придет место рассказать, что думают о нем знающие его здешние славянские эмигранты, и какие выводы можно делать об этом человеке со слов их. Теперь же обратимся к парижским представителям другой славянской народности, с которыми мне приходилось здесь сталкиваться.
Провозгласив себя «славянской интеллигенцией», поляки не могут дать равного с собою права на разум не только русскому, но и сербу, и болгару, и даже чеху. А между тем, чехи, этот едва ли не самый милый и самый грамотный во всем славянстве народ, эти честные и работящие чехи, во всем стоят выше польской цивилизации. По характерам своим чехи очень просты, внимательны и приветливы ко всем славянам. Воспитанные в духе неустанной оппозиции немецкому элементу и изведавшие тяжелым опытом свою несостоятельность собственными силами сбросить ненавистное для них австрийское иго, они постоянно мечтают о свободной славянской федерации и никогда не сомневаются в ее возможности. Поэтому чехи ласкают не одних русских, но и поляков, и сербов, и болгар, — словом, всю славянщину. Поляки же не любят идеи свободной, равноправной федерации, называют чешские надежды «наивными мечтами» и никогда не упускают случая посмеяться над их стремлениями к достижению смешной и, по мнению поляков, несбыточной «slawianskej wzajemnosci».[67]
Отсюда и выходит, что между парижскими поляками и чехами не может образоваться большого единодушия и мало близких взаимных отношений. Чехи не боятся вести хлеб-соль и дружбу с русскими; а полякам это не нравится. Чехи пускаются иногда в объяснения и говорят: «Да помилуйте! москали только один самостоятельный славянский народ в мире: как же славянщине не ютиться к ним? Мы не хотим идти под москалей, но хотим идти с москалями». А поляки доказывают им, что это химера, и упрекают чехов в каком-то подхалимстве России, точно так же, как львовские хохломаны упрекают в этом галицийских русских, упрекаемых с другой стороны московскими централизаторами в сепаратизме с русскою народностью. В существе все эти упреки в равной степени несправедливы. Чехи и галицийские русские полны федеративных стремлений и, соображая средства для составления федерации, всегда обращают свои взгляды на единственный самостоятельный славянский народ — на Россию; они расходятся с г. Погодиным только в плане федеративного устройства. Галицийские русские не миндальничают с поляками, как питерцы. Они терпеть не могут поляков и желают им всяких неудач за их аристократизм, за их неуважение к православной вере, за их глумление над русской народностью и за стремление сделать их поляками. И такова повсеместная доля поляков: в Орле и в Калуге их спокойнее сносят, чем в Чернигове и в Киеве, а в Петербурге с ними даже амурятся. Где их меньше знают, там охотнее с ними якшаются. Свести у себя за границею поляка с галицким русским — это чистая напасть. Бурнопламенный русин обыкновенно мало сдерживается и непременно расплюется с поляком до непозволительности и не поцеремонится сказать, что ему москаль в семь раз лучше и милее, чем вся Польша. Находясь налицо при выражении одним из своих гостей такой любезности, разумеется, не знаешь, куда деться и как поворачивать горячий разговор. На мою долю приходилось не раз присутствовать при таких беседах, и я их очень хорошо помню. Вся уклончивость, вся ловкость блестящей диалектики, которою счастливо обладают поляки, не дают средств сохранить в этих беседах безобидного тона. Все это не сдерживает прямого, горячего, обличительного слова галичанина, и хозяину остается всего лучше молчать и не вмешиваться. Чехи, будучи гораздо благовоспитаннее русских, обыкновенно ведут себя гораздо терпимее галицких русских. Встречаясь с русскими и поляками, чехи всегда стараются избегать вопросов, щекотливых для той или другой стороны, и умилительно твердят своим мягким птичьим языком: «Kochajte sie, bratujte sie, nie klótcie sie, aby žyla nasza mater swiata Slowianszyna».[68] Чехи в своих политических воззрениях всегда резко разграничивают народы с правительствами, хотя и очень плохо знают, «где в ином месте начинается одно и где кончается другое». Поляки же наоборот: ни к какому анализу неспособны. По всему кажется, им бы легче всего сходиться с чехами, чем с нами: политическое положение их имеет много солидарности; язык польский без всякого сравнения ближе нашего к языку чехов, так что чех и поляк с нуждою могут объясняться между собой, говоря каждый на своем родном языке, и, наконец, между ними довольно часто встречаются смешанные браки, из которых возникают и другие родственные сношения. Кроме того, у них много дел торговых, и потому многие чехи говорят по-польски, а по-русски во всей Праге едва знают пять-шесть человек. Но, несмотря на все это, между поляками и чехами нет того сближения, которое могло бы и должно бы быть. Чехи такие же горячие патриоты, как и поляки, но они еще более горячие и искренние демократы, чем патриоты, тогда как демократия и поляки — это два слова, которые неловко и писать рядом! Врожденный аристократизм поляков — друзей демократии Герцена и русских социалистов, не нравится демократическим чехам; но они смалчивают им «aby žyla slowiansczyna». Деликатная чешская скромность по отношению к полякам идет чрезвычайно далеко. Они ласкают поляков и сочувствуют их несчастьям, а те посмеиваются над чешским птичьим язычком и чешской «славянской взаимностью». Обе эти насмешки столь же мало справедливы, сколь неостроумны. Во-первых, мягкий и мелодический язык чехов ничуть не хуже и не беднее шипящего и брянчащего языка польского, а во-вторых, он и гораздо менее польского пересыпан чужими словами (латинскими, немецкими и французскими). У поляка салфетка — sarweta, подсвечник — liehtarz, прогулка — szpacir (хотя и есть свое коренное слово przechacka), пустяки— bagatel и так до бесконечности; а у чехов если что волею или неволею и вкралось где-нибудь немецкое, то все это они стараются выполоть вон и берегут славянское слово во всей чистоте. Язык их только очень мягок для нашего уха. У них нет звуков, отвечающих нашей букве ы; нет звука, отвечающего букве л в слове лошадь, а есть л, произносимое как л в слове лед или лещ. Говоря по-русски, они произносят: я виделъ вместо я видел, я биля вместо я была, и т. п. Собственный же язык чехов звучит гораздо приятнее польского, о происхождении которого у наших украинских мужиков есть следующая характерная легенда. Говорят, что когда для всего мира заготовлялись языки, то старый мастер, которого в нашей печати принято называть Юпитером, установил огромный котел, всыпал в него все специи, налил воду и зажег под котлом костер, да и говорит ожидающим себе языков народам: «Идите себе, братцы, покуда сосните. Это не скоро сварится: вы тем часом успеете отлично выспаться. Только утром завтра, чуть зорька, вставайте и приходите, а то языки остынут и не будут годиться». Люди послушались и пошли спать, а мастер опять сел и варит. Котел кипит, шипит, бродит. Ночь тихая, ни звука, ни шелеста в спящей природе, а котел все брж! прш! хржчу! Мастер вскинется от своей дремы, потихоньку снимет пену длинным уполовником; бросит ее в нарочно для этого поставленный возле котла черепок, и только опять заведет глаза, как кипящий котелок опять пршж-вчеж-бржав! Мастер опять снимет пену и опять сбрасывает ее в тот же черепок. Такая работа шла во всю ночь, и черепок чуть не переполнился пеною. Но забрезжилась зорька, и безгласные народы потянулись со всех сторон за языками. У каждого народного старшины в руках был новый муравленый горшок, с которым он и подходил к варившему языки мастеру. Мастер зачерпывал из котла уполовник сваренной смеси и вливал каждому народу в горшок его вождя порцию, и народы, получивши свою долю слова, отходили. В короткое время роздано было все, и мастер, повернув пустой котел кверху дном, хотел было уже идти домой, как вдруг на дальней черте горизонта показалась куча людей, которые бежали, страшно размахивая руками и не издавая, между тем, никакого звука. Мастер испугался: неужто же, подумал он, я ошибся? Неужто я кого-нибудь заделил, или меня надул кто-нибудь и два языка себе взял? Он взглянул на жидов, которые, сидя, «гирготали», и, услышав, как они «гиргочат» и вполжидовского и вполпольского, сказал: «Ах вы мошенники! чтоб вам за это некрещеными подохнуть», и при этом дал им уполовником такую затрещину, что они очутились в самом Бердичеве.
Между тем, те, что махали издали руками, подбежали и просят себе собачьим языком языка человеческого.
— А куда же вас черт носил? Где вы в свое время были? — сердито спросил их старый мастер.
— А мы, — говорят, — спали.
— А чего же вы спали, когда вам рано прийти велено было?
— А мы, — говорят, — ничьих велений не слушаем, потому что мы сотворены паны вольные.
— Кто же вы такие? — говорит. — Как вам название дано?
— Названье, — говорят, — нам дано поляки-неслухи.
— Ну так быть же, — говорит, — вам, поляки-неслухи, теперь без человечьего языка за то, что вы меня не послушались и проспали, и вякайте вы всю жизнь свою по-собачьи.
— А нам плевать на это, — отвечали ему поляки-неслухи, — не давай нам языка — и не надо. Мы про тебя же и пойдем гавкать, что ты котла щей и того поровну разделить не сумел, а еще мастер над мастерами называешься!
«Старик засорόмался» (сконфузился).
— Ах, вы, волк вас заешь, проклятые! ведь, чего доброго, и вправду всю вину на меня свалят: тогда невесть как люди меня и почитать станут. Ну да ничего, я же вас удовлетворю, — подумал он и, «хихикнув себе в свой сивый ус», говорит:
— Ну не скучайте, поляки-неслухи, я вам дам язык, да такой, что на все языки будет похож, а никому его путем не выговорить.
С этим старик взял черепок с пеною, что стоял у котла, и отдал его со всеми собранными в него «прж-брж-чзень», а «вони сие взямши, старого дидусю подяковали, да и пишли по усему свиту пржикать да дзекать».
Вообще я знаю, да, конечно, и все знающие польский язык знают много написанных на нем замечательных вещей; но ставить высоко достоинства этого языка никто понимающий истинные достоинства языка не может. Мало того, что в этом языке нет слов, отвечающих нашему здравствуй и прощай, латинскому salve и vale, а есть только bądz zdrów, или dzień dobry, и do vidzienja (будь здоров, или добрый день, и до свиданья), на нем нет средств обратиться к простолюдину без выходящего повсеместно из употребления аристократического ты. По-польски можно сказать или пан или ты. Сами чувствуя неудобство говорить некоторым людям ни ты, ни пан, они изобрели нечто среднее: это слово waszeci (нечто вроде нашего «ваше степенство»); но смешно и с этим waszeci обратиться к своему повару или лакею, и для них не остается ничего кроме ты. Отсюда вытекает весьма ощутительное неудобство говорить в Польше с человеком, не зная его сана: лакей и горничная конфузятся, если вы отнесетесь к ним с словом pan или pani, а идущий за плугом застенковый шляхтич оскорбится и ничего вам не ответит, если вы отнесетесь к нему с ты. Последствием всего этого в языке бездна самой смешной напыщенности, оригинальнейший образчик которой мне довелось слышать в Кракове. Будучи первый раз в жизни в этой второй польской столице, я пошел однажды побродить по житному базару. Здесь, от нечего делать, я стал приценяться к продажной живности и к другим продуктам. В одном углу, прислонясь спиною к стене Sukienicy[69] стоял бравый кракус и держал за ноги зарезанного поросенка. Я полюбопытствовал узнать, что стоят в Кракове поросята, и спросил: сколько стоит этот поросенок?
— Да я-то бы хотел за него одного рейнского, — ответил мне поляк.
Я сказал, что это, мне кажется, дорого; что за такого поросенка, по-моему, довольно бы спросить три или четыре злотых.
— Э! ба! — возразил мне с значительною миною поляк. — Как не четыре злота? Да я сейчас только его коллегу за рейнского продал.
Это у поросенка-то, изволите видеть, есть свой kollega, точно у какого-нибудь доктора философии или медицины!
Но перенесемся, как делают фельетонисты, от этого поросенка к «славянской взáемности», тяготение к которой столь ядовито и столь бестактно осмеивают в чехах поляки. Что худого, что вредного видят поляки в этом племенном тяготении? Выйдет ли из него хоть в далеком будущем что-нибудь пригодное для славянской федерации, о которой мечтают чехи, или вся эта wzajemnosć так и ограничится одними симпатиями, которые будут охладевать или разгораться, смотря по тому, как наша политика будет утешать или огорчать славян, глядящих на нас очами упования, — не все ли равно это полякам? Обманем мы великие и напряженные надежды уповающих на нас славян, эти славяне всегда еще не потеряют возможности обратиться к политике поляков, заключающейся в том, что они, по сравнению их поэта, «jak wąz kijem przytiosnenty» (как прижатый палкою уж), поднимают свои головы то туда, то сюда, и все лишь только затем, чтобы чувствовать, что хребет их, пригнетен и что в великом свете всем для них «несть избавляяй». Чехи все-таки могут о чем-нибудь мечтать, глядя на наш цельный народ, который верует еще в свои авось и небось, не знает ни карты своего племенного родства, ни своего исторического прошедшего ранее 12-го года и не имеет понятий о международном праве. Самое невежество этого народа дает право мечтать о значении его симпатий, когда он снимет с себя свое невежество, и есть много причин думать, что в тех симпатиях будет очень много с общеславянскими симпатиями. А что же могут принести Польше ее симпатии к далекой, чужеплеменной Франции, столь блистательно засвидетельствовавшей в наши дни свою политическую неспособность ни к совершению начатых ею внешних дел, ни к ограничению усилившегося донельзя более внутреннего произвола чиновников? И во имя чего будут жить и какие бы то ни было симпатии французов к Польше, как только свободолюбивые французы поймут наконец, что переворот, совершенный в Польше в пользу угнетенного и задавленного польским дворянством народа, совершен не революционною Польшею, а консервативною Россиею; что Россия никогда не была в Польше враждебна польской демократии, польскому народу, а ограничила только произвол потомков польской олигархии, т. е. сделала там именно то, во имя чего поднимались честнейшие из народных революций, но избегла при этом большинства увлечений, неразлучных сопутников освобождения посредством революций? Где найдутся чьи бы то ни было симпатии для Польши, когда Европа поймет, что каждый поляк хочет быть поляком 1772 года и что он не разнится с поляком того времени ни в нравах, ни в понимании? Куда бы годилось этакое урод-государство? Но возвратимся опять к парижским чехам. У чехов и у поляков в Париже есть свои общественные сходки. Чехи радушно принимают к себе всякого польского гостя, а поляки принимают, кажется, всего только одного из чехов, и то по вниманию к особому политическому авторитету этого одного. Чех этот — самоотверженный славянский страдалец, бившийся за свободу с горстью парижских студентов против цезарских войск австрийского императора и проведший в сыром каземате Иозефштата лучшие годы своей юности, Иосиф Фрич (ныне объявившийся таким врагом славянской унии с Россией). Он нужен полякам, чтобы удерживать на их стороне общественное мнение, так как его здесь очень уважают, и притом же он корреспондент многих чешских газет; но как Фрич тоже в душе своей чистый чех и федералист, то поляки, куртизаня с ним в глаза, за глаза называют его «смешным славянским фанатиком». Будь он поляк, а не чех, он был бы герой, а теперь он шут. Что говорят этому чешскому эмигранту на польских сходках — он никогда не рассказывает, и я его, разумеется, никогда об этом не расспрашивал, хотя мы очень сошлись и очень верили друг другу. Но один раз вечером зашли ко мне два поляка. Начали говорить о том, о сем и договорились до отношения поляков к русским в Галиции: вышли вещи пресмешные и прежалкие, выходило, например, что русские, как негры, от самой природы обречены на холопство. В этот же вечер у поляков было заседание, а наутро заходит ко мне мой знакомый чех. Я ему и рассказываю бывший у меня вчера курьезный разговор, по которому выходило, что русские в Галиции непременно должны служить Польше, а не домогаться никакой самостоятельности; что либеральные венгерцы совершенно правы, вынародавливая славян, отданных им австрийскою политикою; что такая система действий совершенно законна и справедлива и что поляки с венгерцами это понимают яснее всех и потому так между собою согласны, что даже в песне поется:
Polak z Wegrem —
Dwa bratanki,
Jak do szabli,
Tak do szklanki.[70]
Рассмеялся мой чех своей милой улыбкой, походил по комнате и говорит с таинственным видом: «Это чтό еще! Это хоть на давности основывается. А вот я тебе новое расскажу: говорят, что и чехам, и тем никакой самостоятельности не нужно! говорят, что мы даже не имеем права быть особым народом, а только можем иметь свое провинциальное управление. Всеславянские паны, эти поляки, да и все тут!»
— Это вчера что ли, спрашиваю, так порешили?
Чех качнул утвердительно головою и опять рассмеялся.
— Ну, а нас же к чему определяют? — спрашиваю я.
— Да о вас, монголах, уж и речи нет; куда вас, уральчиков! Вас за Урал! — продолжая смеяться, отвечал чех.
Но, несмотря на то, что поляки так игнорируют чешское равноправие, чехи все-таки стараются ничем не заявлять полякам своего нерасположения ко многим их властительным тенденциям. Большинство всех чехов, которых я знал, необыкновенно мягки. Лежащие на них следы несомненной благовоспитанности смягчают их страсти, сглаживают их речь и освобождают ее от нашей резкости и от польской кичливости или сменяющего ее унижения. Чех, о котором я говорю, неутомимо хлопочет о своих народных делах: ни австрийская тюрьма, ни парижский голод, геройски разделяемый с женою и двумя детьми, не останавливают его твердой воли: он переводит, пишет, издает исторические и политические вещи, направленные к возбуждению народного духа. Преследуя идею «славянской взаимности», он не останавливается на словах и еще делится чем может с бедными соплеменниками. В мое время у него жили два поляка и один бедный чех. Поэт Фрич — это настоящий, урожденный революционер, преданный душою и телом делу восстания против Австрии и забывающий себя для этого дела. Я часто ходил к этому славянину. В один из моих визитов я застал у него незнакомого мне поляка. Хозяин назвал мне этого поляка своим приятелем. Поляк при моем входе рассматривал какую-то брошюру и, ответив мне на мой поклон весьма сухим поклоном, продолжал читать. Мой хозяин был не в себе: он поглядывал то на меня, то на сидевшего поляка, то на его книгу и, выбрав мгновенье, когда поляк поднял голову, сделал ему какой-то знак. Что бы это такое? — думаю себе. Хочу уходить — он не пускает, а сам все более и более не на месте. Никак не пойму, чтό бы это могло значить, а вижу, что беспокойство хозяина не только не прекращается, но даже и увеличивается. Наконец, смотрю, не вытерпел мой чех, встал и, подойдя к поляку, полушутя, полусерьезно вырвал у него из рук брошюру, которую тот читал, и швырнул ее на шкаф, проговоря в то же время: «Полно читать! невежливо. Давай поболтаем лучше». Поляк сделал нетерпеливую гримасу, перекинулся несколькими незначащими фразами и ушел, а мы, говоря о том, о сем, дошли до речи о Мазепе. Фрич трудился тогда над драмою «Мазепа» и, собирая все написанное о покойном гетмане, приобрел также «Мазепу» Пушкина. Но он плохо понимал наш язык и вздумал в этот мой визит заставить меня перевести ему подстрочно некоторые места с русского языка на польский. Книга была на шкафе. Я поставил стул, чтоб найти Пушкина, и увидал брошенную за час перед этим серенькую книжечку. Это был номер одного пошленького, но сердитого польского периодического издания, почитавшегося органом г. Мерославского. Я тотчас же узнал это издание и спросил хозяина, зачем он не хотел, чтобы его гость читал книжечку. «Так, говорит, брось ее, займемся Пушкиным». Проходя в тот же день домой по rue de Saine, я зашел в польскую книжную лавку и купил себе тот номер польского журнала, который так тщательно хоронил от меня мой чех. Ничего особенного: рассуждения о нашем монгольском происхождении, о нашей дикости, терпящей людей, живущих «собачьими браками», о нашем невежестве, при котором явилось целое поколение, не понимающее простых и законных прав собственности, и несколько выходок против издателей «Колокола» и против поляков, водящих знакомство с этими «poczciwymi moskaliami».[71]
— Зачем ты купил эту книгу? — спросил меня мой чешский приятель, найдя ее на моем столике.
— Зачем ты ее прятал у себя? — отвечал я вопросом на вопрос.
— Да я просто не хотел бы даже, чтоб ее кто-нибудь читал.
— Да; это не посодействует «slawianskej wzajemnosci»!
— Ну разумеется. Брось ее!
И чех швырнул книжонку в топившийся камин.
Поистине черта, свидетельствующая о довольно великой наивности, но в то же время черта той милой деликатности, от которой так далеки наши наглые и невежественные революционеры, считающие в обязанностях своего звания рвать всем носы и наступать на ноги, пока не получат сами хорошей затрещины.
Назад тому года три в Париже затевалось учреждение славянского клуба, в котором могли бы сходиться дети всех концов славянщины, узнавать друг друга и друг с другом сближаться. Инициатива этого клуба принадлежала демократическому славянскому кружку Парижа, и чехи в этом деле принимали самое живое участие. Но клуб не устроился: поляки уклонились от него, всеконечно, первые, как потому, что им, как славянской аристократии, не резон мешаться с чехами, болгарчиками, хорватчиками и всяким «славянским сором», так и потому, что здесь допускалось участие русских. А наши милые соотечественники не поддержали этого, потому что они, кажется, вовсе не чувствуют сколько-нибудь серьезной потребности не только в «славянской взаимности», но даже не нуждаются и в «русской взаимности», находя ее совершенно лишнею при огромном запасе охоты у каждого тешить свой обычай, не думая об общих интересах той страны, самое имя которой в некоторых невежественных устах как бы в насмешку над нашею несуютностью произносится вместо Россия «Рассея». Конец концов с затевавшимся славянским клубом был тот, что склубились одни чехи. Многого им одним затевать уже было нечего, и они, обобрав себе удобную комнатку в одном большом кафе на углу rue St. Honoré и rue de Valois, стали сходиться в определенный час определенного дня недели. Так и до сих пор существует этот подмоточек предполагавшегося славянского клуба. Все парижские чехи, от поэта Фрича до переплетчика, брошюрующего его издания, сойдутся раз в неделю, попьют пива, поговорят о родине, потолкуют о положении своих земляков, находящихся в Париже, и поищут средств, кому чем и как помочь общими силами, и сейчас же, если нужно, скинутся по одному, по два франка. «С миру по нитке — голому выходит рубашка». Пока бедняка так или иначе пристроят, пока он осмотрится, осмелится, ему не угрожают ни голод, ни холод, ни Клиши.
Некоторые из наиболее горячих чешских клубистов до сих пор надеются, что к ним мало-помалу примкнут другие славяне и их собраньице разрастется в общеславянский клуб; но мне эти надежды представляются совершенно неосуществимыми, особенно с тех пор, как, не говоря уже о поляках, даже сербы устроили себе собственные сборные пункты. Впрочем, не знаю, как это будет, может быть, чешская ласка и общительность и притянет к себе как-нибудь молодых сербов и русских. Но для этого нужно, чтобы они прежде сошлись и перезнакомились; а знакомство их до сих пор очень невелико. С чехами в мое время водились из наших всего человек пять, и тех перезнакомил я, через Фрича. Я собственно познакомил с Фричем не пять человек, а гораздо более. С ним раскланивался и жал ему руки почти весь наш кружок. Но все это было только так называемое шапочное знакомство.
Так как в Париже у многих принято встречать новый год не в своих квартирах, которые часто бывают неудобны для более или менее людных собраний, а в кафе или гостиницах, где в нарочно нанятой для этого комнате с вечера собираются знакомые люди и пируют всю ночь, никого не стесняя и никому не обязываясь, то и у нас за несколько дней перед европейским новым годом пошли толки, где бы нам состроить свой новогодний праздник. Чехи назначили складку по пяти франков и выбрали распорядителем пира поэта Фрича. Фрич с обыкновенной своей заботой о славянской взаимности хлопотал, чтобы при встрече нового года собралось с чехами несколько поляков, русских и других славян. Но из русских был только один я, а из поляков один богатый ювелир из чешской Праги с шестнадцатилетним сыном. Но и эти-то два поляка — собственно отбившиеся овцы польского стада. Они оба обжились с чехами и сами гораздо более чехи, чем поляки, особенно сын, родившийся уже в чешской Праге и от матери-чешки. Пир был устроен в двух комнатах небольшого трактирчика в rue Vavin неподалеку от rue l'Ouest, где жил, а может быть, и теперь живет Фрич.
Это пиршество по своему характеру стоит, чтобы о нем упомянуть хоть вскользь.
Еще за неделю ко мне зашел мой знакомый чешский художник, работающий в галереях Люксембурга, и таинственно намекал на эффектные приготовления к пиру. Зайдя после того к этому художнику, я увидел у него на столах несколько транспарантов, необыкновенно артистически нарисованных в три тона; а на мольберте стоял так же хорошо написанный картон. Я не удержал хорошо в памяти всех сюжетов этих рисунков, но помню, что все они имели характер или фантастический с политическими оттенками не в пользу Австрии, или юмористический, где обыкновенно шваб занимал плачевно-смешную роль. За два дня до нового года, встретясь случайно с Фричем, мы зашли посмотреть помещение, ангажированное им для нашего пира, и оно мне очень не понравилось по своей тесноте. Так и вышло, что было очень тесно, и мы встречали новый 1863 год буквально «в тесноте, но не в обиде».
31-го декабря нового стиля положено было всем нам сходиться в десять часов вечера. Я отправился в девять с половиною, но на rue de Vaugirard встретил уже молодого чеха Вуячка, который, в качестве домашнего адъютанта Фрича, помогал ему во всех распоряжениях по празднеству и между прочим наблюдал, чтобы созванные славяне все непременно явились налицо. Пока мы дошли с Вуячком до Théâtre de Luxembourg, к нам уже пристали человек десять чешских уврьеров. Все они были расчесаны, напомажены, одеты в новое платье и вообще являли собою самый пристойный и праздничный вид. Для меня это все были люди большею частью уже знакомые или по чешскому кафе, или по дому Фрича. На rue Vavin, в чертогах празднества нашего, мы уже застали большое собрание. Стол был поставлен русским покоем; сервировка стола небогатая, без прозрачных граней тяжелого хрусталя, но вообще очень чистая и изящная. Вино было исключительно красное, ценою, как я полагаю, от франка до франка пятидесяти сантимов за бутылку; плоды в пяти вазах недорогие, но свежие. Был, однако, и виноград, в это время и здесь не дешевый.
До ужина все как-то не ладилось. Толпились мы все, или, как малороссы говорят, «тупотались», на одном месте и никак не могли прийти до «взаемности». Так продолжалось до начала ужина. С размещением за стол все приняло иной характер — характер какой-то торжественно-веселой стройности и порядка. Трапеза началась неизбежным итальянским супом, потом мясо воловье, потом мясо неизвестного свойства — вероятно, кроликовое; потом легюмы, легюмы и легюмы и наконец сласти. Во все время ужина перед трапезующими возобновлялись бутылки красного вина, и раз обошла компанию огромная полная братская чаша из чешского хрусталя. Чашу эту первый пригубил Фрич, сказав над ней несколько горячих слов, заставивших чехов издать радостные крики. Обойдя всех присутствующих, братская чаша опять окончилась на Фриче. В двенадцать часов поставили транспарант, на котором был изображен старый год, уступающий свое место новому. Перед транспарантом началось чтение патриотических стихов, пение национальных гимнов и т. п. Потом несколько гостей закостюмировались в маленькой комнатке, где стоял запас нашего вина и в углу, на полу, лежали грудою наши пальто и шинели. Ряженые взошли в общую комнату и исполнили несколько характерных чешских сцен, из которых три были полны живейшего юмора. Особенно был смешон огромный рыжий художник с необритою длинною бородою в костюме чешской крестьянской старухи. Старуха эта вела сцену с цезарским жандармом, который отыскивает в селе дезертира. Затем транспарант разорвали на куски и всякий взял себе на память по кусочку, и снова началось питье и пение. Пели песни патриотические, застольные и сатирические. Припевы чешских песен очень удобны тем, что можно, вовсе не зная песни, совершенно верно выполнять эти припевы. Часто припев поется тою же самою нотою, которою заканчивается пропетый стих, но только слабее или в унисон. Это выходит очень характерно и благозвучно: точно эхо вторит голосам. Запевало поет, например:
Kto ma żenu niekaranu,
(Хор) Niekaranu.
Niech sie kupi tatar na niu,
(Хор) Tatar na niu… и т. д.[72]
Точно эхо, отзывающееся в развалинах чешского Карлова Тына, где каждое слово повторяется десятком разных отголосков. Пели мы и пили, пили и пели. Наконец, когда чешский репертуар, видимо, стал истощаться, потребовали песен от других славян, то есть от меня и поляка. Поляк на сей раз все-таки оказался поляком: он спел одну историческую песню, слов которой я не знаю, и потом ужасную и по словам и по музыке:
Z dymem pożarów,
Z plamem krwi bratniej
Do ciebie, Panie,
Zanosim glos.[73]
Песня возбудила самое напряженное внимание и сочувствие. Наступала моя очередь спеть русскую песню. Выбор был весьма труден. Чехи, утратившие звуки ы и твердое л, не могут выговорить наших слов, в которых беспрестанно встречаются эти звуки, да и к тому же они не понимают и самых слов, так что выбрать русскую песню, в которой бы они могли участвовать в той мере, в какой мы можем участвовать в исполнении чешской песни, невозможно. Но я вспомнил наши великорусские святки с их подблюдными песнями, и, зная, что слова собственно здесь ничего не значат, а что у чехов часто припевается слава (slawa), запел:
Как идет млад кузнец из кузницы.
Слава, слава!
По второму куплету музыкальные чехи отлично схватили мотив припева и с величайшим одушевлением подхватывали: «slawa! slawa!» Выбор вышел пресчастливый. В этой «славе», которую у нас распевают, не придавая этому слову никакого особого значения, все равно как «Дунай мой Дунай, сын Иванович Дунай», чехи услыхали русский отклик на их призыв «russow» к «slowianskej wzajemnosci». Пять или более раз меня заставили пропеть «кузнеца», получившего вдруг в этот вечер некоторое международное значение, которого, конечно, никогда не имел в виду тот, кто сложил эту песню. Пир закончился поднесением Фричу от всех присутствовавших чехов большой бронзовой чернильницы, которая, вероятно, и нынче стоит на его камине в rue de l'Ouest. Чехи вообще предполагают в русских любви к славянству несравненно более, чем мы ее имеем. Из наших современных литераторов чехи почти все знают одного И. С. Аксакова. В его стремлениях они видят стремления целой России и очень сожалеют, что такой хороший и разумный человек, как г. Аксаков, не умеет воздержать нас от централизаторства, преобладающего в нашем славянском чувстве. О наших писателях-космополитах чехи здешние, разумеется, не знают ничего, да, вероятно, и не подозревают, чтобы у первых, по их мнению, славян — у Russow — были такие странные писатели! Чехи не могут вообразить народа-космополита и, как очень жаркие патриоты, иногда уже делаются довольно странны с своим пуризмом; но как же сравнить несколько узкого чеха с одной безобразною русской личностью, доведшею известный пражский кружок сначала до столбняка, а потом до ярости и презрения! Личность эта была русская барыня, молодая, красивая, лингвистка и вояжерка. Приехала она в чешскую Прагу с детьми и, демократизируя за границею, как вообще делают наши молодые люди «благородных фамилий», познакомилась с большою здешнею патриоткою, дочерью «obuwnika» (сапожника), Жозефиною Моурек, очень просвещенною и знающею почти все европейские языки девушкою, о которой я вспоминал в начале моего письма. Сблизившись до известной степени с Моурек, она сказала ей в одном разговоре: «Как вы счастливы, что у вас два родных языка! Это удивительно приятно, что каждый чех в колыбели уже по необходимости говорит по-чешски и по-немецки!»
Можете вы себе представить такое bon mot![74] Думайте — не придумаете, что бы глупее можно было сказать чеху или чешке. То, что они, порабощенные немцами, считают своим несчастьем и чему подчиняются только по печальной необходимости, то в понятии русской барыни счастье! По ней, надо полагать, будь наша страна в таких отношениях к Англии или, еще лучше, к Франции, в каких находится несчастная Богемия к Австрии, это было бы «счастье!»… По аналогии так выходит. В Праге многие знают этот удивительный разговор и, передавая его каждому русскому, с ужасом спрашивают: «Как это у вас выходят такие люди из вашей цивилизации?» Наш край, друзья, дубровен: у нас дураков не орут и не сеют, а они сами родятся. Мы нынче космополиты, завтра патриоты, послезавтра нигилисты — и все это как ветер подует. Прочно взялось только одно: мы чиновники и хотим ими остаться до века, изощряясь лишь сообразно духу времени греть под своими вицмундирами то симпатии к самовознаграждению, то симпатии к неподвижному statu quo,[75] то сугубую слабость к некоторому умеренному нигилизму.
Мои первые два письма о парижской жизни, неудовлетворительные, как мне кажется, решительно во всех отношениях, особенно не удовлетворили многих читателей журнала, интересующихся парижскою жизнью русских людей большого света. Хотя я и оговаривался в моем первом письме, что сведения мои о людях этого круга особенно бедны, но читатели мои оказались слишком неснисходительными, и мне передано много желаний, чтоб я еще раз возвратился к русским людям soit disant[76] избранного общества и написал хоть сколько-нибудь поподробнее, что я знаю о их парижском житье.
Сведения мои, конечно, нимало не увеличились с тех пор, как я признался в их скудности; но чтобы не казаться кривляющимся и манерничающим, когда меня просят, я решаюсь, насколько могу, исполнить эту лестную просьбу.
О жизни елисеевцев очень удачно выразилась одна хорошо знающая их русская писательница. По ее словам, они здесь «суетливо скучают». Когда субъект, предназначающий себя в России на укомплектование елисеевского кружка в Париже, едет во Францию, он обыкновенно или очень малосмыслен и о Париже знает только, что «ах, милый Париж!» да «ах, обворожительный Париж!», или же он знает уже Париж, но знает его только с той стороны, которой он прикасался и за которою он ничего не знает и знать не хочет. Новые елисеевцы обоего пола с приезда находятся в беспрерывной суете и ажитации. Они бегают по бульварам, снуют из отеля в отель, из пансиона в пансион и устраиваются. Устроившись, елисеевцы опять бегают по бульварам, по кафе, по луврским и люксембургским галереям, потом устают и на некоторое время усаживаются дома и пишут в Россию. После отправления первых писем елисеевцы предаются размышлениям: какие мысли возбудят эти письма там, в Саратовской или в Рязанской губерниях, где хочется кого-то позлить, кого-то удивить, кого-то подзадорить? Пишучи эти свои письма, елисеевец убежден, что он изучает Париж и что ему в Париже очень весело; но, окончив письма, он чувствует, что все это он налгал, что никакого Парижа он совсем не изучает и что ему в настоящие минуты даже вовсе не весело. «Завтра я уж того…» — говорит себе елисеевец, подправляя под своим плечом подушку. «Завтра я уже непременно пойду… а куда бы это пойти? Черт возьми, однако, как много мест в Париже!» Завтра елисеевец пойдет в Jardin des Plantes[77] и будет изучать, как черная испанка Мумма, позабывшая супруга, обнимается с огромным белым северным медведем, с русским варваром мохнатым. Потом он ходит в театры, и время его, в самом деле, полно, потому что в Париже каждому охотнику глазеть и удивляться действительно есть на что поглазеть и чему удивляться. Так проходят две, три недели. Новоприбывший елисеевец еще не осмотрел и половины вещей, достойных большего или меньшего внимания, но уже в один приятный вечер он признается какому-нибудь старожилу-елисеевцу, что «черт возьми, скучновато бывает». С этих пор елисеевец рассуждает, что Париж город отличный, удовольствий здесь куча, девочки преочаровательные; но нельзя же так жить совсем без знакомств, жить без того, чтобы отдохнуть вечерок в чьей-нибудь семье или, что еще лучше, убить вечерок «возле порядочной женщины». Искание порядочных женщин особенно заманчиво, ибо, прежде чем устроится такое знакомство, обыкновенно искателю кажется, что порядочная женщина, встретясь с нами, непременно поспешит сделаться для нас непорядочною женщиною, а мы тогда станем над ней ломаться, да по усам ее, да по усам, да по усам!.. В знакомстве с французами и француженками елисеевец не находит того, чего он ищет. С французом можно быть знакомым целый год, целый ряд лет — и не только не попасть к нему в дом, а даже и не знать, где стоит этот дом. О семейном же знакомстве, если француз семеен, и говорить нечего. С французскими семействами знакомиться очень трудно, и парижский француз никогда не обнаруживает особенных желаний вводить иностранца в свой семейный кружок. Исключения, вероятно, есть; но я говорю не об исключениях.
Значит, ощущается потребность в русском семейном знакомстве. Это всегда удается. При помощи какого-нибудь из елисеевцев очень легко попасть в русский дом известного тона. В дома К., Д., Б. и некоторые другие русским попасть решительно невозможно. Почтенные хозяйки, скрывающиеся в моем скромном письме под этими буквами русского алфавита, стремятся исключительно к французской аристократии, а потом только к официальной России да к поповке. Каждому негодяю парижского происхождения эти дома и самые их хозяйки гораздо доступнее, чем сравнительно меньшему негодяю происхождения отечественного. Но зато одинокие елисеевцы вхожи в дома елисеевцев либеральничающих. Эти подрукавные аристократики доступны даже для каждого земляка из Латинского квартала, лишь бы этот земляк имел на себе приличный сюртук и приличную терпеливость для переливания из пустого в порожнее. Обзаведясь таким знакомством, новый елисеевец начинает вести жизнь, полную всяческой пустоты и самых непроизводительных затрат времени. В семьях подрукавных елисеевцев царит нудьга непомерная. Насмотрелся я вволю на эту полную отчаянной скуки жизнь!.. Дни в этих домах большею частью таковы: встает почтенное семейство в десять или двенадцать часов и пьет поганую французскую бурду вместо кофе. Обыкновенно кофе пьют здесь в постелях, что, впрочем, не совсем удобно, если принять в сображение, что подрукавная русская аристократия Елисейских полей страшно скряжничает в Париже и на прислугу, и на помещение, и на все то, без чего она дома обыкновенно якобы и жить не может. Потом начинается одеванье, совершаемое наскоро и в изрядной тесноте, по милости которой весьма нередко Иван Петрович не может застегнуть своих подтяжек так, чтобы эту грациозную операцию не наблюдала подвязывающая в эту же минуту свой кринолин Наталья Ивановна. Потом завтрак, какой Бог послал, но большею частью скверный, т. е. хуже того, который едят в Латинском квартале, за 1 фр<анк> 25 сант<имов>. В два часа елисеевцы идут шляться: мужчины направляются в рестораны или к кому-нибудь из латинцев, а женщины фланируют или по Тюльерийскому саду, или ротозейничают перед магазинами. Потом трех- или четырехчасовой интервал одиночной домашней скуки, которая людей, не умеющих путем и поскучать терпеливо, в несколько же минут доводит просто до одури. Наконец часов в семь вечера настает обед. К обеду иногда подойдет кто-нибудь из одиноких русских. Обед у многих подрукавных елисеевцев готовят дома, если они не живут на пансионе, и мне их обеды казались иногда довольно вкусными. По крайней мере, видишь на столе чашу с супом, от которого еще идет пар, мясо разрезано не такими тоненькими кусочками, какими его умеют резать одни французские рестораторы, и целую жареную птицу. Целый жареный гусь на столе в Париже производил на меня самое благоприятное впечатление. Я, так сказать, умилился сердцем и готов был прижать его, как старого знакомого, к своему жилету. Но, несмотря на то, что с гусями я знаком с самого раннего детства, когда еще санкюлотом загонял их ореховою хворостиною в пруд с панинской плотины, а с генералом К. я познакомился только в Париже, я обыкновенно после всякого такого обеда прижимал к моему жилету самого генерала, великодушно угощавшего меня с русским хлебосольством жареными гусями.
Во время господского обеда зимою какая-нибудь Клара или Анета «делает камин», к которому все после обеда и усаживаются. Мужчины курят и скучают, женщины скучают, но не курят или тоже курят. К девяти или десяти часам дадут самовар, составляющий почти единственную русскую вещь в доме россиянина Елисейских полей. За чаем еще прибывает гостей: к этой поре, кроме русских, явится какая-нибудь рюмкообразная французская бородка, принадлежащая непременно какой-нибудь знаменитости. Елисеевцы и до сегодня страх как падки на знакомства с европейскими знаменитостями, и особенно с французскими. Но как ни Жюль Фавр, ни Эмиль Жирарден, ни другие, хоть меньшие, но все-таки сколько-нибудь замечательные личности не хотят наслаждаться вольнодумными беседами рязанских или костромских мыслителей, то наши бедные соотчичи, столь уважающие французские знаменитости, в наказание гордецам, подобным Жюлю Фавру, производят в знаменитости какого-нибудь кропателя водевилей, какого-нибудь фельетониста, врача кухонной прислуги его величества императора Наполеона или даже актерчика какого-нибудь бульварного театра. Помню, как одной нашей землячке обещали привести к ней Сарду. Тряслась она даже вся бедная, как бы ей не скомпрометироваться. И похвастаться-то ей хотелось, что у нее будет великий писатель, и обмирала она со страху, чтобы не набрели к ней соотчичи, особенно имеющие слабость рассуждать, да еще ломить, мешая французское с нижегородским. Но дело уладилось благополучно: великий писатель не пришел совсем.
Я не знаю, может ли чувствовать и выражать что-нибудь подобное хотя одна в России живущая поклонница русской литературы, если в салоне ее будет ожидаться даже хоть такой литератор, как г. Авенариус, которого где не знают по его произведениям, то и там (как сам он рассказывает) очень уважают за его красоту и ловкость? Не думаю; и ему, со всей его красотою, по моему мнению, могло очень везти только в Италии, где, как видно из его рассказа, теперь очень интересуются русскими литераторами и обращают на них крайнее свое внимание. Но у нас и таких гостей встречают довольно равнодушно.
Но возвращаемся на вечер к елисеевцам.
Наберутся к ним сюда разные господа и болтают, а толстые хрящи лопоухого славянского павильона сводят весь тонкий умственный сор в премудрые головы, и тупеют эти несчастные, праздные головы, и нудятся, «суетливо скучая», пока не придется им волею или неволею
из-за морей
Ни лучше, ни умней
Под кров домашний возвратиться.
В двенадцать часов, в час последних омнибусов, гости расходятся, и елисеевцы отходят ко сну, для того чтобы укрепить свои силы к предстоящему завтра повторению пустоты прожитого дня.
Из всех елисеевцев, которых я знал в Париже, об одном только доме я могу вспомнить с удовольствием и с почтением. Обыкновенных, ежедневных посетителей там было немного, и то все труженники и народ крайне небогатый. Но там всегда было очень приятно и порою неподдельно весело. Были вечера, после которых, бывало, хохочешь целый день. Такие вечера удавались, когда появлялись некоторые заветные личности с Champs Elysées.[78] Придет, бывало, барыня, из себя маленькая, дробненькая, а такой кипяток, что Боже ты Господи! Она все дебютировала в историческом роде. Чуть кто ей запротиворечит, она сейчас: «Ну так что ж! а знаете, что в Венгрии…» «Ну так что ж! а знаете, что в Польше… а знаете, что в Италии…» Все больше она болела гражданской скорбью по невежеству молодого поколения, и еще у нее гнил один зуб в сердце. Этот зуб было чадо с большим, но непризнанным литературным талантом. Очень догадливые люди рассказывают, что политическая секта русских матреновцев, о которой рассказывает в романе «Дым» И. С. Тургенев, основана этою именно кипяченою барынею и что она же сама повела матреновцев в Испанию, в подпиренейскую республику Андорру. Потом в елисеевском кружке зимою 1863 года встречался прелестнейший молодой человек, который был награжден от своего Создателя всем: ростом, дородством, умом, красотою и наследственной житницей; политики он не любил, а больше прилежал женщинам. Но надо и ему было о чем-нибудь убиваться «в сравнении с сверстниками» — он и убивался. Он самым серьезным образом убивался, что он не еврей и не может разделять судьбы этого гонимого народа. Далее часто являлся тут большой профессор, предобрейшая личность, но личность до того нескладная, что, глядя на него, всегда, бывало, подумаешь: «вот тот человек, у которого Гейне заметил две левые руки и ни одной правой». И, наконец, еще бывал молодой, очень благовоспитанный кандидат Петербургского университета, которого оригинальнейший генерал К. почему-то считал вечно поляком и чуть, бывало, завидит его, сейчас за пуговицу и спрашивает: «А скажите, пожалуйста, что это за странность, что поляки бунтуются?»
— Не знаю-с, не знаю. Я уже не раз говорил вам, что ничего о польских делах не знаю, — отвечает ему кандидат.
— То-то, странно как-то! — продолжает генерал в раздумье. — Им теперь не в пример лучше, а они бунтуются.
Бедный кандидат, бывало, не знает, куда ему спрятаться от вечно неизменных вопросов, получаемых им в качестве поляка к непременному разрешению. Генерал был очень маленький человечек, с очень маленьким личиком. Он был в летах, но ходил очень бодро, петушком. В доме, о котором я говорю, им иногда тяготились: надоедал уж он действительно. Меня генерал удостаивал особенного внимания за мои обширные, по его мнению, сведения о России. Это лестное мнение я приобрел себе, рассказав ему в феврале 1863 года новость, что вскоре после уничтожения крепостного состояния безднинские мужики несколько не поразумелись с февральским манифестом. За эту новость генерал, проживающий, по желанию своей супруги, пятый год в Париже, считал себя обязанным платить мне тою же монетою и, навещая меня, всегда приносил самые оригинальные новости. Так, например, раз застает меня генерал в постели.
— Спите? — спрашивает он, бесцеремонно влезая в дверь моего единственного покоя.
— Нет, ваше превосходительство: так только ленюсь, — отвечал я, узнав круглый генеральский голос.
— А я шел, да и зашел. Думаю, надо земляка проведать.
Мы с генералом оба в одной воде крещены и даже записаны в одну дворянскую родословную книгу.
— Отлично сделали, — говорю, — ваше превосходительство. Только вот досадно, что я заспался долго. Вы извините.
— Пожалуйста, и без церемоний и без превосходительств!
— Как же, — говорю, — этого долг требует чину вашему превосходство отдать.
— Полноте, пожалуйста, какое превосходство, когда нынче уж черт знает кого генералами делают. Это не прежние времена, а нынче мальчишки генералы… Не отдернуть ли вам ридό?
Генерал очень любил вставлять в русскую речь французские слова.
— Будьте так любезны, — говорю, — отдерните.
Генерал осветил мою комнату, отдернув тяжелые, густые занавесы. Я стал одеваться, а генерал сел по-кавалерийски верхом на стул и начал стукать об пол пятками.
— Генералы! — проговорил он. — Генералы? Какие это генералы? Это енаралы, да и не енаралы, а капралы-с! Именно капралы! Что это такое, я вас спрашиваю? На что это похоже все делается? Извините меня, я, может быть, очень глуп, но я ничего этого не понимаю. Я сам об этом говорю и сам, о чем говорю, того не понимаю. Я имею внучат, я принадлежу к старому поколению; но я понимаю, что мы все равны. Девятнадцатое февраля, понимаете, нивеляция — ну и все равны: я Василий Северьяныч, и мой Васька, который дома остался, тоже может думать, что и он Василий Северьяныч. И я это понимаю и подчиняюсь: демократия, так демократия. Но там делают не демократию, а кавардак-с! Да-с, кавардак. — Генерал привскочил со стула, приставил ко лбу указательный палец, и произнес с ажитациею: — Учителю, который зверьков описывал, генеральский чин дали! Да-с, да, я сам читал, так и напечатано: «За сокращением штатов, увольняется от службы с чином действительного статского советника бывший преподаватель зоологии такой-то!» Что же это! я вас спрашиваю, что это: «плетьми да на выпуск», что ли, как в старину писали, а? Вон из службы профессоришку, да генеральский чин ему в награду! — Генерал вовсе вскочил с места и, приложив себе к груди обе ладони, воскликнул: — Могу ли же я после этого гордиться своим генеральством?
Я уже молчу, чтобы не попасть в больное место; а генерал продолжает:
— Могу я гордиться, когда вместо того, чтобы дать человеку отступного тысячу, ну две тысячи рублей, ему дают генеральский чин! Он какое там ни на есть щипаное, да все-таки теперь превосходительство. Прав я или нет?
— Как же, — говорю, — не правы.
— Ну то-то и есть, а это чем кончится?
Я опять очутился в затруднительном положении, что отвечать; но генерал меня опять выручил. Не дожидаясь моего ответа, он начал:
— Вы не знаете, во время холеры в сорок восьмом году у нас был такой один генерал из профессоров. Шел он вечером из одного дома, да как, знаете, время холерное, он и того, нехорошо себя почувствовал на тротуаре… Ну понимаете?.. Ну-с, только а объездной жандарм на этот грех как нарочно и едет, увидал его да как гаркнет: «Что ты, говорит, за человек? чего ты тут уселся?» — да с этим хвать его своей рукавичищей по макушке, тот так на этом месте и плюхнул. Как он его по макушке-то хлоп, тот так и плюхнул. Нравится вам это?
— Помилуйте, — говорю, — что ж тут хорошего?
— Да-с! вот вам и генерал. Он обиделся, кричит: «Я генерал», а жандарм говорит: «Ну как не генерал! немало таких генералами называться станут! Пошел, пошел, говорит, в свое место, паршивец, а то сейчас в часть сведу на обрывке». Хотел жаловаться на жандарма; только все друзья и товарищи профессора отсоветовали. «Это черт знает что будет, сказали, такое дело заводить!» Вот вам и генерал, сам себя и замарал!
Старичок так и раскатился дробным смехом.
— Я вам серьезно скажу, — начал он через минуту, придавая своему голосу как можно более серьезности, — что это все кончится тем, что что-нибудь вспыхнет. Мой… как это… мой женин брат, брат жены моей, подавал статью, чтоб удержали этих писателей, чтоб того… Это знаете, был такой случай, что напечатали, что в Москве свадебные кухмистеры генералов на аренде содержат… Помните?
— Нет, — говорю, — не помню.
— Ну писали, что берут делать обеды с генералами или без генералов. По три целковых генералу платят, чтобы был вроде родства, для важности. А кто этому виноват? Правительство. Я по летам моим старый человек; но я против писателей ничего не имею. Что ж такое они делают? Они правду пишут. Мы их еще должны благодарить за это. Дочь Лена некоторые статьи в «Колоколе» мне давала читать. Что же я вижу в них: все правда. Настоящая правда! Все нехорошо, именно все нехорошо и беречь нечего, а правительство это тормозит. Ха-ха-ха! Само расшатало — и теперь тормозит. Тормозит? Нет, голубчики, поздно вам тормозить.
С литературою у генерала знакомство было, впрочем, самое поверхностное.
— А вы не слыхали об этом писателе… ох, как его? — спрашивает он меня однажды.
— Не знаю, — говорю, — о ком вы говорите.
— Да вот… новый еще… Ах, батюшки! очень, очень недурно сочиняет. Ах, да как же это его?.. фамилия-то?.. самая этакая еще простая фамилия. Ну новый! Ведь вы небось их всех знаете.
— Успенский? — спросил я.
— Нет, иначе.
— Помяловский?
— Нет, иначе; все иначе.
Я назвал еще несколько человек.
— Нет, все не те. Новый вот! Я у Елены Николаевны книжку взял: большая синяя книжка…
— Писемский? — спросил я, догадавшись по наружному описанию книжки, о ком идет дело.
— Писемский-с, Писемский. Вот именно Писемский. Экая штука какая!
— Да, это штука, — говорю я.
— Право. Как ведь это подъезжает подо все. Подите, ведь и у нас как писать-то начали!
— Что же говорю, хорошо? Нравится это вашему превосходительству?
— Да, ничего-с. Этак все критикует общество. Прежние вот эти Лажечников или Загоскин — я их, правда, не читал, — но они так не писали, как эта молодежь нынче пишет.
— Это, — говорю, — вы правы.
— Вы прочтите, пожалуйста.
— Непременно, — говорю, — прочту.
— Серьезно вам советую. Очень, очень оригинально.
— Вы что именно читали-то?
— Там это роман что ли какой-то. Очень оригинально.
— Вы согласны с тем, что пишет этот Писемский?
— Н-ну-с, это как вам сказать, все ведь критика; этого ведь не было. Мне только интересны эти молодые, начинающие писатели. Я вот тоже Марка Вовчка хочу прочесть. Видел я книжки с рассказами. Надо прочесть: я встречал ее, знаете, нельзя не прочесть. Знаете, даже как будто невежливо.
— Это правда, — говорю, — неловко.
— Подите, Марко Вовчок!..
— Что такое? Вот она женщина, вот она ходит, вот она бродит, одета в платье, шевелится, платье шуршит, как и у моей Натальи Ивановны или у Леночки, простудится: у нее насморк будет, точно как и у меня; а она писатель. Странно! неловко!
— Отчего же это, ваше превосходительство, неловко?
— Да так, как-то странно.
— Не вижу, что тут странного.
— Понимаете, у меня свой взгляд, и я говорю с моей точки зрения; а глядя au niveau du siècle[79]… разумеется, отчего же! Ведь вон Дурова была: кавалерист-девица; на коне, походы, бивачная жизнь «хоп-ля», марш-марш и равняйся. Да au niveau du siècle… военное время… ничего.
У генерала всегда были два взгляда: один собственный, по которому а плюс в было равно с, а другой — au niveau du siècle, пo которому то же самое а плюс то же в равнялось игреку или зету. Оба эти взгляда были ему одинаково доступны, и он о каждом предмете имел два понятия: собственное и au niveau du siècle, выводя из этой способности, что он человек вполне современный, т. е. со временем так думает, а со временем иначе.
Этот генерал был первый экземпляр размножившегося впоследствии до бесконечности вида нигилистов-крепостников, и я с любовью в него вглядывался, не воображая, что здесь, на родине, оставленной мною (говоря словами генерала) «в чаду крестьянского освобождения», такие экземпляры уже не только не невидаль, но даже и не редкость. С досады на «девятнадцатое февраля» у генерала все перемешалось в такой хаос, что уже никакими реактивами не удалось бы теперь разъединить в нем генерала от нигилиста, военного субординатора от яростного красного, замиравшего от сладостной мысли, что «в России, Бог даст, что-нибудь вспыхнет»; социалиста, аппробующего мнения Искандера, от крепостника. Черт знает, что это такое выходило, когда его наслушаешься, особенно тогда с непривычки еще, когда вовсе и не думалось, что нигилисты со временем засядут на большинство служебных кресел. Глядя на вещи au niveau du siècle, генерал терпел решение крестьянского вопроса, но только не такое решение, какое было постановлено правительством и Государем. Он находил, что освободить крестьян следовало без земли и что освобождение их с землею сделано несправедливо и беззаконно, а в глубине своей души он, конечно, держался того убеждения, что их и вовсе освобождать было не для чего. Он ничего так пламенно не желал, чтобы вернулись времена, когда он мог бы по праву генеральского чина распечь на чем свет стоит каждого этакого ррракалиона, рассуждающего о каких бы то ни было правах. Он непременно бы в двадцать четыре часа присудил к казни через повешение Искандера, и он же находил, что все, что делается в России, никуда не годится, и что только и остается, что «бить направо и налево», и что прекрасно было бы, ежели бы там в угоду крепостникам и нигилистам «что-нибудь такое вспыхнуло».
Этого почтенного отца семейства дополняло как нельзя более его семейство: жена, властолюбивая и придурковатая ханжа, и две дочери, одна полуидиотка, другая азартнейшая ярь, которая с матерью иначе не говорила, как «ты мать», и, чувствуя периодическое нездоровье, спешила всякому возвестить, что для нее наступили «тяжелые дни» и что она потому теперь не в духе. Впрочем, в духе в этом почтенном семействе, кажется, никто никогда не бывал, кроме самого генерала. Этот еще иногда бывало расшалится, но и то расшалится весьма своеобычно и опять-таки все мотаясь около 19 февраля.
— Что это, ваше превосходительство, у вас в передней совсем темно? — скажет ему кто-нибудь.
— Девятнадцатое февраля, — отвечает, растопыривая руки и улыбаясь, генерал, намекая, сколь его обидели 19-го февраля.
— Что это вы, ваше превосходительство, будто похудели? — спросит другой.
— Девятнадцатое февраля, — отвечает с комическою гримасою генерал.
Шли мы раз с ним по Елисейским полям, и пуговица у него от сюртука отлетела. Он ее сейчас поднял, посмотрел и, вздохнув, произнес с своей обыкновенной улыбкой: «Девятнадцатое февраля! некому и пуговицы стало осмотреть».
За три или четыре дня до моего отъезда из Парижа я видел его совершенно счастливым и веселым. Он, увидав меня, издали закивал мне головою и закричал: «Идет, батюшка! идет!»
— Что, — говорю, — такое, ваше превосходительство, идет?
— Вспыхивает у нас, в России-то, вспыхивает.
— Что же именно вспыхивает?
Генерал, вместо ответа, запустил руку в боковой карман своего сюртука, вынул оттуда чистый конвертик, из конвертика — фотографическую карточку и, поднося ее к моим глазам тыловою стороною, спросил: «Кто это?»
Я прочел: Pougatscef. Надпись сделана карандашом.
— Это в России, батюшка, печатается, в России!
— Но позвольте, — говорю, — зачем же это написано по-французски?
— А это копия; да, это здешняя копия с петербургского оригинала.
Я взял карточку в руки и перевернул ее к себе изображением и обезмолвел: передо мною был портрет Павла Ивановича Якушкина! простой портрет Якушкина, сидящего раскорякою на каком-то барьере.
— Это, — я говорю, — совсем и не Пугачев.
— Как не Пугачев! А кто же это, по-вашему, если не Пугачев?
— Это Якушкин…
— Что-с?
— Это Якушкин: это самый безвредный человек на свете, это божья коровка, отпустившая свои обиды даже полицеймейстеру Гемпелю. Короче, это Павел Иванович Якушкин.
Генерал сделал мне самый комический поклон и залился веселейшим хохотом.
— Как же это так: для всех это Пугачев, а для нас с вами будет Якушкин?
— Я говорю вам, что это Якушкин, которого я видел и знаю, а не Пугачев.
— Да вам не угодно ли отправиться в картинную лавочку — вот тут за Пале-Роялем, — извольте спросить Пугачева, вам и подадут такую точно карточку.
— А я, — говорю, — все-таки буду вам утверждать, что это не Пугачев, а Якушкин.
— И вы можете меня в этом удостоверить?
— Разумеется, могу: спросите кого вам придется из русских, которые не так давно из России, и вам каждый скажет то же, что я, что это Якушкин.
— Да разве Пугачев не мог быть похож на Якушкина?
— Нет, — говорю, — известно, что они друга на друга не похожи.
— Ну, несколько.
— Нисколько, — говорю.
— Может же быть, этакое приблизительное… фамильное… тпфу! что это я черт знает что сказал: фамильное!
— Именно, — говорю, — сплюньте. Никакого, говорю вам, нет сходства, и это у вас просто Павел Якушкин.
— Ну отлично-с; ну хорошо-с, — заговорил генерал, опуская в карман свою карточку. — Останемся всяк при своем, для меня это будет Пугачев, а для вас пусть будет Якушкин.
Это становилось скучно, и я перестал разуверять генерала, что его надули, продав ему попавшую каким-то образом в Париж фотографию Якушкина за фотографию Пугачева.
«Тут я имел случай видеть, как с самого дня рождения прививают безумие».
В России очень многие пресерьезно уверены, что все наши барыни ездят за границу с специальною целью кутить, и кутить непременно известным, самым скоромным манером, то есть преобращаться за границею из строгих Диан в самых отчаянных Семирамид, Тамар и Мессалин. Только дамы, отъезжающие за границу с очевидными признаками более или менее тяжких недугов, до некоторой степени освобождаются от этих подозрений, а цели, влекущие всех остальных, зауряд истолковываются весьма недвусмысленно. Отчего именно возникло такое мнение? Отчего русскому человеку всегда сдается, что у женщины, желающей распорядиться собою по усмотрению без удержа, недостанет средств сделать этого распоряжения на каждом данном месте, а должно сбегать для этого за границу? В наш просвещенный век и в нашей на этот счет просвещенной стране известная свобода женских стремлений везде может встретить известную и притом совершенно достаточную долю всяких удобств, и ездить за море, чтобы искать их, не стоит. Но, несмотря на все эти, кажется, столь ясные соображения и не стесняясь тем, что наши дамы за границею кутят известным образом ничуть не чаще и не сильнее, чем здесь, у себя дома, странное мнение о их заграничной, так сказать, «деятельности» не изменяется.
Причину такого взгляда нужно искать, во-первых, в том, что прежние русские путешественницы действительно, говорят, творили когда-то чудеса, во вкусе царицы Тамары, с прибавкою скандальностей своего века. Но предания об этих похождениях наших бабушек за границею уже довольно старые предания и живут еще разве только в воспоминаниях внучат прежних парижских парикмахеров, камердинеров и полотеров.
Русских дам, проживающих ныне за границею, большею частью можно удобно делить на три группы: 1) дамы серьезно больные и серьезно лечащиеся, 2) дамы, страдающие болезнями выдуманными, или, как их в старину называли, «самордаками», и 3) дамы, живущие из расчета, что будто за границей им жить дешевле. Дамы серьезно больные за границею бывают разных возрастов и состояний; но в Париже больных русских дам немного. Они чаще встречаются в Виши, в Бадене, в Ницце, но не в Париже. В Париже их даже почти совсем не видно. Больному человеку не до фланерства и не до развлечений. Дамы, страдающие мнимыми болезнями, или «самордаками», встречаются повсюду, даже в тихой Праге и в молочном Ольмюце; но более всего их летом в Ницце, а зимою в Париже. Они постоянно лечатся и никогда не вылечиваются, словно им тот же завет дан, что солдатам. Тем, по солдатскому преданию, разгневанный святой сказал: «Чтоб вам век учиться и не выучиться, век чиститься и не вычиститься»; а этим дамам он заказал, верно, век лечиться и не вылечиться. Дамы этого калибра почти все помещицы и вообще более или менее женщины с хорошими средствами и весьма часто с сильно попорченной жизнью: одной отлилось житьецо желтенькое от мужа, другой от родной семьи, третья все сама перегадила собственной дуростью и бежит от ненавистных мест и лиц, напоминающих прошлое. Иногда больные этого сорта сначала действительно с каким-то азартом бросаются в водоворот заграничной жизни, и тут-то на первых порах иная кем-нибудь, пожалуй, и утешится, но утешится тоже так, pour passer le temps,[80] неискренно и ненадолго. К чести их должно сказать, что все-таки не многих из них тешат легкие похождения за границею, но большинство из них, напротив, здесь только убеждаются в совершенной тщете и ничтожестве этих утех. Более или менее все они все-таки ясно ощущают потребность чувства там, где их хотят утешать одною чувственностью, и они не сносят этого унижения. И затем на них находит, что уже они боятся и чувства, они бежат и от привязанностей, сторонятся от всего. Все, что призывает сердце к жизни, их манит и пугает, и они предпочитают влачить тоскливое, бесцветное существование, мало-помалу сживаясь с мыслью о необходимости возвратиться к тому, от кого или от чего бежали, — и это их благо. Натуры их не так дурны и не так ничтожны, как пусто и ничтожно их воспитание, вследствие которого они неспособны произвести никакого определенного перелома ни в самих себе, ни в своей жизни.
Ни полюбить они не смеют,
Ни вовсе бросить не умеют.
Все заграничное житье таких барынь, за исключением нескольких минут увлечения, на первых порах заграничной свободы, есть ряд дней, месяцев и даже целых лет внутренней борьбы с собою. Они борются и со своею потребностью привязанности, и со страхом суда того общества, которого они хотя и не видят, но которое все-таки стоит неотразимым пугалом в их воображении. Наконец они после долгих дней, месяцев и лет, проведенных в своем тоскливом раздумье, не руководимые ничем, кроме ужаса за свое одиночество и сознания своего бессилия устроить себе лучшую жизнь, махнув рукой, возвращаются к старой. Вообще заграничная жизнь таких женщин есть чаще всего процесс примирения их с прошлым, и чем практичнее и серьезнее женщина, попавшая в такое положение, тем быстрее совершается в ней этот процесс и тем покорнее она соглашается подложить голову под прежнее ярмо. Поправив кое-как посредством примирительной переписки свои домашние отношения, эти дамы сдаются на капитуляцию и, отсрочив себе срок домового отпуска, смотря по характерам и средствам, или летают напоследях по живописнейшим местам Европы, или слоняются иерусалимскими Плакидами по стогнам Парижа и усердно молятся в rue de la Croix о своих минувших увлечениях. Потом они возвращаются к домашним ларам и пенатам, и тот будет жесток, кто насмешливо или ядовито отнесется к этому возвращению. Куда же им деться? Что им делать? Они везде даже хуже чем иностранки: они малосмысленные дети, которым хочется и свободы, и страшно быть оставленными без последнего блюда. Эта полнейшая неспособность к жизни, неумолчно протестующая против безобразного воспитания, делающего не только в одних наших женщинах, но даже почти во всех наших людях самый порыв к свободе шагом к сознанию необходимости подписать законность своего рабства.
Я не встретил ни одной подобной женщины хотя по наружности счастливою и не позволю себе упрекать тех из них, которые свое беглянство решаются завершать возвращением и примирением. Слава Богу, что их ум, их чувства и привычки к семейной обстановке внушают им это, а не другое решение. Решение перестроить свою жизнь наново и завязать новый, прочный узел на иных началах, хотя бы и не оправдываемых строгими моралистами, но все-таки терпимых снисходительным обществом, им удается необыкновенно редко, да и не может удаваться чаще. Они в великом своем большинстве считают себя способными пренебрегать всеми житейскими выгодами своего законного положения, пользуясь всеми этими выгодами в положении законных, венчанных в церкви жен. В домах мужей, имеющих известные достатки, протестующие дамы часто считают все эти выгоды безделками, называют их мелочами, но только до тех пор, пока пользуются всеми этими мелочами, и говорят, что «не о хлебе едином человек сыт бывает» и что «не в деньгах счастье»; но чуть только лишатся они всех или некоторых этих безделок, как начинают чувствовать, что все эти мелочи имеют свою цену и в совокупности своей составляют то, что называется спокойной жизнью. Тревоги и бури, столь всколыхавшие их во время сиденья на якоре под домашним штилем, дают себя им чувствовать не одними только поэтическими сторонами, а всеми своими тягостями и лишениями. Надо иметь очень много любви, очень много характера, воли и твердости, чтоб быть в силах идти этою дорогою и не только не изменить себе, но даже не вздохнуть о том, что в прошедшем было лучше и удобнее, и не возроптать. Где взять всего этого женщине, воспитанной на влечениях ко всякой мелочности? А первый ропот в таком положении есть шаг к возврату или к погибели. Лучше же пусть он будет шагом к возврату. Кто в наше время не встречал и не знавал женщин, которые, увлекшись желанием пополнить пробелы жизни, пустились на новые связи; но, увы, я одну только женщину знаю, которая сумела сделать свою связь вечною и не погубила ни себя, ни человека, ею избранного. Остальные же, которых доводилось встречать, не сносили самых пустых лишений; обращались к упрекам, попрекам и воспоминаниям своих жертв и своего прошедшего; опостыливали своим избранным и самим себе; низводили свою неглубокую любовь до холодности и расставались в самых мещанских разладах с любовниками, как некогда расставались с мужьями, или еще чаще просто были брошены за невозможностью сносить их вечные увлечения и вечные дрязги. Куда тогда деваться брошенной? В петлю, в воду; но на это нужна своя сила. Домой, к законному сожительству, к житью с прощением — это предпочиталось, и нельзя не предпочесть этого, у кого нет силенки быть выше мелочей жизни. В Париже нашим русским старожилам французской столицы известны три наши женщины хороших фамилий, одна девица Г., другая madame H., третья г-жа О., которые не поддались трусости, не примирились, не пошли назад, а с отчаяния ударились в бездну порока и умерли в госпиталях. Лучше же ли это, чем смириться, сознать свое бессилие и хоть как ни на есть, но все-таки дожить годы разбитой жизни в доме, где едят хлеб за семейным столом, чем сделаться содержанкой жида банкира или просто общественною собственностью? Что уж тут храбриться, когда нет ни силы, ни уменья оставаться на своих руках, не теряя даже самого права называться женщиною!
Женщины, проживающие за границею из денежных расчетов потому, что там дешевле жить, в одном отношении совершенно правы. Они, действительно, в Париже проживают менее, чем в Кромах или в Черни, и все-таки живут в европейском городе, где есть много вещей, удовлетворяющих человеческой любознательности. Но не нужно только забывать, что и эти дамы за границею далеко не так требовательны, как в Черни или в Кромах. Они за границею безропотно довольствуются тем, что дома считалось бы крайним неудобством. В отношении удовольствий умеренность их простирается весьма далеко. Иные буквально довольны только тем, что они скучают, живя в Париже. За это любят строго осуждать русских женщин, а хотелось бы спросить, что им делать? Во-первых, желание посмотреть свет в женщине может быть так же велико, как и в мужчине, и с этой стороны осуждать ее никто не имеет никакого права. А во-вторых, не вправе же общество требовать ни от одного из своих членов того, чего оно не дало им. Как упрекать женщину в том, что она переносит за границею то, чего не хочет переносить дома, когда она чувствует, что ей там легче, чем дома? Взращенные вне всяких серьезных отношений к жизни, они ведь не сочувствуют большинству вопросов, кипятящих мужские умы, и живут в интересах собственного эгоизма и во внешности, а если начинают соваться во многие из этих вопросов, то только делаются забавными, и мы сами не в силах удержаться, чтобы не посмеяться над ними. Чего же мы от них потребуем, и какой суд произнесем над ними? Мы хотим, чтобы они были хорошими, настоящими подругами и матерями. Отлично; но как же достичь этого, если все хлопоты об этом в наше время, к прискорбию, так часто не удаются? Мы тщательно берегли нашу семью, нашу заветную святыню, вне которой, пока мир таков, каков он есть, нет счастья нарождающемуся человечеству. Мы хвалились перед Западною Европою непоколебимою крепостью семейного начала, а посмотрите-ка, что делается нынче с этим крепким семейным началом в нашем так называемом просвещенном, да даже и не в просвещенном городском кружке! Где там эта крепость этого начала? Посмотрите на этих дочерей, честных, лелеянных, составлявших радость семейства и убегающих из этих семейств на растление, в вертепы петербургских нигилистов. Где она, эта пресловутая родительская власть, которая могла бы сдержать увлеченных? К чему все стремится и в молодых-то супружествах, против чего ратует, за что обрекает на страдание детей, стоящих между враждующими родителями? Скажут: это всегда было. Да, это правда: обыденные случаи, на которые мы наталкиваемся нынче, были всегда; но были ли они так часты, как нынче? Считалось ли обыкновенным случаем такое житье разбитых пар, какое беспрерывно встречаем сегодня? Делалось ли это, наконец, так, как делается нынче: холодно, без страсти и без борьбы, по какому-то одному принципу? Конечно, нет. Общество наше, ясно, входит в новую фазу семейного начала. Закон, не признающий расторжения пар, исключает всякую возможность статистических выводов, способных доказать, что семейное начало у нас страждет и распадается прежде, чем есть в виду какая-нибудь возможность заменить его хоть для детей, неповинных в усовершенствованиях или прегрешениях века. Но есть же другая статистика, которая громко говорит о необходимости регулировать наши брачные начала несколько иначе, чем они были регулированы до сих пор. Слова «брачный развод» слышатся в обществе все чаще и чаще, и все большее и большее число людей начинают верить и сознавать, что нерасторжимый брак привел многих хороших русских женщин к сожительству, обличающему в них пренебреженье к браку, тогда как они вовсе нимало не склонны пренебрегать им, а только лишены средств поправить свою ошибку браком более счастливым и воспользоваться его благодеяниями: правом признания союза своей любви и признанием отца детей своих отцом их. Чем лучше женщина, тем тяжелее она переносит фальшивости своего положения в безбрачной связи; а чем она хуже, чем она менее знает себе удержа, тем она менее признает себя в каких бы то ни было обязанностях вне брака. Тут уж не женское манкированье браком на сцене, а недостаток внимания вовсе других лиц к тому, что всякое признанное положение всегда безвреднее непризнанного и что тот, кто не имеет прав, может свободно отрекаться и от обязанностей.
Вопрос этот давно-давно просится на первую очередь.
От других славянок наши парижские женщины резко отличаются прежде всего своим частым протестом против условий, сопровождающих наше семейное начало, потом недостатком сочувствия к отечественным интересам, которым горячо преданы польки и чешки, и наконец отвращением от родного языка, на котором они совсем не любят говорить в странах, говорящих на языке французском, да еще разве способностью особенно бросаться в глаза вопиющим безвкусием своих нарядов. В последнем случае я не выдаю себя за компетентного судью; но парижские француженки так верно угадывают наших северных красавиц по каким-то непостижимым тонкостям туалета, что, верно, в этом туалете действительно есть что-то особенное. Парижские же француженки уверяют, что эти особенности есть страшное оскорбление вкуса, и я не нахожу оснований подозревать в этом отзыве чувств зависти, якобы возбуждаемых в европейцах нашими поразительными превосходствами во всех отношениях. Видя перед глазами только одних француженок и зайдя, в одно из немногих моих посещений, в русскую церковь, я и сам, действительно, ощутил, что наряды наших расфуфыренных дам смотреть невозможно. Мне казалось, что как будто около меня все новгородские бабы нарядились в какие-то страшно тяжелые шелковые платья с цветочками и (что и прилично было бы настоящим бабам) говорят в русской церкви по-французски не только между собою, но даже с служителями алтаря русской церкви и с русскими нищими Парижа. В самом деле, черт знает что это за лубковые шелковые платья носили наши дамы в ту зиму! Ни на одной француженке ни видал я этакого безобразного безобразия. Нарочно ли уж они этак выряживались, или столько у них уменья хватало — кто их ведает, а только поделом над ними хохочут француженки. Хочется вырядиться дюшессой — и вырядится родная уездной исправницей после ярмарки.
В первом издании этих писем я заключал этот отдел такими словами: «Нигилисток в Париже в мое время не было ни одной, но в женском кружке подрукавной аристократии о них часто заговаривали. Одни все подводят их под категорию гризет, другие же сравнивают просто черт знает с чем. И те и другие врут. Вообще те русские женщины, зимовавшие в Париже, которых я знал и с которыми мне удавалось говорить о нигилистках, их очень не жалуют. Это и весьма понятно. Нигилистки для всех выросших на финесах и не привыкших называть вещи их настоящими именами слишком смелы и резки. Общего между ними ничего нет и быть не может».
В нынешнем издании словам этим впереди уже предшествует самое крупное противоречие: я на первых же страницах моих писем рассказываю о двух нигилистках, которых я наблюдал в Париже в 1863 году.
Это произошло вот отчего: перед отъездом моим за границу, равно как во все время житья за границею, да и тотчас по возвращении оттуда (когда писались эти письма для первого их издания) я был очень наивен в своих понятиях о нашем русском нигилизме. Я думал, что нигилисты это действительно «базаровцы», люди рабочие, трудящиеся и верные своей базаровской теории. Я, как и многие тогдашние люди, мнил, что для этих нигилистов и нигилисток все на свете nihil,[81] кроме положительных знаний, труда и благоразумной умеренности в удовлетворении своих первых потребностей. Ни мелочности, ни ухищрений, ни интриг, ни плана достигать под видом нигилистических забот тех же самых целей, которые преследуют и не нигилисты, а вообще всякие, всевозможных званий бессердечные, безнатурные и себялюбивые люди, я не мог себе и предположить в этих людях, столь гордо откликнувшихся по России. Те две русские женщины, которых я нынче не обинуясь называю нигилистками, тогда мне представлялись просто пустыми и беспутными женщинами, для обозначения категории которых на Руси если и существуют названия, то названия свойств нелитературных. Но ныне, когда нигилистические нравы изучены до корня и нигилистический катехизис известен во всех символах веры этих неверующих, которые, исповедуя свой фразистый произвол, не возмущаются ни невозможностью согласовать свое будущее с прошедшим, ни несогласием своего слова с делом, своей теории с своим поведением, я, конечно, думаю иначе о людях, называющих себя нигилистами. Видя перед собой этих людей с неумолчным протестом на устах против всего созданного историею цивилизации и с покладливостью, не возмущающеюся принятием ни одной из выгод, доставляемых нынешним порядком вещей; видя, как нигилисты, осуждая правительство и желая ему всех зол и напастей, служат ему, присягают ему, берут его деньги и роют ему яму; видя, как нигилисты только покрывают принципом свой беспринципный разврат и при первом выгодном для сего случае не гнушаются покрыть себя и венцами церкви, в которую не верят; видя их ныне метающимися с предложением для редакций журналов своих «признаний нигилистов или нигилисток»; видя счастливейших из них невозгнушавшимися ни попечений богатых и сильных осуждаемого ими мира, ни участия одною рукою в официальных, министерских органах, а другою в листках социалистического направления, я, мне кажется, имею право назвать тех двух женщин, которые юродствовали и развратничали в Париже, нигилистками.
Император Наполеон III отвел очень незавидное место для русской церкви. Она выстроена в rue de la Croix, проходящей за очень красивым и весьма отдаленным от лучших частей города парком de Monceaux. По административному делению Парижа, это приходится в части, уже непосредственно прилегающей к крепостным веркам, которыми окружен город. По rue de la Planchette от этих мест всего два небольших проулочка до городских укреплений. Вообще это глухая, невеселая и неприятная часть города.
Церковь наша выстроена судочком, в пять глав; она довольно велика и поместительна. Внутренность ее изящна, но напоминает, по-моему, несколько хорошие из наших больничных церквей, а по мнению архитекторов-французов — салон. В наших кадетских корпусах и больницах есть очень много таких церквей; разница будет только в раззолотке. Внизу под церковью большой склеп, переделывавшийся в 1863 году в особую нижнюю церковь. Не знаю, будут ли там служить по воскресеньям и праздникам вторую обедню, или нет. Главная цель устройства нижней церкви в склепе, кажется, состоит в том, чтобы иметь место для отпевания и для сохранения здесь усопших русских, тела которых должны быть отправляемы для погребения в Россию. В мое время в этом склепе шла столярная работа, и там же, в этом склепе, стоял гроб одной русской дамы, ожидавший разрешения на отправление его под родные липы в Россию. В склепе очень темно, и нижняя парижская церковь будет напоминать собою что-то вроде древних христианских катакомб. Церковь окружается относительно довольно просторным двором, отгороженным, с уличной стороны, весьма красивою железною решеткою, которая открывает весь фас храма, стоящего в глубине двора. По обеим сторонам церкви выстроены два довольно большие дома, поставленные параллельно друг к другу. Дома эти протянуты во двор и на улицу выходят узкими концами. Правый дом (если стать лицом к входным дверям церкви) был населен довольно людно. Тут жили привратник с семейством, дьякон с семейством, отец Прилежаев с семейством и, кажется, два или три семейные же причетника, или, как они себя здесь любят называть, «певцы».
В доме, противном первому, в двух этажах помещался отец Васильев, и наверху есть еще помещение, кажется, для одного дьячка, именно того самого, который, прожив около двух десятков лет в Париже с француженкой-женой, до сих пор не выучился путно объясняться по-французски. У отца Васильева помещение в полном смысле вельможеское и вполне отвечающее величию строителя и настоятеля русского собора в католической столице Французской империи. Впрочем, не в угоду многочисленным недоброжелателям первенствующего русского священника, излишне щедрым на изобретение ему всяких упреков, должно по справедливости сказать, что хотя отец Васильев и не обидел себя, планируя поповку, но взятое им для себя помещение решительно ему необходимо. Во-первых, огромная семья, в которой есть и крошечные дети, и взрослые девушки, а потом его литературные занятия по православному французскому журналу и, наконец, орава посетителей. Всего этого нет ни у отца дьякона, ни у отца Прилежаева и ни у кого другого; а все это ведь требует же помещения и известных удобств. Кроме того я знаю, что у отца Васильева, иногда подолгу, гостят люди, которым приходится круто и нужно пережить дни скудности, пока выровняются дела. Так, зимой 1862 года у него гостила вдова одного русского писателя, француженка родом, которой, как и следует жене русского писателя, по смерти мужа не осталось ни куска хлеба, ни угла, где бы приклонить свою вдовью голову.
Наружные отношения жителей парижской русской поповки друг к другу весьма благоприличны, и общество, бывающее только в церкви да у священников, совершенно право, предполагая, что здесь вечная тишь да гладь, да божья благодать. Отцы парижской церкви так умны и образованны, что ни от одного из них мне не доводилось слышать никакого неблагоприятного отзыва о другом; но я знал поповку и с другой стороны — со стороны поющей, вопиющей, взывающей и глаголющей. С этой стороны есть окна на задний двор, а на заднем дворе лежит, по обыкновению, много всякого сора и гадости, выметаемых через черные ходы. Не буду я раскапывать этого сора, не стану ворошить его, потому что не найдет в нем читатель ничего такого, чего бы нельзя было без большой дальнозоркости рассмотреть на каждой двуштатной русской поповке.
В отношении сохранения русского элемента поповка ведет себя весьма различно. У отца Васильева этот элемент проводился гораздо сильнее, чем у всех других: у него даже есть и прислуга русская, и дети, даже самый маленький, говорят по-русски прекрасно. Чем беднее жители поповки, тем слабее у них и этот элемент.
К России я ни у кого не заметил особенного влечения. О ней, правда, говорят, будто бы воздыхая о ней, но вряд ли кто-нибудь пожелал бы в нее возвратиться и занять соответственные своим правам места на родной почве. Съездить в Россию, особенно на казенный счет, пожалуй, никто не прочь, и дьячки нередко этим пользуются, добывая себе «из амбасады» посылки в качестве курьеров, с бумагами. Но совсем возвратиться — какая же кому из них выгода? Отцу Васильеву и Прилежаеву, имеющему шансы рассчитывать на какую-нибудь карьеру, это еще, при известных обстоятельствах, возможно; а дьячкам — что им за радость идти с французского хлеба на родную мякину?
Как относится русское общество к русской поповке, я говорил в первом письме. В обществе елисеевцев, которые только и близки к поповке, едва можно подметить самые крошечные преобладания симпатий на сторону отца Васильева или Прилежаева. Васильева более знают и к нему более ходят. Латинцы же слишком далеки от поповки, а если когда у них и заходит о ней речь, то о Прилежаеве отзываются с большею теплотою, чем об отце Васильеве. Но, повторю, у Латинцев нет почти ничего общего с поповкою, и мнения их о парижских отцах составляются чисто по слухам.
Благотворительною деятельностью, т. е. сбором в пользу нуждающихся в пособии земляков, занимаются оба священника; и у того, и у другого, разумеется, есть свои клиенты. Отец Прилежаев, по слухам, способен помогать даже из собственного кармана и охотно делится, чем может делиться, конечно, не подрывая собственного бюджета. Отец Васильев устраивает много. Я сам знаю несколько человек, обязанных своим возвращением в отечество складчинам, устроенным отцом Васильевым. Теперь, когда в посольстве выпросить денег стало не только очень трудно, но и почти невозможно, это великое благодеяние для людей, застрявших на чужбине без гроша в кармане. Об отце дьяконе, перемещающемся или уже переместившемся теперь священником в Бельгию, почти ничего не говорят, а поющих и вопиющих не знают вовсе. Так это было в мое время, в 1863 году; не знаю, может быть, нынче уже и это все иначе.
Храм содержится прекрасно: отец Васильев нередко сам ходит в камилавке с тарелкою, и потому на тарелке редко видны медные су, а все серебряные франки и даже золотые монеты. Хор, составленный из французов, весьма хорошо исполняет даже некоторые трудные вещи Бортнянского. С французами поет один русский октавою, приводящею в удивление французские уши. Публика передних рядов, расходясь из церкви, обыкновенно говорит по-французски и смотрит на пигмеев так точно, как умеют смотреть на них христианнейшие богомольцы церкви С.-Петербургского почтамта. Нищие русские у порога есть постоянно.
Жить на поповке всем без исключения привольней и беспечней, чем каждому человеку на сто лье в окружности.
Ни вершины Юры, ни вершины Давалагири и Казбека не недоступнее для русских, чем в мое время был дом русского посольства в Париже. На Монблан считается до сих пор, сколько мне известно, 293 восхождения, из которых 187 совершено англичанами, 39 французами, 21 американцами, 19 немцами и 9 швейцарцами. Из русских неизвестно ни одного, достигшего этой земной вышины, с которой взору человеческому открывается пространство в 390 верст. До 1863 года полагали, что восхождение на Монблан есть привилегия людей, которых принято называть аристократами; но в 1865 году и это опровергнуто компаниею трактирных лакеев и коммиссионеров из Шамуни, которые совершили прогулку на Монблан в сообществе четырех модисток. Свет все демократничает, и зато лакеям с модистками начинает приходить желание взглянуть на него с того же высока, с которого недавно еще позволяли себе смотреть на него одни дворяне и лорды.
Нечто вроде того, что сказано о Монблане, можно сказать и о различных высотах, достигнутых жителями низменных долин, и между прочим о доме нашего русского посольства в Париже. Дом этот в течение весьма долгого времени, с самого оставления посольского поста в Париже высокопочтенным графом Киселевым, считался недоступным для невысокотитулованного русского туриста, и мы даже не умели себе представить, где на Руси тот русский счастливец, который бы мог похвалиться, что пред ним отпирались двери нашего посольского дома далее швейцарской. Но в 1867 году этот Монблан развенчан: на нем была нога простого смертного. Двери посольства растворялись для газетного корреспондента г. Щербаня, который печатным образом заявил, что дом русского посольства для него открыт и что любезность и внимательность барона Будберга выше всяких похвал. Честь и слава г. Щербаню, а мы еще раз порадуемся, что все, о чем мы будем ниже рассказывать, относится к прошедшему, к годам старых порядков, уступивших место новым порядкам, возвещенным с такою теплотою и торжественностью г. Щербанем.
В те времена, к которым относятся мои воспоминания, к которым также в своем роде относится парижская история полковника Борщова и воспоминания всех русских, бывавших в Париже после оставления посольского поста гр. Киселевым, в доме русского посольства были не те порядки, которыми осчастливлен в 1867 году газетный корреспондент г-н Щербань. О самом после, г. Будберге, ни полслова. Я его не знаю, и мне думается, что, кроме его дипломатического начальства да г-на Щербаня, и никто его не знает, и все могут отдать себе в этом полную справедливость. Из всех людей, которые в мое время хлопотали об аудиенции у посла, и из всех тех, которые рассказывали мне о подобных хлопотах впоследствии, ни один не был один перед другим обижен: все они не получали просимых аудиенций, к доступности которых так патриархально приучил некогда русских великодушный гр. Киселев. Я сам лично не позволял себе ни одного раза беспокоить барона ни малейшею просьбою и не могу высказать никаких моих личных наблюдений насчет отношений этого представителя русского правительства к нуждающемуся в его содействии русскому человеку. Мне довелось только раз утруждать нашего генерального консула просьбою о засвидетельствовании доверенности на имя моей матушки, продававшей наш наследственный хуторок. До этих пор, приходя в посольство за визой и за справками, я, как и все другие, обыкновенно не был допускаем далее узенькой и весьма грязной передней, в которой сидит консульский сторож, а перед ним терпеливо или нетерпеливо стоят приходящие в консульство путешествующие подданные России. От этого же сторожа мы, русские и поляки, получали и свои справки, и свои визы (что, кстати сказать, полякам в тогдашнее время было и весьма на руку); но для засвидетельствования доверенности сторож, собственноручно отбирающий паспорты, нашелся вынужденным пустить меня к самому консулу. Это было в 11 часов утра. Я просился к консулу сначала вежливо, потом, разбесившись на сторожа, который расспрашивал меня, ловя блох в своей французской бородке, отодвинул его своим русским локтем в сторону и вошел в самую непрезентабельную зелененькую комнатку с тремя канцелярскими столами и конторкой. За столами сидели три писаря, а перед конторкою не было никого. У всполошенных моим появлением консульских писарей я осведомился о том, как написать за границею доверенность, которая была бы действительна в русской гражданской палате. Угреватый писарь, с которым я встречался у отца Васильева, по знакомству не отказал мне в совете. Доверенность должно было писать простым письмом, на простой бумаге, и она должна была получить лишь засвидетельствование консула. Получив такой совет, я просил одолжить мне листок бумаги и позволить мне написать за одним из пустых столов пять строк, подлежащих засвидетельствованию. Листок бумаги мне писаря дали, но в позволении написать письмо в этой комнатке отказали, сказав, что консул не дозволяет здесь русским садиться.
— Где же я напишу? Неужели из-за пяти строк, написать которые нужна всего одна минута, мне ехать опять за шесть верст, в Латинский квартал? — урезонивал я писарей.
— Нет. Для чего же ехать назад? Вы пойдите в какой-нибудь трактирчик: там вам позволят написать. Вы напишите и приносите.
— Но я не знаю в этой стороне ни одного трактира. Я далеко живу и ничего здесь не знаю.
— Ну, в передней на окошке разве… только неловко.
— Помилуйте, — говорю, — на коленях стоя, что ли, я буду писать на окошке!
— Да и консул не любит, когда и в передней пишут, — вмешался другой писарь, похожий на английского пастора. — Вот тут сейчас за углом погребок есть; там все русские пишут, там вы и напишите.
Я поблагодарил за этот совет и, выгнанный из русского посольства, пошел в французский погребок, где «все, русские пишут».
Погребок оказался приветливей посольства, и я там, за стаканом вина, которым спешил запить свое русское унижение, написал письмо к моей матери.
Через полчаса являюсь в посольство. Консула еще не было, и меня оставили ожидать его в передней, где уже толклись несколько человек русских, посылавших господину консулу разные благожелания.
Через час явился консул, и некоторых из нас стали пропускать в зеленую комнату. Дошла и моя очередь.
За конторкою, которая час тому назад была пуста, теперь стоял черноволосый господин, которому подали мое письмо с приготовленною уже на нем надписью. Он обмакнул перо и подписал не читая.
— Так ли это написано? — спросил я этого чиновника.
— Мм-э, — отвечал он мне и отворотился.
Я заплатил пошлины, взял мою засвидетельствованную доверенность и ушел.
Так точно обращались здесь и со всеми. На это обращение раздавалось и раздается много глухих жалоб; но это ничему не помогает: говорят, и до сих пор русских все-таки держат в передней и посылают в кабачок.
Удивительно и непостижимо, как это несносное обращение русских дипломатических чиновников с русскими гражданами не дойдет до сих пор до ведома того просвещенного русского государственного человека, который столь благородно высказал свою готовность «лучше стерпливать нападки печати, нежели стеснять свободу слова». Я уверен, что князь Горчаков не знает, как часто дипломатические русские чиновники его ведомства обижают нуждающихся в них русских туристов.
Резонного отпора невежеству этих чиновников со стороны самих русских почти никакого не делается, а тычут им только кукиши из карманов да воспоминают их по заочности неудобопечатаемыми словами. Тоже, видите, дипломаты! Это все, что мы умеем и чего никто не боится, а чиновник тем паче.
Впрочем, хочу предать памяти случай, где г. парижский русский консул несколько поотступился от своей неприкосновенности. Некто русский, ныне доктор философии, а тогда еще университетский кандидат Евгений Деро—рти, обратясь к этому чиновнику за советом и засвидетельствованием какой-то бумаги, прошел в зеленую комнату еще более настойчиво, чем я, и отнесся к консулу с русским вопросом.
Консул ему отвечал по-французски.
— Я с вами говорю по-русски, — сказал ему Деро—рти, — и желаю, чтобы вы, русский консул, мне тоже отвечали по-русски.
Консул стал отвечать по-русски.
Когда я ехал за границу, слава Герцена еще держалась, но уже меркла. «Колокол» читали в Петербурге, но уже не видали в нем «закона и пророчеств». Была уже известна всем памятная комическая статья о намерении русского правительства похитить Искандера и об ответственности, возложенной им за его волоса на нашего Императора и все императорское правительство. Уезжая из России, я имел непременное намерение увидать Герцена и говорить с ним. Я с ранней юности, как большинство людей всего нашего поколения, был жарчайшим поклонником таланта этого человека, который и доныне мне представляется и человеком глубоких симпатий, и человеком крупных дарований. До отъезда моего за границу я писал передовые статьи в «Северной пчеле», газете, которая тогда была весьма распространенною. События того времени весьма часто выводили эту газету из тона органов, разжигавших общественные страсти. Мы, люди, составлявшие редакцию «Пчелы», находили честным и необходимым время от времени говорить слово осуждения многим легкомысленным порывам, которыми ретроградная старческая и крепостничья партия очень ловко пользовалась и представляла всякий вздор в виде великих злоумышлений и, запугивая правительство, тормозила предпринимаемые им реформы. Московские публицисты заговорили в этом направлении еще ранее; но у нас, в Петербурге, никто на такую дерзость не отважился. У нас считалось ужаснейшим преступлением всякое слово к отрезвлению рвавшихся к бесплодной погибели людей партии беспорядка, которая тогда считала Герцена своим вождем.
Мы, т. е. «Северная пчела», редактированная П. С. Усовым, первые позволили себе на петербургских станках печатать то самое, что с некоторых пор печаталось на станках московских. За это на нас обрушились всевозможные и невозможные обвинения и клеветы. Газету нашу называли бесчестною, а нас продажными литераторами, и в то же время донесли на нас Герцену. Герцен нас изругал в «Колоколе» и назвал нашу газету официозною. Получа этот номер «Колокола», мы кое-как изловчились ответить Герцену, что мы люди совершенно свободные, ни от кого никаких субсидий не получавшие и не получающие, и рассуждаем о делах русских не так, как он рассуждает, потому что иначе на них смотрим, потому что видим эти дела ближе и, может быть, понимаем их яснее. Номер своей газеты, в которой был изложен этот ответ, мы, по правилам принятого в некоторых образованных странах литературного этикета, послали Герцену, а он через несколько дней, в одном из номеров своего Колокола, извинился перед нами за обозвание «Пчелы» газетою официозною.
И мне, и другим членам нашей редакции такой поступок со стороны Герцена был необыкновенно приятен, и мы замечтали (о чем я буду мечтать, пока жив Искандер), что с Герценом рано или поздно сбудется по предсказанию И. С. Аксакова, то есть что он при его уме непременно рано или поздно сознает свои ошибки и принесет повинную родине, прося ее потщиться отверзть ему объятия отчи.
Но… ударил в Петербурге пожарный набат в день Св. Троицы. Огромный петербургский пожар, истребивший на целые миллионы домов и товаров, повергнул столицу в ужас и отчаяние. В толпах народа во время пожара заговорили, что город поджигают студенты, и одного из здешних студентов, ныне секретаря одного из высших правительственных учреждений в государстве, г. Черн—ского, озлобленный народ схватил и тут же решил бросить его живого в огонь. Это решение, как все экспромтом произносимые в подобных случаях решения, сейчас же должно было и исполниться. Г-на Черн—ского потащили в огонь, и он погиб бы так же просто, как во время холерного бунта у Спаса на Сенной погибли честный Беллавин и множество других ни в чем неповинных жертв раздраженной до ослепления толпы; но, на счастье г-на Черн—ского, он был отнят из рук народа подоспевшим на этот случай караулом.
Два другие подобные случая с двумя студентами, избитыми народом у Чернышева моста, сделались известны в редакции «Северной пчелы» этой же самою ночью, когда город еще пылал и народные толпы волновались.
Людей, составлявших редакцию газеты, — и меня в том числе — до крайности удивляло безучастие полиции к рассказанным сейчас происшествиям и нежелание ее сказать ни одного слова в опровержение пущенных в народ слухов, что город жгут студенты. Мы находили такое безучастливое молчание столичной полиции до последней степени неуместным и вредным для студенческой корпорации и в одной из следовавших за этим приснопамятным пожаром статей сказали следующее: «Во время пожара в толпах народа слышались нелепые обвинения в поджогах против людей известной корпорации. Не допуская ни малейшего основания подобных слухов, мы полагаем, что для прекращения их полиция столицы обязана назвать настоящих поджигателей, будь они ей известны, и мы ее об этом просим».
Петербургская полиция просьбы нашей не исполнила, потому, вероятно, что она, как известно, до сих пор не знает, кто жег Петербург в день Св. Троицы; но зато изумительное и непостижимое нигилистическое понимание приняло наши со всею точностью приведенные здесь мною слова за обвинение студентов в поджигательстве и даже за науськивание на них полиции и народа. Забыв о самом пожаре, газеты и журналы заговорили только «о инсинуации „Северной пчелы“, обвиняющей в поджигательстве студентов». Не краснея за свой смысл, люди, утверждавшие эту гнусную и до сих пор поддерживаемую ими клевету, имея перед собою чисто напечатанные приведенные слова нашей газеты, не уставали вопить против нее и называть ее, за сказанное ею слово в защиту студентов, доносчицею и клеветницею. Пошлее, бессмысленнее и бесчестнее этих воплей на вполне честную газету нельзя бы придумать ничего, если бы этому факту нельзя было сопоставить того, что и поднесь целая масса грамотных людей с невежественейшим спокойствием повторяет эту безобразнейшую из клевет, несмотря на то, что с тех пор клеветники многократно были приглашены указать номер, в котором «Пчела» обвиняла студентов в поджоге, и ни один из них не мог указать этого небывалого номера.
Но оставим дневи злобу его и возвратимся к пожарному времени.
Домашним ругательствам на «Пчелу» и «Московские ведомости», которые в это время тоже чем-то обмолвились, повистовал за границею Герцен, и повистовал так энергически, что как ни смачна была здешняя, домашняя брань, она выходила невинным лепетом в сравнении с любезными словами, которые находил для нас, «подкупных газетчиков», в своем ядовитом лексиконе он, которого, по тогдашним условиям нашей печати, у нас принято было называть «далеким публицистом». И он, как они, утверждал, что «Пчела» и москвичи обвиняли студентов в поджигательстве — да и баста! Как ни пытались мы хоть на минуту остановить всех этих клеветников и заставить их еще раз прочесть приведенные мной выше слова газеты, все это было тщетно. Все кричали, никто ничего не слушал, и только каждый спешил хоть разок приложить свою талантливую руку и написать нечто о низком обвинении студентов.
Безумие этой злобы — не ее сила, но именно ее безумие становилось невыносимо. По крайней мере таким оно было для меня. Это меня разбило, и нравственно, и физически, и я решился оставить публицистику и уехать из России, чтобы отдохнуть, не слушая всего этого дикого и безумного гвалта.
Оставляя отечество в таком состоянии духа, с намерением ехать до границы как можно неспешнее, чтобы еще раз поприсмотреться к знакомым местам России и взглянуть на места, до тех пор мне незнакомые, я выражал моим литературным друзьям и товарищам твердое намерение повидаться за границею с Герценом и, не обижаясь всем, что он исчерпал на мою долю и на долю моих товарищей из своего ругательного словаря, представить ему настоящее состояние солидных умов в России и взгляды общества на ничтожных людей, которые в последние годы его деятельности втерлись в его доверие. Я льстил себя надеждою, что при герценовском уме невозможно, чтобы он не понял, что при новом русском правительстве гораздо удобнее можно служить преуспеянию России, не тревожа правительства невозможными и ненужными революциями; не ставя ему рожнов, которые оно может с такою легкостью ломать и на них же насаживать тех, кто острит на него эти рогатины. Мои литературные друзья верили в это так же, как и я, и укрепляли во мне мысль непременно рассказать Герцену, что в России все идет вовсе не так, как ему представляется. Между нами тогда был некто, сотрудник по политическому отделу, Артур Бенни. Он один из всех нас лично знал Герцена и говорил, что это человек необычайной мягкости, сердечный, гуманный, способный выслушать всякое чужое мнение и совсем не такой яростный, каким его видят иные в его статьях. Мы были уверены, что раскройся только перед Герценом положение русских дел в его настоящем свете, и он станет выше всякого ложного стыда и ни за что не позволит себе смущать и без того затуманенные умы нашей молодежи, из которой тогда то и дело один угождал в Сибирь, другой в тюрьму, третий в каторгу.
Герцен так страстно любил своего погибшего ребенка; Герцен так любит своих детей, он с такою нежностью касался во всех своих произведениях святыни семейного принципа и так милосердствовал о скорбях родительского сердца: может ли быть, чтобы он же, этот же самый Герцен, из мелочного чувства ложного стыда, из поклонения революционной моде, не пожалел отцов и матерей, стонущих здесь о своих детях, погибших бесплодными жертвами политического смутьянства? Голос стенавшей тогда русской Рахили, верно, был слышен в самой Раме. Видя, как плачет Рахиль и как она не хочет утешиться от слез своих, разве возможно, не имея в груди своей каменного сердца, заставлять ее лить еще большие слезы? Нет, — решали мы себе в своем пчелином улье, — нет, этого не может желать человек с человеческим сердцем, и Герцен, если он тот человек, каким мы его себе представляем, непременно ударит политический отбой и скажет, что России теперь революции не надо. А такое слово в «Колоколе» будет много значить для нашей, веровавшей тогда в Герцена, молодежи.
В таких убеждениях я и уехал из России. Я стал очень интересоваться Герценом.
Первые слухи о характере и вообще о личности Герцена за границею мне удалось слышать от знавшего его поляка, иезуита З., в Кракове. З. отзывался о Герцене, как о почцивом москале, но улыбался себе в ус над его социализмом. В Ольмюце, или как нынче говорят, в Оломунце, я видел другого поляка, который тоже говорил о почцивости Герцена, но уже открыто добавлял, что он «попутан своим социализмом, который есть глупость (glupstwo), и что у поляков с ним общего ничего не может быть».
Первого русского, недавно видевшего Герцена и говорившего с ним, я встретил в Париже. Случилось, что это был человек солидный и умный. Сверх всякого моего ожидания, прежде чем я узнал этого человека ближе, он удивил меня своим равнодушием к Герцену. Тогда это еще была редкость. Он говорил о нем с такою холодностью, с какою это для меня тогда было немыслимо. Он говорил, что Герцен вовсе не революционер, а революционный фельетонист, которому очень мало заботы о самом деле и еще менее заботы о правде дела; что он пишет в своем направлении — и только.
Это мне было совсем ново и как нельзя более напоминало многих наших людей, покинутых дома. Я искал подробностей, деталей, способных утвердить меня в верности сделанного мне абриса. Не стало дело и за этим. Все то хорошее, что рассказывал в Петербурге о Герцене Бенни, дословно подтверждал мне и мой парижский рассказчик. Как о честном человеке, о Герцене я слышал и здесь одни бесконечные похвалы. Похвалы эти расточались остроумию его бесед, глубине его привязанностей, непоколебимости его дружбы, его бескорыстию и его снисхождению к близким ему людям; но как о политическом деятеле о нем говорилось иначе. Прежде всего в нем была страшно порицаема его манера шутить в серьезных вопросах, как шутят в вопросах самых легких и терпящих шутку.
— Говорил ли ему, однако, кто-нибудь вот то-то и то-то? — спрашивал я, предлагая в виде вопросов то самое, что думал сам сказать Герцену.
— Еще бы, — отвечал мой собеседник. — И не раз, а сто раз, может быть, ему все это говорили.
— И что же он?
— Пошутит.
— Как пошутит?
— Так, как он всегда отшучивается от того, на что хочет смотреть по-своему.
— Но, однако, если бы ему представить все это доказательно и серьезно?
— Да вы вот видали, что выходит из поставления чего-нибудь серьезно на вид современниковскому «Свистку» или «Искре»? То же самое настаивать на серьезности и с Герценом; а у него остроумия-то побольше искорного, и оно поядовитее свисткового.
— Но позвольте, — говорю, — дело ведь стоит того, чтобы употребить все усилия остановить это шутливое остроумие. Этот человек влиятелен в кружках нашей молодежи, и потому надо заговорить с этим человеком во имя долга его человеческого, во имя чести, во имя его любви к России. Доказать ему, что увлеченные им люди гибнут не за дело какое-нибудь, а просто бросаются в омут, как тот матрос, который, не зная, что сделать из преданности генералу Джаксону, взлез на мачту и кинулся в море, крича: «Я умираю за генерала Джаксона!» Говорил ли с Герценом кто-нибудь таким тоном?
— Говорят, Ка—в ему все говорил.
— И что же?
— Оставил его холодно, с тем, чтобы не стесняться более ни прежним товариществом, ни прежнею приязнью.
Высокопочтенное для меня имя Ка—ва, отошедшего вообще с попыткою урезонивать Герцена, расхолодило мою горячую решимость ехать в Лондон с докладом. Ка—в не убедил ни в чем: мне ли заводить свои речи?
— Странно, — говорю, — чтобы не верить человеку такой изведанной честности и правдивости.
— А для меня ничего ровно в этом нет странного, — отвечает мой собеседник. — Я уверен, что он и сам в глубине души сознает честность Ка—ва и его правдивость; да на что они ему, когда в духе этой честности нельзя так бойко фельетонировать, как он это делает в духе революционного направления!
— Вы, — говорю, — высказываете такую мысль, что Герцену как будто все равно, лишь бы писать побойчее; а там удайся эта революция, о которой он хлопочет, или не удайся она, до этого ему и горя нет.
— Нет: отчего же и горя нет! Удайся — он будет рад и любопытен, что такое выйдет, а не удайся — он поплачет и канонизирует несколько новых мучеников.
— Но ведь вы, — говорю, — не станете же отвергать, что ведь он все-таки не холодный человек, что он любит Россию.
— Любит, любит… может быть, и любит. Направление свое — вот он что, батюшка, любит превыше всех Россий и превыше всех живых и мертвых. Видите, вот он из всех русских журналов не отрекается от солидарности с двумя (которые при этом и были названы); а не думаете ли, что он верит в тех, кто ими правит?
— Не верит разве?
Рассказчик захохотал.
— Не только не верит им, не только не уважает их, а он этого пунсового филантропа-то даже на порог к себе не допустил, а все-таки рад стоять с ними в одной дюжине и солидарности не гнушается.
Собеседник мой остановился и потом рассказал мне историю потери состояния обманутой г-жи Ог—ой и участие, которое принимал в этом постыднейшем деле пунсовый филантроп.
Слушая все эти рассказы, я решительно терялся: как можно так шутить возбуждением страстей посредством уст заведомо клятвопреступных или как увлекаться до того, чтобы считать возможным совершение народных дел руками, не возгнушавшимися грабительства!
Шутливость Герцена принимала в моих глазах некоторый трагический оттенок; а обстоятельства сами собою позволили мне увидать ее еще в новом и на сей раз еще в наипечальнейшем свете.
В Петербурге, в самые первые дни моего литераторства, я был приючен почтенным профессором И. В. Вер—ским. Одновременно со мною жил у него репетитор его сына чиновник Ничи—нко, человек очень молодой, суетный, легкий и «удобоносительный». Все свои дни этот юноша посвящал разноске из дома в дом по Петербургу «Колокола», за что и получил от близко знавших его людей кличку «Андрея Удобоносительного». В тогдашние годы, разумеется, кому, бывало, ни принеси прочесть «Колокол», все были рады, и у «Удобоносительного Андрея», через эту разноску герценовской газеты, завелось такое огромное знакомство, что, подпав впоследствии суду сената, Нич—енко имел возможность перепутать чуть не весь Петербург, не забыв ни министерских департаментов, ни самого сената. Пока Удобоносительный нес свою почтальонскую службу в России, его, в тех кружках, где он почтальонствовал, с самого начала считали пустейшим мальчиком, который так себе чего-то шнырит, читали доставляемый им «Колокол», фразерствовали с ним; но никому и в ум не приходило, что из него может выйти политический деятель. Впоследствии в этих кружках его поняли еще плотнее, когда он, через посредство некоторых высших чиновников, которым носил «Колокол», получил очень выгодное служебное место в одном вновь учрежденном ведомстве. Сей был первообраз и родоначальник тех нигилиствующих чиновников, которых тогда еще не было в употреблении, но близкое явление которых уже многие предчувствовали и пророчили Нич—енке, что он достигнет степеней известных. Пророчество это, всеконечно, и сбылось бы к настоящему времени, когда последователям Нич—енки имя легион и когда они благополучно расселись на многих самых удобных креслах в России; но Нич—енко, первый делавший опыт устройства себе служебной карьеры в России посредством служения герценовскому социализму, впал в ошибки, весьма, впрочем, извинительные для начинателя: он увлекся ничтожными похвалами простодушных людей, считавших его только беспардонным революционером, и погиб жертвою этого суетного увлечения. Случилось это так: Нич—енко попал в некий другой кружок, где его до тех пор не знали, но где зато его сразу оценили иначе, как ценили его люди, исперва его знавшие и видевшие в нем ничто иное, как чиновника, преследующего для себя новыми средствами довольно старинные цели. Удобоносительный Андрей сделался здесь как бы отблеском самого Герцена и, напустствованный благословениями уверовавших в него простодушных людей, поехал за границу. Очутился он в Лондоне у Герцена, которому представился вместе с служителем питейных откупов, а потом акцизным чиновником, Н. А. По—ным. Герцен их рассмотрел, оценил и послал к белокриницкому митрополиту Кириллу и, говорят, к Гарибальди. В бумагах этих Нич—енко был рекомендован Герценом за человека адамантовой крепости, а Н. А. По—н назван «добрым малым, но болтуном». И адамантовой крепости Нич—енко и болтун По—н, бросив вверенные им бумаги в одной из австрийских таможен, оба попались в руки правительства, и один из них, Нич—енко, отдал в неволе Богу свою бедную душу, а По—н выслушал в очень большой компании при открытых дверях присутствия приговор, оправдывавший его на основании показания самого Герцена, удостоверявшего, что По—ну ничего не открыто, ибо он «добрый малый, но болтун». Это доброе слово г. Герцена о г. По—не спасло этого чиновника и купило ему свободу.
Представьте же себе, когда мне, отлично знавшему все умственные и душевные свойства Нич—енко и не имевшему оснований опровергать мнений Герцена о г. По—не, вдруг в Париже рассказывают, что эти два человека были у Герцена и что, как оказалось по отобранным у них бумагам, Герцен облек их своим большим полномочием. Я просто с диву дался, что это за человек этот Герцен? С одной стороны, эта крайнейшая непроницательность, по которой у совершенно ветреного и бесхарактерного мальчика отыскан характер адамантовый, а с другой — эта легкость, с которою «добрый малый, но болтун» допущен сопровождать политические бумаги, скомпрометировавшие впоследствии целые массы людей!
Чего же мне было после этого ехать к Герцену и о чем говорить с ним? Я предпочел сохранить для себя автора, овладевшего некогда моею молодою душою, таким, каким его представляла моя фантазия. Зачем было видеть его, чтобы сказать ему:
Шутить и целый век шутить —
Как вас на это станет?
«Человек может сделать зло другим не только действием, но и бездействием своим, и в таком случае он справедливо отвечает перед ними».
Заключу мои письма о русском обществе в Париже обзором, что есть в Париже у всех иностранцев, принадлежащих к более или менее великим нациям, и чего там нет у нас. У всех там есть свое посольство, церковь, регулярные сходки, большее или меньшее общение и касса для содействия землякам, нуждающимся в большем или меньшем пособии. Что есть у русского общества в Париже? Посольство, церковь и нищие. Чего у нас нет? Нет регулярных сходок, нет почти никакого общения и вовсе нет никакой кассы для содействия своим землякам, нуждающимся в большем или меньшем пособии.
Нужно ли это? Или, может быть, нам, гигантам, такие мелочи и не нужны?
Нет, нужны. Сходки нужны для того, чтобы была цельность, связь живущих русских за границей, ибо их рассеянность и отсутствие всякой живой общественной связи лишают их всякой силы, и русский гигант легче пропадает в Париже, чем всякий пигмей молдав, серб и чех. Общение нужно для всего, а наиболее для того; чтобы заявить Европе, что мы хоть какое-нибудь лыком шитое, да все-таки общество, а не Рассея. Касса нужна потому, что у нас в Париже очень много людей, которые сегодня не знают, что будут есть завтра, и еще более таких, которые сегодня не знают, что будут есть и сегодня.
Говорят, у поляков, чехов все это есть потому, что у них есть политическая эмиграция, составляющая как бы колонию стран, в интересах которых они действуют, и потому им нужно все это, а нам, имеющим родину, нет нужды ни в каких общественных учреждениях за границей.
Справедлив ли последний вывод?
Поляки, чехи, сербы, молдавы, даже хорваты, устраивая разнообразные учреждения для общественного вспоможения, вовсе не рассчитывают на одних эмигрантов, а имеют в виду всех своих земляков. Основная цель их — не дать земляку пропасть и не допустить его христарадничать у чужеземцев. У чехов это даже идет далее: у них парижская община заботится не только о том, чтобы чех не был без хлеба, чтобы он не был нищ, но также чтобы он не был в положении, подвергающем его искушениям и превышающем его нравственные силы и терпение. У них новичка отдают под опеку старожила, и все миром заботятся призреть и приютить его, чтоб из него, по чешской поговорке, вышел «и Богу не грех, и людям не смех».
Наше положение в Париже должно бы быть таково же.
У нас есть нищие, просящие су у порога русской церкви; есть нищие, умирающие с голоду и не только ничего не просящие, но и не знающие, в какую сторону отворяется решетчатая калитка русской поповки. У нас с каждым годом увеличивается число новичков, блуждающих по Парижу, не ведая, к кому обратиться за опытным словом, — люди обкрадываемые, обманываемые и решительно не знающие, что им делать.
Мы члены самостоятельного государства, и нам нет нужды в эмиграции, на которой мы основывали бы надежду отечественного спасения; но нас бывает около тринадцати тысяч в Париже. Это целое общество, это город, это сила, способная и обязанная в центре своего скопления: 1) подобрать своих нищих, 2) дать средства нуждающимся во временном пособии и 3) сосредоточить свои национальные силы в таком учреждении, как клуб, который есть у иностранцев, имеющих в Париже не тринадцать тысяч, а восемьдесят человек представителей.
Следовательно, известная потребность в общественной самодеятельности русских в Париже есть, средства для этой самодеятельности есть; но воли, желания нет.
Полагают, что есть препятствия.
Никаких.
Правительство французское нам никогда ни в чем подобном не помешает, а нашему посольству и подавно нет до этого дела. Все это только отговорки, изобретаемые пошлою и, скажу не обинуясь, подлою манерою рисоваться и ничего не делать в размерах возможной деятельности.
— Сегодня штука какая! — рассуждает, раз сидя в café de la Rotonde, доктор С—нов. — Выходим из оперы и разговариваем, а какой-то компатриот бух, как бомба: здравствуйте, господа! Вы русские-с? А я по торговой части приехал-с, никого-с не знаю.
— Ну так что же? — говорим ему.
— Очень приятно, — говорит, — встретиться! Сделайте милость познакомимтесь.
— Черт знает что! — презрительно замечает к—ский адъюнкт-профессор. — Что русский он, так уж и нянчитесь с ним, как с нарывом. Тоже дурачье!
— Да! Деды наши на одном солнышке онучки сушили, а потому и здравствуйте!
— Чего ж вы ему?
— Спустил по маслу. Черт с ним! Что он такое?
— Разумеется.
Чех, услыхавши от чеха подобный рассказ, плюнул бы ему между глаз, а по-нашему, видите, всему этому так надо быть.
Стало быть, чего же у нас нет в Париже? Да, очевидно, того же самого, чего нет дома. Нет уменья во что-нибудь организоваться и что-нибудь делать. Все это приписывается политическим препятствиям, хотя жалующийся на эти препятствия часто plus royaliste que le roi.[82] Чего мы не делаем? Не делаем мы ничего, что могло бы быть хоть мало-мальски полезно нашим ближним в том положении, которое создано существующими экономическими условиями, а между тем премся в социалисты. Решайте сами: не умеем мы делать, не хотим делать или не можем делать? Но достоверно, что мы не делаем общественными силами и сотой доли того, что делают общества живущих здесь других иностранцев, и даже других славян, для своих родичей.